Алексей Суворин Русско-японская война и русская революция Маленькие письма 1904–1908 гг.
Не влагайте в русскую душу губительного меча и помните, что единственный хороший меч внутри — это закон.
Почем вы знаете, что думает Россия, когда ее никогда не спрашивали?
Алексей Суворин, 1905 г.Годы разлома и сокрушения
О «Маленьких письмах» талантливого и популярного в свое время журналиста Алексея Сергеевича Суворина (1834–1912), как, впрочем почти о всей его многолетней живой публицистике, до недавних пор помнили лишь немногие специалисты. В современной научной литературе, в исследованиях и монографиях по истории России, ее государственности, ее политической и социальной жизни имя Суворина в советские годы встречалось редко, а ссылок или цитат из его статей (если не считать сочинений В. И. Ульянова-Ленина и его последователей), попыток какого бы то ни было серьезного анализа попросту не было[1]. Созданная Суворину поколениями партийных идеологов репутация отнюдь не побуждала в советские времена к изучению публицистики Суворина и более или менее целостному и объективному ее осмыслению. В работах же по истории русской культуры и русской литературы 2-й половины XIX — начала XX вв. о Суворине вспоминали прежде всего и по преимуществу в связи с его дружбой с А. П. Чеховым, реже — о встречах его с Н. А. Некрасовым, Н. Г. Чернышевским, с Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским (хотя тоже с оговорками и многозначительными умолчаниями), затем — реже — как о книгоиздателе и меценате и как о театральном критике и эстетике. Зато всякий раз непременно подчеркивалась махровая «реакционность» и «оголтелость» и основанной Сувориным газеты «Новое Время» (1876–1917), и его самого, якобы изменившего идеалам русской демократии 60–70-х гг. XIX века и ставшего прислужником «царского самодержавия», его апологетом и едва ли не идеологом. Подобного рода характеристики до сих пор можно встретить, например, и в каталогах некоторых публичных российских библиотек, да и в более основательных, рассчитанных на специалистов изданиях. По этой схеме построены и две разные и по своему характеру, и по объему использованного материала, но существенно дополняющие друг друга монографии о Суворине, в США — Эмблер Э. Русская журналистика и политика. 1861–1881. Карьера Алексея С. Суворина. Детройт, 1972 и в России — Динерштейн Е. А. А. С. Суворин. Человек, сделавший карьеру. М., 1998. И лишь за последнее десятилетие стали громче звучать иные, более спокойные, более объективные голоса.
Но недостаточно изучен, тенденциозно и пристрастно оценен и прочитан, Суворин однако вовсе не был забыт, слишком это значительная и крупная фигура, яркая и самобытная личность, слишком велико в течение десятилетий было его влияние на движение и развитие общественного самосознания в России. В монументальных томах «Литературного наследства», в сборниках воспоминаний о русских писателях печатались его воспоминания (или фрагменты воспоминаний). Воронежский писатель и историк литературы О. Г. Ласунский еще в 1974 году напечатал свою работу «И. С. Никитин и молодой А. С. Суворин» (сборник «Я Руси сын!»), а Е. Н. Бушканец опубликовал работу о воспоминаниях Суворина о Некрасове (Ростов на Дону). Спустя три года, в 1977 году, №2, московский журнал «Вопросы литературы» опубликовал большую статью И. Соловьевой и В. Шитовой «А. С. Суворин: портрет на фоне газеты». Четыре издания (в 1920–2000-х гг. в общей сложности) выдержал ставший знаменитым личный «Дневник» Суворина, причем два последних издания были заново текстологически расшифрованы, подготовлены и тщательно прокомментированы специалистами (Н. А. Роскина, Д. Рейфилд и О. Е. Макарова). В Воронеже в 2001 году появился составленный С. П. Ивановым том «Телохранитель России. А. С. Суворин в воспоминаниях современников». В феврале 1997 г. в московском театре имени Н. В. Гоголя режиссер Алексей Говорухо поставил пьесу Суворина «Татьяна Репина», в которой в свое время блистали столь ценимая Сувориным М. Г. Савина и М. Н. Ермолова. Появилось немало и других исследований и публикаций, однако сочинения самого Суворина и прежде всего его публицистика не издавались вовсе.
В этом нашем издании собрана завершающая часть «Маленьких писем» А. С. Суворина, написанных в 1904–1908 гг. и по сложившейся уже к тому времени традиции напечатанных в его газете «Новое Время».
Эти годы, как известно, — грозная и тяжелая для России пора, положившая начало многим бедам, постигшим нашу страну в XX веке. Это крушение иллюзий о неизбывной силе и великом могуществе этой страны, о ее избранности и особенном месте и пути в мировом сообществе. Это крушение мифа о незыблемом единстве самовластного монарха со своим народом, крах вековой легенды вообще о величии русского самодержавия. Это болезненный удар по национальному самолюбию русского народа после нежданных и непредвиденных поражений на Дальнем Востоке. Это скорбь по погибшим морякам и новой, утраченной столь стремительно и бесславно в Порт-Артуре и у Цусимы, Тихоокеанской эскадре, боль по убиенным воинам, бессмысленно павшим в доблестных боях и тягостном отступлении на сопках Маньчжурии — у Тюренчена, Вафангоу, Лаояна, Мукдена. Это «позорный» Портсмутский мирный договор с Японией, заключенный при посредничестве заокеанской державы, утрата Россией мирового авторитета и части национальной территории. Это повсеместная «невообразимая смута» внутри страны, «когда вся России в пламени пожаров и вражде, когда рушится все, рабочий, крестьянин, помещик, торговля, промышленность, финансы». Это небывалые потрясения всеобщих забастовок и вооруженных выступлений против правительства на баррикадах, возникновение новой власти в лице петербургского Совета рабочих депутатов и Московское декабрьское восстание. Это красный флаг на клотике новейшего эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический» и провозглашение в стране долгожданных свобод — царский Манифест 17 октября. Это нелепые и нетвердые действия слабеющего императорского режима и смутные рассуждения нарождающейся партийной или полупартийной интеллигенции о путях развития российского общества, о дальнейшем существовании русского государства и русской государственности в их привычном, сложившемся в ходе столетий виде и облике, или в какой-то иной форме. Это борьба за создание, впервые в новой России, народного представительства, Земского собора, с участием всех сословий, и возникновение, с муками и ошеломляющими в дальнейшем потрясениями, современного парламента, Государственной думы. Это утверждение на политической сцене «несомненной и внушительной силы» — «партии революционной», которая «не щадит своих сил ни нравственных, ни материальных, не жалеет ни своего здоровья, не забоится об удобствах своей жизни и не справляется о том, доверяет ли ей народ или нет». Это, наконец, резкое обострение межнациональных отношений в России и мучительное, тяжкое обретение русским народом, трудом и жертвами многих поколений создавшим великую державу, обретение своего собственного, русского национального чувства.
Вот всем этим событиям, проблемам, историческим трагедиям посвящены «Маленькие письма» Суворина, чья общественная и литературная деятельность началась на исходе правления императора Николая I и на глазах которого шло созидание новой, после великой реформы 1861 года, России. И вот финал, финал истории, финал долгой жизни…
«Страна в волнении. Страна без правительства, — писал в своей газете Суворин на исходе правления императора Николая II. — В стране царствует раздор. Какие-то самозванцы призывают население к вооруженному восстанию, обещают в самом непродолжительном времени, что «власть перейдет в руки пролетариата и хозяевами Петербурга будет пролетариат». Страна не знает, что делать, к кому обратиться, где искать власти. Власть, будучи бессильною водворить какой-нибудь порядок, медлит выборами, сама не зная, на чем остановиться, ибо она никогда не изучала системы выборов, не знает ни Европы, ни России, а потому гадает на пальцах — сходятся или расходятся? Общество тоже ничего не знает, ничего не делает, не соединяется, охает и ахает, бросается к банкам продавать бумаги, к сберегательным кассам вынимать сбережения и дома ищет места, где бы их спрятать от нашествия хулиганов; оно говорит «слава Богу», когда не объявлена какая-нибудь стачка, лишающая свободного передвижения, воды, хлеба, света. По улицам ездят патрули день и ночь, как в осажденном городе».
И в личном дневнике одновременно как бы подводил итог и делал прогноз на будущее: «Курьезное и опасное время. Храни нас Бог. Тяжелые дни, страшные ожидания» (август 1904 г.). Увы, как показало дальнейшее, «страшные ожидания» Суворина оправдались в полной мере и даже, пожалуй, своим размахом превзошли все тогда ожидаемое.
«Маленькие письма» Суворина, на наш взгляд, важнейший и интереснейший исторический источник, но именно в этом своем качестве они почти не использовались специалистами и не рассматривались, как явление русской публицистики. Разбросанные на страницах «Нового Времени», они никогда не были собраны воедино и, в общем, оказались труднодоступны исследователям, хотя не были позабыты вовсе как многочисленными врагами и политическими оппонентами Суворина, так и его сторонниками и единомышленниками. Филологи, историки литературы, историки театра, чаще других вспоминавшие о «Маленьких письмах», использовали их выборочно, нередко тенденциозно, применительно к темам своих собственных исследований и своего собственного отношения и к автору, и к предмету.
У нас нет сведений о том, намеревался ли автор на склоне лет собрать свою публицистику и выпустить ее отдельным книжным изданием, как это сделал в 1875 г. Незнакомец в двухтомнике «Очерки и картинки». Однако Суворин, не без основания, гордился многими своими публицистическими выступлениями и, по свидетельству современника, «аккуратно собирал в специальных альбомах вырезки собственных фельетонов, напечатанных в «Новом Времени». За исключением двух больших историко-литературных циклов — о подделке пушкинской «Русалки» (1900) и о Димитрии Самозванце» (1906) — при жизни его «Маленькие письма» не перепечатывались и не переиздавались, а после его смерти в августе 1912 г. у наследников уже не оставалось ни времени, до закрытия газеты в конце октября 1917 г., ни денег на новые монументальные издания, да, по-видимому, не было и особенного желания вновь прикасаться к незажившим ранам… Выпущенные в 1914 г. «Театральные очерки» вобрали в себя лишь «донововременские» статьи Суворина, написанные до 1876 г.
* * *
«Маленькие письма» стали появляться в газете особой рубрикой с начала осени 1889 г. — первое, посвященное политической борьбе во Франции, где Суворин тогда находился, 7 (19) сентября этого года. В дальнейшем они печатались на первой, чаще на второй и третьей, иногда на пятой или даже, в праздничных номерах, седьмой полосах. В течение почти двух десятилетий, до 28 августа 1908 года», «Маленькие письма» публиковались в «Новом Времени» свободно, нерегулярно, с большими иногда перерывами, без какой-либо обязательной и непременной периодичности, но с определенной внутренней закономерностью, образуя порой своеобразные замкнутые циклы в зависимости от важности происходивших событий, и от субъективного взгляда и желания автора — например, письма о старообрядцах, вызывавшие восторги Чехова, или о волнениях студенческой молодежи, вызывавшие, наоборот, негодование многих, или цикл думских писем, посвященных работе Государственной думы разных созывов и борьбе партий внутри нее. Бывали годы и месяцы, когда Суворин не печатал ни одного письма, бывали, напротив, месяцы и годы — это прежде всего относится к периоду русско-японской войны и первой русской революции — когда заметки Суворина появлялись почти ежедневно. Так, например, в 1904 г. Суворин напечатал 83 письма, в 1905 г. — 80, в 1906 г. — 71, а в 1907 наметился резкий спад — всего 40. В 1908 г. появилось лишь 6 писем, последним стало письмо о Л. Н. Толстом — о патриотизме и национальном характере романа «Война и мир», тема, которая присутствует в писаниях Суворина почти с самых первых лет его журналистской работы.
Сам по себе этот журналистский, «эпистолярный», жанр не являлся чем-то новым и необычным. Русские писатели XVI — нач. XX вв. широко и часто использовали эту форму — и в виде личной, затем опубликованной корреспонденции, и сразу в открытой печати, так сказать, в публичном виде. Князь А. Курбский и его оппонент царь Иван IV, Фонвизин, Карамзин, Чаадаев, Герцен, И. Аксаков, Самарин, Лавров, В. Боткин, Погодин, Салтыков (Н. Щедрин), Г. Успенский, М. Энгельгардт, Плеханов, наконец, Достоевский и Аверкиев с их «Дневниками писателя», как и множество других их современников, развивали и обогащали в веках этот, пожалуй, самый публицистический жанр, справедливо усматривая в цепи последовательных корреспонденций богатые возможности прежде всего для свободного, более субъективного и непринужденного выражения своих мыслей и чувств, но и для живого, непосредственного общения с читателем, для сиюминутной оценки или скорого отклика на те или иные события политической и общественной жизни.
Суворин у себя в газете «маленькие» жанры сделал главными, основными: маленький фельетон, маленькая хроника, маленькое обозрение, маленькое письмо, хотя по объему эти материалы подчас вовсе не были маленькими, но напротив даже весьма пространными, подобно иной статье или фельетону (подвалу). Важен был резонанс, отклик, ответное эхо, которое помимо воли читателя оставляло свой след в его сознании. Важность общения с читателем, двухсторонняя связь газеты как явления формирующейся общественной жизни были для Суворина главным и именно это сделало его издание столь популярным — свидетельство тому огромная корреспонденция и самого автора и всей редакции.
Определенным этапом, ступенью к «Маленьким письмам» стали несколько десятков столь же мало изученных до сих пор «Писем из провинции», «Писем из Воронежа», «Писем к другу» (1882–84 гг.), которые, хотя на мой взгляд и были помельче в выборе тем и в их разработке, несомненно отражали жившую в душе Суворина постоянную потребность к активному диалогу с реальным или пусть даже воображаемым, как сказали бы теперь, виртуальным, собеседником. Правда у Суворина во все годы его деятельности было немало постоянных, живых оппонентов: сперва в «Голосе», затем в «Гражданине», в «Московских Ведомостях», «Русском Знамени», еще позже в кадетской «Речи», с которыми он вел неослабевающую полемику. Оспаривая или поддерживая своего собеседника, Суворин утверждал собственный взгляд на вещи, проверял его реальную истинность и плодотворность, выражал свою веру. В этом, между прочим, заключалось то «живое стремление» к участию в жизни общества, которого требовал, как известно, от русской литературы Н. Г. Чернышевский. «Нужно, чтобы литературные деятели находились в среде жизни, — писал Чернышевский, — и сами жили теми интересами, о которых они говорят». Суворин, как известно, на заре своей журналистской и общественной деятельности встречался с Чернышевским, присутствовал при гражданской казни писателя на Мытнинской площади и посвятил этому несколько весьма прочувствованных страниц в своей книге «Всякие», за что и был судим и осужден. О встрече с Чернышевским он вспоминал и в «Дневнике». Другое дело, что его политические оценки и его взгляд на развитие российского общества с самого начала по существу весьма отличались от взглядов Чернышевского. Однако он, Суворин, русский публицист, а таковым он считал себя, был в этом качестве непременным участником политической и общественной борьбы в России.
Суворин имел право написать следующие строки: «Я так много видел на своем веку, я присутствовал целое полстолетие при росте России… Я был при освобождении крестьян, при введении нового суда и земства, при образовании гимназий, куда пошли дети всех сословий, смешиваясь и братаясь друг с другом. Я пережил эту длинную революцию, революцию пятидесяти лет, я ее видел и слышал, в ее чудесных моментах одушевления и радости, и в ее горях и ужасах» (август 1905 г.).
Публицистика Суворина как раз и отражала живую повседневность страны с ее мелкими и крупными, исторического масштаба, событиями, с ее вековыми предрассудками, традициями и предубеждениями. И по своему происхождению, и по своему мироощущению Суворин, вне всякого сомнения, был человеком, что называется, народным и это, в частности, так сближало его с Чеховым, выходцем из того же социального слоя. В жизненном пути обоих, особенно в начале жизни, было много схожего. Суворин сердцем чувствовал жизнь своего народа, он видел и понимал его достоинства и недостатки, он находился внутри него несмотря на свое высокое место в общественной иерархии. Он улавливал и выражал нередко едва заметные веяния и настроения, которые часто ускользали от столичных либеральных и тем более революционно-демократических, разночинских публицистов, теоретиков и мыслителей, подчас обретавших источник своего вдохновения и мировоззрения в книжных, политических и литературных теориях. В этом он очень напоминает Н. С. Лескова с его своеобразной народностью. Именно поэтому публицистика Суворина и, в частности, в высокой степени «Маленькие письма», сохраняли подлинность происходящего, ту жизненную правду и актуальность, подменить которые невозможно системой пусть даже самых передовых и прогрессивных взглядов. И свою актуальность, как это ни покажется на первый взгляд странным, многие из «Маленьких писем» Суворина сохранили и по сей день.
Суворин, например, последовательно и упорно отрицал для России возможность «кровавой борьбы с общественной неправдой» (курсив мой. — А.Р.). Не приемля этого лозунга Добролюбова, он прекрасно понимал, что значит в России призывать «народ к топору»: «в России революция — это значит пугачевщина и общий погром, который прежде всего покажет свою силу над интеллигенцией и имущественными классами» (январь 1905 г.). Но понять, как в результате этой кровавой борьбы может возникнуть иная, «светлая, опрятная, образованная» жизнь, о которой столько толковали революционные демократы и их последователи, он никак не мог. Опираясь на свое знание России, с ее богатыми традициями разинщины и пугачевщины, он противостоял всякого рода теориям революции и кровавого бунта и оказался одним из самых проницательных провидцев-контрреволюционеров, предвидя в революции страшное будущее и для российского государства и для русского народа. В этом его убедил опыт первой русской революции.
«Мы жалуемся на режим, — писал он. — Неудовлетворительность его признана самим государем. После этого говорить о режиме нечего. Но не все же и во всем виноват режим. Надо же что-нибудь оставить и на нашу долю, на нашу лень, распущенность и добровольное невежество (курсив А.С.). Самый режим несомненно зависит и от того, что мы дряблы, что мы не выработали себе характера путем труда и твердого убеждения в его необходимости» (январь 1905 г.) И спустя пол года: «Мы удивляем мир своей бездарностью, своим холопством, своим невежеством, своим презрением к науке, к труду, к народной чести и человеческому достоинству» (июнь 1905 г.). Суворин зорко подметил и точно выразил еще одну постоянную и весьма существенную особенность происходивших в начале XX века в России событий:
«Русская революция имеет один колоссальный недостаток, который губит ее. Она не патриотична. В ней никакого патриотического подъема, никакого одушевления. Она вся строится на общем недовольстве и на идее перестроить весь мир. Да, не иначе, как весь мир».
Суворин выступал за коренное реформирование русского государства на основе повсеместного просвещения, трудового политического образования и самообразования. В этом заключалось главное, с его точки зрения, для России — повышение культурного и образовательного уровня ее населения при сохранении основ демократии, свободы печати и вероисповеданий, при строгом сохранении прав личности, при ликвидации полицейщины и самодурства. Необходимо было развитие земского самоуправления и создание народного представительства, парламента, который стал бы опорой для сильной, уверенной в себе исполнительной власти. Власти монархической и самодержавной. «Наших государственных деятелей, — писал он, — сплошь и рядом характеризуют именем либеральных или консервативных. Личные мнения, образовавшиеся под влиянием воспитания и среды, личный характер совсем не исключают чувства верноподданства и глубокого уважения к основам государственной жизни» (декабрь 1896 г.)…
Всего с сентября 1889 г. по август 1908 г. в газете было напечатано по уточненному мною счету 730 «Маленьких писем» (в суворинском архиве в РГАЛИ сохранилось еще несколько текстов в рукописях и гранках, по каким-то причинам своевременно не увидевших свет; в это наше издание они не включены, хотя активно используются исследователями, например, в книге Е. А. Динерштейна). И в циклах предшествовавших, и в «Маленьких письмах» Суворин вел сплошную их нумерацию римскими цифрами, однако нумерация эта нередко нарушалась, возникали пробелы и сбои, большей частью по невниманию наборщиков, то повторявших цифры, то их пропускавших, а то и путавших порядок непривычных римских обозначений — так, например, в ноябре 1895 г. вместо полагавшегося по порядку CCXLV (245) было набрано CCLXV (265), иными словами общий счет увеличился сразу на 20 единиц, которые и сохранялись — плюс-минус — почти до самого конца. Некоторые письма снимались или переносились в другие рубрики, в другие отделы, становились передовыми, редакционными статьями, утрачивая авторство и изменяя, таким образом, свой внутренний, так сказать «жанровый» газетный статус, и это также вызывало сбои в общей нумерации.
В этом нашем томе полностью опубликовано 280 писем, с CDLI (451) от 12 (25) января 1904 г. по DCCXXX (730) от 28 августа (10 сентября) 1908 г., т. е. примерно одна четвертая часть общего их количества (предшествующие №№1 — CDL) за 1889–1903 годы собраны в другой книге).
Известно, что особенно в первые годы существования уже собственной газеты Суворин сам в значительной степени заполнял ее страницы в разных отделах и разных рубриках, от передовых и редакционных статей, очерков и фельетонов, по-нынешнему «подвалов», до театральной рецензии и историко-литературной хроники, часто без подписи или под разными вариантами псевдонимов. Да и в литературу он вошел под псевдонимом Незнакомец, сделав его знаменитым. Поэтому сейчас так трудно, хотя и вовсе не безнадежно, выделять собственные, никак не подписанные тексты Суворина. Однако и «Письма к другу», и «Маленькие письма» он подписывал неизменно: «А. Суворин». Писал он много, почти с графоманской неистовостью, так как любил писать, любил самый процесс писания, столь мучительный для многих, процесс перенесения мысли на бумагу, чувство и мысль обгоняли руку, слова лились вольным потоком, далеко не всегда умещавшимся в грамматическое русло русского языка. Написанные ночью страницы тут же отправлялись в набор, а их автор в четыре-пять часов утра укладывался в постель, предоставляя наборщикам разгадывать шарады своего почерка. Впрочем и в устном общении беседливый Суворин не знал удержу — Чехову запомнились долгие ночные споры-разговоры с Сувориным в Феодосии, в Петербурге, во время заграничных поездок, в прогулках по московским кладбищам. И много позже, уже перестав быть автором «Нового Времени», в разгар дела А. Дрейфуса, Чехов испытывал потребность в общении с Сувориным.
«Мне нужно повидаться с Вами и поговорить — не о делах, а так, кое о чем» — из Мелихова писал Чехов Суворину 21 июня 1897 г.
«Я ждал Вас с таким нетерпением, хотелось повидаться, поговорить и в сущности Вы так мне нужны! Для разговоров я приготовил целый короб, приготовил для Вас чудесную, совсем жаркую погоду» — 25 октября (6 ноября) 1897 г. из Ниццы.
«Поговорить есть о чем, много накопилось всякой всячины — и чувств, и мыслей» — 6 (18) апреля 1898 г. из Ниццы.
«Представится возможность повидаться и поговорить кое о чем» — 2 апреля 1899 г. из Ялты…
Обладавший острым, с хитрецой, умом, проницательный и осведомленный, открытый и доброжелательный, жадно поглощавший все впечатления окружающего бытия, Суворин был на редкость интересным, отзывчивым собеседником. И это влекло к нему людей, от Некрасова и Достоевского до Витте и Куропаткина, от тульских и воронежских мужиков до Сары Бернар и Томмазо Сальвини. Свободная, непринужденная манера письма, живой разговор с читателем на понятном ему языке интересовали многих — читательская почта Суворина была очень велика и он использовал эти отклики в своих последующих выступлениях. «Маленькие письма», как в свое время очерки и фельетоны Незнакомца, внимательно читали повсюду, откликались на них, восхищаясь ими или, наоборот, яростно их опровергая и абсолютно их не приемля. Слова и чувства Суворина, его сюжеты и его размышления, его взгляд на жизнь и российскую действительность задевали за живое, наконец, самая его личность волновали многих, независимо от того придерживались ли они его образа мыслей или, напротив, проповедовали нечто прямо противоположное. Об этом свидетельствуют суждения и оценки столь разных людей, как Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков (Н. Щедрин) и В. Г. Короленко, А. П. Чехов и В. В. Розанов, граф С. Ю. Витте и император Николай II, В. И. Ульянов-Ленин и П. Б. Струве, десятки статей коллег-журналистов, писем курсисток и студентов… Кстати сказать, едва ли случайно великий писатель земли русской, знакомец Суворина с начала 60-х гг., подписывал свои письма к нему «любящий Вас Л. Толстой» и сетовал, что «давно не виделся с вами». И Чехов 24 апреля 1899 г. писал Суворину из Москвы: «Вчера был у Л. Н. Толстого. Он и Татьяна (дочь Т. — А.Р.) говорили о вас с хорошим чувством; им понравилось очень Ваше отношение к «Воскресению»… Приедете в Москву?». И до самых последних дней оставалась неизменной подпись: «Ваш А. Чехов».
Внимательным, но отнюдь «не любящим», читателем газеты «Новое Время» и статей самого Суворина был В. И. Ульянов-Ленин. В томах его ПСС множество ссылок на выступления газеты и Суворина, в частности и на «Маленькие письма» (например, по поводу речи М. А. Стаховича, 1901, 5 (18) октября, №9191, CDIII). Характеристики газете давались самые отборные: «лакеи царя, господа Суворины», «этот орган-рептилия», «профессиональные предатели «Нового Времени», «лакейское «Новое Время», «лакеи Трепова» и т. д. — все примеры только из статей, включенных в 11 т. ПСС. В августе 1912 г. В. И. Ленин откликнулся на смерть Суворина своеобразным некрологом в газете «Правда» под заголовком «Карьера», четко сформулировав здесь те оценки его личности и деятельности, которые на много десятилетий вперед, после октября 1917 года, определили дальнейшее отношение к Суворину советской науки. Как будто речь шла о каком-нибудь титулярном советнике, добравшемся до министерского кресла (а Суворин-то всю жизнь оставался «губернским секретарем в отставке» — чин 12 класса по Табели о рангах). Спустя полтора года (март 1914) Ленин вновь вернулся к «Новому Времени» и к суворинцам в связи с появлением книги одного из многолетних сотрудников Суворина Н. Снессарева «Мираж «Нового Времени». Разумеется, лексика и метода оставались прежними.
А вот «Новое Время» еще 2 (14) декабря 1898 г., №8178 опубликовала едва ли не первую в России рецензию на книгу Владимира Ильина «Экономические этюды и статьи». Спб, 1899. Называя книгу «отрывком из бесконечной полемики «марксистов» с «народниками», автор рецензии, известный публицист и не только «Нового Времени» Ник[олай] Э[нгельгардт] в частности писал: «Вместо того, чтобы работать над положительным выяснением того экономического процесса, который вот уже 35 лет длится в России, наши марксисты ограничиваются самодовольным зубоскальством и выступают с такой миной будто у них есть в запасе некий все выясняющий секрет. Но никакого секрета у них нет, кроме одного незаконного превращения «очерка происхождения капитализма в Западной Европе» Маркса в «историко-философскую теорию общего хода развития», против которого высказался сам Маркс в своем знаменитом «письме», объявив такое деяние своих друзей и врагов «бесчестием» для себя».
«Новое Время» откликнулось, в частности, и на V, лондонский, съезд РСДРП (1907, 15 (28) мая, №11196), обвинив русскую социал-демократию в полном подчинении Бунду, но изложив более или менее полно историю «раскола в социал-демократах» на большевиков и меньшевиков и дальнейшие попытки их объединения.
* * *
Конец XIX и начало XX столетия оказались тяжелым и сложным временем не только для России, но и лично для самого Суворина, для руководимой им газеты, для всего суворинского концерна. Наступил закат жизни, тревожной, нелегкой, исполненной подлинного человеческого трагизма и одиночества, исполненной буквально жертвенного «каторжного», самоотверженного труда (подробно о биографии А. С. Суворина см. в предисловии Д. Рейфильда и О. Макаровой в издании его «Дневника»). Начали одолевать хвори телесные: «головокружение, боль в пояснице, болит шея, болит голова, ноги плохо держат. Совсем ни к черту не годен. Как мне стукнуло 70 лет, так стало совсем плохо… Ни писать, ни думать» (октябрь — ноябрь 1904). Не отступали душевная скорбь и внутренний разлад. Еще в середине 80-х гг. он похоронил дочь и троих сыновей. Теперь постепенно уходили ровесники и современники, личности и таланты, в сотрудничестве, соперничестве и противоборстве с которыми начиналась жизнь и разворачивалось дело, кто вдохновлял и поддерживал, хотя порой и ожесточенно, с ненавистью противостоял. В июле 1904 г. умер Чехов, единственный по большому счету друг и младший товарищ, чувство к которому было, в сущности, отцовским — таким, вероятно, хотел видеть старик Суворин своих наследников и преемников. Но прямые наследники оказались другими. Семейные конфликты обострялись, становились необратимыми, взаимопонимания не было. Однако не любить их и не страдать из-за них Суворин не мог. В 1903 г. с группой сотрудников ушел и основал собственную газету «Русь» яростный и непримиримый сын Алексей Алексеевич. Чужие люди постепенно становились ближе своих. Тяжелая болезнь — рак горла — прогрессировала, несмотря на мучительные операции. Словоохотный Суворин постепенно утрачивал способность говорить — общаться приходилось записочками. 11(24) августа 1912 г. он умер.
К этому времени у газеты уже прочно сложилась своя, устойчивая, вошедшая в историю «нововременская» репутация, всегда ли и во всем справедливая и достаточно основательная, это другой, сам по себе очень интересный вопрос, который в данном случае обсуждению не подлежит. Но создатель этого издания, и это следует признать, умелый кормчий, сумел сделать «Новое Время» одним из самых авторитетных и важных по европейским меркам изданий. Газета была оперативной, живой, в каждом номере содержалась свежая информация и по вопросам внешней политики, и по проблемам прошлого и настоящего русской культуры и русского просвещения, и о жизни России в ее самых отдаленных уголках и заштатных губерниях. В «Новом Времени» работали талантливые журналисты, печатались известные писатели, ученые, деятели искусства. Конечно, далеко не все сотрудники Суворина, скорее даже меньшинство, обладали широтой взглядов и терпимостью своего издателя. И сразу сказывалось на газете, когда Суворин уезжал за границу или к себе в имение. Сейчас, когда спустя много лет просматриваешь газету день за днем, месяц за месяцем, год за годом становится отчетливо видно, когда она выходила без своего хозяина. На страницах «Нового Времени», определяя тем самым позицию газеты, очень часто появлялись материалы, которые, по существу, обостряли и раздували те или иные социальные и особенно межнациональные проблемы и конфликты, вызывая возмущение радикальных и либеральных кругов русского общества. И хотя Суворин утверждал, что перед выпуском каждого номера он прочитывает его от корки до корки, однако кое-что, по-видимому, попадало в печать помимо него, без его ведома, вызывая подчас серьезные осложнения для издателя. А кое с кем из своих сотрудников, например, с неукротимым В. П. Бурениным, он попросту не мог сладить.
«Чехов рассказывал мне, — вспоминал Короленко, — что Суворин иногда рвал на себе волосы, читая собственную газету». «В обществе бурю негодования» вызывали и отдельные «Маленькие письма». Весной 1899 г. Суворина даже привлекали к суду чести тогдашнего Союза писателей по поводу его статей о студенческих волнениях. Однако суд чести, членом которого был, в частности, такой кристальной чистоты и порядочности человек, как В. Г. Короленко, кстати сказать, политический противник Суворина (но и автор газеты «Новое Время»), этот суд чести единогласно освободил Суворина от обвинений, признав с его стороны лишь «неправильными и нежелательными некоторые приемы». «Мы строго держались в пределах только данного обвинения, — записывал Короленко в дневнике, — и по совести я считаю приговор справедливым. В данном случае у Суворина не было бесчестных побуждений… Мы считали неуместным и опасным становиться судьями всего, что носит характер «мнений» и «направлений». С этим нужно бороться не приговорами. А от нас именно этого и ждали».
«Маленькие письма» в значительной своей части, — иногда не обходилось и без лукавства, — были искренним откликом публициста на происходящее и взгляд его и оценки могли отличаться от общепринятых и «модных», ибо «публицист есть личность и эта личность вся обыкновенно высказывается, со всеми достоинствами и недостатками» (декабрь 1896 г.). Именно поэтому «Маленькие письма» можно без преувеличения считать своего рода публичным, открытым, доступным всякому дневником, многие страницы которого по силе страсти и трезвости мысли, по откровенно высказанной правде не уступали заметкам в дневнике личном. Примечательно, что многие записи там почти текстуально совпадают с напечатанным. Закономерным оказывается вопрос: так ли уж лицемерил и двурушничал Суворин, как это старались представить и некоторые ему современные оппоненты, и стараются некоторые новейшие исследователи? Это лишний раз опровергает легенду о двоедушии Суворина, якобы одно писавшего в личном дневнике, и другое — в открытой печати. Впрочем, известно, что не нашла абсолютно никакого документального, фактического подтверждения другая легенда, будто «продажные» Суворин и «Новое Время» получали какие-то правительственные субсидии. И то и другое было и остается явной ложью, злонамеренной и провокационной, подхваченной в советские времена.
* * *
В ночь с 26 на 27 января (с 8 на 9 февраля) 1904 г. русская Тихоокеанская эскадра с горящими отличительными огнями стояла на внешнем рейде Порт-Артура. Около полуночи десять японских миноносцев предприняли минную атаку, которая застала врасплох русских моряков. Три корабля — броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада» — получили повреждения. Удар был внезапный, и хотя отношения между Японией и Россией в тот момент были достаточно напряженными, столь стремительных боевых действий противника в России не ожидали. Не ожидал этого и Суворин, издавна неоднократно и последовательно выступавший против войны, как средства разрешения всех тогдашних противоречий на Дальнем Востоке. «Россия желает мира… она сама хорошо знает, что войны не хочет…, а если придет война, надо будет сражаться с отвращением к войне, с отвращением к противнику, но все-таки сражаться, не жалея ни своей жизни, ни жизни врага… Чего мы ищем там, на Дальнем Востоке, какие наши цели и насколько они жизненны и важны?» — писал он за несколько дней до начала боевых действий. Он приветствовал выход России на берега Тихого океана, откуда можно будет протянуть братскую руку Соединенным Штатам, с восторгом писал о Великом Сибирском пути, который возрождал к жизни огромные пространства Сибири и Дальнего Востока. «Николай II открыл нам ворота в Великий океан, в которые мы давно стучались. Железный путь туда — живая вода, которая своей животворной влагой вспрыснула народы, давая им новую жизнь и обещая лучшее будущее… пусть попробует кто-нибудь из наших врагов разбить свой лоб об это железо… А если нам придется разбить там свой лоб о собственное дело?» И никоим образом война не укладывалась в его сознание, несмотря на то, что и в Европе и в Азии тучи очевидно сгущались. Твердо и убежденно выступал Суворин за мир, считая, что для свободного и благополучного развития России нужен мир. И только мир. Он горячо приветствовал манифест императора Николая II от 12 августа 1898 г. с предложением к государствам всего мира о всеобщем разоружении и созванную затем Гаагскую конференцию по разоружению. Он сам призывал европейские государства, Германию, Англию, сократить вооружения и верил, что Япония, эта новая растущая сила на Дальнем Востоке не станет врагом России, полагая, что Россия должна жить в мире со своими дальневосточными соседями. Нужна ли Маньчжурия России? В этом он сильно сомневался, хотя выход великого государства в «теплые, тихоокеанские воды» как будто сулил несомненные политические, экономические и стратегические выгоды, усиливая позиции России, как мировой державы. Россия — «тот гигантский железный мост между Европой и… Восточным океаном».
И вдруг неожиданный удар коварного врага, которого, как показали события, явно недооценивали. «За Японией стоит Англия, Германия помалкивает, и даже во Франции дружно ругают Россию». Поэтому России нужно «развернуть все свои силы, не щадя ничего и не медля… Надо жить во много раз сильнее, жить несколькими жизнями, биением всего русского сердца, развитием всех наших способностей, жить ярким светом русского разума, мужества и таланта».
Суворин немедленно отправил на Дальний Восток нескольких корреспондентов — затем через некоторое время авторами газеты стали художник Н. И. Кравченко, будущие генералы А. И. Деникин и П. А. Краснов. Уже в начале февраля газета объявила о сборе пожертвований на строительство и обновление русского флота. «Первый же день войны поставил вопрос о флоте ребром. Раз Россия стала у Тихого океана, она должна иметь большой флот. Сильная на суше, она должна быть сильна и на море». «Маленькие письма» появлялись в газете почти каждый день — Суворин ободрял, пробуждал патриотизм современников, осуждал скептиков и маловеров. «Обожгло Россию, обожгло весь русский народ… русская кровь полилась, смерть разинула свою пасть и поглотила первые жертвы, облитые слезами отцов и матерей. Тяжелое и в то же время великое время». «Русское чувство заговорит громко и горячо соединит всех под русское знамя». Коль скоро нам навязали войну, будем воевать и будем побеждать.
Поначалу Суворин не допускал и мысли о том, что Япония сумеет победить Россию, веря в русское воинство, в русский флот, веря в таланты и способности русских военачальников. Он приветствовал командующих — А. Н. Куропаткина, А. М. Стесселя, Н. П. Линевича, адмирала З. П. Рожественского, видя в них символ преемственности российской воинской славы. Тем горше были последующие разочарования. Побед не было ни на море, ни на суше. Была растерянность властей и командования, была все более очевидная неготовность государства к войне. Был легендарный героизм моряков, пехотинцев, казаков, артиллеристов. Но побед и удач не было. Постепенно погибали корабли порт-артурской эскадры, один за другим уходили на дно вместе со своими командами боевые корабли, на строительство которых были потрачены огромные средства. «Новое Время» в 80–90-е гг. внимательно следило за программой кораблестроения и торжественно отмечало спуск на воду каждого броненосца или крейсера. Компетентные авторы рассуждали на страницах газеты о проблемах подводной войны и о типах подводных лодок. Но теперь уже сложили головы флотоводцы, адмиралы С. О. Макаров, М. П. Молас, В. К. Витгефт, погиб генерал Р. И. Кондратенко, погибали капитаны и лейтенанты, полковники и есаулы, мичманы и рядовые. Близилась к концу эпопея Порт-Артура.
Менялась тональность «Маленьких писем». Горечь и гнев, недоумение и боль начинали в них преобладать. «Никогда, может быть, даже наверно никогда, война так больно не действовала на всех. Как будто все мы в ней участвуем, и те, которые теряют в ней родных и близких, и те, которые подобных потерь не несут. Несмотря на свою дальность, она как будто у наших домов, у наших окон». «Новое время» печатала в своих еженедельных приложениях портреты погибших и раненых героев, зарисовки тяжкого фронтового быта. В каждом номере публиковалось по несколько корреспонденций из разных точек. Нововременцы, какие они там ни были, участвовали в торжественных встречах моряков «Варяга» и «Корейца» в Петербурге. Нововременцы едва ли не первыми объявили о сборе всенародных средств в пользу искалеченных воинов и с гневом писали о безразличии и равнодушии власть предержащих к семьям павших, буквально остававшихся без куска хлеба после потери кормильца.
Газета напечатала обвинительный акт и стенограммы судебного процесса над генералитетом Порт-Артура, виновным в сдаче крепости, (1907 г.), и Суворин вновь и вновь возвращался памятью к дальневосточной трагедии. «Нельзя спокойно говорить об этом прошлом. Пусть оно еще раз явится. Пусть оно проскрипит и разбудит спящих и самодовольных. Это один из самых ярких эпизодов не только войны, но и нашей революции. Это был клочок того красного знамени, которое потом развевалось по всей России и собирало около себя всех недовольных, обиженных и огорченных. Сданный Порт-Артур кричал во всех сердцах таким болезненным криком, что терзал всю Россию, как предчувствие смерти» (декабрь 1907 г.).
Именно Суворин, едва ли не первым, в своей газете от имени российского общества предъявил счет императорскому правительству:
«Куда девались 2 миллиарда, которых стоила война с Японией?
Куда девались Порт-Артур, Дальний и пол-Сахалина?
Куда девались 50 млн. рублей, которые должны были получить рабочие за свою работу на фабриках в 1905 г., если б не бастовали?
Куда девался миллиард рублей, который потеряла русская промышленность вследствие забастовок?
Куда девали те миллионы и десятки миллионов рублей, которые потеряла казна вследствие забастовок и неурядиц?
Куда девались тысячи подожженных усадьб и замков с их сокровищами культуры?
Куда девалась у правительства голова?..
Если б у правительства спрашивали так же смело, куда девалась хоть часть того, что пропало и пропадало, пропадало миллионами и миллиардами, то было бы очень хорошо, очень независимо и очень практично» (нач. января 1906 г.).
Обвиняя правительство в народной трагедии, Суворин делал это открыто, у себя на родине, а не в каких-нибудь эмигрантских изданиях Лондона, Цюриха или Женевы, откуда в общем вполне безопасно можно было требовать «свержения царского самодержавия». Поглощенные борьбой против самодержавия, видя в этом панацею от всех социальных зол, социал-демократы всех видов и оттенков не понимали или скорее не хотели понимать, что по существу речь идет о национальной государственности, что разрушение и низвержение ее ведет к гибели самое Россию и русский народ. А вот Суворин вполне это понимал и, поддерживая какие никакие начинания императора Николая II, он поддерживал Россию, поддерживал свое отечество, которое оказалось в беде. Иллюзий относительно личности последнего императора и его ближайшего окружения у него не было, об этом он писал и в личном дневнике, и обиняками на страницах «Нового Времени», но он видел в императоре символ России и желал ее предстоятелю благополучного царствования и всяческих успехов. Он считал, что Россию может спасти от революционных потрясений только сильная, уверенная в себе и в своем народе власть. Но власть эта должна советоваться с народом, вслушиваться в голоса соотечественников, к каким бы сословиям они ни принадлежали. Сильным государственным мужем, с которым у него сложились вполне корректные, если не дружеские отношения, в течение многих лет он считал графа С. Ю. Витте (еще до его графства), и опять-таки тем горше было разочарование в его действиях и в действиях (или бездействии) его правительства. Суворин приветствовал восходящего П. А. Столыпина (его брат Александр был одним из главных публицистов «Нового Времени»), надеясь, что тот вольет свежую кровь в дряхлеющий механизм русской государственности, положит конец всеобщему смятению и анархии. «Он являлся в Думу и вел себя и говорил так, что оставлял после себя впечатление, как человек мужественный, искренний и, кажется, с волей. Воля в русском человеке — это необыкновенно важная вещь. Безволие — это болезнь не только русского, но, пожалуй, чуть ли не всего славянского племени, а в ком она есть и проявляется во время и разумно, тот полезный деятель» (июнь 1906 г.). Но и в отношении Столыпина возникали сомнения и колебания. Из записей в личном «Дневнике»:
«Вот человек, который заслуживает признательности отечества уже за то, что он ни разу не растерялся и сохраняет неуязвимое мужество и честные конституционные намерения» (июнь 1907 г.). Есть и такая в связи с одной из статей в «Новом Времени», не понравившейся министру: «Вот и доказывается, что у П. А. Столыпина есть большая недохватка в голове. Сейчас же кулачки и показывает» (август 1907 г.).
Но вот последняя, увы, за полгода до трагического финала:
«Последние дни в Петербурге все толки об отставке Столыпина, «Новое Время» за него» (март 1911 г.)[2].
Суворин пережил Столыпина без малого на один год.
А вообще не оставалось сил, чтобы вновь и вновь переживать череду убийств — политических и уголовных, — опять захлестнувшую Россию. Суворин вообще отрицал и осуждал право любого человека отнять жизнь у другого, как способ разрешения жизненных противоречий. Ему самому довелось пережить убийство первой жены, помощницы и единомышленницы в начале литературной деятельности, талантливой писательницы и книгоиздателя Анны Ивановны (Барановой, 1840–1873), оставившей ему пятерых детей. Тогда «Суворин был близок к самоубийству», вспоминал А. Ф. Кони. Он пережил и убийство, после долгой охоты, почитаемого им императора Александра И, «открывшего новую эру в истории России».
«Убийство в пылу гнева, в безумной страсти, даже такое убийство не может быть, не должно быть оправдано… Убийца за свое преступление так или иначе должен понести кару» — к этой теме он неоднократно возвращался в «Маленьких письмах» разных лет. В осуждении убийцы в соответствии с законом, с точки зрения Суворина, проявлялась зрелость общества, его способность, право и сила руководить общественными процессами. Наказание должно быть неотвратимым. Однако волна политических убийств, поразившая Россию в конце XIX — начале XX века, потрясала. Это был тщательно обдуманный и аккуратно осуществляемый террор, который объявила государству и правительству революционная партия, целью которого было их полное уничтожение. Один за другим в результате покушений погибали общественные и политические деятели, губернаторы, министры, генералы, полицейские и судебные чиновники, даже простые становые и околоточные.
В марте 1901 г. был убит министр народного просвещения Н. П. Боголепов; в апреле 1902 г. — внутренних дел Д. С. Сипягин; в июле 1904 — другой внудел, В. К. Плеве, «несомненно умный, чрезвычайно деятельный, хорошо понимавший недостатки русской жизни» (Суворин). В феврале 1905 г. убили московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича Романова.
В июле 1906 г. и марте 1907 г. один за другим были убиты два выдающихся общественных деятеля России, члены конституционно-демократической партии, популярные публицисты, М. Я. Герценштейн и Г. Б. Иоллос. Суворин, вообще резко осуждавший политику кадетов, посвятил памяти погибших несколько «Маленьких писем». Он писал: «Политические убийства развращают мозг именно потому, что человеческая жизнь ставится ни во что перед «убеждением» убийцы… Старый мир состоит из живых людей, и многое множество этих людей тоже жаждут свободы. Они любят жизнь, любят своих детей, свои семьи, свое отечество, любят народную и военную славу, любят самое русское имя, и в их груди живет чувство негодования, готовое обратиться в отчаяние от всего того, что происходит, от всей этой колесницы революции, запряженной злобой и местью и управляемой ведьмой социал-демократической республики, которая сидит за кучера… И прежде всего я желал бы, чтоб смерть несчастного Герценштейна была переломом, чтоб она образумила и тех и других, чтоб она внушила жалость к человеческой жизни, к русской погибающей жизни…» (июль 1906 г.). А тем временем в августе 1906 г. взорвали дачу П. А. Столыпина на Аптекарском острове, при многих погибших, а в сентябре 1911 г. в Киеве убили его самого. В некрологе «Нового Времени были и такие слова: «Твердость, настойчивость, находчивость и высокий патриотизм были присущи его честно открытой натуре. Столыпин особенно не терпел лжи, воровства, взяточничества и корысти и преследовал их беспощадно».
«Политика с помощью убийств возмущает душу, — писал Суворин. — А она стала явлением обычным не у нас одних… Совершать убийства во имя свободы значит убивать самую свободу. Кто убивает, тот враг того развития, которое совершается ростом самого общества, враг тех необходимых, назревших реформ, которыми удовлетворяется большинство. Убийства замедляют движение, обрезывают крылья у желаний самых умеренных, у той мирной и ясной свободы, которая вооружена просвещенным умом, знанием своей родины и верными средствами для поднятия ее жизни на известную высоту. Должно ненавидеть всякое убийство, как простое, так и политическое, совершается ли оно в революционное время, как орудие партии, захватившей власть в свои руки и террором, страхом желающей крепиться, или совершается для внесения в общество смуты и переполоха». Знаменательные и замечательные слова, увы, особенно актуальные и в наше время, спустя сто лет после того, как они были написаны.
«Ужасна анархия, ужасно междоусобие, ужасна пугачевщина. Кто выведет Россию из этого "ужаса"» тот будет действительным спасителем отечества» (июль 1906 г.).
Постоянное место в «Маленьких письмах» занимает проблема деятельности российского правительства и других органов власти. Суворин пристально следил за внешней политикой Российской империи и просчеты министров иностранных дел и полномочных представителей России за границей неизменно вызывали у него неудовольствие и возмущение, ибо, по его мнению, почти всегда они наносили ущерб интересам России. Он прекрасно понимал, кто в России направляет внешнюю политику государства, и не рискуя открыто называть это лицо, однако не упускал случая, чтобы не выразить, например, своего отрицательного отношения к политике России на Балканах или на том же Дальнем Востоке, где работают, с его точки зрения, совершенно неподготовленные дипломаты. Резко, называя имена, он перечислял министров иностранных дел, чья деятельность, в сущности, вредила России.
Проблемы общеевропейские постоянно находились в поле его зрения, он поддерживал нередко дружеские отношения (например, с послом России в Германии Пав. А. Шуваловым) с полномочными представителями российского императора во Франции, в Италии, в Австро-Венгрии. Симпатии его чисто человеческие принадлежали Франции и на всю жизнь в его памяти запечатлелась встреча французским народом и правительством русских моряков во время визита российской эскадры во Францию осенью 1893 г. Он часто бывал во Франции и всякий раз возвращался полный впечатлений, планов и восторгов. И он сумел передать свое отношение Чехову, которого, в общем, впервые вывез в настоящую Европу. И Чехов многое воспринял, вольно или невольно, глазами Суворина. А Суворин, старый, тертый калач Суворин, многому учился у Чехова и не скрывал этого. «В «Маленьких письмах» Суворина, иногда так сверкающе великолепных, по всей вероятности, найдутся, при тщательном их исследовании, отблески чеховского света», писал Александр Амфитеатров, много лет работавший с Сувориным. Увы, чеховский свет осветил далеко не все закоулки суворинской души, и он так и не сумел понять существо расколовшего Францию, а затем и весь мир, так называемого «дела А. Дрейфуса», несмотря на разъяснения и горячие письма Чехова.
С неизменным, хотя и настороженным, уважением, с постоянным интересом относился Суворин к Германии и к ее молодому тогда императору Вильгельму II, за действиями, высказываниями, путешествиями которого он следил внимательно и увлеченно. «Император Вильгельм II, — писал он, вспоминая о вступлении Николая II на российский престол в 1894 г. — сознавал тяжелое положение России и предвидел необходимость огромной работы для нового царствования. Из русских государственных людей не было никого, который бы так верно оценивал настоящее» (июль 1906 г.) и через год: «С самого вступления на престол Вильгельма II я чувствовал уважение к германскому монарху, к его таланту управлять и пользоваться обстоятельствами» (июль 1907 г.).
Суворин рекомендовал своим соотечественникам учиться у немцев трудолюбию, умению организовать свой труд, твердости и настойчивости в достижении поставленных целей, в овладении тем или иным ремеслом или профессией. Он рассказывал о немецких университетах, библиотеках, музеях, выставках, научных открытиях (например, о Р. Кохе) и надеялся, что именно эта, торгово-промышленная, профессионально-образовательная, культурно-просветительная сторона в жизнедеятельности обоих государств будет способствовать их длительному и взаимополезному сближению. Однако сложный расклад в европейской и мировой политике кануна Первой мировой войны, решительные и не всегда понятные тогда внешнеполитические декларации и шаги Германии вызывали у Суворина опасения и даже неодобрение (июль 1907 г.).
Но зато не ослабевал и у «Нового Времени» и лично у Суворина интерес к далеким Соединенным Штатам Америки. У газеты были там свои постоянные корреспонденты — одним из них была с 1880 г. Варвара Николаевна Мак-Гахан (ур. Елагина, 1850–1904), жена всемирно тогда известного американского журналиста Януария-Алоизия Мак-Гахана (1844–1878), участника, в частности, операций российской армии в Хиве, приятеля М. Д. Скобелева и В. В. Верещагина. Варвара Мак-Гахан много печаталась в русских газетах и журналах, публикуя свои «Письма об Америке». «Новое Время» рассказывала о всемирной выставке в Чикаго, об американском флоте (это была одна из самых частых и увлекательных тем), об испано-американской войне, об американских банках и промышленных предприятиях, широко освещала визиты американских государственных деятелей в Россию (например, тогдашнего военного министра Уильяма Тафта осенью 1907 г., приехавшего в Петербург и Москву с Дальнего Востока по Великому Сибирскому пути).
Этому визиту Суворин посвятил очередное «Маленькое письмо», в котором, в частности писал:
«Мне хочется вспомнить о 1867 годе. Первый мой фельетон (т. е. большая статья, «подвал» в газете. — А.Р.) в «Санкт-петербургских ведомостях» был посвящен американскому монитору «Миантономо», на котором депутация граждан Соединенных Штатов приезжала в Петербург с дружественной России демонстрацией. Монитор носил имя предводителя одного индийского племени в Америке, друга белых, в XVII веке. «Миантономо» прибыл летом 1867 г. после продажи Россией Аляски С. Штатам… Весь Петербург перебывал на этом мониторе с самыми дружественными чувствами к американцам. Много было выпито шампанского и много сказано речей самых дружеских и в Петербурге и в Москве… Посещение американцев подогревало наши демократические чувства и вечная, неизменная дружба к С. Штатам, казалось, закладывалась в русских сердцах. Вот и я ездил на этот «Миантономо» и описывал подробно свое посещение…». Заканчивалось это «Маленькое письмо» следующими, едва ли не пророческими словами: «Я не сомневаюсь, что есть исторически необходимая связь между посещением «Миантономо» в 1867 г. и посещением г. Тафта в 1907 г. Сорок лет истории весьма поучительны. Это как бы поверка «сердечных» отношений, независимо от политики, от мудрых или мудреных речей и действий дипломатии… В сердце русского человека несомненно существует большое дружеское чувство к С. Штатам, и если бы произошла война между ними и Японией, то наши симпатии были бы горячо и нераздельно на стороне американцев, какое бы положение ни приняло наше правительство» (ноябрь — декабрь 1907 г.).
В то же время Суворин сурово осуждал действия президента Теодора Рузвельта и его посредничество при заключении Портсмутского мира, считая это «роковым для него решением» и полагая, что «политические симпатии американцев должны были бы обращаться к России, а вовсе не к Японии».
Внешнеполитические темы, конечно, под углом зрения интересов России, занимали важное место в «Маленьких письмах» Суворина, как и во всей его поздней публицистике, однако эти темы отнюдь не преобладали. Главным для него неизменно была жизнь самой России, исполненная постоянных и трагических конфликтов и противоречий, жизнь русского государства во всем его многообразии, жизнь русского народа в этом государстве. Поэтому и внутренние дела во всей сложности и подчас внезапности поворотов во внутренней политике, в исторической переменчивости их и непоследовательности постоянно волновали Суворина. Как складывается российское общество, как складываются его взаимодействие с государством, живущим своей, оторванной от народа жизнью, как функционирует это государство, особенно в сложных условиях разгорающейся революции — об этом он размышлял беспрестанно. И часто возвращался к опыту недавнего прошлого, пытаясь понять и найти какие-то закономерности.
«Ведь, строго говоря, Россия не выходила из революции с самого Смутного времени. Были передышки, но революция не прекращалась. Или правительство шло революционным путем, или передавало революцию обществу и черни, и тогда начинало отстаивать свое право управлять, как оно захочет. Революционный змей всегда сохранял свою голову, хотя временами терял то свой хвост, то часть своего тела. Он извивался в нашей многострадальной истории, меняя цвета, погружаясь в спячку и снова оживляясь. Где же тут было образоваться крепкому, сильному и деятельному обществу? Самые сильные, крепкие и деятельные обыкновенно уходили в бюрократию, вообще на службу и меняли свой естественный цвет, данный матерью русской природой, на казенный. Кто выскакивал или только хотел выскочить, того осаживали или бесцеремонно давали такого тумака, что он садился и принижался… Не было ни одной свободной области. Даже сама бюрократия была несвободна, если в ней загоралась живая мысль. И ей приходилось лукавить, обманывать, выгораживаться всеми неправдами. И в ней нередко по способному и талантливому лбу били молотком и выбивали оттуда остатки свободной души, а бесталанные лбы делались просто барабанами» (февраль 1906 г.).
Это было опубликовано в «Новом Времени» в канун открытия Думы и решающих перемен в государственной жизни России, которых ждал и за которые по-своему боролся Суворин, которых ждали не только «передовые, прогрессивные» силы русского общества. Этих перемен ждал, особенно после войны 1904–1905 гг., весь русский народ. Суворин, как ему казалось, выражал эти ожидания и чаяния. Он приветствовал Манифест 17 октября, провозгласивший долгожданные свободы (слова, совести, печати собраний, союзов) и созыв народного представительства, Государственной думы.
«1906 год — великий год. Это год Государственной думы. Это, может быть, один из самых великих годов нашей истории. Закладывается новая Россия, новая империя… Вся империя встретится, все народы ее должны побрататься. Не оружие войны они принесут с собою, а оружие своего духа, своей оригинальности, своей борьбы за право человека и гражданина… Или мы русские, или нет. Такой вопрос решается. Или мы уничтожены японцами и революцией, или мы возродились внутренней, незримой, божественной силой нашего племени» (январь 1906 г.). И чуть погодя: «Как же не смотреть на эту Государственную думу, как на прямой путь, разрубивший стены многоэтажного, запутанного лабиринта?» (февраль 1906 г.).
Суворин приветствовал нарождающуюся в России многопартийность — «мы перешли в другую область и если эту область не сумеем устроить, взлелеять, полюбить как душу, то мы ни к черту не годны. А тогда и жить не стоит» (февраль 1906 г.). Всенародные выборы, которых Россия не знала, откроют путь новым людям, новым государственным мужам, которые во главе с государем поведут свой народ к благоденствию. «И пусть будет вечно благословен тот день и час, когда государь подписал свой знаменитый манифест о свободе России и о своей собственной свободе от наследственных предрассудков, о свободе своей благородной души делать добро великой своей родине и любить ее, как свою душу» (февраль 1906 г.).
Поначалу Суворин в целом одобрительно отнесся к конституционно-демократической (кадетской) партии и ее лидерам, победившим на выборах в 1 Государственную думу. «Я думаю, — писал он, — что в самой программе и в составе партии было нечто такое, что давало ей перевес… около кадетов было много бескорыстной и наивно верующей молодежи, которая страстно предавалась агитации. У кадетов было и больше имен, а имена — великое дело… Мы не можем судить о силе победоносной партии и о том, как она будет вести себя. Мы знаем только, что она вела выборную борьбу гораздо лучше всех других партий и этим уж показала, что она не утирает носа рукавом, как утирались другие партии» (апрель 1906 г., причем подчеркивал, как ее достоинство, что она «является конституционной», т. е. выступает за предоставление России конституции. Союз 17 октября, чьи основные программные принципы разделял Суворин, был также «конституционным», но в противовес кадетам, поддерживавшим принцип национальной автономии, защищал «единство и нераздельность русского государства». На одном из своих съездов (май 1907 г.) «союзники» приняли резолюцию о невозможности «немедленного и безусловного разрешения» еврейского вопроса в России. Суворин также боролся за цельность России, а его выступления «по еврейскому вопросу», как известно, отличались резким неприятием евреев, что нашло свое выражение и в «Маленьких письмах»[3]. Статьи Суворина о евреях, разумеется, способствовали усилению антисемитизма в России. Несколько менее резко, но столь же непримиримо писал Суворин и о поляках, финнах, армянах, татарах, порою даже об украинцах, и все это было одной из составляющих чрезвычайно острой национальной проблемы. Решать ее спустя несколько лет после смерти Суворина был призван, как известно, наркомнац товарищ Сталин…
В дальнейшем, наблюдая за работой думских фракций в I и II Государственных думах и партий в целом, Суворин существенно изменил свои оценки и усилил критическое отношение к их деятельности.
Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка» пробудил к жизни новые общественные силы, пробудил новые надежды и недооценивать его роль в новейшей истории России было невозможно. Однако Суворин увидел и, на его взгляд, его существенные недостатки, имевшие принципиальный характер.
Прежде всего он отметил, что «свобода вероисповедания не дана только русским в той полноте, в которой она дана всем другим национальностям. Так называемые раскольники не получили всего того, что требует их вера и ее свободное отправление. Родная сестра православия не признана родною даже там, где русское раскольничество или старообрядчество составляет аванпост русского племени» (февраль 1906 г.). Вообще тема церковного раскола в русском православном самосознании постоянно интересовала и волновала Суворина. Он никак не мог взять в толк, почему господствующим русским православием, никонианством, отсекается большая часть русского народа, хранящая духовные нравственные заветы старины и восточного христианства, искони исповедуемые тем же русским народом. Старообрядчеству и его тяжкому бытованию в Российской империи в течение последних столетий он посвятил несколько взволнованных и по-своему замечательных «Маленьких писем» (например, в декабре 1893 г.), которые восхищали в частности Чехова, воспитанного, как и Суворин, в духе строгого официального православия. Суворин видел в старообрядцах могучую ветвь русского племени, обладающую огромной творческой, созидательной силой и не одобрял ни политики правительства, ни позиции официальной церкви в отношении старообрядчества. Голос его, как несколько ранее и голос Лескова на ту же тему, звучал впрочем достаточно одиноко и не встречал широкого отклика.
Однако Суворин смотрел на проблему гораздо шире и воспринимал старообрядчество лишь как одну из составляющих в достижении единства русского народа, в развитии русского национального самосознания и вообще русского народа, как отдельного этноса.
«Правительство 17 октября с манифестом в руках от этого числа ничем не проявило особенной любви к русскому племени… — писал он в интереснейшем письме от 20 февраля (5 марта) 1906 г. — Оно относилось к нему сурово, как педагог, вооруженный розгой. Таща с него все, что надо было на потребности государства, оно заботилось больше всего об окраинах…» А между тем «мы все мало знаем Россию, и, может быть, меньше всего ее сердце, которое было всегда русским, всегда патриотичным и жертвовало не только избытком своих сил, своей крови, но, можно сказать, последними ее каплями. Нигде русское сердце так не напрягалось, как именно в русских провинциях, как бы сознавая ту роль, которая возложена судьбою на русское племя. Все тяготы оно выносило с таким терпением, которому не было границ. А между тем правительство никогда этого не понимало достаточно и постоянно обделяло именно русское племя».
Поддерживая и одобряя, хотя и не без колебаний, расширение границ Российской империи, Суворин однако не принимал это в виде противопоставления центральных областей России т. н. окраинам, которым адресовались огромные финансовые средства за счет ущемления интересов ядра государства, областей центральной России, которые в течение столетий несли всю тяжесть строительства национальной империи и необратимо нищали, в том числе и людскими резервами[4].
«Правительство, преследуя русификаторскую политику, старалось развить образование на окраинах за счет центральной России. Оно как будто торопилось дать просвещение окраинам, чтоб они не нуждались в русских… Оно заискивает в окраинах, как виновное… Оно терпит изгнание русских отовсюду. Их гонят из Царства Польского, из Западного края, с Кавказа». Но «я не нахожу в Манифесте 17 октября ни одной строки о том, что русский язык и русских надо гнать отовсюду, где они в меньшинстве. А если в Манифесте этого нет, то почему их гонят, кто и кому на это дал право? Разве свобода заключается в насилиях, в изгнании, в убийствах, в насмешках, в преследовании?»
Суворин требовал равноправия для русского народа, коль скоро оно предоставлено другим народам Российской империи. Вряд ли здесь уместно обсуждать вопрос о том, насколько реальным было это равноправие и было ли оно вообще, но реальным было и то, что русское племя также оказывалось ущемленным. И Суворин считал общественно возмутительным, что, например, известный историк, «г. Кареев, профессор компиляции, хотел изгнать из русского языка слова «русская земля» и «русский народ». До этого еще ни один ученый не додумывался, а г. Кареев додумался. Приятно, что в России есть такие умные люди» (май 1906 г.).
С гневом писал он о том, что и левые, и правые партии «тоже набрали воды в рот на этот счет». Он не принимал требования о предоставлении автономии Польше и Финляндии, как и ликвидации черты оседлости для еврейского населения Империи. Настоящее и будущее русского народа, который, будучи плотью от плоти его он вовсе не идеализировал, вот что волновало Суворина, как и многих его читателей. И приветствуя создание Государственной думы, он с ее появлением начинал осознавать, что она столь же далека от защиты подлинно народных интересов, как и само правительство. Так зарождалась и так продолжалась его критика и правительственных распоряжений, и бесконечных думских межпартийных дебатов, заменявших реальное дело.
Суворин оценивал итоги и результаты работы Думы в сложном процессе противостояния законодательной и исполнительной власти, самодержавия и парламентаризма, участия многих партий и сословий в государственной жизни. Он много размышлял о роли русского дворянства в новых условиях, о его исторических заслугах перед Россией, но и о его постепенной очевидной деградации и растворении среди свежих, пробужденных и революцией социальных сил. Он писал о «трудовом дворянстве», которому предстояло завоевать себе надлежащее место или вовсе исчезнуть. Крестьянство и его пробуждение к полноценной государственной и экономической жизни, к общественному творчеству — от этого много ожидал и на это надеялся Суворин, побуждая крестьян активнее, более деловито участвовать в работе Государственной думы.
В «Маленьких письмах» при всей их увлеченности проблемами политическими — время было такое — заметное место занимают статьи, посвященные русской литературе и театру, т. е. тем областям, в которых, собственно, Суворин начинал свой путь и затем обрел себя. Правда, в 1904–1908 гг. литературно-театральных писем появлялось меньше, нежели в предшествовавшие годы, однако они не менее интересны. Театральная критика, наряду с общественно-политической публицистикой, была, может быть, самой сильной стороной таланта Суворина. Он обладал вкусом, зорким глазом, понимал специфику сцены и особенности работы артистов, уважал и ценил их самих и их труд, а самое главное он любил театр, первой и последней любовью, которой оставался верен всю свою долгую и тревожную жизнь. И это чувство он сумел передать учащимся театральной школы Литературно-художественного общества, которая носила его имя. Под руководством В. П. Далматова здесь готовили актерскую смену и сам Суворин считал для себя обязательным присутствовать на выпускных спектаклях, которые тщательно готовились, с большой выдумкой и изобретательностью. Между прочим, из суворинского Малого театра пришли такие корифеи русской сцены, как П. Н. Орленев, В. И. Качалов, Мамонт Дальский, в его труппе выступала гениальная П. А. Стрепетова.
Вообще говоря, тема «А. С. Суворин и русский театр» сама по себе велика и заслуживает глубокого и объективного исследования, хотя именно на эту тему написано больше всего работ о Суворине.
Почти до самых последних своих дней, уже перестав печатать «Маленькие письма» и большие театральные рецензии, он выступал в газете с миниатюрными откликами, своего рода микрорецензиями, на спектакли французского Михайловского театра в Петербурге. Жизнь в его собственном, достаточно осточертевшем театре, шла как бы сама собою — ставились новые пьесы, возобновлялись старые, в том числе и самого Суворина и количество спектаклей достигало многих десятков. Конечно, у него были свои пристрастия и свои склонности. Он, например, почти боготворил М. Н. Савину, высоко чтил М. Н. Ермолову, В. Ф. Комиссаржевскую, М. К. Заньковецкую и всю тогдашнюю труппу украинских артистов, но весьма прохладно относился к Александрийской казенной сцене и весьма ревниво, может быть, даже лицеприятно, к Московскому художественному театру и его руководителям.
Но к числу великих достоинств Суворина принадлежало и то, что он был человеком подлинно театральным и подлинно литературным.
В «Маленьких письмах» 1904–08 гг. были очерки о «Вишневом саде» и мемуар-некролог Чехову, статьи о Грибоедове и постановке «Горя от ума» во МХАТе, о Герцене, несколько статьей о Л. Толстом, а до этого — о Гоголе, Гончарове, Тургеневе, Островском, Вл. Соловьеве, Потехине, Шпажинском, Аверкиеве, даже о М. Горьком (одна, весьма бранная и политически заостренная), как и о многих других прозаиках и драматургах, чьи имена ныне остались лишь в энциклопедиях, да и то не во всех. Заметки Суворина, его «Маленькие письма» ценны еще и тем, что сквозь его рассуждения проскальзывают мемуарные фрагменты, сами по себе порой чрезвычайно любопытные. «Мне сказал однажды Гончаров…», «Беседуя с Толстым, мы…», «Помню, Островский…», «Мы с Чеховым…» и т. д. В целом их сравнительно немного, но лишний раз приходится пожалеть, что Суворин не оставил цельных, законченных мемуаров, как Никитенко или Боборыкин, а ему было о чем рассказать, может быть, гораздо больше, чему кому бы то ни было из его современников.
Словом, в «Маленьких письмах» Суворина речь шла, живо и заинтересованно, о жизни России во всех ее проявлениях, и диапазон его размышлений и наблюдений был огромен. Это были раздумья активного гражданина, государственного мужа, умудренного опытом труда и собственной долгой жизни, патриота и народолюбца, всем сердцем своим, всеми корнями своей души сострадавшего своей стране. И как замечательный документ эпохи, русской общественной мысли «Маленькие письма» несомненно займут свое место в отечественной публицистике. Многие наблюдения и суждения Суворина не утратили своей актуальности и по сей день в тех острых ситуациях и конфликтах, которые переживает наша страна сегодня. Многое решительно отвергая у Суворина, прежде всего его антисемитизм, у него многому можно и поучиться, прежде всего его русскому национальному чувству.
Суворин писал: «Мне казалось, когда я мечтал о Государственной думе, что она вместе с правительством высоко поднимет самосознание, патриотизм в Русском царстве. Я думал, что это будет именно временем возрождения, возрождением не слов, не проклятий, не насилия, не убийств, не ругательств и не призывов к революции и к бунту, а возрождением свободного труда, свободных искусств, свободной промышленности, временем свободных ученых трудов, развития техники, конкуренции на всех поприщах деятельности. Я думал, что русское сердце зажжется особенным пламенем, что русский ум воспрянет, окрепнет, покажет свою молодую силу, свою горячую любовь к родине, что русский человек, как сказочный богатырь, поднимется во весь рост и удивит вселенную своим ярким пробуждением, великими делами. Побежденный, приниженный на войне, он тем ярче покажет, что стоит лучшей из побед, победы разума, труда и таланта, от которой зависят и все другие победы».
В этом весь Суворин. И таким — горячим, страстным, прозорливым и хитрым, противоречивым, непоследовательным и несправедливым, деятельным и предприимчивым он, вне всякого сомнения, останется в Пантеоне достойных сыновей России.
Александр Романенко
* * *
Несколько слов о том, как создавалась эта книга. Выше уже упоминалось, что Суворин собирал вырезки (или гранки) своих публицистических выступлений. Однако сведений о том, выделялись ли отдельно как либо «Маленькие письма» и намерен ли был автор переиздавать их в виде книги, у нас нет (кроме двух отмеченных циклов — о фальсификате пушкинской «Русалки» и о Дмитрии Самозванце, — включенных в коллективные сборники). Нумерация писем в целом часто оказывалась нарушенной. Сложность заключалась и в том, что в главных московских библиотеках не оказалось ни одного полного комплекта газеты «Новое Время». По разным причинам целые номера, полосы или фрагменты или вовсе отсутствовали, или буквально оказывались стертыми до дыр в результате частого использования. Иные номера были повреждены и плохо поддавались реставрации, нередко к тому же весьма небрежной. Редакционный, так сказать, контрольный, экземпляр, т. е. переплетенные суворинские подшивки были обнаружены нами сравнительно поздно в фондах одной из замечательных московских библиотек (бывшей закрытой ИМЭЛ и ЦК КПСС), где благополучно лежали десятилетиями — см. фото на вкладке. Ксерокопирование или сканирование старых газет во всех без исключения московских библиотеках запрещено — что само по себе разумно, понятно и объяснимо, — однако современного исследователя и публикатора это ставит в безвыходное положение; фотокопирование и архаично, и длительно, и весьма и весьма затратно. Приходилось обращаться к первобытному способу — элементарно переписывать в газетных залах полосы и подвалы «Нового Времени», что и было сделано нами, потребовав гораздо больше времени, чем предполагалось, в том числе и на дальнейшую расшифровку и перепечатку рукописи — на машинке или компьютере. Разумеется, это увеличивало также процент описок и опечаток, тем более что и в первоначальном наборе оказывалось немало опечаток и смысловых ошибок. Все это было выверено, по крайней мере, проверялось, перепроверялось и исправлялось несколько раз в соответствии с нормами современного русского правописания, орфографии и здравого смысла. По наборным рукописям (если они сохранились) тексты не проверялись и приводятся только по газетной публикации.
Имена собственные исправлены и даются в современном написании за очень редкими смысловыми исключениями.
Датировка последовательно проводится и по новому и по старому стилю в соответствии с текстом газеты, причем для более корректного использования в дальнейшем под каждым письмом обязательно указывается номер газеты. Проведенный неоднократный сплошной просмотр годовых комплектов показал, что пропусков нами как будто не допущено, хотя некоторые вопросы и сомнения у публикатора остаются. Таким образом, данный текст «Маленьких писем» можно считать полным — кроме, как отмечалось выше архивных материалов, — текстологически выверенным и аутентичным.
Самой сложной оказалась проблема комментирования. При традиционном, принятом ныне ее решении, т. е. подробные примечания ко всем сплошь встречающимся именам, названиям, событиям, ситуациям, книгам и т. д. и т. п. с должными исправлениями, толкованиями и дополнениями, комментарии превратились бы в отдельную книгу, едва ли не равного публикуемому материалу объема. Между тем объяснения многим фактам у Суворина содержатся в самом тексте тех или иных «Маленьких писем», в размышлениях самого автора по данному поводу — например, о громких в свое время судебных процессах по уголовным делам. С другой стороны, в настоящее время создано столько справочников, словарей, энциклопедий и т. п. изданий, что переносить их материал в эту книгу становится бессмысленным и обременительным. Нам думается, что любой специалист или даже просто любопытствующий читатель без труда отыщет ответ почти на все свои вопросы в конкретной энциклопедии или историческом очерке. На наш взгляд, переносить историю тех или иных событий русско-японской войны или русской революции 1905 г. в данный комментарий излишне. Важен ведь сам автор, А. С. Суворин, его отношение к событиям или личностям, его позиции и восприятие, а исправлять его по другим источникам едва ли целесообразно. Исходя из этого, мы решили вовсе отказаться от традиционного, распространенного ныне комментария, сделав ударение на максимальном сохранении самого текста, а не на его интерпретации какими-то другими авторами. Кстати сказать, читатель вполне может воспользоваться прекрасным фактическим комментарием к «Дневнику» А. С. Суворина.
А.Р.
1904
CDLI
Быть может, никогда Россия не стояла перед столь сложными политическими задачами, как в настоящее время. Но она шла к ним сама навстречу с каким-то стихийным влечением, не зная или не сознавая вполне, что ее ждет, какие препятствия она встретит, с какими драконами придется ей воевать, какие бездны перешагнуть.
Так она шла на юг. Так она воевала с Турцией, приобретала новые земли, освобождала народы и останавливалась дважды перед конечными целями: Босфором и Константинополем. Кажется, осенью 1896 г. решались на что-то смелое, но соображения, известные под названием европейского концерта, помешали благородную смелость мысли обратить в дело, как говорит Гамлет.
Завоевание Дальнего Востока уже началось в то время. Уже строился тот гигантский железный мост между Европой и Россией и Восточным океаном. Этот мост тотчас после своего окончания сделался причиною настоящих, сложных отношений между Россией, Китаем и Японией. Богатырский памятник чрезмерных усилий русского народа подвергается опасности. При всей своей реальности он представляется мне какою-то мистической вавилонской башней, поднявшейся до русского неба, Великого океана. Это — не сибирский, а русско-азиатский великий путь и объяснить его значение можно не цифрами и вычислением доходов и расходов, а проникновенною идеей преобразования Азии в культурное государство. В России немало Азии. «Исторически Россия, конечно, не Азия; но географически она не совсем и Европа. Это — переходная страна, посредница между двумя мирами. Культура неразрывно связала ее с Европой; но природа наложила на нее особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию» (слова проф. Ключевского). Россия стала передовою нацией в Азии, и нам там должна принадлежать одна из первенствующих ролей. Петр прорубил окно в Европу, Николай II открыл нам ворота в Великий океан, в которые мы давно стучались. Железный путь туда — живая вода, которая своей животворной влагой вспрыснула народы, давая им новую жизнь и обещая лучшее будущее. Сама судьба, а вовсе не чья-нибудь ошибка, как думают многие, заставила вести железную дорогу именно так, как она проведена, не по левому берегу Амура — вот это было бы роковой ошибкой, — а по Маньчжурии и затем к выходу в Великий океан, на это новое поприще всемирной жизни. Не потому ли торопятся американцы с Панамским каналом, что мы стали у Великого океана? Мы обогнули с севера всю Азию железною непрерывною цепью и ни одного звена этой цепи уступить не можем. И пусть попробует кто-нибудь из наших врагов разбить свой лоб об это железо…
А если нам придется разбить там свой лоб о собственное дело? Что, если это — совсем не великое дело, а опрометчивое, преждевременное, ненужное? Что, если это — в самом деле вавилонская башня, основание которой не было рассчитано математически, и башня эта грозит падением и смешением языков, которые уже начинают не понимать друг друга?
Вот гамлетовский вопрос. Вот наше «Быть или не быть?», повторяемое теперь в обществе на разные лады.
Профессор Ключевский в первой части только что появившегося своего «Курса русской истории» говорит, что «задний ум — характеристическая черта великоросса». Переменчивость климата, короткое лето приучили великоросса к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил; ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда, как великоросс. В борьбе с августовскими морозами и январской слякотью он больше осмотрителен, чем предусмотрителен, он лучше замечает последствия, чем ставит цели, он лучше умеет подводить итоги, чем составлять сметы. С другой стороны, великоросс лучше в начале дела, когда он еще не уверен в успехе, чем в конце, когда добьется успеха; неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствия, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех, легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. «Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума».
Можно, пожалуй, применить эти слова к настоящему положению вопроса о Дальнем Востоке в наших представлениях, в представлениях русского общества. Мы живем задним умом, который умен критикою, рассуждениями, опасениями и всякою другою толчеею. Мы чувствуем, что война уже началась, бескровная война, которая изнуряет наши нервы, останавливает жизнь, парализует энергию. Быть может, сказываются в нас и те свойства великоросса, о которых говорит г. Ключевский. Мы поглупели, совершив великое дело, и не можем освоиться с мыслью о величии этого дела и с достоинством выдержать успех до конца. Ведь успех был несомненный. Среди лесов и гор, среди пустыни и тайги, в непроходимых и непролазных дебрях мы проложили свой путь, забрались в чужую страну, устроили новые порты на берегах теплого моря и глядим на Великий океан. Это — первое наше завоевание не оружием, а только умом, знаниями и денежными жертвами, которые дал русский народ в своей бедности. Что ж нам остается? Неужели уходить? Во всех наших завоеваниях в Азии мы проявляли творческий ум, и это признают все европейские путешественники, бывшие в нашей Средней Азии. Этот ум и теперь надо собрать, собрать русскую волю и все способности творчества. Чем труднее наше положение, тем больше напряжения требуется всех наших сил, всего того, что заставляет других уважать чужой подвиг и признавать хозяином того, кто его совершил.
Другими словами, это значит, нам не надо уходить из Маньчжурии? — скажете вы.
Не знаю. Знаю только, что мы дважды отступали перед Константинополем, и что это вовсе не послужило на нашу пользу. Совсем напротив. Знаю, что нас пугают призраками нашествия желтой расы. Когда-то это будет, да и будет ли? Через сто лет нас будет пятьсот миллионов, в том числе более трехсот миллионов настоящих русских. Сто лет совсем не долгий срок. Вспомните, что совсем нередко, когда отец и сын живут сто двадцать — сто сорок лет. Необходимо только напрячь силы, воодушевить русский ум, русскую душу утверждать начатое дело. Японию возносят до облаков, Китай представляют государством, которое вооружено с ног до головы. Не надо унижать противника, но не надо его и возвеличивать. Как унижение, так и возвеличение — это одна и та же монета, того же достоинства. И тем менее следует унижать самих себя, отыскивать виновных, заниматься бесполезным следствием и строить себе фантастические ужасы. Не так же трудно наше положение, что требуется небо спускать на землю. Нас хлещут со всех сторон печатными чернилами, и оба наши телеграфные агентства соперничают друг с другом, принося нам противоречивые статьи и известия, наскоро набираемые ежедневно без всякого разбора и смысла. Но никто не говорит о нашей глупости, никто не говорит, что великий азиатский путь — глупое и гибельное дело. Напротив, потому и всеобщее это восстание против нас, что все видят, что Россия совершила великое дело, которое будет расти и расти прежде всего для величия и благоденствия России, и всем хочется, чтоб мы бросили защищать его, бросили новые порты и очистили Маньчжурию…
Русский богатырь ехал, ехал на своем коне, видит столб, на столбу надпись: поедешь налево — сам умрешь, но конь будет жив; поедешь прямо — будешь холоден и голоден; поедешь направо — сам будешь жив, а конь погибнет. На этом перепутье стоим мы и раздумываем. А надо решаться…
12(25) января, №10006
CDLII
На сто ладов у нас все повторяют, что Россия войны не хочет. Мы отмечаем с радостью слова тех иностранных газет, которые говорят, что Россия уступила все, что могла, и что если Япония этим не удовлетворится, значит, она хочет войны для войны.
Странная особа эта Япония.
Мне кажется, в конце концов, что мы напрасно с таким усердием говорим, что Россия желает мира. Кому нужны эти уверения? России они не нужны, потому что она сама хорошо знает, что войны не хочет. А ей чуть не полгода жужжат это в уши и жужжание это, думаю, начинает ее раздражать и нервить. Она знает, желай она или не желай, а если придет война, надо будет сражаться, с отвращением к войне, с отвращением к противнику, но все-таки сражаться, не жалея ни своей жизни, ни жизни врага.
Это — трагедия, полная ужаса и крови, полная особого подъема сил и особенного восторга, если хотите, того восторга, о котором сказал Пушкин:
Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане —и даже в «дуновении чумы». Это — восторг борьбы, страданий, самопожертвования, страха и мужества. Не желать войны так же естественно, как желать жить. Но повторять это при всяком случае значит вводить в некоторое заблуждение противника. Противнику приятно слышать, что войны не желают, значит, ее боятся, приятно это слышать всем тем английским газетам, с «Times’oм» во главе, которые всеми способами стараются подзадоривать Японию и уверять ее, что Россия слаба, что она разрывается внутренней смутою, что она не готова, что она — страна варваров и т. д. Не надо забывать, что легкомысленнейшая из всех печатей мира, японская печать очень легко поддается внушениям, которые льстят патриотизму, и она говорит столько глупостей и столько глупостей есть еще в ее кармане, что каждая уступка России служит для японских газетчиков только новым поводом к крикам о превосходстве Японии перед Россией. Среди китайцев много умных и даже мудрых людей; среди японцев, напротив, очень мало умных людей. Так говорили мне люди, знающие эти страны. Правда это или нет, не знаю, но действительно только глупцы могут так орать о своем превосходстве, как орут японцы. Только глупцы могут ни во что ставить своего противника и, не убив медведя, делить его шкуру…
Я знаю, что наши военные держат себя скромно и сосредоточенно, как подобает серьезным людям. Но в их глазах загорается огонь негодования, когда они читают вызывающие оскорбления японских и английских газетчиков.
Никогда еще русский военный человек не встречал такого наглого противника, как японец, насколько он выражается в газетчике и в тех крикунах и зажигателях шовинизма, которые газетчику подсказывают его бахвальство. Я делаю эту необходимую оговорку, ибо не имею никакого нравственного права так отзываться об японцах вообще. Нигде в русской печати нельзя встретить презрительного отношения к японскому народу или японской армии. А в японских газетах такое отношение к России и русской армии решительно господствует не со вчерашнего дня и не находит себе ответа в русской печати, которая продолжает оставаться спокойной и проповедующей мир.
И чем спокойнее русская печать и чем менее она отвечает на японские задирания и обиды, тем более в русском военном человеке зреет потребность показать японцу, как он жестоко ошибается. Чувство обиды молчит до поры до времени, но, питаясь ежедневно, оно растет и готово показать себя грозно. Медленно разгораясь, под влиянием угроз и обид, слухов, сплетен и томительных приготовлений к войне, это чувство уже и теперь зловеще сверкает, сохраняя спокойствие силы.
Чего мы ищем там, на Дальнем Востоке, какие наши цели и насколько они жизненны и важны? Вот вопросы, на которые должен быть серьезный ответ. Ни честолюбие, ни национальная гордость, ни обиды, обращенные к нам глупыми или умными, ничто скоропреходящее, суетное не должно служить нам руководством. Холодный, все взвешивающий разум и цели борьбы — вот что должно решить вопрос о мире или о войне. Если цели велики, если они стоят борьбы, если противник крепко уперся лбом в столб своей самоуверенности и превосходства, то что ж тогда делать?
Трагедия так трагедия…
23 января (5 февраля), №10017
CDLIII
Мы или совсем накануне войны или на дороге к миру, которая едва ли окажется ровною и гладкою, без оврагов и опасностей.
Тысячи предположений, известий, противоречий, слухов, споров и ожиданий. Мысль обращается к прошлому, пробегает по настоящему, летит к будущему. Страшно большие горизонты раскрываются и требуют сильного духа и мужественной твердости.
Что вам сказать?
Не далее как на этих днях один англичанин говорил мне, что даже люди, побывавшие в Петербурге, пишут в своих газетах прямо глупости и невылазный вздор об этом самом Петербурге. Они точно боятся написать то, что они видели, и, чтобы понравиться публике, щеголяют всяческими выдумками совершенно сознательно. Ругать Россию — это мода теперь, мода в Германии, Англии и даже во Франции. Газетные пушки иногда заряжены просто кишиневским погромом и палят, и палят. Иногда кажется, что Япония является жертвой всемирного еврейства, взволновавшегося после кишиневских событий. Вот роль, которая никогда ей не снилась, как не приходит в голову ей и роль пушечного мяса, растерзанного во славу и благоденствие Англии.
Нас не знают как следует. И сами себя мы мало знаем. Какая наша роль в мире, наплодились ли мы так себе, от бедности или от нечего делать, или мы призваны оплодотворить мир своими русскими качествами, которые мы вольем в него и от которого он помолодеет? Мы больше смеялись над собою, больше негодовали на себя в лице своих писателей, чем беспристрастно разбирались. В бури и грозы мы узнаем себя лучше.
Сколько загадок теперь в Европе. Где ее великие люди? Кто там владеет сердцами? Где государственные люди великого ума и таланта, где ее поэты и борцы? Не банкиры ли — великие люди, не деньги ли — великая душа?
Император Вильгельм, столь много говоривший, так не боявшийся при всяком случае громко выражать свое мнение и заставлять говорить о нем, теперь — германский император молчит. Его точно не существует, или он обратился в искуснейшего дипломата, который предпочитает хранить свои мысли втайне. А не он ли первый заговорил о желтой опасности для Европы, не он ли занял Киао-чао, не он ли двинул Европу против Китая? И во все это время он бодро и смело говорил, и его слова не разлетались по ветру бесследно. К ним прислушивались, их толковали на тысячи ладов, как слова оракула. Япония существовала, как страна, бегущая за цивилизацией, но именно император Вильгельм обобщил понятие об Японии, как о желтой опасности, и даже нарисовал известную картину, где символически изображено христианство в борьбе с язычеством, олицетворявшимся в желтой расе.
Может быть, Японию мало знали тогда, как мало знают и теперь? Может быть, и она — такая же загадка для цивилизованного мира, как и Россия? И Япония не знает России, и Россия не знает Японии. Два крепких народа — две неизвестные величины, и обе готовы вступить в борьбу. Судьбы истории натолкнули их друг на друга и приблизили. Может быть, Европа и Америка думают отодвинуть их и отбросить назад, заставив истомиться и ослабнуть в борьбе, чтобы самим расцвесть и усилиться. Может быть, предстоящая трагедия заставит Японию и Россию узнать друг друга, оценить и разбить все ожидания Европы…
Деятельность идет изумительная… Все поднялось на ноги, все озабочено, все действует с той разумной торопливостью, которая говорит о внутренней силе военного государства. Армия собирается грозная и сильная. Мы встретим японцев не так, как встретили турок в 1877 г. Много воды с тех пор утекло и много прибавилось опыта, знания, осторожности, предусмотрительности. Поднялись нервы, светлее головы, ярче и деятельнее мысль. Мы завоевываем будущее. Мы становимся на страже европейской цивилизации и на страже нашего собственного развития. Кто безумный будет класть палки в колеса государства в эти трудные и торжественные минуты, тот ответит перед современниками и нашими потомками. Россию судят неумолимым судом газеты всего мира. Судьбы ее взвешивают в государственных кабинетах Европы. Она как бы подсудимая, заранее осужденная на казнь. Но в ней есть что-то такое, что смущает самих судей и прокуроров. Она является на этот суд без адвокатов, но чувствуется, что речь ее будет сильная и действия убедительные. Она совершила подвиг, связав Европу с Восточным океаном и открыв ей новые рынки. И за этот подвиг, подвиг младшей, но сильной и здоровой сестры европейского просвещения, ее судят и хотят засудить.
Кто знает, что впереди? Но это будет что-то грозное и великое. Русская душа жива. Она сохранила жажду подвига и умеет воспрянуть и загореться…
25 января (7 февраля), №10019
CDLIV
Какой ужасный день. В жизнь свою я не переживал такого дня! Вот она, война, беспощадная, мрачная, кровавая. Война с азиатами настоящими, с язычниками, у которых своя нравственность, свои правила, своя дипломатия. Все прочь, что выработалось европейской историей, прочь всякое благородство, выжидание объявления войны. Решительный удар до объявления войны. Надо удивить и поразить. Застать противника внезапно. Все приготовить, занять позицию, отозвать своего представителя из Петербурга и нанести удар, как наносят его кинжалом из-за угла. Два броненосца по выбору, лучших два броненосца должны были выбить из строя, и один крейсер. «Японские миноносцы произвели внезапную атаку на эскадру», говорит телеграмма генерал-адъютанта Алексеева. Внезапность и есть то самое, что или погибает, платясь за свою смелость, или губит. Для нас, простой публики, эта телеграмма не говорит ничего, кроме холодного ужаса. Она — такая краткая и такая безнадежная. Надобна была русская искренность и вера в русский народ, чтобы ее напечатать. Мы почувствовали только удар в нашу грудь, в наше сердце, почувствовали до обидных слез. Это — не битва на твердой земле. Россия столько испытала в боевом отношении, что бой на суше, чем бы он ни кончился, никогда не лишает надежды на победу. А тут море, предательская стихия, и в глубине могут таиться смертоносные орудия, эти мины, которые бросаются за двести сажен от цели и пробивают толстую броню. Миноносец пустит эту адскую стрелу и бежит назад. Именно это море смущало более всего и увеличивало тяжесть несчастия, которое являлось чем-то небывалым в наших летописях.
Ужасный день — это 27 января, ужасный по тем впечатлениям, которые мы пережили в каком-то бреду. В 1813 г. в этот день русские взяли Варшаву. В 1884 г. в этот день Мерв присоединен к России, но в прошлом нашем в этот самый день случилось и большое несчастье. 27 января 1837 г. была дуэль Пушкина, на которой он был смертельно ранен. Кто умел его ценить в то время, тот испытывал жгучую печаль, и слезы текли из глаз.
Умер великий поэт, но не умерла русская поэзия, и великие таланты наследовали умершему. Что ж такое три броненосца? Но чувство не поддавалось разуму. Оно угнетало и било…
Массу народа я перевидел, наслушался, нагляделся, наволновался. Все возбуждены. Ни одного спокойного лица. Одни говорят горячие речи, другие мрачно молчат. И во весь этот день мне вспоминались стихи Лермонтова:
Но подавили грудь и ум Непроходимых мук собор.Каждый ждет чего-то, какого-нибудь известия, которое смягчило бы тяжелую телеграмму, своей неопределенностью относительно пробоин на броненосцах бившую по нервам тем больнее, что ожидалось продолжение, не обещавшее ничего смущенному сердцу.
Броненосцы ранены вчера, около шести часов вечера — порт-артурское время на семь часов раньше петербургского. В эти часы вчера еще передавались слухи о том, что надежды на мирный исход не исчезли. Но в два часа ночи в Петербурге уже многие знали о несчастий. Утром узнали все. В час дня узнаем, что в четыре часа в Зимнем дворце молебен и печатается высочайший манифест о войне. В то же время узнали, что Порт-Артур японцы бомбардируют, что за миноносцами шла японская эскадра и бросилась на нашу крепость и наша эскадра приняла участие в бою. Мы волновались потерею броненосцев, в то время когда на далеком море шел бой, была, быть может, смерть в отваге и мужестве. Чем кончился бой? Уже у нас вечер, а там давно ночь. Бой должен был кончиться. Проникают слухи, подающие надежды, уменьшающие несчастие. Говорят, что повреждения броненосцев поправимы. Около полуночи новая телеграмма, почти такая же краткая. Не понимаю этой краткости. Еще четыре судна получили пробоины. Нанесли ли наши выстрелы вред неприятелю, не сказано. Но японцы ушли, выдержав бой только около часу. Наши моряки были полны мужества и стреляли метко. Для всех нас это несомненно, хотя в телеграмме этого не сказано.
Движение в Петербурге необыкновенное весь день. На площади перед Зимним дворцом масса народа. В окне увидели государя, проходившего по залам. Поднимается «ура», приветствующее его с той любовью, которая и надеется, и верит, и непоколебимо хочет верить, что жива Россия, жив русский народ. С той любовью, которая горяча не в дни только торжества, но и в дни печали, которую испытывает вместе с народом государь. Она, эта любовь, хочет утешить, хочет крикнуть, что силен русский народ, сильны и мужественны наша армия и флот. Эта любовь, утешающая, готовая плакать и молиться, готовая и на все жертвы, как трогательна эта любовь и как много она заслужила!
Нужны люди большого таланта и энергии, испытанные, имеющие имя, внушающие веру в себя. О, как это важно всегда и как это важно в настоящее время. Такие люди были у нас, они есть у нас и будут. В них говорит крепкая душа, та великая собирательная русская душа, которая создала Россию и которая никогда не теряла бодрости духа и разума.
Будем помнить, что за сегодняшним днем стоит более тысячи лет русской истории, в течение которой бывали не только дни, но и целые годы гораздо более ужасные, но Россия жила, живет и будет жить…
28 января (10 февраля), №10022
CDLV
Время несчастия, время удрученного духа есть время оглядки назад. Задний ум вступает в свои права и начинает мучить беспощадно. Всякий, у кого случалось несчастие, знаком с этим состоянием. Ах, отчего я не сделал того-то и того-то, это предупредило бы несчастие. Вместо горя, я теперь бы радовался. И развивается критическая фантазия до ужаса, до отчаяния, до того, что плачешь и рвешь на себе волосы. Тогда какой-то дьявол подсказывает тебе все твои ошибки, твои колебания, твои недоговоренные или переговоренные слова, твои поступки с мельчайшими побуждениями, неуместную гордость, вспыльчивость, самонадеянность. Задний ум кажется таким злодейски убедительным, таким решительным, что хоть умирай под его ударами. Я испытал не раз в своей жизни подобное состояние. То же самое чувствуется в судьбах государства, в его несчастьях, чувствуется каждым гражданином, в душе которого живет сознание, что хотя он только один из сотни миллионов, но он крепко связан с этим огромным и дорогим целым. Нечего говорить о страданиях тех, которые по своему положению и ответственности выше нас. Несчастье соединяет людей крепче, чем счастье; анализ прошлого пусть делает свое дело, но при этом отнюдь не следует терять свободы и крепости духа и помнить, что даже «невозможное возможно человеку», — как говорит великий немец Гёте.
Наше несчастие велико потому особенно, что его никто не ожидал. Оно свалилось «внезапно». Никто не верил, что японцы способны объявить войну. Но они уверены были в превосходстве своего флота. Сегодня я прочел в «Московских Ведомостях» отзыв немца графа Равентлова, который далек от симпатий к нам и судит строго. «Не может быть никакого сомнения, — говорит он, — что в материальном отношении русская боевая эскадра ни в качественном, ни в количественном достоинстве не доросла до эскадры англо-японской». Англо-японской, а не одной японской, которая и одна нанесла нам такой жестокий удар. Но автор высоко ставит русских моряков: «в кругу русских моряков-офицеров всегда развита была военная предприимчивость, и их готовность к войне стоит на таком же высоком уровне». Вот в этом отношении не только не может быть никаких сомнений, но мы услышим еще об истинном геройстве, о подвиге, о чудесах храбрости. Будем жалеть о потере жизней. Железо жалеть на стоит.
Наш парижский корреспондент телеграфировал вчера: «Японский атташе в Лондоне развивает фантастический план, по которому японское правительство употребит все усилия против русского флота. Япония очевидно не рассчитывает действовать на суше». Японцы очень общительны, чтобы не сказать болтливы, и весь свой горячий патриотизм высказывают сполна. Они возьмут Порт-Артур, Владивосток, овладеют Сахалином, наш флот частью уничтожат, частью возьмут в плен и, сев победителями на наших берегах, как Наполеон сел победителем в Москве, станут ждать просьбы о мире. Англия и Америка поддержат их демонстрациями своего флота и своими внушительными нотами, в которых будет сказано, что долее войну продолжать нельзя, что она мешает их торговле и Россия должна смириться…
Не будем от себя скрывать ничего. Встретим всякое предположение твердо. Пусть новый Севастополь ждет нас. Сравнение невольно просится, и пусть оно поднимает наш дух и нашу деятельность. Допустим, что японская фантазия может обратиться в действительность. Лучше преувеличивать, чтобы развивать неотложно свои силы во всех направлениях, нравственных и материальных, развивать со всем напряжением, на какое только мы способны. До объявления войны я говорил, что «никто не знает, что впереди. Но это будет что-то грозное и великое». Да, грозное и великое. Отступать нам нельзя. До войны можно было уступать все, что только возможно, и отложить вопрос о Дальнем Востоке на будущее, передав его последующему поколению, которое будет крепче, сильнее и предприимчивее. Но теперь весь этот вопрос, во всей его громадности, нам необходимо держать на своих плечах, как Атланту, в которого верила Греция, что он держит на себе земной шар. Россия — Атлант. Задача, стоящая перед нею, так же громадна, как она сама. Я говорю не об одной войне с Японией. Я говорю о нашем укреплении у Тихого океана, о нашей роли в мире. Чувствует ли Россия себя вполне, есть ли у нее столько сил? На этих вопросах едва ли надо долго останавливаться. Посмотрите на это возбуждение по всей России, на эти жертвы, на это негодование. Я видел войну 1877 г. Нынешнее возбуждение сильнее и обнимает собою массу во много раз большую. Россия выросла умственно, нравственно и материально. Мы никогда не обладали свойствами Гамлета, но нам близок тот богатырь, который тридцать лет сидьмя сидел и встал во весь рост, во всю свою могучую непобедимость. Я не хочу этим сказать банальную фразу. Я хотел бы, чтоб это все почувствовали, я хотел бы сказать это криком судьбы русского народа, доселе не понятого и никем не оцененного по его достоинствам. Пред нами, повторяю, великая задача, которая должна завершить нашу историю. Это — такой момент, которого Россия никогда не переживала и к которому подошла она не столько сознательно, сколько инстинктивно, повинуясь Высшему разуму, который управляет волей царей и народов. Поэтому развернуть все свои силы, не щадя ничего и не медля, — дело самое неотложное. Надо жить во много раз сильнее, жить несколькими жизнями, биением всего русского сердца, развитием всех наших способностей, жить ярким светом русского разума, мужества и таланта.
30 января (12 февраля), №10024
CDLVI
Сегодня вечером я получил десять тысяч рублей от Георгия Васильевича Калмуцкого на то же дело, на которое вчера такую же сумму дал Л. М. Кочубей.
Г. В. Калмуцкий — бессарабский помещик.
Прекрасное дело пошло. Пожертвования на флот принимаются и в конторе «Нового Времени».
Больше четверти века продолжается полемика в наших журналах и газетах о флоте. Она началась со времен недоброй памяти поповок. Спорили о том, какой надо флот. Одни стояли за броненосный, другие — за деревянный. Крейсерам, миноносцам, а потом подводным лодкам воздавалась особенная честь. Одно «Новое Время» поместило множество статей о флоте, иногда даже в разговорной форме, чтобы популяризировать идеи о разных типах судов и о нашем флоте вообще, его достоинствах и недостатках. На подводных лодках «Новое Время» особенно настаивало в последние годы. Эти лодки стоят недорого, около 300–400 тысяч рублей, а есть будто и такие, которые стоят до 50 тысяч рублей, тогда как хороший броненосец стоит несколько миллионов.
Но флот наш строится медленно. Может быть, самые споры о нем несколько тормозили дело, ибо за спорами стояли люди практики. Эти споры тем легче было вести, что у деревянного флота длинная боевая история, тогда как у броненосного флота она очень коротка. Поднимался вопрос даже о том, нужен ли нам флот, не роскошь ли он для континентального государства? Этот вопрос особенно обсуждался в военной среде и среди людей даровитых. По их мнению, Россия непобедима на суше, и этого ей довольно. Никакой десант ей не страшен. Но на море она никогда не была сильна, и ее военно-морская история значительно уступает военно-сухопутной истории. Ни бездорожье, ни огромные расстояния, ни твердыни Альп и Кавказа не останавливали наших армий. Население России, за исключением немногих местностей, также неспособно к флотской службе. Несколько лет назад я в течение двух часов слушал спор об этой бесполезности флота для России. Отстаивал эту мысль генерал известный и своим боевым прошлым, и историческими трудами. Те суммы, которые поглощаются флотом, надо употребить на усиление сухопутной армии. Вот его основная идея, которую он развивал с замечательною логикою и одушевлением.
Но первый же день войны поставил вопрос о флоте ребром. Раз Россия стала у Тихого океана, она должна иметь большой флот. Сильная на суше, она должна быть сильна и на море. Не потому ли мы заперты Босфором, что не имеем сильного флота? Олег, прибивший свой щит к воротам Царьграда, пришел туда на судах. Будь у нас на Черном море сильный флот, война наша с Турцией не кончилась бы Берлинским трактатом.
Надо быть и сильной морской державой нашей родине, чтоб удержать за собою положение мировой державы, или предоставить море другим, а самим замкнуться на суше…
Пожертвования князя Л. М. Кочубея и Г. В. Калмуцкого есть дело, мысль же уж несколько дней стоит в воздухе. Осуществима ли она добровольными пожертвованиями? Я бы сказал, что на этот вопрос рано отвечать, ибо подобными вопросами легко всякое дело затормозить. Сейчас же начнут критиковать, иронизировать, спорить о том, что лучше, крейсера или подводные лодки, и пойдет разделение. Русское общество приходит на помощь правительству и ждет от него отклика — вот что важно. Общественное и народное чутье сказывается в этих пожертвованиях, что нам надо сделаться морскою державою — вот что чрезвычайно серьезно. В свое время мы дали несколько миллионов на Добровольный флот, когда во главе этого дела стал наследник цесаревич, отец ныне царствующего государя. Он же, вступив на престол, заложил действительные основы для русского флота. Сын продолжал дело своего отца с большой энергией, но оно не могло быть закончено в сравнительно немногие годы, когда Россия должна была дать более миллиарда на Великий Сибирский железный путь, который вышел в открытое море ранее, чем флот был построен, и даже ранее, чем дорога имела надлежащий подвижной состав.
История не ждет. Как на Альпах собираются в громады льды, лежат десятилетиями, вырастая едва заметно, и вдруг падают лавиной на мирные долины от какого-нибудь сотрясения в воздухе, так собираются и падают на головы миролюбивой страны тяжелые удары назревших событий и открывают бездны, которые мы предчувствовали, но не видели ясно. Но Россия так выросла, что сейчас же отдает себе отчет в событиях и своем положении. Отсюда эти пожертвования, и отечество благословит приносящих эти жертвы. Оно ждет их ото всех своих сынов, как бы кто из них ни был велик или мал. Одна мысль, одно чувство объединяет всех. Всех ли? — спросите вы. Да, всех, потому что исключения, как бы они ни были дерзки и наглы, потонут в огромном приливе этой поднимающейся волны русского чувства, и разума, и русской воли отстоять мировое значение России и в Европе и в Азии.
Эта волна несет и благородные порывы, и самопожертвование, и яркие таланты, тлевшие в пепле бездействия и сомнений. Поднявшаяся буря русского чувства смахнет этот пепел, и святой огонь талантов и дарований загорится. Так это было всегда в великие моменты нашей истории. Так это будет и теперь. Всякая страна может двигаться только даровитыми своими представителями.
3(16) февраля, №10028
CDLVII
Рядом с пожертвованием в 40 тысяч рублей на флот известного инженера Н. Н. Перцова, я получил 25 рублей на такой же предмет от неизвестного, подписавшегося «Капитан», который приложил к ним еще 8 рублей 50 копеек, собранные его «домашними», 10 рублей от Мелкой Сошки, 10 рублей от «Француженки, искренне любящей Россию» и т. д. В числе жертвователей, внесших свою лепту в контору «Нового Времени», есть лица всех сословий. Семья Л. внесла 5000 рублей, горничная Адель 50 копеек, какая-то няня 1 рубль и проч. и проч. Есть пожертвования от детей. Я люблю встречать имена Колей, Мишей среди взрослых. Это дает делу какую-то всеобщность, отвечает выражению «от мала до велика» в буквальном смысле этого слова.
Но что мы в этой массе всего русского народа, всех сословий и состояний? Небольшая горсть, но довольная, хорошо питающаяся, удобно и приятно живущая, не знающая тяжестей нужды. Наши тысячи равняются не рублям ли бедняков? Тем обязательнее для нас жертвовать. Русская честь задета. Мы, образованные люди, должны, по логике вещей по крайней мере, чувствовать это сильнее, чем другие. Надо действовать быстро, со всей энергией любви к родине и к нашей славе.
Грешный человек, я сомневался, когда князь Л. М. Кочубей привез мне свои 10 тысяч, и свое сомнение ему выразил. Когда на другой день меня нашли в Александрийском театре и там вручили новые 10 тысяч рублей от Г. В. Калмуцского, я обрадовался, как особенному счастью. У князя Кочубея, очевидно, легкая рука. В три дня сумма сбора дошла до 85 тысяч. И это в значительной степени дали люди достаточные. Но начался прилив и маленьких жертв, и из этих маленьких вместе с большими выйдут миллионы.
Говорят, что среди богатых людей подписаны большие суммы на флот и образуется общество с членскими взносами. Говорят, есть пожертвования в сотни тысяч и одна подводная лодка обеспечена капиталом.
Надо желать, чтобы все газеты собирали на флот и следует приступить к тому, чтоб деньги скорее пошли на дело, чтобы все знали, что решено сделать, кому сделать заказ, на какую сумму, в какой срок этот заказ будет исполнен. Полнейшая гласность не только не повредит делу, но поможет ему. Гласность значит доверие, контроль. Под контролем должны быть все. В общественном деле контроль увеличивает энергию общественных сил. Пожертвования идут гласно, и никакого секрета не может быть и в том, куда и на что идут деньги. Делай так, чтобы правая твоя рука не знала, что делает левая — хорошо в частной благотворительности, в помощи беднякам. Когда дело идет о сборе капиталов на патриотическое предприятие, всякий, давший деньги, имеет право знать, куда они пошли. Конечно, все это азбучно, но у нас азбучные истины считаются иногда трудной алгеброй.
Итак, господа, за дело. Мы жертвуем на флот. Это — лозунг нашего общества. Но должен быть образован комитет, как говорили мы вчера, и он пускай определяет, что нужно прежде всего.
Десятки лет тому назад у нас была сделана подводная лодка Александровским и хорошо работала. Но случилась с ней неудача — она зарылась в ил. И ее бросили. А если б ее не бросили, у нас были бы подводные лодки раньше, чем где-нибудь.
Если найдут, что прежде всего необходимы подводные лодки, пусть так и будет. Мы с вами не специалисты, но нам объяснят тогда, почему принято делать так или иначе. Большое общественное дело должно идти так, чтобы мы все радовались его успеху, как успеху нашей дорогой Родины, которая соединяется около государя в одну политическую семью. Россия поднялась сама, поднялась мгновенно. Ее ударили в грудь, и она вся почувствовала этот удар и встала в негодовании на врага и во всеоружии своего достоинства и чести. Надо только уметь руководить этим подъемом чувства, мысли и воли. Да, не одно чувство теперь деятельно. Мысль работает, мысль стала сильнее и глубже и двигает волю к творчеству.
5(18) февраля, №10030
CDLVIII
Удивительное дело то благоразумие, которое начинают высказывать по поводу пожертвований на флот. Зачем это? Это — «пересол», — говорит издатель «Гражданина». Он держит в руках изобретенный им, но не получивший еще премии особый термометр и измеряет им температуру патриотизма. Тот дал десять тысяч, другой дал десять тысяч, третий — сорок тысяч, четвертый — рубль. Это — «пересол», кричит он.
Есть пословица: «Недосол на столе, а пересол на спине». Это относится к кушаньям. Но в деле общественной деятельности, в желании принять участие в строительстве флота, в творчестве, в желании видеть сильный русский флот — где тут пересол и где недосол? Недосол — тут несомненно на спине, а потому пересол, если даже можно его измерить, только помогает равновесию.
«Шовинизм!» — говорили нам, когда мы сказали, что разрыв дипломатических сношений с Японией значит война. Шовинизм?! Это — какое-то презрительное слово. Когда Пушкин написал свое знаменитое «Клеветникам России», либеральные друзья ему говорили: «Это — шовинизм».
Что такое шовинизм?
Во времена войн первой французской республики и Наполеона был солдат по фамилии Шовен (Chauvin), получивший семнадцать ран в разных сражениях и отличавшийся необыкновенным обожанием великого полководца. Этот Шовен известен был во всей армии. Впоследствии сочинили про него песню, в которой впервые употребили слово «шовинизм». Таким образом, шовинизм есть повышенный патриотизм, а впоследствии это слово, благодаря дипломатам, стало означать насмешку над таким патриотизмом. У нас князь П. А. Вяземский пустил в оборот слово: «квасной патриотизм» и затем явилось «шапками закидаем».
Но это «дела давно минувших дней» — «шапками закидаем». Фраза эта осталась как предание о тех временах, когда солдатам на войне давали кремневые ружья, а у врага были ружья пистонные, когда солдат обували в сапоги на картонных подошвах и т. д. Слово «квасной патриотизм» князь П. А. Вяземский не относил к военному времени.
Меряйте, если хотите, патриотизм, но не мешайте ему проявляться в пожертвованиях на флот, как бы велики или малы они ни были. Не говорите «пересол» тогда, когда существует недосол. Что за советы благоразумия!! Почему они не раздаются ежедневно по адресу тех, которые проживают, проедают, роскошествуют свыше всякой меры, проигрывают в карты, рулетку, сотни тысяч отдают женщинам известного порядка. Почему не читают им наставлений, почему не говорят им: «что вы делаете, безумцы? «Мы проедаем, пропиваем, роскошествуем на свой счет», скажут они. «Что вам за дело?» Те, которые жертвуют отечеству, имеют неизмеримо большее право сказать: «Мы даем свои деньги. Мы их даем потому, что хотим, потому, что чувствуем себя выше обыденности, выше расчетов будней, потому, что мы глубже верим, дальше видим. Мы чувствуем себя гражданами и все, что отечественное, близко нам. Уходите же прочь с вашими советами». Но они продолжают неумолимо: «вы даете деньги на фантастическую затею, потому что создать флот на добровольные пожертвования и в короткий срок невозможно».
Мы это знаем. Флот нельзя создать мгновенно. Но мы знаем, что его может создать Россия, и мы торопимся сказать это не словами, а делом. Нам дорого сознание, что мы лично участвуем в его создании, что вот в том вершке корабельного дерева или брони есть мои рубли или копейки. Мы хотим сказать, что всем дорог флот, мы хотим, чтоб его близко узнали и полюбили, чтоб русский флаг гордо развевался на всех морях и твердо стерег наши берега. Вы, благоразумные, вам жалко наших денег, что ли? Жалейте свои, мы вам не мешаем беречь их или давать их на другие нужды военного времени. Оставьте нас в покое. Вы говорите: «На несколько десятков тысяч частных пожертвований никто ничего не построит». — Почему вы воображаете, что дело идет о нескольких десятках тысяч, адресованных в «Новое Время» только в течение четырех дней? Почему «никто ничего не построит?» Да хоть одно суденышко построим и будем на него радоваться. Погибнет оно в бою, построим на его место другое или два вместо погибшего. Мы продолжим его существование, и оно будет наше, долго. Мы заблуждаемся? Поживем — увидим. Но мы понимаем радость общественного участия в этом государственном деле, мы следуем побуждениям своего сердца, и оставьте вы нас делать то, что мы хотим…
Р. S. Эта заметка была поставлена уже в нумер, когда поздно ночью я узнал, что государь император, «во всегдашнем своем желании идти навстречу патриотическим и благим начинаниям русского общества», повелел учредить Комитет по усилению военного флота и разрешить повсеместный сбор пожертвований. Почетным председателем — государь наследник, председателем — великий князь Александр Михайлович. Итак, с Богом, за дело, за всенародное дело.
7 (20) февраля, №10032
CDLIX
Государь назначил Куропаткина…
Эти три слова сказали много, много, много. Сказали сердцу и уму русского человека. Имя это произносилось давно. Оно было на устах, в помышлениях. Оно ответило общей жажде русских талантов. Таланты необходимы, настоящие, не призрачные, не величающиеся преждевременно. Русская земля росла талантами, прославилась ими, и будет ими расти и славиться. Я знал А. Н. Куропаткина еще в небольших чинах, в скромной доле. Потом это имя связалось с именем Скобелева и росло и росло. Ничего фейерверочного, кричащего, ищущего популярности. Что-то спокойное, крепкое, вдумчивое, деятельное без всяких фраз, без всякой самонадеянности, но не устающее работать, изучать и верить в рост своей родины и ее великие задачи. Русский человек, в полном смысле этого слова, поднявшийся благодаря своим дарованиям и труду. Мужественный воин, получивший несколько ран, доказавший свою храбрость и свой выдающийся ум в боях, в трудных походах на Балканах и в Азии, в Геок-тепе, Туркестане, в Кашгарии, он знаком с азиатами как нельзя лучше. Военный писатель, он изучил Алжирию, был в степях Сахары, исследовал битвы и движения войск. В военных и морских кружках, в литературных и общественных имя Куропаткина произносилось, как боевой лозунг настоящего времени. Никакое другое имя не ставилось рядом с его именем. В него уверовали не мгновенно, не выкриком каким-нибудь, а путем постепенных и возраставших непрерывно его заслуг в течение многих лет. И уверовали крепко, как в умственную силу, как в настоящий военный талант.
О, мы все хорошо понимаем трудность настоящего времени, огромные препятствия, которые представляет война на Дальнем Востоке. Мы, может быть, преувеличиваем все это, но зато у нас нет обманывающих иллюзий, сверхъестественных надежд на быстрые успехи. Вместе с правительством, которое говорило на этих днях о своих надеждах со скромностью, удивившею Европу, мы думаем, что огромный труд должна понести русская земля, великие жертвы сделать, чрезвычайные усилия пустить в дело. Но разве это в первый раз? Разве в нашей истории не было ничего подобного? Разве не было войн далеко, далеко от столицы?
Дальний Восток дальше всех наших окраин, дальше Кавказа. Но железный путь сократил расстояние, а переполненное русское сердце, во всех пламенно заговорившее, поможет военным усилиям нашей славной армии, нашему флоту. Правда ли, нет ли, но сегодня я прочел, что на флот уже подписаны миллионы. Если это только слухи, то не сегодня, так в близком будущем, это будет несомненной правдой. Лиха беда — начало. А начало чудесное — искреннее, глубокое патриотическое чувство.
И оно нам говорило об А. Н. Куропаткине, оно нам говорит с непреклонной верой, что война родит героев, вызывает к жизни и деятельности таланты и показывает мишуру мишурой.
Да благословит Господь государя в его горячей вере в Россию и в ее силы и да благословит Господь нового полководца на трудном пути к славе нашей великой родины.
9 (22) февраля, №10033
CDLX
Хотелось бы писать каждый день. Но днем и ночью столько слышишь, столько говорят, столько перечувствуешь, что перо вываливается из рук.
Тяжелое и в то же время великое время. Я говорил о весне, и слово это получило такую популярность, о какой я не мечтал. Я думал тогда о другой весне, о русской весне, при которой жизнь расцвела бы, разукрасилась бы цветами не пустого красноречия, а общественным мирным делом, которое высоко подняло бы наш дух, разрушило бы недоразумения, подсекло бы в корне вражду, обессилив ее светом разумной свободы и взаимного понимания, которое совсем заросло сорной травою и чертополохом. Мне грезились мирные подвиги русского самосознания, русской повышенной энергии самоуправления, народного довольства. Я думал, так это близко, так возможно, так государь желает счастья своей родине.
И вдруг дьявол поднялся на Востоке, на Дальнем Востоке, куда мы спешили с головокружительной быстротою, точно нас толкала туда какая-то неведомая сила. Дьявол притворился смирным, поджал хвост, опустил рога и, высунув на бок лживый язык, моргал кривыми глазами, в которых светился зеленый огонь. Цивилизованный дьявол, приятный, скромный дьявол, — думали мы. А он подкрался и выпустил горячее пламя и оно обдало нас и обожгло…
Обожгло Россию, обожгло весь русский народ. Заболели наши раны, русская кровь полилась, смерть разинула свою пасть и поглотила первые жертвы, облитые слезами отцов и матерей…
Тяжелое и в то же время великое время. Оно велико тем, что показало, как высоко развилось русское общество, как оно выросло, как оно достойно счастья и всяческих забот, как дух патриотизма силен в нем. Вместе с развитием образования как много оно приобрело тех внутренних скрытых достоинств, о которых столь многие не подозревали. Судить поверхностно, судить по исключениям, какие мы мастера. И это так легко, так не нуждается ни в каком напряжении мысли. А под верхним вздувшимся слоем лежит золото.
И золотые русские сердца говорят, и мысль работает, и мускулы окрепли, и грудь поднимается свободно, и сила набирается.
И мы не дождемся весны!? Не дождемся радостного мира, не дождемся победы над врагом? Не покажем этому дьяволу, что он рано еще торжествует и слишком рано задрал кверху свой цепкий хвост и вертит им!?
— Ах, тривиально. Ах, как тривиально! — говорит дама, приятная во всех отношениях, и совершенный во всех отношениях джентльмен.
Почему? Разве я кого обижаю? Разве название «дьяволом» не почетно, не привлекательно? Почитайте-ка, как нас честят, в каких карикатурах нас изображают, каких клевет о нас не сочиняют. Из песни слова не выкинешь. Так не выкинешь слова из речи, когда она льется.
А я хочу только повторить и напомнить то, что говорил еще в начале ноября: «Если Япония начнет войну, Россия примет войну и будет биться, как бились наши славные предки. Она поставит на карту все, чтобы отстоять себя и свое значение. Если бы даже начался военный европейский катаклизм, если бы смешалось всё и всё полезло на нее, она положит оружие не прежде, чем с честью выйдет даже из такой страшной войны. Русское чувство заговорит громко и горячо и соединит всех под русское знамя!»
И так оно есть, и так это будет.
12(25) февраля, №10036
CDLXI
Кто наши друзья и наши враги? Наши враги весь мир. К этому выводу легко придти, если взять иностранные газеты за основание. Газеты настраивают общественное мнение. Парламенты и правительства идут за общественным мнением. Кричат больше всего и часто талантливее всех радикальные партии и радикальная печать. За нею идет печать уличная, ищущая скандала, кричащих событий, которые можно ежедневно сочинять. Радикальные партии и вся эта радикальная и уличная печать не за нас. Благоразумие рассуждает, не увлекается, поучает, а это скучно, как всякая проповедь, если она не согрета внутренним огнем.
В каждой европейской стране мы, конечно, найдем несколько газет, которые стоят за Россию. Это — благоразумные. Во Франции и Германии это даже влиятельные газеты.
А народы, как?
Кто знает, как народы? Народы больше молча работают для насущного хлеба, чем рассуждают о политике. Я видел только один народ, который действительно с большой симпатией относился к нам, не газетный народ, а народ подлинный. Это было в памятные дни посещения нашими моряками Тулона, Парижа, Лиона и Марселя. В течение нескольких дней (5–12 октября 1893 г.) в Париже как бы стон стоял горячих симпатий к России, как бы совершались действительно братские, искренние объятия двух народов. Провинция хлынула в Париж сотнями тысяч народа. Перед военным клубом (cercle militaire) стояли с утра до вечера толпы и раздавались восторженные крики по адресу России и государя, когда моряки появлялись на балконе клуба или в экипажах. Я видел сцены умилительные, трогательные до слез, сцены восторга и общего одушевления. Я видел действительно всю Францию, представителей всего народа в подъеме великого чувства солидарности и прекрасных надежд. Я видел в опере всех наиболее ярких знаменитостей Франции, начиная с Карно, маршала Канробера, Золя, академиков, Ротшильда и проч. И что это за великолепный был вечер, что это был за восторг, когда весь этот зал слушал наше «Славься» и потом слушал стоя наш народный гимн и кричал, и аплодировал!
Проходят ли бесследно такие дни в истории народов? Конечно, с тех пор и обстоятельства осложнились значительно. В 1893 г., во время этих парижских торжеств, говорили о мире, об утверждении мира, но чувства реванша вспыхивали при каждом ничтожном намеке на Германию. Молодой француз, студент Парижского университета, заплакал горькими слезами у меня в комнате отеля, когда мы заговорили об Эльзасе, заплакал, как дитя. Немецкие газеты шутили и злились. Наш посол в Берлине граф П. А. Шувалов говорил мне о берлинских высших сферах, что они старались держаться корректно, и видимо избегали разговоров о празднествах. Были, однако, заметны какое-то ревнивое чувство и досада…
С тех пор, говорю, много воды утекло, многое изменилось. Изменились отношения Франции даже к своему врагу, который отнял у нее две провинции. Сколько раз поднимался вопрос о полном примирении при известных уступках с обеих сторон. Крайние партии во Франции и Германии крепко пожимали друг другу руки на почве социалистической революции. Явилось сближение наших союзников с Англией, что-то вроде тайного союза. Может быть, Англия чуяла уже японскую войну и клала в колеса франко-русского союза большую палку и чем-то приманивала прекрасную Францию. Франко-русская дружба охладевала, и Россия начинала чувствовать локтем Германию, которая со своей стороны враждебно стала посматривать на Англию.
Четыре державы, Россия, Германия, Франция и Англия как бы находились между собою в каком-то не совсем определенном положении. Все точно чего-то ждали, какого-то mot d’ordre, какого-то события, которое должно было определить, наконец, их политику. Может быть, дипломатия всех этих держав потому и не могла предупредить настоящую войну, что чувствовалась между державами некоторая неловкость, медлительность, шероховатость. Дружной работы несомненно не было. Русская дипломатия, вероятно, это чувствовала и видела, но не ждала coup de foudre в виде нападения японцев на Порт-Артур.
Сочувствие к нам Франции быстро сказалось. И политическая, и экономическая связь заговорила тревожно между политическими партиями и более глубоко в народе. Может быть, возникает теперь во французском народе нечто более старое, чем эти десятилетние связи между Россией и Францией. Не то, что гордый и воинственный галл, услышав звуки военной трубы, воспрянул и готов в битвы, которыми он когда-то наполнял вселенную. Я этого не скажу. Но в нем намечается нечто такое, что переходит за пределы экономических и финансовых соображений и затрагивает французскую душу в ее воспоминаниях о славе и первенстве среди народов земли. Народная душа загадочна и растет невидимо, как невидимо росла она во Франции перед 1789 годом.
И прежде всего это чувствует Англия. Вчерашнее заявление лондонской газеты «Daily Telegraph» говорит об этом ясно. «Русскому, говорит, министерству иностранных дел хорошо известно, что Англия предпочла бы соглашение с Россией соглашению со всякой другой державой, кроме Франции, и что не Англия, а Россия отказывалась принять предлагавшуюся ей дружбу». Франция ставится на первом плане, как излюбленная союзница, а за ней идет Россия. Она не пошла навстречу предлагавшейся дружбы?! Да что ж тут удивительного? Гораздо удивительнее, что Франция пошла на эту встречу, та Франция, против которой Англия постоянно работала и обманывала и едва ли не больше унижала ее, чем унизила ее Германия в 1871 г. Именно Англия была предательницей Франции и, льстя ей теперь, она желает только снова ее опутать.
Как бы то ни было, взаимное положение четырех держав выясняется. Германия несомненно нам сочувствует во главе со своим императором. Теперь: если Англия вмешается в нашу войну с Японией, то Франция и Германия останутся ли нейтральными?
Вот вопрос для русской дипломатии и задача для нее очень важная и ответственная.
13(26) февраля, №10037
CDLXII
Прекрасный высочайший рескрипт на имя А. Н. Куропаткина.
«Да поможет вам Бог успешно совершить возлагаемый мною на вас тяжелый, с самоотвержением принятый вами подвиг».
Именно тяжелый, самоотверженный подвиг. В сущности, нет того государственного и общественного дела, которое не было бы тяжело и не требовало бы всего человека, и только те и заслуживают общего уважения, которые всецело отдаются порученному им делу и вносят в его исполнение все свои силы. Только тот действительно служит своему отечеству, кто твердо и безропотно несет на себе бремя долга. Но тяжелее всех подвиг полководца. На нем лежит страшная ответственность за успехи армии и за судьбы отечества.
Полководец всецело берет свое бремя, данную минуту с ее недостатками, грехами и достоинствами. Он берет на свою ответственность в значительной степени политическое и военное положение не только своей родины, но и политические отношения к другим державам. Участие иностранной державы возможнее всего на море и, стало быть, ставит командующего маньчжурской армией в некоторую зависимость от силы и значения нашего флота. Всякий успех флота будет содействовать командующему сухопутной армией и наоборот. Нельзя забывать и отдаленность театра военных действий. Если все это сообразить, то положение полководца действительно «тяжелое» и действительно «с самоотвержением» принял он царское назначение — командовать частью нашей армии, которая призвана стать «на защиту чести и достоинства России и ее державных прав на Дальнем Востоке». «Державные права», это выражение как нельзя яснее говорит о настоящем историческом моменте, об исторических задачах России. Только укрепив «державные права» на Дальнем Востоке, Россия может вложить меч в ножны. Задача сама по себе огромная, но отказаться от нее невозможно великой державе, каких бы это жертв ни потребовало. С нашей армией вся Россия. Нельзя не упомянуть, что в высочайшем рескрипте есть еще важное выражение, именно «ответственное командование» армией. Как велика предстоящая задача, так велика должна быть и власть полководца.
На всем рескрипте лежит печать серьезной думы. Он так отвечает настоящему дню и общему настроению. Никто не смотрит на это положение иначе и тем выше и сложнее обязанности нового полководца и тем вдумчивее он, конечно, смотрит на них. Его речь, обращенная к чинам военного ведомства при прощании с ними, лишена всяких приемов красноречия. Она — простая и деловая речь. Весь смысл ее: все должны исполнять свой долг, свою тяжелую, но плодотворную службу. Надо энергично работать для усиления наших войск на Дальнем Востоке. «Без вашей дружной самоотверженной работы задача, возложенная на меня высоким доверием государя, невыполнима». Его подлинные слова. «Задача невыполнима», если не будет общей самоотверженной работы, если не будет, повторю слова рескрипта, — если не будет «подвига». Подвиг требуется от всех, кто составляет какую-нибудь административную единицу в нашей армии, в нашем интендантстве и проч. Грехи прошлого, кто их не знает, кто не говорил о них, кто не шептал о них в далекие времена молчания и этот шепот слышали все, и от него бессильно дрожало сердце. Конечно, не словами только убедишь в необходимости подвига. Надо дело, необходим строгий контроль и ответственность. Я помню еще севастопольскую компанию и тогдашний цинизм безответственности интендантства. Имена Горвица, Грегера и комп. во время войны с Турцией 1877–78 гг. стали синонимом грабежа. Прошлое многому научило, и преобразования в довольстве армии и в интендантстве всем известны и отвечают тому, что должно быть. «Расставаясь с вами, я буду непрерывно видеть результаты ваших трудов», говорил А. Н. Куропаткин чинам военного ведомства. Кто знает этого человека, тот не усомнится в том, что он действительно будет это видеть. Призыв к долгу, к подвигу не есть пустая фраза. Долг и подвиг — насущная необходимость.
14(27) февраля, №10038
CDLXIII
Печатая возражение на мои заметки К. А. Скальковского, я должен напомнить, что говорил не о народах и странах, а о печати. Печать говорит от имени народов, но из этого не следует, что она представляет собою «действительные» народы, а не «газетные» только. О симпатиях к нам Франции и Германии я говорил положительно. Во всяком случае, поправки и дополнения автора письма ценны. Он верно указывает на разделение немецкой печати на два лагеря. Один — за Россию, другой — против нее.
В старом берлинском ежемесячнике «Preussische Jahrbücher» («Прусские Ежегодники»), еще в февральской его книжке, до начала войны, я читал статью, которая не благоволит к современной России и называет русских «brutale Moscowiter». Странное дело, отчего у этих «грубых московитов» такое огромное количество немецких фамилий, совершенно обрусевших и ничем не отличающихся от русских? Будем продолжать. Вмешательство в войну Германии «Pr. Jahrb» считает невыгодным. Если Япония одними своими силами в состоянии победить Россию, то все европейцы в тех областях пострадают; если же Россия победит, то Англия непременно вмешается. Она вмешается, как вмешалась после победы России над Турцией в 1878 г. Хотя для немцев само по себе это «не было неприятно» — милая откровенность о Берлинском конгрессе, — но с другой стороны возрастающее могущество Англии было тем тягостнее для Германии. Но «ganz schlimm» (совершенно дурно) было бы для Германии, если б Англия и Япония одержали верх над Россией.
Покорно благодарим.
Конечно, Россия собственно недоступна для Англии. Она может своим флотом запереть русские портовые города, но тем самым она столько же навредит английской торговле, как и русской. Но иное дело положение России в Маньчжурии. Уничтожив русский флот, союзники несомненно высадят большие силы на полуостров Ляодун и обложат Порт-Артур. России придется или бросить военные порты, устроенные с такими огромными расходами, или вести войну, совершенно похожую на Крымскую войну и с таким же исходом. Вот как говорят гг. пруссаки, очевидно, люди с даром пророчества. Хотя сухопутные силы России, рассуждают они, в десять раз больше, чем сухопутные силы Японии и Англии, но расстояние портит все дело. Правда, в 1813 и 1814 гг. русские войска побеждали еще большие расстояния, но тогда им помогала своими субсидиями Англия. Россия, конечно, может предпринять поход на Индию с двухсоттысячной армией. Но Закаспийская железная дорога — одноколейная и доходит только до Кушки и русским войскам придется еще семьсот верст сделать пешком. Этот поход возможно приготовить и совершить разве в год, но и там Англия может высадить двухсотпятидесятитысячную армию и индийские войска. А главнее всего то, что экономические силы России будто бы иссякнут и окончательная победа Англии-Японии несомненна.
В мартовской книжке того же журнала, после первых успехов Японии, эти смелые предположения гг. пруссаков развиваются, причем опять они сожалеют о том, что Англия сильнее Германии, у которой нет хороших колоний и которая не может помочь России, если б и желала.
Я думаю, что мы обойдемся без этой помощи и, во всяком случае, сочувствие к нам тех или других народов пока совершенно платоническое. Первые успехи всех ошарашили, не исключая нас, и ничего нет удивительного, что появились сравнения Порт-Артура с Севастополем. Сравнение, однако, легкомысленное. Русские войска не могут быть прикованы к Порт-Артуру. Сведущие люди с уверенностью говорят, что даже самое взятие этой крепости не имеет особой важности, ибо исход войны ни в каком случае не может зависеть от Порт-Артура. Но публику участь этой твердыни, естественно, нервит и заботит. Телеграммы, пришедшие в Петербург 16 февраля, что японский флот «получил приказание» взять Порт-Артур 17 февраля, рядом с приказом генерала Стесселя, возбудившим горячие разговоры, встревожили всех. Такова психология общества, сердце которого забилось в лад с телеграфным молоточком. Приказ взять Порт-Артур принимается за нечто такое, что сейчас же возможно. Микадо приказал и воля его исполнена. Взять 17 февраля, и Порт-Артур взят 17 февраля без всяких разговоров. Раз, два, три — и кончено. Известно, что японцы, или джапсы (japs), как величают их англичане, молодцы и им ничего не надо, кроме приказа. Прикажут дойти до Петербурга — они дойдут. В песнях, которые распеваются в Токио, действительно уже говорится о японском флаге, который развевается на Петропавловской крепости. Вон куда миленький забрался, на «шпиц тверди Петровой». Только благодаря необыкновенному благодушию японского микадо, его флот бездействует несколько дней, и Порт-Артур еще в наших руках. Прикажет и сейчас все будет исполнено…
Сегодня 25-й день войны. Это надо помнить. Русское общество перечувствовало за это время столько, что достало бы на несколько месяцев. И во все это время ряд необыкновенных усилий в передвижении армии, — огромной рекой она течет на Дальний Восток, стройно и непрерывно. Каждый день дополняет ее мужественные ряды. Каждый день приносит больше уверенности в окончательной победе. Каждый день льются дождем пожертвования во всех концах России.
Этого пока нам довольно.
21 февраля (5 марта), №10045
CDLXIV
Англия посылает в Петербург нового посла. «Times», рекомендует его как человека, который наиболее способен для этой «трудной миссии». Почему же эта миссия трудна, когда сам «Times» говорит, что «самое положение отнюдь нельзя считать критическим?» И далее: «Каковы бы ни были антибританские чувства, проявляющиеся в русских войсках, русское правительство и в частности министерство иностранных дел вполне уверенно в корректности и искренности британского нейтралитета».
Можно бы обернуть эту фразу так: «Как ни старается английская печать вообще и в частности газета «Times» распространить в английском населении ненавистнические чувства к России, британское правительство и в особенности его величество король Эдуард VII относятся совершенно корректно к России».
Не правда ли?
Но несомненно, что в России ни правительство, ни общество не верят в корректность той английской печати, которая не останавливается ни перед какими средствами, чтобы вредить русскому имени. Средства эти не в одном газетном слове, но и в пропаганде такими путями, которыми обыкновенно газеты не занимаются…
Таким образом, оба правительства, британское и русское, относятся друг к другу с доверием. Остаются народы, на которых влияние правительства стоит вне всяких сомнений. Народы не полезут друг на друга без таких причин, которые будут непреодолимы и для правительств. У правительства есть дипломаты, государственные люди, и пусть они работают. Результат этой работы будет виден теперь каждый день.
А вот другая сторона дела. Если так усердно занимаются английские газеты ненавистничеством, то несомненно они находят себе почву в англичанах. Значит, часть англичан не любит Россию и желает ей всякого зла. Русские войска питают «антибританские чувства», говорит «Times». Русские войска — часть русского народа. Народу совершенно неизвестны ни британские, ни антибританские чувства. Самое слово «брит» ему понятно только в русском значении «бритый». Но англичанин прекрасно известен и к нему более полувека русский народ питает недружелюбное чувство и в лучшем случае передает это чувство в форме добродушной или злой насмешки. На это, вероятно, есть исторические причины, и главная из них в том торгашески холодном высокомерии, смешанном с пренебрежением к чести и достоинству русского народа, которое Англия не однажды выказывала к России с целью сломить или уничтожить наши военные и, следовательно, и гражданские успехи. Она не щадила нашу национальную гордость и, подкараулив, наносила ей тяжелые удары. Всюду за это время, где мы являлись в Азии, Англия мешала нам, предъявляла совершенно неосновательные претензии, тогда как мы никогда и ни в чем до сих пор ей не препятствовали.
О других причинах распространяться не станем, но неужели «Times»’y непонятно, что в этом народе, в значительной части своей грамотном и читающем, в эти дни усиливается недружелюбное чувство и переходит во вражду? Народ думает, основательно или нет, это все равно, что Япония не посмела бы двинуться против России, если бы ее не подстрекали из Англии. Япония не посмела бы нарушить всякие международные правила, если б не была уверена в поддержке общественного мнения Англии. Народ и войска это превосходно знают. Напрасно просвещенные мореплаватели думают, что они имеют перед собой то же общество и тот же народ, с которыми англичане познакомились во время севастопольской кампании. Мы далеко ушли даже после войны 1877–78 гг., мы выросли в своем русском самосознании. Что тогда было на степени инстинкта, то теперь обратилось в крепкое убеждение. Мало того, мы желаем, чтоб весь мир видел нас в этом одушевлении и считался с нами, как считается он с русской литературой. В той безграмотной и крепостной России было немало элементов неподвижности и застоя. Теперь этого нет. Мы выросли, и с нами следует обращаться даже гг. англичанам как с равными. Да, как с равными. Россия стоит во всеоружии своей силы и громкого проявления своего искреннего и глубокого патриотизма не на словах, а на деле.
Это — не армия, которая борется на Дальнем Востоке, но это — армия мирная, которая докажет, что она стоит своей военной армии.
Никакие угрозы не остановят этого всенародного движения, никакая злоба и никакие интриги не пересилят его. Это — не показные манифестации, требующие поощрения и подливания поддельного масла, но гг. англичане могут своей политикой подлить настоящего масла в пламя русского патриотизма.
И вот это следует знать корректным, искренно корректным людям Англии, если они действительно есть, и, посылая в Петербург нового посла, надо посылать его не для наблюдения над «антибританскими чувствами» русских войск — никакой посол тут ничего не сделает — а для выяснения и утверждения той британской корректности, в которую «вполне верит русское правительство и в частности министерство иностранных дел».
Довольно унижений. Россия требует, чтобы к ней относились, как к равной, относились честно и прямо.
Добро пожаловать!
Take it and welcome!
23 февраля (7 марта), №10047
CDLXV
Это было за два месяца до вечно-печальной памяти Берлинского трактата.
1 мая 1878 года в «Правительственном Вестнике» появилось воззвание на пожертвования для создания Добровольного флота под заглавием: «Русское крейсерство». В воззвании ясно звучала нота оскорбленного русского самолюбия, и даже вспоминались имена Минина и Пожарского. Европа собиралась судить Россию. Когда Россия заключила Сан-Стефанский мир с Турцией, «на водах Мраморного моря, говорит воззвание, появились грозные военные корабли сильнейшей морской державы… Исполнение мирного нашего договора приостановилось. Никакой враг на земле не страшен для России». Но на море мы были беззащитно слабы. «В настоящее время, если бы Бог судил России новою войною пожать плоды войны минувшей… все наши силы должны быть направлены к нападению в открытых морях и океанах…»
Далее говорилось:
«Сумеют ли нападать наши моряки? Сумеют — на то они русские люди. Им нужно дать хорошие быстроходные суда в изобилии, и они найдут у могущего явиться нового врага его больное место. Десятки судов под командою удалых морских офицеров, рассыпавшись по морским торговым путям нового противника, остановят его мировую торговлю, а стоит этой торговле остановиться на один лишь месяц — груды золота, которыми он так кичится, начнут быстро таять… Дело Добровольного флота не есть дело временное, а дело постоянное… Суда этого флота в мирное время будут служить мирным целям, а на случай нежданной войны будет у нас готовый флот для защиты и для нападения».
Вот в каких видах создавался Добровольный флот. Мечтали о крейсерстве, о подрыве английской торговли, о таянии груд «английского золота». Из этой мечты родилось, однако, полезное русское дело. К 20 сентября собрано было три миллиона рублей, куплены были три парохода, каждый вместимостью в три тысячи тонн. Временно они числились в составе нашего военного флота, а потом перевозили наши войска на родину — это было первое их дело. В течение последних восемнадцати лет Добровольный флот служил нашей морской торговле, получая субсидию от казны. Приход Добровольного флота за 1902 год равнялся трем с небольшим миллионам рублей, в том числе субсидия шестьсот пятнадцать тысяч рублей; расход — два с небольшим миллиона; прибыли — восемьсот пятьдесят три тысячи рублей, из которой отчислено в запасный капитал полмиллиона. Общий капитал пожертвований к этому времени равнялся четырем миллионам ста пятидесяти тысячам рублей. Состоял флот из восьми пароходов, вместимостью в шестьдесят тысяч тонн, стоимостью около семи миллионов.
Заслуги Добровольного флота, обязанного своим существованием общественному почину, под покровительством наследника цесаревича, впоследствии императора Александра III, несомненны не только в торговом отношении, но и в политическом: он внес русское имя в новые страны и честно носил его. Но первоначальная идея его не была в то время выполнена, именно идея помешать Англии вмешиваться в нашу политику, избавиться от ее неотвязчивой назойливости, с которою она становилась на нашем пути… Только появились ее «грозные корабли» и русское сердце сжалось в предчувствии, что лучшие лавры наших сухопутных побед будут оборваны сильной рукой «сильнейшей морской державы» и… об этом с горечью объявлялось всей России. Берлинский конгресс оправдал это предчувствие. Раньше, после Севастополя России запрещено было иметь свой флот на Черном море. Запрещено! Англия знала, что она этим делала и знает, как тяжелы для нас и теперь Босфор и Дарданеллы — эти запертые ворота для нашего военного флота. Велика была радость, когда в 1870 году мы сами отказались соблюдать это запрещение, но выхода из моря все-таки нет. Ни одна великая держава не находится в таких тяжелых условиях для развития своего флота и пользования им, как Россия.
Наш флот стал возрождаться только при Александре III, но вследствие финансовых обстоятельств это возрождение шло медленнее, чем следовало.
Настоящий общественный почин в деле нашего флота, почин, которому государь император пошел «навстречу», как патриотическому делу, особенно важен потому, что идея необходимости для России сильного флота входит в сознание всей России. Всем стало ясно, что необходимо полюбить флот деятельным отношением к нему, необходимо смотреть на него, как смотрим мы на нашу армию, и постоянно о нем заботиться неусыпно, напоминая об ответственности, которая лежит на ближайших его деятелях перед родиной. Флот не должен являться какою-то обязательною для великой державы и красивою роскошью. В этом звании он, пожалуй, только соблазн и лишняя трата денег. Мы должны стать такою же сильной морской державой, как сильны мы на земле. Та предательская, черная туча, которая надвинулась на нас на Дальнем Востоке, не обожгла бы нас своей молнией так больно, если бы наш флот отвечал нашим политическим задачам. Но эта же молния зажгла общественный разум и раскрыла кошельки богатых и бедных в самых отдаленных уголках России. Сколько бы ни было собрано, это — вклад в государственное дело большой важности и оно настоятельно требует всяческих усилий. Вы читали, что четыре английские подводные лодки стоили один миллион двести тысяч рублей. Будь у нас эти лодки… Заслуженный моряк говорил убедительно, что будь у нас в Порт-Артуре несколько подводных лодок, нам не страшна была бы японская эскадра. Хорошо, что этих лодок нет и у Японии. Но сегодня их нет у них, а завтра они могут быть. Это надо помнить каждую минуту.
В какой степени подводные лодки могут влиять на флот, доказывается следующим фактом.
Первая подводная лодка была построена Фультоном, изобретателем пароходов. Свою лодку он предложил Наполеону I, который дал ему на постройку десять тысяч франков. Несмотря на эту маленькую сумму, он построил лодку и она была испытана и признана полезною. Но совет французских адмиралов решил, что «неблагородно воевать таким оружием, что французские моряки привыкли встречать врага лицом к лицу». Тогда Фультон уехал в Лондон и предложил свое изобретение знаменитому министру Питту.
Фультон подошел в своей подводной лодке под водою Темзы к старому судну и взорвал его.
— Теперь вы убедились, что изобретение мое действительно может навредить флоту? — сказал Фультон.
— Да, убедился и потому, что убедился, я его принять не могу. Эта лодка подорвет значение английского флота.
Вот характеристика двух народов в лице французских адмиралов и Питта. Англичанин тотчас же понял, что, приняв эту лодку, он действительно подорвет значение своего флота, усилив морскую оборону всех тех государств, флоты которых слабее английского. Теперь и англичане строят эти лодки, конечно, на случай нападения на их берега.
Я — не специалист, конечно. Говорю, что слышал и что читал, и не сомневаюсь в большой пользе для флота общественного, добровольного патриотического содействия и обязательного содействия правительства.
2 (15) марта, №10055
CDLXVI
У графа А. К. Толстого есть вдохновенное четверостишие, точно пророческое о нашем времени:
В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая бомба Грянула. С треском кругом от нее разлетелись осколки. Он же вздрогнул, и к народу могучие медные звуки Вдаль потекли, негодуя, гудя и на бой вызывая.Колокол, мирно дремавший, цел и могучие звуки идут по Руси оскорбленной в эти торжественные и великие дни, которые мы все переживаем одинаково и чувствуем, как приблизился малый к великому и великий к малому. Дни эти торжественны единодушием, они велики скорбью, объединяющею нас, скорбью о том, что Россия должна была начать войну, и что, захваченная внезапно, она потеряла своих сынов, и была изранена в своем флоте. Они велики по тому одушевлению, которое царствует повсюду и которое сожжет в своем огне и равнодушие и противодействие тех, которые не знают, что творят, а если знают, то не уразумели еще того, за что народ великой державы призван историческими судьбами бороться.
Оставим в стороне все то, что нас огорчает, оставим дипломатию и вопросы международного права; оставим дерзость врага и будем смотреть на него спокойно; оставим английских авгуров и будем думать о настоящем в связи с будущим. Я пишу это, прочитав проводы А. Н. Куропаткина в Москве. Она — на высоте своего значения, наша старая первопрестольная столица, с ее домом Пресвятыя Богородицы, как выражались наши отдаленные предки. Москва говорит в лице городского головы о «завоевании мира», о «прочном и скором мире», в лице председателя земской управы — о «великом значении подвига, предстоящего русскому воинству»; в лице предводителя дворянства — о «бесповоротном упрочении русской твердыни на берегах Великого океана». Конечно, дай Бог скорого мира, но прочный и скорый мир едва ли совместим с настоящим положением воюющих держав. «Великое значение подвига, предстоящего русскому воинству» и «бесповоротное упрочение России на берегах Великого океана» — вот что главное. А это скорым маршем не может быть достигнуто.
Не раз выражалось в печати, что настоящая война — бесполезная война. Даже газета «Times» назвала ее бесполезной, но трудной. Приходится слышать об этом и среди русских. Вообще говоря, всякая война не только бесполезна, но и вредна в том смысле, что все войны страшно тяжелы и изнурительны и для государства, и для каждого гражданина. В частности, ни о какой войне нельзя сказать заранее, полезна ли она или бесполезна, если уж говорить о пользе войны. Говорят: зачем нам Маньчжурия, зачем Порт-Артур, даже зачем Великий океан, когда у нас нет ни сильного военного флота, ни даже сколько-нибудь удовлетворительного торгового флота. Скорей же ликвидируем все это и примемся за внутренние реформы.
Но война уже есть, она идет, тяжелая и мрачная. Одного этого достаточно для того, чтобы не говорить о какой-то ликвидации. Говорить о ликвидации, значит признать свое бессилие; допустить какое-нибудь посредничество, значит признать свое ничтожество даже перед Японией и ждать, как посадят Россию на скамью подсудимых и дадут ей испытать новое унижение, горшее, чем берлинское.
По-моему, для России война эта страшно важна. Может быть, она преждевременна, слишком внезапна, но она — большого значения для России.
Она важна потому, что Россия не может отступать от своих целей. А цели эти несомненно поставлены произволом ли людей, или историей, которой повинуются люди невольно. Занятый нами берег Великого океана — это конечная цель наших завоеваний. Великий океан с теплым морем — это предел наших военных усилий, это конечная и прочная граница нашей Державы. Нужна ли нам Маньчжурия, об этом Россия может сказать только после победоносной войны, не ранее и не иначе. Ни один русский дипломат не имеет права сказать: нет, потому что Россия прежде всего должна победить во что бы то ни стало в этой войне. Она могла не победить под твердынями Севастополя, могла бы не победить Турцию в 1878 году. Все это было тяжело и могло быть тяжело. Но там мы не ставили на карту все наше значение, как великой и образованной державы. А теперь мы его ставим. Или мы действительно великая держава, недаром стремившаяся в Азию для своих культурных целей, недаром тратившая силы и деньги своего народа, рассчитывая на его развитие и власть русского разума, или все это было какое-то глубоко-трагическое недоразумение, а во мнении цивилизованного мира — трагико-комический фатум, достойный смеха? Вот перед нами какая роковая задача.
Или мы победим, и победим тогда не Японию только, но окончательно победим и все страны, приобретенные нами в течение двух веков, победим предрассудки Европы относительно России, или мы будем побеждены и тогда будем побеждены для всего мира, для Турции, для Кавказа, для наших среднеазиатских владений, для влияний на Балканском полуострове, для всего славянства, которое чует в России старшую и сильную сестру, для всех других врагов, наконец.
Вот как это будет. И я убежден, что так это и будет, и не иначе. Или наше бытие, или ужас унижения. Что ни говорите, мир любит борьбу и победы и горе побежденным! И вот почему война эта может быть несравненно полезнее прежних войн, завершая их, или станет роковой войной. Вот почему необходимо России напрячь все свои средства, какие только есть, на служение этой войне, возбудить до напряжения все свои умственные и образованные силы и не упускать ничего, что могло бы служить победе. Те, которые желают поражения, рассчитывая этим путем взять реформы, по старой и изношенной погудке о севастопольской кампании и шестидесятых годах, — или безумцы или пошляки. Не говоря о безумцах, у которых всегда найдется оправдание в молодости, в увлечении и т. п., только равнодушная пошлость, только незрелая умственная тупость может думать, что она чего-нибудь достойна другого, кроме рабства, если она желает поражения своей армии, т. е. своего народа.
Россия победительница может отдать Корею под протекторат Японии, может возвратить Китаю Маньчжурию, может возвратить все, что захочет, укрепив за собою путь к Великому океану и став прочно на его берегах, но возвратить властно, как победительница, как великодушная героиня, полная прозорливого разума. Китай должен сделаться нашим другом и союзником, каким он был века. Нам его не завоевывать, как не завоевывать и Японию, но победить Японию мы должны во что бы то ни стало и чего бы нам это ни стоило. Это сознание должно вдохновлять всех, и прежде всего образованное общество, если оно действительно существует, как действительно образованное общество. Да разве оно не чует всего смысла этой войны, разве оно не стремится стать к ней ближе и ближе, путем внимательной заботы о войсках, путем всяких усилий и жертв?
4 (17) марта, №10057
CDLXVII
Я продолжаю думать, что война с Японией не может не занимать нас всецело, что все другие задачи внешней политики должны отойти пока на второй план, что дипломатия должна быть особенно умна, проницательна и деятельна — дай Бог этих даров в превосходной степени — чтоб избавить Россию на это время от всяких других осложнений. Всякая война чревата событиями и нет такой войны, течение которой можно было бы предсказать даже с той вероятностью, с какой предсказывают охотники предсказывать погоду.
Наш противник — нам почти неизвестный человек, новая величина, но несомненно воинственный и храбрый, с уловками и хитростями истинно восточного человека. Едва ли я много ошибусь, если сравню современную Японию с Россией времен Петра Великого, даже с временем первых двух десятилетий царствования Екатерины II, оставляя в стороне качества белой и желтой расы, едва ли играющие особую роль в такое специальное время, как военное. Россия победила тогда воинственных шведов, нанесла жестокие удары Турции, счастливо воевала с немцами (при Елисавете). Как Япония теперь, Россия тогда вступала в бой с неведомыми врагами, училась побеждать у шведов и думала сделаться европейской державой. Это была такая же дерзость с ее стороны, как дерзость Японии учиться у Европы и вступить в борьбу с таким колоссом, как Россия. Я многое прочел в последнее время об Японии. Все это чтение убеждает меня, что перед нами противник серьезный и, возможно, что этот противник будет таким же вековым, как Турция. Из рескрипта государя императора к А. Н. Куропаткину, мы знаем, что он считает эту войну тяжелой; из речей А. Н. Куропаткина, обращенных к представителям разных общественных групп, мы знаем, что командующий Маньчжурской армиею не скрывает от себя трудностей этой войны и просит терпения и терпения…
В полученной мною сегодня книжке «Revue des deux Mondes» (вторая за март) есть статья Пьера Леруа-Больё. Это — родной брат известного у нас Анатоля Леруа-Больё, который был в России, написал книгу «L’Empire des Tzares et les Russes» и биографию H. А. Милютина с очерком освобождения крестьян («Un homme d’affaires d’Etat russe»). Пьер Леруа-Больё годом моложе брата (родился в 1843 году). Между его сочинениями, преимущественно экономическими, есть сочинения о колонизации новых народов, и экономические, исторические и статистические исследования о современных войнах, о финансах, об Алжире и Тунисе, о Китае и Японии, где он был в 1897 году. Он — основатель «Economiste Français», очень почтенного журнала. Думаю, что слова такого публициста нельзя не принимать, по крайней мере, к сведению.
Говорит он о Японии, об ее населении, природе, военных силах, патриотизме. О России говорит мало. К сравнениям прибегает преимущественно с Францией. Японская армия во всех отношениях стоит в уровень с европейскими, исключая кавалерии. Но зато артиллерия ее так же сильна, как французская. Выбор рекрутов самый тщательный, офицеры — все воспитанники военной школы. Пехотинцы неутомимы в марше, на что указывает существование 200 000 джинрикшей, этих людей, которые на себе возят экипажи. Сам Леруа-Больё сделал в двенадцать часов восемьдесят километров, с роздыхом всего в два часа в экипаже, который везли все время, не сменяясь другими, те же два человека. Японская армия может быть доведена до численности французской. Ежегодный контингент двадцатилетних людей — четыреста двадцать восемь тысяч, но разные обстоятельства, преимущественно бюджетные затруднения, мешали Японии воспользоваться всею этою массой, но и теперь ее армия с резервами равняется шестистам тридцати двум тысячам. Из этого числа триста тридцать девять тысяч человек могут считаться активной силой, а двести пятьдесят тысяч из этой силы может быть переброшено в Корею немедленно. Зная, с какой скоростью японец выучивается владеть оружием, можно предположить, что в течение нескольких месяцев на материк Япония может высадить до четырехсот тысяч человек. Относительно моряков не надо забывать, что это — единственные моряки вместе с американцами, которые на войне приспособились к этим громадным кораблям с тонкими механизмами и как бы сжились с ними.
О финансах Японии Леруа-Больё такого мнения, что страна смело выдержит борьбу целый год. При старом режиме, в середине прошлого века, Япония платила до 825 миллионов иен, т. е. более теперешнего своего бюджета. А с того времени Япония разбогатела, рабочая плата значительно поднялась, тогда как жизнь по-прежнему проста, экономна и трезва, как в низшем классе, так и в высшем. Ресурсы у Японии настолько значительны, что она достанет денег при помощи особых военных налогов и займов, хотя и за 7 %. «Надо, наконец, хорошенько разобраться, — говорит П. Леруа-Больё, — когда говорят, что нерв войны — деньги. Их надо много, чтоб приготовиться к войне, много, когда она кончилась, чтоб уплатить расходы; но, когда она идет, почти постоянно можно найти у кого занять, хотя и с лихвенными процентами, и найти поставщиков, которые готовы на отсрочку с условием повысить счеты. Было ли когда-нибудь столь сильно обтрепанное правительство, как Директория, а это не мешало нашим армиям воевать в Европе».
Скоро ли кончится война? Общее мнение, что она будет долгая. Франция убеждена, что одолеет Россия; Англия убеждена, что одолеет Япония. Если Япония задастся тем, чтобы выгнать русских из Маньчжурии, она, несмотря на все достоинства своей армии, будет побеждена численностью. С другой стороны, России будет чрезвычайно трудно, если совсем невозможно, выгнать Японию из Кореи, благодаря горам, где русская кавалерия будет слабым подспорьем пехоте. Падение Порт-Артура может значительно затянуть войну, ибо даст Японии большие преимущества перед Россией.
Одна особенная черта отличает эту войну от всякой другой: очень трудно принудить друг друга к миру каким-нибудь решительным ударом. Япония не может принудить Россию к этому. А чтобы Россия могла принудить к миру Японию, необходимо ей высадиться на островах, оставляющих собственно Японию. Но тогда там началась бы такая война, какой мир, может быть, никогда не видал. Женщины и дети взялись бы за оружие. Явились бы Жанны д’Арк и Юдифи. А если б русские высадились на северный остров Иезо, то вмешались бы Англия и Соединенные Штаты. В конце концов, Леруа-Больё не видит особенной выгоды ни для России, ни для Японии и допускает возможность, что эта «несчастная война обратится в страшную драму всемирного пожара».
Конечно, французский публицист — не полководец и может ошибаться, как и полководцы, впрочем, ошибаются. Я думаю, что благоразумнее всего верить тому, что у неприятеля все превосходно, и что если нам достанется победа, то достанется только чрезвычайными усилиями нашего воинства и его начальников, и большим подъемом всего русского общества, которое не устанет ни в своем чувстве, ни в своей деятельности, ни в своем разуме. Я понимаю, что скорее всего притупится чувство, но разумная деятельность, но полное и сознательное внимание к общему делу, — вот что должно остаться неизменным и благородным призванием всякого русского. Надо верить, что мы победим. Но есть вера и вера, как есть молитва и молитва.
9(22) марта, №10062
CDLXVIII
Закон в России как железо. Когда вынуто из печи, так до него пальцем дотронуться нельзя, а через час хоть садись на него верхом.
Это «слова одного жида». Я их беру из только что вышедшей книги К. А. Скальковского «Маленькая хрестоматия для взрослых. Мнения русских о самих себе». Неудивительно, что нам американских жидов предлагают за американскую дружбу. Они превосходно знают русский закон и ездят на нем свободно. «Слова одного жида», однако, не самое остроумное и злое, что собрано даровитым писателем в «Маленькой хрестоматии». Из предисловия его, которое само по себе остроумно написано, мы узнаем, во-первых, несколько интересных фактов, например, наши бывшие американские владения проданы Россией С-А Штатам за семь миллионов рублей[5] (калифорнские фактории были проданы ранее за сорок тысяч рублей). В настоящее время в те же владения — не считая Калифорнии — ввозится товаров ежегодно на двадцать миллионов рублей, а вывозится оттуда золота на тридцать миллионов рублей, да разных товаров и мехов на семнадцать миллионов рублей. Выгодная продажа! Во-вторых, из того же предисловия узнаем, что собрание «мнений» более чем двухсот лиц о русских есть собрание мнений острых, злобных, насмешливых, скептических, «отвечавших настроению» самого автора. Так как он эти мнения собирал в течение восьми лет, то во все это время он был в скептическом настроении и тщательно складывал в особый ящик симпатичные ему мнения. Ящик этот теперь перешел в книжку и в ней расположился по отделам, а отделы обнимают все сословия, все состояния, все чины, все учреждения, начиная от цензуры до адвокатуры, которая с цензурою имеет то общее, что помешана на противоречиях. К сожалению, почтенный собиратель, очевидно из снисхождения, об адвокатуре привел не более, чем о картах, и даже совсем забыл блестящий фельетон об адвокатах покойного Евгения Маркова. Зато большой свет, высшие сословия, дворянство, государственные люди, дипломаты, чиновники, купечество и проч. могут быть довольны. И не думайте, что это мнения каких-нибудь людей без роду и племени или нарочито остроумных литераторов. Нет, тут вы найдете мнения Петра Великого, Екатерины II, Павла I, Николая I, графа С. Воронцова, графа Закревского, графа Д. А. Толстого, графа Бобринского, князя Вяземского, К. П. Победоносцева, Погодина, Белинского, Чернышевского, Карамзина, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского и т. д. и т. д. Собиратель брал свое добро повсюду, где его находил, но брал только жесткое, рисующее Россию и русских в цветах чертополоха и крапивы и в листьях капусты, изъеденной червями. Собиратель думает, что его «книжечка заставит, быть может, многих пораздумать, а некоторых и стать смиреннее». Полагаю, надежда эта слишком самонадеянна.
Употребив вечер на прочтение этой книги, я должен сказать, что сначала она нравится, вкус автора ярко высказывается во многих местах, сортировка мнений меткая, но потом является утомление, хотя собиратель до самого конца остается человеком со вкусом, знающим цену истинного остроумия и хорошо чующим недостатки русской жизни. Такие достоинства в собирателе, скажу кстати, в подобных книгах необходимы, давая им свой отпечаток и оригинальность. Утомление является не только от самого однообразия мнений, но и от однообразия русской жизни. Да, наша Русь — страна малокультурная, и в этом отношении Петр Великий и граф Закревский одинаково мыслят. Как Петр думал, что «наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не приневолены будут», так и граф Закревский думал спустя более ста лет, и многие думают так и доселе. И от этого-то именно, от этого «приневоливания» русская жизнь, смею думать, и остается малокультурной. Дали бы ей свободу развернуться, не втискивали бы ее в рамки «приневоливания», может, совсем другое было бы. Даже большинство тех несомненно почтенных и значительных людей, мнения которых приводит К. А. Скальковский, иначе бы выражались в более свободном и содержательном и менее ругательном тоне, и, вероятно, более бы дали русской жизни своими способностями. Самое лучшее книжку эту читать понемногу, а не разом. В ней достаточно и рискованных boutades, и достаточно для ее объема правды; но «вся» правда, настоящая и беспристрастная, конечно, не в этих отдельных мыслях, а в художественных произведениях лучших русских писателей. Там не одни мысли, а вся собирательная русская душа, способная на подвиги и творчество, крепкая и талантливая.
Пишу это и думаю: а что если теперь японцы бомбардируют Порт-Артур? Теперь ночь на 9 марта. В день 8 марта назначена была бомбардировка, судя по газетам. Мы все так чутко следим за судьбами этой крепости и сердцем понимаем ее значение…
10(23) марта, №10063
CDLXIX
Завтра 15 марта. В этот день А. Н. Куропаткин, вероятно, будет на передовых линиях. К этому же времени, как слышно, главная масса всего того, что нужно для армии, будет перевезена. Вы читали статью г. Добрышина о том порядке, в каком перевозятся войска. Почти немецкая аккуратность и русская догадливость и сноровка. Все это доказывает, как выросла наша армия. Но пространство, пространство, — вот что остается, но с весенними лучами и оно сократится.
Начинают ожидать битвы на суше. По крайней мере, за границей говорят, что она должна произойти на этих же днях. Произойдет ли, это еще едва ли кому известно. Командующий Маньчжурской армией недаром говорил о терпении. Но несомненно мы подвигаемся к тому, что называется настоящей войною. С морскими битвами мы уже знакомы. Более страшного трудно себе что-нибудь представить. Что переживает человек на этом маленьком пространстве, куда падают неприятельские снаряды, убивая и раня людей, угрожая им смертью не только от выстрелов, но и от погружения в воду той самой искусственной почвы, на которой они помещены. Когда читаешь отчеты, как бы сухи они ни были, невольно за ними видишь человеческую душу, которая побеждает самое страшное — смерть.
Пока наше внимание все еще приковано к морю. Японцы настойчиво повторяются, желая закрыть вход в гавань. Сколько брандеров у них еще заготовлено? Девять нами потоплено.
Разместившись на таком огромном пространстве твердой земли, мы о морской влаге мало думали, и мало на ней воевали во все течение нашей истории. Наконец, она заставила нас подумать и о море и, быть может, «своеобразно» к нему примениться. Мы доселе все подражали. Что строили иностранцы, то строили и мы после них. Наша сухопутная армия — самая сильная в мире по самой своей численности. Все самое совершенное по части машин, т. е. ружей, пушек и прочих орудий мы делали в последнее время. Морские машины сами по себе как бы живые существа: они движутся, дышат, их ранят, они умирают в предсмертных муках, погружаясь на морское дно. Человек на них как будто не главное Они даже его мужеством распоряжаются. Некуда уйти, негде искать спасения. Пусть большая часть экипажа убита или ранена, — останется несколько человек, и чудовищная машина все будет действовать. Она может получить десятки пробоин в надводной части, и будет стоять на воде и посылать снаряды. Г. Кладо, читая лекцию, показывал на экране китайский корабль, который был изранен весь, как решето, и все-таки не погиб, был взят японцами в плен, заделан и теперь находится в японском флоте. Но душа и этих великанов — человек…
Все ли дело в этих великанах? Сила флота измеряется числом разнообразных судов. Конечно, множество деревянных судов против нескольких броненосцев едва ли бы это сделали. Но множество небольших железных судов неужели бы не совладали с несколькими броненосцами? Представьте себе сотню небольших судов, которые бросаются против этих великанов, судов, разумеется, особенно устроенных, с минами, не миноносцев собственно, а что-нибудь похожее на миноносцев и подводные лодки, но стоящих гораздо дешевле, чем миноносцы и подводные лодки теперешних образцов. Это как бы рой пчел, жалящий человека до смерти.
Представьте себе мужество и ловкость тех немногих, которые управляют этими маленькими машинами. Представьте себе, что сделать сотню таких машин стоит три-четыре миллиона, положим, пять миллионов. Эти пять миллионов рублей выходят против ста миллионов, которые стоят десяти броненосцев. Вы думаете, этим Голиафам ничего не сделают маленькие Давиды? Еще Бог знает, не возвратится ли военное морское дело вспять и не бросит ли оно эти громады, когда явится целая стая маленьких судов, способных наносить смертельные раны. Я говорю не о подводных только лодках и не о миноносцах существующих образцов, а о чем-то другом, о будущем, о целой армии маленьких судов, недорого стоящих. Вы пожимаете плечами, а моряк насмешливо читает эти строки. Будущего никто не знает, я увижу его меньше вас, но, может быть, я знаю больше вас прошлое и верю не в эти громады с их двадцатипудовыми снарядами, начиненными разрывными чертями, а во что-то недорогое и убийственное в своем множестве и мужестве. Я верю, что оно будет и что мины Уайтхеда — не последнее слово в морском деле.
Я очень радуюсь вниманию к нашему флоту, которым доселе никто не интересовался и которым теперь интересуется вся Россия, начиная со школьников. Я думаю, что теперь флот наш, а не моряков только. Он уже покрылся «варяжскими» подвигами. Разумею не один подвиг «Варяга», а все подвиги моряков, о которых мы читаем с чувством любви и удивления к русским людям. Слово «варяжский», известное Руси больше тысячи лет, мы можем произносить еще с большею гордостью. Да, флот наш. Конечно, специалисты специалистами и остаются со своими достоинствами знания и с некоторой узкостью взглядов, свойственной специалистам. Но это всегда хорошо, когда дело переходит из области специалистов в область общепонятного, всеобщего интереса и сознания. Тогда и специалисты морского дела чувствуют себя свободнее, смелее, а на высоких постах лучше сознают свою ответственность.
Говорят, Москва остается позади Петербурга относительно флота. Мне говорил об этом человек, в некоторой степени исследовавший на днях степень внимания Москвы к флоту. Там будто мало кто и знает о петербургском движении в пользу флота. Даже между журналистами слабое понятие.
Две лекции г. Кладо в Дворянском собрании, однако, собрали полный зал, и Москва заговорила о флоте. Что такое броненосцы, крейсера, миноносцы, эскадронные миноносцы? — да Москва никогда ничего подобного не видала. Она даже моряков не видала и знает только пароходы, да и то, когда видит их мельком в Нижнем во время ярмарки. Москва — совсем сухопутная особа. «Дайте нам скорее мир», — сказал московский голова князь Голицын А. Н. Куропаткину. Все надежды Москвы на суше. Морской торговли она не ведет, но сухопутную любит до смерти. Она сумела сжечь себя и бросила пламенем прямо в глаза антихристу Наполеону так, что он ослеп. Силу суши и пожара она знает, но силу моря нет и с удивлением узнала, что у нас есть флот по тем прискорбным событиям, которые случились в конце января и которые она никак не могла себе объяснить. Когда она хорошо узнает о флоте, то отзовется основательно. К тому же она любит не то, чтоб ей поклонились, но чтоб ее приветили:
— Здравствуй, думная наша боярыня, свет очей наших, сердце золотое; здравствуй, наша бархатная, наша бриллиантовая, здравствуй!
15 (28) марта, №10068
CDLXX
Как смели японцы начать войну против России? Именно: как они осмелились, как они могли осмелиться?
Вот какой вопрос приходит многим в голову.
Ведь как никак, а Россия двести лет живет европейской жизнью. В это время она развилась в огромную империю; больше ста лет начала иметь академии и университеты, обзавелась искусством, литературою, наукою, просвещением вообще в такой степени, что уже есть у нас традиции европейской культуры. О военной истории России нечего и говорить. Россия воевала гораздо более, чем надо было, и притом нередко просто за понюх табаку, притом скверного. И где только и с кем только она не воевала. От Ботнического залива до Средиземного моря, от «хладных скал» Финляндии до Афганистана, Адрианополя и Италии, от Хивы и Бухары до Парижа. Можно сказать, она исходила пешком с ружьем на плече значительную часть Азии и почти всю Европу. Двухсотлетняя тяжелая военная школа закалила русского воина и дала ему уверенность в непобедимости. Даже разбитый, он не падал духом, и всегда умирал, как герой и христианин. Величайший полководец прошлого века, сам Наполеон хвалил русского солдата.
Откуда же эта уверенность в японце, что он победит русского? «Как Давид победил Голиафа, так мы будем Давидом для России». Так «буквально» говорила японская интеллигенция в газетах. Неужели в самом деле Англия и Америка убедили японца, что он — Давид, а Россия — Голиаф? Не правы ли те, которые говорят, что Англия и Америка, предвидя в Японии опасного соперника себе в торговле, втянули ее в войну с Россией? «Пускай сдуру померяется, а мы погреем руки. Если Россия даже не поколотит ее, то война, во всяком случае, разорит японцев. Да и России достанется на орехи».
Может быть, толки о русской революции соблазнили желтых лилипутов? О падении Кремля под ударами революционеров Европа узнала по телеграмме из Шанхая, а туда эта телеграмма дошла из Токио. Наши передовые «десятники», проповедывающие русскую революцию и распространяющие прокламации по России, лет сорок твердят о русской революции и раз сто назначали ей вернейшие сроки. А революции все нет, как нет. Все она не дается. Да и глупа была бы революция, если б она далась в руки тем, которые ее проповедывают столь безуспешно. Революция — особа неглупая, да притом опытная особа: она хорошо помнит прошлое и умеет и его сравнивать с настоящим, у которого столько усовершенствованного оружия для борьбы с нею. Притом революция нашла себе всемогущую соперницу в эволюции. Я скорей поверю в появление на Крестовском острове на месте кафешантана огнедышащей горы, чем в русскую революцию. Но вот «Times» притворяется, что верит, и очень охотно печатает длиннейшие прокламации российских революционеров, сопровождая их передовыми статьями. Говорю «притворяется, что верит», ибо сегодня, например, «Times» уже заявляет, что революция не в духе русского народа.
Япония, или Жапония, как в забытьи говорят некоторые русские дипломаты, получив конституцию, может быть, подумала, что стала совсем равна с самыми образованными странами Европы, с Англией, Францией, Германией. Конечно, конституция есть вещь, однако не такая, чтобы можно было в некотором роде в один миг вознестись на степень сильной и просвещенной державы.
Может быть, она поверила не только в союз с Англией, но взглянула на этот союз, как равная с Англией? Может быть, она убеждена, что непременно увлечет Китай за собой и потому так ребячески хитро постоянно твердит, что она всеми силами старается удержать Китай в нейтральном положении?
Может быть, г. Курино рисовал сгущенными красками современное состояние России в своих донесениях микадо, уснащая их анекдотами, которые дипломаты всех стран и народов чрезвычайно любят и больше всего ими блещут?
Может быть, она знала, что Россия к войне готовится, хотя не спеша, по своему обыкновению, потому предупредить ее необходимо?
Может быть, она слепо поверила в прочный успех своего неожиданного наскока и могущество своего флота, который сильнее нашей эскадры на Дальнем Востоке и который она создала с упорством и пожертвованиями прямо героическими, достойными подражания?
Думаю, что все эти причины действовали на Японию ободряющим образом, и если хорошенько подумать, то вопрос: как «она осмелилась?» — решается удовлетворительно. Она могла поверить себе, своим и союзным силам и могла вообразить себя Давидом, вооруженным гораздо лучше библейского.
И нечего греха таить: новый Давид набрал каменьев, вложил их в пращу свою, подкрался ночью к врагу и нанес ему такой эффектный удар, что вся Европа, в особенности израильская, возрадовалась и восплескала. И вся Россия почувствовала удар. Думалось, что весь флот погиб и что Порт-Артур не нынче завтра будет в руках японцев. Вся нравственная атмосфера Петербурга была наполнена каким-то удушливым чадом. Многие кричали что-то несуразное, многие плакали. Никогда я не забуду этого дня, в который явилась депеша адмирала Алексеева о разгроме наших броненосцев рядом с депешей графа Ламздорфа, не подозревавшей о том, что война началась. Во всеобщей истории едва ли был когда случай подобного соединения противоположностей.
Но эффект удара проходил. Мало-помалу стали получаться известия о подвигах моряков. Подвиг «Варяга» явился какою-то блистательною победою. Это в самом деле было блистательное мужество, вышедшее навстречу предательству. Другая яркая, другая блистательная победа одержана была русским обществом.
Да, господа, это была победа, этот необычайный подъем патриотизма, вызванного оскорбленным народным чувством, блистательная победа в глазах всего мира, который лгал и смеялся над нашей родиной и ждал, что она рухнет, как колосс на глиняных ногах; это была победа над равнодушием одних, противодействием других, революционными затеями некоторых. Все встало не с гамом, шумом и хвастовством, а с каким-то твердым и несравненным чувством любви к родине; эта любовь закричала во всех сердцах своих сынов и дочерей: «Родина в опасности! Отечеству грозит беда!» Вот что всех соединило и влило благородство и твердость в русские души.
И Россию можно победить, когда ее мужественная армия чувствует за собою мужественную и деятельную Россию, и можно унизить Россию до того, что она станет просить мира, обратится к посредничеству держав, всегда готовых расставить предательские объятия? Да никогда…
Я как-то сказал и притом с оговорками, что только «Россия-победительница может в своем великодушии» отдать Корею под протекторат Японии. И в ответ я получил протестующие письма. Чтоб Россия-победительница могла уступить Корею Японии — да это было бы «преступление перед родиной. Наши потомки прокляли бы тех, кто этому стал бы содействовать. Заставить нас сделать это могут, ибо есть предел всяким силам. Но добровольно в припадке великодушия уступить — это смерть гладиатора, поразившего сотни врагов и нанесшего себе красиво удар прямо в сердце при диких рукоплесканиях кровожадной толпы. Тогда не только не подняться из убогой нищеты, а напротив, придется опуститься в бездну ее. Великодушие победительницы в этом случае — декадентская политика». Письма были не от мужчин только, но даже от женщин. Рана Берлинского конгресса не только не зажила, но открылась, точно у всех есть сознание, что корень этой войны в том же самом, в этом Берлинском конгрессе.
19 марта (1 апреля), №10072
CDLXXI
Что думает Л. Н. Толстой о войне?
За решением этого вопроса сотрудник «Figaro» ездил в Ясную Поляну и допрашивал ее хозяина. Он узнал, что война — ужасное дело, что образованный мир теперь свирепее Чингисхана, что Евангелия не читают, в Бога не верят, что цивилизация создала искусственные потребности, столь же ненужные, как пирамиды, что железные дороги ничего не дали хорошего для жизни. «Я никогда не мог понять, — заметил он, — пользу путешествий; путешествия заставляют только человека терять время и мешают его работе». Желтую расу мало знают, тогда как индусы и китайцы не воинственны» а это говорит в их пользу. Японцы ему напоминают русских при Екатерине II (это и я сказал недавно)» они еще развиваются» и еще неизвестно» может быть» желтая раса даст лучшие плоды» чем белая.
— Но, — сказал он за обедом, — я должен быть искренним. В глубине души я не чувствую себя совершенно свободным от патриотизма. По атавизму, по воспитанию я чувствую в себе патриотизм и прибегаю к разуму, который возвращает меня к мысли о человечестве. Мир развивается чрезвычайно медленно. Надо думать о тех тысячах лет, которые прошли и уничтожили пытки и рабство, и о тех тысячах лет, которые будут после нас. С такой высоты можно надеяться на то, что и войн не будет.
— А если, — возразил француз, — в эти сотни веков вселенная окончит свой круг и человечество исчезнет в эволюции миров?
— Что ж, возможно. Но на это нечего смотреть. Благороден ли, чист ли идеал? Может ли из него выйти добро и правда? Вот что надо спрашивать у себя, и если отвечаешь себе — да, то надо проповедовать неустанно.
Итак, сотни веков еще ждать осуществления благородного идеала…
Француз видел в кабинете графа карту Японии и Кореи, а графиня выдала ему своего мужа совсем. Когда он катался с нею в санях, она сказала ему, что Л.Н. постоянно занят этою войною:
— Он так и сидит над известиями с театра войны. На днях он проехал по снегу двадцать восемь верст верхом в Тулу и обратно, чтоб получить телеграмму о войне.
Очевидно, «разум» не возвращает его к человечеству (в сущности, отдаленному будущему) и, если возвращает, то на минуту, как он возвращает к миру и не таких больших мыслителей, как он.
Толстой ездил в Тулу не за тем, конечно, чтобы узнать о судьбе японской армии. Он горел нетерпением узнать о русской армии. Его русская душа требует известия и беспокоится, а не всечеловеческая. Всечеловеческая холодно рассуждает, придумывает красивые сравнения, яркие по выразительности своей слова, картины неведомого будущего, а русская душа его болит, страдает, умирает и воскресает снова. Всечеловеческая душа гастролирует перед просвещенным миром, как даровитая актриса, жаждущая всесветной славы, как гастролирует актер в роли нового Гамлета, настоящего аристократа, который обращается к французу со словом «Бог» и сейчас же с тончайшей вежливостью, любезно звучащей иронией, оговаривается: «если вы позволите мне это слово «Бог», а если оно стесняет вас, то Все, с большой буквы»[6].
И вот Толстой стоит перед трагической музой, которая развертывает ему живую драму русского народа, вступающего в борьбу, и он открыто проповедует человечество, а сердце заставляет его плакать и радоваться, сидя над телеграммами…
Этот гениальный старец не может не плакать и не радоваться над судьбами своей великой родины. Он — ее сын лучшими частями своей души, и его гений — гений великого народа. Если б этот народ был слабым, если б он терял постоянно перед врагами, а не выигрывал, если б он уступал и умалялся, не было бы ни Пушкина, ни Гоголя, ни Тургенева, ни Достоевского. Предки Льва Николаевича, его деды, его отец и мать жили и питались духом великого народа, его славою и честью, они пережили патриотическое движение 1812 года и всю наполеоновскую эпопею. Может быть — кто это знает? — сам Лев Николаевич — дитя этого подъема русских сил…
Когда мыслитель Толстой уходит в пространство нерешенного, непонятного и неведомого, он ступает тяжелыми шагами и речь его не трогает ту русскую душу, в которой великий романист Толстой читает так превосходно, и в любви мужчины к женщине, и в религиозном чувстве, и в любви к ближнему, и в любви к родине, к России, и к ее вековой славе…
Автор «Войны и мира» разве не патриот, разве не вдохновенный учитель любви к родине? Вся эта бесподобная книга полна патриотизма и гимна русскому народу, полна военных соображений и критики, военной проницательности, даже любви к поэзии боя и военной славы, которая кипела в русской душе художника. И все трусливое, банально рассуждающее, дипломатически бездушное, светски беспутное и наглое, лишенное народного духа и патриотизма, — все это бичуется им в образах подлых, безжалостных, рабски льстивых и предательских. Он не пощадил даже Сперанского, потому что в этой холодной душе прочел качества выскочки и карьериста. Но все благородное, самоотверженное в страданиях, героизме и терпении, все патриотическое, наивно ли оно или сознательно, нашло в нем своего поэта и утвердило русский патриотизм на многие века. Русский мир так велик, что в нем почти все религии и все племена земли, и этого довольно. И поэт-художник победит мыслителя, русская гениальная душа — ту часть души, которая рассуждает о человечестве.
28 марта (10 апреля), №10081.
CDLXXII
Бог испытует нас несчастиями, одно другого тяжелее и ужаснее.
Иного названия, как страшное, невыразимое несчастие, нет для того горя, которое разразилось вчера над Россией. Это — не бой с неприятелем, не поражение, это никогда не бывалое во всемирной истории несчастие, никогда, с тех пор, как существуют флоты. Чтобы командующий флотом вместе с кораблем, на котором он был, вместе со своим штабом, с этими избранными морскими офицерами, со всем экипажем, который состоял не менее, чем из шестисот человек, погиб в одну минуту — этого никогда не бывало.
Лаконична была телеграмма адмирала Алексеева о гибели нескольких наших судов в ночь с 26 на 27 января. Еще лаконичнее вчерашняя первая телеграмма: «Броненосец "Петропавловск"» наскочил на мину, взорвался, опрокинулся. Наша эскадра под Золотой горой, японская приближается». Едва ли какое другое несчастие можно определить так кратко и вместе почувствовать за ним такую сложную и страшную картину гибели громадного судна, которое погружается носом в глубину, опрокидывается, вздымая волны и еще работая своими машинами, опрокидывается с матчами, трубами, пушками, сбрасывая и уничтожая людей в морской пучине, в каютах, в трюме, среди адского грома, шума и треска, криков и безмолвной безнадежности.
Что может быть ужаснее этих минут, пережитых несчастными командующим, офицерами и матросами! У кого найдутся слова для описания этой гибели, слова, которые были бы на высоте этой морской трагедии, в которой каким-то чудом спаслась только малая часть экипажа.
Сколько погибших жизней, погибших подвигов, благородства, мужества и самоотвержения, которыми могли быть полны эти исчезнувшие жизни, сколько погибших надежд! А надеждами все мы живем и отечество свое любим не за то только, что оно дает нам, но и за то, что оно обещает, за то, что оно питает нас надеждами. Чем выше оно среди народов мира, чем оно обильнее духом просвещения и силою энергии, тем лучше и бодрее себя чувствуют граждане, в войне они или в мире.
Я помню, как 28 января известный адмирал говорил: «Морская война кончена». Адмирал Рожественский, если верить французскому журналисту из «Petit Parisien», который имел с ним на этих днях свидание, сказал, что «Макаров находится в плену у того положения вещей, которое не им создано и которое он не в силах изменить. Прекрасный моряк, искусный, отважный начальник, он прикован к Порт-Артуру. Он не мог атаковать неприятеля. Это надо было сделать раньше, надо было или победить или умереть, даже рискуя потерею флота, но надо было нанести удар в самое сердце японской власти на море». В сущности, это то же самое, что говорил другой адмирал, т. е. что морской войне конец. С этим можно еще спорить. Макарова упрекали, что он рискует флотом. Но как упрекать храброго, душа которого жаждала битвы, как и весь экипаж, офицеры и матросы. Он погиб, этот мужественный человек, но потомство будет помнить его заслуги и его отвагу, как и его ужасную смерть.
Вчера не только плакали, но и рыдали. Я не говорю о родных и близких погибших. Их слез не пересчитаешь. Я говорю просто о русских людях, которые глубоко чувствуют и не могут выносить таких страшных потерь, которым не находишь объяснения в телеграммах и которые вносят в угнетенные души тем более смущения.
Я набрасывал эти строки вечером. Передо мною новая телеграмма «Правительственного Вестника». Она и сегодня ничего не объясняет, но прибавила, что миноносец «Страшный» погиб в бою и что «при перестроении эскадры броненосец «Победа» получил удар миной в середину правого борта». Чьи же это мины? Неприятельские, которые он всюду раскидал, или наши, которые мы ставили для заграждения порта? Если это наши, то мы взорвали, так сказать, собственными руками несколько наших судов и нанесли себе столько поражений, сколько не нанес нам неприятель со всем своим флотом. Ведь это самоубийство, невольное самоубийство мужественного и благородного человека, который не привык еще владеть револьвером и нечаянно выстрелил в себя. Я этому не могу верить, не могу ни за что. Такое объяснение мне кажется невозможным.
Если это были неприятельские мины, то какие? Не были ли это мины подводных лодок, которыми успели уже обзавестись японцы? Были газетные известия, что Япония купила в Америке несколько лодок. Они могли быть доставлены быстро и пущены в ход. Броненосец «Петропавловск» погиб, когда он «маневрировал на порт-артурском рейде, в виду неприятельского флота», как говорит телеграмма. Японский флот мог привезти лодки и спустить их в море и издали наблюдать за их действием. Для этого он подходил к Порт-Артуру. Когда вчера я высказывал это мнение в обществе, где были и моряки, мне возражали, что невозможно, чтобы это были подводные лодки и приводили резоны, что подводная лодка не может пустить мину в движущийся корабль. А если может? Ведь действия этих истребителей еще недостаточно исследованы. Неужели же это наши мины? — спрашивал я специалистов. Они отвечали: нельзя сказать ничего утвердительного, пока не получим подробных известий. В самом деле, телеграммы так неясны и кратки, что мы не можем даже отвечать на вопрос: был ли бой перед гибелью «Петропавловска» или после него, хотя «Страшный» погиб в бою, «отделившись от отряда за ненастною погодою». По телеграмме князя Ухтомского выходит, что были «посланы вчера миноносцы в ночную экспедицию». Хотя телеграмма от 1 апреля, но это вчера очевидно относится к ночи с 30 на 31 марта. Значит, утром, когда погиб «Петропавловск», боя не было. По крайней мере, о нем ни слова в официальных телеграммах. И я смею думать, что не наши мины тут виною, а неприятельские и, быть может, с подводных лодок, и ужасное их действие приходится испытать нашему флоту, в котором были авторитетные противники этих истребителей, говорившие не без юмора: «Нам нужно сначала выучиться ходить над водою, а под водою когда-нибудь после». Если я ошибаюсь в своем объяснении, то передаю ошибку многих, которые, как и я, не могут себе представить столько случайностей. Неужели все это случайность, что именно флагманский корабль «Петропавловск» получил удар миною; неужели случайность, что при перестроении эскадры именно «Победа», прекрасный броненосец, получил удар миною «в правый борт корабля», т. е. не наткнулся, не «задел мину» своей подводной частью — она была как бы брошена в него.
Во всяком случае, я не понимаю краткости телеграмм, кроме знаменитого извещения Суворова: «Измаил у ног вашего величества». Я говорил об этой краткости после злополучной январской ночи, когда наши броненосцы были ужасно поражены. И новое несчастие приносится такими же краткими телеграммами.
Разве родина-мать не крепка и не сильна, чтоб встретить всякое известие, как бы оно горько ни было, во всей его полноте и причинности? Разве у матери-родины нервы такие, как у родной матери, у жены, у невесты, которых приготовляют к совершившемуся несчастию медленно, постепенно, боясь убить известием? Родина смотрит выше и дальше, она требует жертв и умеет приносить жертвы своими сынами и своим достоянием. Она откликнулась всем сердцем и всем разумом на призыв своего государя, печаль которого мы все глубоко чувствуем, как он чувствует печаль своей родины. Она стоит перед ним твердая и мужественная, готовая постоять за русскую честь до конца. Кто не знает, что большое несчастие поднимает благородные души на такую высоту, на какую только способен человек подняться. Испытание, посланное нам, дошло до своего предела и раскроет всю силу русской души, всю русскую энергию — эту великую добродетель народов.
2(15) апреля, №10086
CDLXXIII
— Ваше предположение о том, что мины подводных лодок погубили «Петропавловск» и ранили «Победу», могло бы быть вероятным, если б этому не противоречили японские телеграммы, ничего не говорящие о своих лодках и свидетельствующие свое сочувствие покойному адмиралу.
Так мне говорили сегодня.
По моему мнению, японцы имеют все основания скрывать, что у них есть подводные лодки. Я видел сегодня одного англичанина, который говорил мне, что Япония еще в июле прошлого года заказала две подводные лодки в Англии. Лодки эти были доставлены в Японию после первой бомбардировки Порт-Артура и, кто знает, кто командовал ими 31 марта?
Я говорил, что по вчерашним официальным телеграммам невозможно даже ответить на вопрос: был ли бой утром 31 марта или его не было? Но по агентским телеграммам, бой несомненно происходил, сначала между миноносцами, потом между крепостью и японской эскадрой. Но бой слабый. Японские суда то подходили к Порт-Артуру, то удалялись от него, точно желали выманить нашу эскадру на рейд. Когда она действительно вышла, неприятель стал удаляться, а наша эскадра бросилась ему вслед и преследовала его до тех пор, пока перед нею не открылись значительные силы неприятеля, около шестнадцати больших судов. Тогда Макаров повернул назад к рейду и «стал в боевой порядок для встречи неприятеля. В это время, около десяти часов утра, под броненосцем «Петропавловск» произошел взрыв». Так говорит сегодня телеграмма Российского агентства из Порт-Артура. Из нее видно, что «Петропавловск» стоял, а не шел. Вспомним, что «Победа» получила удар миною в то время, когда эскадра «перестраивалась», — это говорит князь Ухтомский в своей телеграмме. Очевидно, эскадра перестраивалась после гибели «Петропавловска» и даже вследствие этой гибели, и во время этого перестроения получила удар миною, пущенною подводной же лодкой.
Мне думается, что японские суда, именно «Ниссин» и «Кассуга», которые купили японцы, а мы не купили, привели с собою две подводные лодки. По словам корреспондента «Times» именно эти суда подходили всего ближе к крепости. Когда лодки исчезли под водою, японская эскадра стала удаляться, ведя за собою русскую. В это время подводные лодки могли подойти к крепости и выбрать себе удобное место. Эти лодки знали намерение японской эскадры выманить русскую эскадру подальше, показать ей затем большие силы, с которыми сражаться невозможно, и неизбежное возвращение русской эскадры.
Когда они выстроились к бою, подводные лодки подошли и сделали свое страшное дело несколькими минами.
Это объяснение мне кажется вероятнее неосторожности и неосмотрительности наших судов, которые попадают на собственные или неприятельские разбросанные мины. Во всю свою кампанию против нашего флота, японцы неизменно следовали системе хитрости и разных выдумок вроде плотов с мачтами и огнями, которые они выставляли против крепости ночью и в которые наши батареи стреляли до утра, тратя снаряды, пока не убеждались в обмане. Раз был такой случай, что японский миноносец пробрался к самым скалам и стал стрелять в море. Крепость тоже стала направлять выстрелы в море, пока не убедилась в присутствии японского миноносца, которому удалось ускользнуть.
Во все время их внимание направлено было преимущественно на то, чтобы истребить флот, и они достигали этого успешно. Как же им не попробовать над нашим флотом подводных лодок и как могли они не заказать их, когда не останавливались ни перед какими жертвами на флот и когда у них столько помощников и в Англии, и в Америке…
Упомяну о странном слухе, который настойчиво ходил по Петербургу во вторник на Пасхе. Говорили, что Макаров выехал на каком-то корабле далеко в море, был окружен японской эскадрой и взят в плен. Другой подобный же слух разнился с этим только тем, что плен заменяли смертью. Меня этот слух очень встревожил, и я поехал наводить справки.
На другой день, когда получено было известие о гибели «Петропавловска», я встретился с теми же лицами, с которыми говорил накануне о зловещем слухе. Откуда подобные слухи рождаются и почему они предсказывают? Не потому ли, что в воздухе звучит неумолкаемо какая-то беспокойная струна то слабее, то сильнее. Она звучит так надоедливо, что ее не заспишь ночью, и она будит своим звоном, точно призывая всех ко вниманию самому прилежному и неустанному. Не есть ли это напряжение электрической силы русского общества? Слова передаются даже не по проволоке на дальние расстояния, и их надо только собрать и уловить особым прибором, — почему не может передаваться таким же образом напряжение чувства и тревоги? Если там, на Дальнем Востоке, столько напряженного чувства и мысли и речи, то нельзя ли предположить, что такой нервный приемник, как Петербург, может откликаться тревогой мысли на тревогу мысли, напряжение чувства ловить своим напряжением. Разумеется, этому содействуют ежедневные телеграммы и возбужденная ими человеческая природа видит видения необъяснимые и загадочные.
Действительность гораздо яснее, несмотря на свои загадки.
3 (16) апреля, №10087
CDLXXIV
Обратили ли вы внимание на интересный рассказ капитана английского флота Ли, который вместе с капитаном Пейнтером проводили из Генуи в Японию купленные японцами у Аргентины два известные крейсера «Ниссин» и «Кассугу?» Рассказ этот помещен у нас вчера. Капитаны, конечно, подали в отставку, взявшись за такое дело, и совершили его блистательно, как и следовало привычным английским морякам.
— «Я думаю, что это первый случай в истории, что сполна вооруженный крейсер перешел в руки воюющей державы через девять дней после объявления войны», — так заключает свой рассказ капитан Ли.
В Порт-Саиде капитан Ли встретил русский военный корабль «Аврору» и признается: «Что случилось бы с «Ниссином», если б на «Авроре» был «я, сказать не могу — мало ли какие непредвиденные несчастия случаются на море»… В Суэце он встретил «Ослябя» и «Дмитрий Донской» и опять признался — «стоило бы только повернуться неловко этим судам и «Ниссин» получил бы аварию и ему пришлось бы чиниться. А извиниться — ничего не стоит, сославшись на какого-нибудь «мерзавца рулевого», который не так повернул колесо руля».
Вот каков капитан Ли. Будь он на месте русских моряков, он если бы не потопил «Ниссин», то изуродовал бы его так, что он и доселе бы чинился.
Я очень далек от того, чтоб винить русских моряков. Война не была еще объявлена. Я указываю на эти признания английского капитана, как на характеристику «коварных мореплавателей», с которой необходимо считаться и… клин выгонять клином.
«И в самом деле, скажете вы: — Это нагло; это слова морского разбойника, и если этим наглецом и разбойником является капитан английского флота, то тем хуже для Англии».
Хуже ли?
А вы, очевидно, вежливые люди. И если б вы прониклись еще изучением международного права, то ваше негодование было бы гораздо сильнее, ибо проникновенность международным правом ставит русского человека на такую общечеловеческую высоту, что за правду он готов идти если не в огонь, то к огню камина в спокойное кресло и беззаботно нагревать своими мыслями Европу, слишком холодную к правде…
А образованная Европа, во главе с Англией, считает негодование — в медный грош, вежливые дипломатические фразы — в копейку, но зато ценит высоко ум, талант и энергию и стояние за родные интересы во что бы то ни стало. Она считает, нимало не смущаясь, свои родные интересы обязательными для всего человечества. Стояние же за международные и общечеловеческие интересы русских людей доказывает только, что эти русские люди, игнорируя родные интересы, показывают себя нулями в общечеловечестве и потому и относятся к нему, как крепостные к своему барину…
Хорошо, что мы не купили у Аргентины прекрасные крейсеры. Их непременно повредили бы на ходу англичане или поймали японцы. А «русские думали о более важных вещах», — с насмешкою заявляет капитан Ли и венчает свой рассказ загадочной фразой:
— «Еще много удивительных вещей делается на свете».
Еще бы! Кто ж в этом сомневается? Я, например, не сомневаюсь, что и подводные лодки привез в Японию капитан Ли или иной англичанин его же закала.
Сегодня мне читали письмо покойного доктора Волковича, погибшего на «Петропавловске». Письмо от 6 марта. В нем он пишет, что Макаров и его штаб говорили, что у японцев есть подводные лодки…
Наши минами Порт-Артур не заграждали.
4 (17) апреля, №10088
CDLXXV
Сегодня «Гражданин» указал на три факта, осуждая каждый из них более или менее резко. Все три факта, однако, заслуживают внимания.
Во-первых, он обвиняет петербургское бюро, заведующее разрешением телеграмм к печати в том, что оно телеграмму о гибели «Петропавловска», полученную в Петербурге будто бы в 8 часов утра 31 марта, разрешило обнародовать только после 6 часов вечера, между тем как Петербург знал уже о несчастий с самого утра и страшно волновался. Думаю, что это произошло отчасти от сбивчивости телеграмм, приходивших одна за другою: в первой из них даже не было упомянуто о смерти Макарова, во второй сказано предположительно («адмирал Макаров по-видимому погиб»), в третьей и четвертой, все четыре от контр-адмирала князя Ухтомского, о Макарове нет уже ни одного слова. Затем следуют две телеграммы из Мукдена от наместника генерал-адъютанта Алексеева. В первой из них наместник и передал печальное известие о смерти Макарова, полученное им из Порт-Артура от генерал-лейтенанта Стесселя. Во второй телеграмме наместник прибавил: «от командующего флотом до отправления настоящей депеши никаких донесений не получалось». «Гражданин» не принимает в соображение, что несчастие было не только ужасное, но небывалое в летописях мира и сообщать его по клочкам короткими, неопределенными телеграммами едва ли было возможно. И самое бюро, кроме этого, могло находиться в условиях, нам неизвестных.
Теперь мое соображение. Знаете ли, что всего необъяснимее? Это то, что адмирал Того относит гибель «Петропавловска» к утру вторника 30 марта, к 10 ч. 32 мин., а все наши известия официальные — к утру середы 31 марта?! Кто же прав? Ошибиться на целые сутки разве возможно? Я вспоминаю о том, что уже рассказывал вам, именно, что именно во вторник утром, 30 марта, я слышал, что Макаров взят в плен или он умер.
Наш корреспондент определенно говорит, что он четыре ночи провел на Золотой горе, на 28, 29, 30 и 31, и гибель «Петропавловска» относит к 9 ч. 40 мин. утра 31-го, т. е. когда у нас было около 4 час. утра. С показанием адмирала Того он разнится почти на час, но эту разницу надо отнести к часам по меридиану Токио.
Не агентство ли ошиблось? Пускай справится.
Я получил сейчас письмо от одного инженера по поводу «лаконичности» официальных телеграмм, о которой много было говорено. Выписываю следующие строки:
«Неужели нельзя теперь же выяснить нижеследующие вопросы, ответы на которые все так мучительно ждут.
1) Положительно ли известно, что все считающиеся погибшими на «Петропавловске» действительно погибли или гибель их установлена лишь на основании вероятности? Не могли ли некоторые из считающихся погибшими спастись, например, благодаря захвату их японцами или китайцами?
2) Если факт гибели почти всего состава «Петропавловска», т. е. за исключением уже официально опубликованных лиц, установлен окончательно, то по каким именно соображениям и данным? Отчего в таком случае гибель капельмейстера Пресса, как пишут, еще не установлена?
3) Предполагается ли извлечь «Петропавловск» из воды и возможно ли это вообще?
P.S. Едва успел окончить это письмо, как получил известие, вполне подтверждающее высказанную в нем мысль. Жена полковника А. П. Агапеева, считающегося по официальным данным, погибшим, только что получила телеграмму из Харбина от брата А.П., что последний жив, но тяжело ранен. Телеграмма сдана в Харбине 3 апреля и получена в СПб сегодня же. Представьте себе душевное состояние всей семьи А. П. Агапеева».
Необходимо и это заявление принять во внимание, хотя война есть война, а в подобных несчастиях невозможно собрать все сведения с тою быстротой, с какой это желалось бы. Мы знаем только о нескольких трупах, вынутых из воды. Труп Макарова не найден. Есть предположение, что адмирал находился в кают-компании. Великий князь Кирилл Владимирович, таким чудом избегнувший смерти, мог бы сообщить некоторые подробности о Макарове в момент взрыва.
В заключение два слова о двух других фактах, о которых говорит «Гражданин». Один из них похож на глупую сплетню, на сатирическую выходку против «отряда всероссийского дворянства», но тем не менее сущность этого должна быть выяснена немедленно. Даже если это неприличная выходка, ее нельзя пройти молчанием. Дело вот в чем. Князю Мещерскому говорили, «будто распорядители этого санитарного поезда всероссийского дворянства, по требованию главного врача, приказали всем сестрам милосердия снять свои платья сестер милосердия и облечься в городские одеяния. Прибавляют, но этому я верить не могу, что сие приказание дано для того, чтобы принять в число сестер одну еврейку и избавить ее от необходимости носить Красный Крест».
Я не верю ни тому, ни другому распоряжению, хотя первое в духе Петра Великого, который любил переодеванье, и теперь могут явиться водевильные Петры. Я уверен, кроме того, что всякая еврейка, пожелавшая вступить в сестры милосердия, охотно подчинится форме, которая для всех обязательна и которая уважается и нашими друзьями и врагами одинаково, без различия вероисповеданий. Возможность подобного случая так же возмутительно нелепа, как возмутительно нелепо было бы совершить обрезание над всеми русскими врачами какого-нибудь санитарного отряда в угоду врачу-еврею, который изъявил желание ехать на войну и вступить в этот отряд.
Третий факт относится к нашему французскому послу, который в разговоре с корреспондентом газеты «Temps» назвал франко-английское соглашение для России «драгоценным» и прибавил, что эти чувства о драгоценности «единодушно разделяются в Петербурге». Князь Мещерский отрицает право у нашего посла говорить с корреспондентами и в особенности говорить о «единодушии в Петербурге» по поводу события, о котором лучше было бы молчать в настоящую минуту. Не оспаривая этого взгляда, я, однако, позволю себе заступиться за нашего парижского посла, хотя в этой заступчивости он, конечно, нимало не нуждается. Но в минуты общей печали и нервного возбуждения мне приятно явиться маленьким адвокатом больших людей. Естественно, что г. Нелидов говорил о «единодушии в Петербурге» только дипломатического ведомства, «единодушие» которого ему было без сомнения хорошо известно. Общественное мнение Петербурга послу не могло быть известно, хотя случалось, что оно бывало вернее и лучше понимало положение вещей, чем «единодушие» дипломатического ведомства. Разница между этими двумя «единодушиями» большая. «Единодушие» общественного мнения может ошибаться, может быть односторонним, но от этого никому не бывает вреда. Поговорят, покритикуют и замолчат. Но если «единодушие» дипломатического ведомства ошибается, то это уже не разговор, не критика, а «дело», факты, влияющие на историю родины так или иначе…
Лично я не могу себе выяснить ни выгод, ни невыгод для России англо-французского соглашения. А опираться на свое чувство, которое говорит, что это соглашение невыгодно для России и не заключает в себе ничего для нас «драгоценного», считаю опрометчивым, хотя бы в пользу этого чувства и говорило то обстоятельство, что в Токио японцы радуются этому соглашению и объясняют его в свою пользу. Таким образом, выгоды России и выгоды Японии совершенно солидарны. Около Франции — Россия, около Англии — Япония и четверный союз готов — quadruple alliance…
5(18) апреля, 10089
CDLXXVI
Мне хотелось сказать об одной депеше из Порт-Артура корреспондента Торгово-телеграфного агентства, от 1 апреля. Депеша начинается так:
«Петропавловск» погиб… Обидная, злая неудача, случайность, которая не знаменует несчастия!»
Во-первых, это довольно безграмотно выражено, во-вторых, бездушно и формально понято самое «несчастие».
Далее следует: «Тихоокеанский флот по-прежнему остается грозной силой, уменьшенной лишь боевой единицей».
Я готов думать, что это сочинено в редакции Торгового агентства, а не в Порт-Артуре, ибо не могу себе представить, чтобы там, где случился этот ужас и это горе, нашелся такой равнодушный человек, который мог бы написать строки, полные холодного чувства, прикрытого якобы патриотическими фразами, выраженными таким якобы русским языком:
«Плоть и кровь наша скорее ляжет костьми, нежели мы дадим врагу торжествовать». Говорится: «мы ляжем костьми», а такого выражения, чтобы «плоть и кровь ложилась», я не встречал во всю мою жизнь. Искреннее чувство говорит просто, а нет слов, оно плачет или молчит, но лицемерное ищет как бы покудрявее и забористее сказать и выходят фразы для сборника курьезов…
Исчезла только «боевая единица».
Гибель большого броненосца вместе с адмиралом, одним из талантливейших наших людей, вместе с другими талантливыми русскими людьми, офицерами, русским знаменитым художником и сотнями матросов — это не несчастие, это только — исчезновение из флота «боевой единицы». Флот остается таким же «грозным», но уменьшенным только «единицей».
И эта белиберда напечатана не в одной какой газете, а решительно во всех русских газетах, как телеграмма из Порт-Артура, куда тянутся теперь глаза всех читателей. Г. Миллер, директор агентства или его порт-артурский корреспондент стремятся к литературности, что ли? 2 апреля телеграмма того же агентства, заимствуя путаные подробности из «Нового Края» о битве 31 марта, вещала, что «Петропавловск» погиб и… на его месте плескались волны». Это прямо из бульварного романа. Разве корреспондент (мнимый?) видел, как плескались волны? Он просто сочинял о том, чего не видел, не испытал и если это действительно корреспондент, то он даже на самом месте несчастия не почувствовал того, что почувствовал весь образованный мир и вся Россия вдали от несчастия.
Русскому обществу необходимы с места верные и подробные известия, оно жаждет их, а телеграфные агентства, пользующиеся всевозможными привилегиями и казенными пособиями, дают ему какую-то сомнительную литературу и увещания, изложенные на сомнительном русском языке.
Флот «уменьшился лишь боевой единицей»…
Да разве, господа телеграфные литераторы, единицы флота так же равны между собою, как пуговицы на ваших сюртуках? Разве их так же легко заменить, как эти пуговицы? Да если бы они были даже равны, разве не несчастие потеря каждой флотской единицы? Сознавать несчастие не значит не любить родину, не значит не верить в русскую силу. Сознание — великое дело, как в счастии, так и в несчастий. Оно просветляет умы, оно научает, оно верно указывает на ошибки, на повелительность их исправления, на халатность одних, равнодушие других, на упорство всезнаек и всеуказчиков, которые не хотели верить даже аксиомам в техническом деле, как выразился раз покойный Макаров в «Морском Сборнике» по поводу того же «Петропавловска», на котором он погиб. Сознание укрепляет патриотизм, а не разрушает его.
Но мимо! Это дело истории…
Указываю вам на письмо в редакцию о случае с Кроуном, командиром «Владимира Мономаха», и с англичанином, который хотел потопить этот наш крейсер. Он не дал его потопить решительным и патриотическим образом своих действий, но дипломатия потопила самого Кроуна за это, всеобщая дипломатия.
Это — история, хотя и довольно давняя: она отвечает капитану Ли, о котором я писал третьего дня…
Сын этого Кроуна погиб на «Петропавловске».
6(19) апреля, №10090
CDLXXVII
У наших моряков мужества хоть отбавляй. Русские люди всегда умели умирать и доказывают это и теперь блистательно, блистательнее, чем наши противники. Сии последние как будто даже трусят. Смотрите, в самом деле, как они всегда далеко стоят от наших береговых батарей, как избегали постоянно боя, как стараются в этой чисто «машинной» войне быть в количестве больших боевых единиц. Они нисколько не стыдятся бороться вшестером против двух, как с «Варягом» и «Корейцем». Наши миноносцы действовали доселе как-то в одиночку. Мало ли их, что ли, у нас, или они сгорали желанием показать, что они мужественны и готовы умереть. Так было со «Стерегущим», так было со «Страшным» и с другими. Японцы умели выслеживать это одиночество или заманить хитростью отважных и сейчас же нападали вчетвером или впятером, окружали и губили. Всюду они стараются как можно менее рисковать, чтоб повернее нанести удар.
Только раз они рискнули, именно в первую ночь, когда они открыли войну. Но и тут они употребили столько лукавства, столько обмана и, пожалуй, если это вас может утешить, предательства, что дипломаты были совсем обморочены. Японцы верно рассчитали, что наша эскадра находится на мирном положении, что она даже едва ли знает, что произошел разрыв между Россией и Японией, что во всяком случае ее можно застать врасплох или напасть «внезапно», как выразился в первой своей телеграмме генерал-адъютант Алексеев. Поранив несколько наших броненосцев, японцы в тот же день стали бомбардировать крепость. Но, убедившись, что Порт-Артур проснулся, сейчас же ушли. И потом снова и снова бомбардировки и хитрости, вроде брандеров, нервили наших моряков, выводили их из всякой возможности спокойствия и заставляли рисковать своей жизнью и жизнью судов. Сам адмирал проводит ночь под Пасху на сторожевом судне. Из этого видно, какое было напряжение внимания. И последний момент драмы — опять не храбрость, а хитрость, ловкость и машина.
Вот с каким врагом мы ведем войну на море, и, естественно нам необходимо к нему применяться.
Наши враги берегли не столько себя, сколько почву, на которой стояли и с которою были связаны эти машины, эти суда. Нет судов, нет почвы, нет и надлежащей силы. Море — не земля, о которой не надо беспокоиться и беречь, потому что она всегда под ногами. На море — земля называется боевыми судами. И эта земля не только ограничена, но она еще может быть взорвана и уничтожена. Под этой зыбкой почвой судов могут очутиться взрывчатые мины, глубоко поставленные в море на известной глубине, но так, что судно не может видеть их, но может задеть и взорваться. Море как будто представляет собою невидимые вулканы, которые поражают военно-морскую почву, и втягивают ее на дно моря.
Вот почему так действуют на наше воображение морские несчастия и битвы. Корабль и вместе с ним тысяча человек в одну минуту идут ко дну, не нанося неприятелю никакого вреда. Между тем потеря тысячи человек на суше возможна только тогда, когда и неприятель непременно теряет, победил он или нет. Никакая битва не может быть без потерь обеих сторон.
На море мы сражаемся неравным оружием. У неприятеля и судов и опытности больше. Он вырос на море и еще недавно вел морскую войну в этих же самых местах, которые ему знакомы во всех мельчайших подробностях.
Положение Макарова было трудное, когда он приехал в Порт-Артур. Он поднял дух флота, он оживил его своей смелостью, бодростью, успешной защитою и надеждами.
Положение нового командующего, Н. И. Скрыдлова, — еще труднее, после события 31 марта.
Он обязан хранить оставшийся флот, как зеницу своего ока и восполнить материальную и умственную убыль его насколько возможно. Он должен повторить вслед за А. Н. Куропаткиным, что надо терпение и терпение. Предстоит много работы, много энергии, много соображений, которые привести в исполнение будет стоить большого труда. Человек большого таланта и мужества, прекрасно знакомый с Дальним Востоком, готовый умереть, как все, но умирать именно и не надо. Надо жить и работать с удвоенной энергией, возбуждая ее в других и не считаясь с нашим нетерпением; работать независимо, с спокойствием ответственного вождя, который должен думать только о службе, возложенной на него государем и о защите своей родины.
Еще это он исполнит.
7(20) апреля, №10091
CDLXXVIII
Князь Мещерский пишет сегодня в «Гражданине»:
«Г. Суворин выражает сомнение по поводу приведенного мною в одном из последних «Дневников» рассказа об отряде всероссийского дворянства, где по требованию старшего доктора последовало приказание всем сестрам милосердия снять свои платья с Красным Крестом.
Напрасно усомнился г. Суворин. Теперь выяснилось, что этот рассказ совершенно верен, и ничего в нем нет преувеличенного, даже эпизод о еврейке верен. Еврейка, по требованию главного доктора, принята в число сестер милосердия отряда всероссийского дворянства, невзирая на то, что она, по уставу, принята быть не может, и действительно вместе с сим потребовали, чтобы сестры Красного Креста сияли с себя одеяние своего звания».
И все-таки я этому верить не могу, ибо поверить этому значило бы поверить следующим соображениям, которые всякому человеку могут придти на ум.
А именно:
«Всероссийское дворянство» — миф, ибо оно трактуется главным доктором, как величина ничтожная, а «сестры милосердия», — служанки главного доктора, с которыми он может делать все, что угодно. Очевидно, главный доктор — нечто вроде великого человека на малые дела и скандалы. Очевидно, он — дамский кавалер из ряда вон и ради одной еврейки переодевает всех христианок, чтобы они не оскорбляли очей почему-то ему любезной еврейки, которая распоряжается «всероссийским дворянством»[7].
И не это еще скажут, а более.
А именно:
Если для этой еврейки нарушен устав Красного Креста, то надо предполагать, что она представляет собою величину необыкновенную, выходящую из ряда вон, такую величину, что без нее самое существование санитарного отряда «всероссийского дворянства» является делом сомнительным и даже рискованным. Мало ли какие правила уставов и даже законов не нарушаются для исключительных явлений, для лиц, выходящих из ряда вон. Для Жанны д’Арк, знаменитой Орлеанской девственницы, нарушены были все предания и законы французской армии. Этой молодой девушке даны были совершенно исключительные права, дано было особенное знамя, ей подчинена была часть королевской армии, как стратегу, и спустя пять с половиною столетий после ее смерти русский талантливый генерал Драгомиров написал разбор ее военных действий и признал за нею талант стратега. Для еврейской Есфири царь Артаксеркс позволил евреям истребить пятнадцать тысяч своих верноподданных, и евреи так были ему благодарны, что установили особый праздник Пурим, который и доселе празднуется «с радостию и веселием», как выражается «Книга Есфирь». Для другой Есфири польский король Казимир, соперничая с Артаксерксом, напустил в свое царство евреев, и этот праздник дает о себе знать еще доселе.
Вообще ради женщины делалось мужчинами и великое, и глупое, и преступное, гораздо больше глупого и преступного, чем великого. Это — исторические иллюстрации, так или иначе идущие к делу.
Теперь требуется знать, чем же себя заявила неизвестная еврейка, кому и почему она понравилась, если для нее не только нарушается устав, обусловливающий прием в сестры милосердия, но и сии последние переодеваются ради еврейки, очевидно не пожелавшей надеть Красного Креста? Я продолжаю думать об этой еврейке лучше, ибо Красный Крест утвержден Женевской конвенцией и признается всем миром, не исключая и японцев. Порядочная еврейка или не пошла бы в сестры милосердия, или, если бы пошла, то подчинилась бы форме.
Все это так просто, что и говорить бы не стоило. Не говоря о дворянстве, которое действовало бесспорно бескорыстно и благородно, учреждая отряд, но и главный его доктор не мог не понимать высокой цели и не мог пятнать ее какой-то самодурной политически-религиозной выходкой в пользу любезной ему еврейки.
Вот почему я этому не верю и не поверю до тех пор, пока не будет назван главный доктор, и пока не подтвердит этого случая дворянство, образовавшее санитарный отряд, с указанием на причины этого глупейшего, если он совершен, поступка своего главного врача.
9 (22) апреля, №10093
CDLXXIX
Еще не прошло ужасное впечатление от гибели «Петропавловска», но прошел месяц март. Этот месяц бурного равноденствия известен идами марта, когда был убит Юлий Цезарь, известен первым числом своим, когда убит был император Александр II и теперь отмечено несчастием и его последнее число, 31-е, смертью Макарова и других дорогих нам людей: офицеров, матросов и художника.
Этот несчастный месяц прошел. В первых числах апреля государь назначил командующим эскадрой Тихого океана Н. И. Скрыдлова, который родился 1 апреля (1844 года). Апрель — уже настоящая весна даже у нас в Петербурге. Дай Бог Н. И. Скрыдлову совершить все возможное в человеческих силах и дай Бог, чтоб с этой весною счастье повернулось к нам лицом.
Пора отдышаться нам от этих ударов, не забывая их. Уроки следует помнить и исследовать причины, их породившие. Общество продолжает мучительно стоять на вопросе, как погиб «Петропавловск», чьей миной он взорван, своей или чужой, была ли подводная лодка или нет. Я получил множество писем на этот счет. Одни, преимущественно женские, полны слез и даже отчаяния, полны боязни за судьбу Балтийской эскадры; многие опасаются за строящиеся суда и желают, чтоб усилена была охрана судов во время их постройки. Для этого беспокойства есть основание в нашем добродушии и доверчивости, качествах прекрасных, но легко обращающихся в халатность и равнодушие. В «СПбургских Ведомостях» один из посетителей Балтийского завода, где строятся новые броненосцы, подробно рассказывает, как он с двумя дамами и двумя гимназистами легко получил разрешение осмотреть новые суда и осмотрел даже подводную лодку. Но когда ту же лодку хотел осмотреть мичман в сопровождении нескольких молодых людей, то сторож его не пропустил, а когда мичман указал ему, что ранее осматривали же другие, сторож отвечал, что они «сами пришли, никого не спрашиваясь».
Это «сами» пришли и т. д. необыкновенно точно характеризуют добродушие наших порядков. Можно «самому» все осмотреть, все тайны выведать, наслушаться словоохотливых рассказов о подводной лодке, как это было в данном случае, и так же спокойно «самому» уйти. У нас и Самозванцы являлись «сами, никого не спрашивая», исторические и те, что выведены в «Ревизоре». Если «строго» запрещено что-нибудь, то вовсе не для всех: многочисленные исключения сейчас же явятся в особенности для мужчин, сопровождающих любопытных дам. Я слышал, однако, что к охране судов приняты решительные меры.
Увы, мы — не систематики вовсе, и это нам чрезвычайно вредит, может быть, вредит и в морском деле.
Дворянство — плоть от плоти русского народа, и его черты в то же время национальные наши черты. Мы привыкли полагаться на свою храбрость, на военную честь, смелость и доблесть. Эти качества блестят в нашей истории, блестят в истории нашего дворянства, которое дало столько военных дарований, столько пролило своей крови на полях сражений и показало столько примеров необыкновенного мужества и высокого презрения к смерти. Эти качества мужества и доблести блещут и в прежней и в современной морской войне. Но и теперь и в прежней истории дворянства мало систематического, упорного труда, мало стремления к техническим знаниям (едва ли не большинство инженеров поляки), мало способности к тщательной наблюдательности, к напряженному вниманию и неослабной работе, которые заставляют человека открывать детали, развивать его зрение, сообразительность, даже известную долю того, что можно бы назвать творчеством, именно, когда по известным признакам и мелочам составляется целая картина, целый план, видны опасности и выгоды. Но психология человека, который уверен в своей храбрости, не доискивается сложных и хитрых комбинаций своего противника и пренебрегает многими условиями, которые считает второстепенными. Храбрый в лучшем случае думает только встретить храброго, благородный и честный — только благородного и честного, добродушный и доверчивый — только добродушного и доверчивого. А на деле бывает совершенно наоборот, и это надо иметь в виду в особенности с таким народом, как японцы, народом, по-европейски вооруженным, но совершенно оригинальным и с самобытною, жестокою моралью. Мы его совсем не изучали. Может быть, изучали его наши дипломаты, но донесения их хранятся в таинственных архивах министерства иностранных дел и на божий свет не показывались.
А про японцев рассказывают, что они приезжали в Болгарию и на местах битв наших с турками изучали нас. Может быть, это слишком тонко, но на тонкой хитрости они и ловят нас, а мы своей неосторожностью и невниманием помогаем их счастью прямо чрезмерно.
Повторяю: дай Бог, чтоб счастье повернулось к нам лицом с весною, которую так ждет русская природа и русский человек.
Но счастье надо «заставить» повернуться в нашу сторону. Чем? Энергией, удвоенной, утроенной деятельностью, бодростью благородных и крепких душ, которые сами бы не спали и смело будили бы других. Надо общее согласие всех русских людей, военных и статских, чтобы русское дело шло к своим целям, не цепляясь за счеты, за местничество, за самолюбия, за тысячи тормозящих, иногда оскорбительных и досадных мелочей, разрушающих необходимую гармонию действий и усилий. Надо, чтоб души наши горели и это пламя поддерживало бы единство мысли и дела. Надо, чтоб святое вдохновение снисходило на руководителей и вождей, святое и чистое, как должна быть свята и чиста любовь к родине.
10(23) апреля, №10094
CDLXXX
Суворов говаривал: «Сегодня счастье, завтра счастье, надо немного и ума». Один из моих корреспондентов, возражая мне, замечает, что эту присказку можно бы повернуть и наоборот: сегодня несчастье, завтра несчастье, надо и уменье. Но говоря в прошлом письме о счастье и несчастье, я сказал, что счастье необходимо «заставить» повернуться в нашу сторону, и сказал, чем заставить. У нас в морском деле чего-то не хватает, вероятно, потому, что практики было мало, на что указывалось уже много раз. Вот опять взорвало мичмана и двадцать матросов, опускавших в воду мины. Чрезвычайно опасные, взрывающиеся от малейшего прикосновения, эти самодействующие мины ставятся в тревожное время, поспешно, вероятно, и во время волнения моря. Все это надо принять в соображение, когда приходится говорить о том, что наши мины, поставленные для неприятеля, ни разу его еще не взрывали, но свои собственные суда взрывали неоднократно.
В прошлом же письме я указывал на наши национальные черты, невнимание, неосторожность, авось, которые и при уменье нередко обращаются нам во вред, и приходится вознаграждать их потом чрезмерными усилиями, напрасной тратой энергии и бесполезной смертью. Уроки уменья и осторожности нашим морякам даются очень тяжело. Вспоминается при этом пресловутый морской ценз, который введен был умным человеком, г. Чихачевым, когда он был морским министром. Но видно, на всякого мудреца довольно простоты, в особенности, если принять в соображение, что г. Чихачев сделался морским министром после двадцатилетнего управления им не военным флотом, а Черноморским обществом пароходства и торговли, чисто коммерческим. Это далеко не одно и то же. Пароходное общество строило пароходы и делало рейсы для перевозки пассажиров и товаров и думало о доходах. Военный флот создается для войны, для битв, и делает рейсы для навыка военно-морскому делу, для развития способностей служащих и проч. Личный состав Черноморского пароходного общества и личный состав военного флота совсем не одно и то же, и не одни и те же приемы для этого необходимы. Коммерческих взглядов пароходного общества, заботящегося больше всего о дивидендах акционеров, при помощи правительственной субсидии, нельзя переносить на военный флот.
Равнять все способности, все дарования числом плаваний — это в некотором роде все равно, что равнять всех пехотных офицеров числом сделанных ими на ученьях и маневрах шагов. В свое время наша газета настойчиво говорила против ценза, и теперь вспоминают о нем моряки с горечью. В России, в стране только еще развивающейся, нуждающейся в талантах, особенно в способных людях, в опытных техниках, уравнение всех одним аршином, на котором размечены пределы и степени, может быть только вредно, хотя в служебном отношении чрезвычайно спокойно и удобно. В странах развитых, где общий уровень высок, это уравнение, может быть, имеет свою цену, но у нас, где этот уровень еще сильно колеблется, такое уравнение приводит только к результатам нежелательным и выбивает из строя способности, призвания к морскому делу, любовь к своему кораблю и долговременную опытность.
Теперь так много говорят о морском деле, как прежде не говорили о театре. Оно стало почти домашним делом, всякому близким и дорогим. И если специалисты морского дела затыкают уши от этих разговоров, то напрасно. Общественное мнение образуется по фактам, по результатам. Оно может ошибаться в технических подробностях, но оно схватывает верно выводы и результаты, оно образует ту звенящую в воздухе струну, звуки которой только глухие не слышат; если оно ломает себе голову над техническими подробностями безуспешно, потому что тут нужна наука, то оно все-таки не может себе не ломать ее, когда дело берет всего русского человека, его ум, его душу, его национальное самолюбие. А как его много, этого самолюбия, если бы вы знали, каким горячим языком оно говорит, даже не говорит, а пылает. Что мои речи? Это — только слабый отзвук того, что чувствуется и говорится в России. Я убеждаюсь с каждым днем более и более, как глубоко русское национальное чувство, и как оно вместе с тем здравомысленно. Это — далеко не шовинизм, это любовь к России, как к родной матери…
Никогда, может быть, даже наверно никогда, война так больно не действовала на всех. Как будто все мы в ней участвуем, и те, которые теряют в ней родных и близких, и те, которые подобных потерь не несут. Несмотря на свою дальность, она как будто у наших домов, у наших окон. Мы как будто слышим выстрелы, слышим взрывы, видим гибнущие суда и передвижение армий. Телеграф сократил расстояние невероятно, а наше чувство дополняет его. Подобно тому, как в Порт-Артуре наши моряки истязали свои нервы постоянными ожиданиями атаки, так и мы, хотя, конечно, не в такой степени, истязаем свои нервы постоянным ожиданием военных известий. Я невольно вспоминаю Англию во время ее войны с бурами. Как страдал каждый англичанин в своем самолюбии гражданина великой державы, так страдаем и мы. Может быть, даже больше. При малейшем успехе они радовались как дети, так радуемся и мы. А ведь Англия — образованная, культурная страна, обладательница чуть не целой четверти населения всего мира. Что ей буры? Зачем они? Мало, что ли, ей народов? А вот подите, никакая философия не помогает, никакая культура не может сломить этого патриотического чувства. Горе побежденным да и только! Обидно даже, когда сочувствуют вам, когда вас жалеют. В этом сочувствии подозреваешь насмешку или укор. Но русские люди головы не теряют, и на нашей улице будет праздник. Он будет во что бы то ни стало.
Все дело ведь в первом ударе, в его «внезапности». Не будь этого, не было бы многого, что случилось с нашей эскадрой Тихого океана. И надо признать, что она все-таки сыграла большую роль, несмотря на страшные удары. Покойный адмирал Макаров сделал все, что зависело от напряжения всех его сил, напряжения, которого мы еще не знаем во всей его целости, во всей муке. На памяти его не может лежать ни малейшего упрека, не потому, что он так трагически погиб, но потому, что он сделал чрезвычайно много уже тем, что дал два месяца для передвижения русской армии. Он заслужил и перед родиной и перед нашей армией, и его имя не только во флоте, но и в армии будет почитаться, как имя одного из талантливейших и благороднейших русских людей.
Он командовал тем флотом, какой застал. А это был поврежденный флот и мы, как не специалисты, не можем даже представить себе ни этих повреждений, ни степени подготовленности флота к активной борьбе. Он и учил, и защищал, и показывал готовность к бою. Он был мучеником своего положения и его гибель — поворотная точка для реформы нашего флота, как флота великой державы, это memento Carthaginem, помни Карфаген.
Помни Макарова!
Перед домом морского министерства когда-нибудь поставят обелиск с надписью:
Помни Макарова!
13(26) апреля, №10097
CDLXXXI
К соглашению с Англией.
Выписываю несколько строк из полученного мною на днях письма из Портсмута. Автор письма носит нерусскую фамилию. Пробыл он три года в Англии и Шотландии и, по-видимому, занимается преподаванием русского языка. Он, по его словам, не политик; он думает, что «все вопросы между народами могут быть решены добросовестными соглашениями без всяких войн». Он считает соглашение России с Англией, где «ненависти» к русским он нигде не заметил, и «желательным, и выгодным, и своевременным, и возможным».
Вот эти строки:
«Вчера я пошел на лекцию. Читали о России. Председательствовал человек, который меня знает лично. Город Портсмут не велик, я здесь, кажется, единственный русский, и меня, по-видимому, знают многие. По окончании чтения, в котором не только не было признаков ненависти, а слышалась даже комплиментарная нотка, председатель сказал краткую речь, и просил публику встать, а таперам велел сыграть русский народный гимн. Может быть, он это сделал так ввиду моего присутствия, но он это сделал».
Автор этих слов приложил русское письмо к нему английского офицера, его ученика, трактующее о русской грамматике и русской литературе. В этом письме есть следующие, сочувственные нам строки, которые привожу с соблюдением правописания подлинника:
«Примите пожалуйста от меня самые крепчайшие соболезнования для страшного несчастия которое ваших соотечественников разбивало.
Избави Боже Вы имели каких-нибудь родственников или дружьев на несчастном корабле».
Я очень благодарен моему случайному корреспонденту за его сведения и английскому офицеру за его «соболезнование». Никогда я не думал, что англичане относятся к нам «с ненавистью». Я не могу понять: за что им нас ненавидеть? Я один из тех русских людей, которые вообще не верят в ненависть к нам Западной Европы. Она считает себя слишком высоко стоящей, чтоб нас ненавидеть. Эта Европа просто смотрит на славян и русских в том числе, как на низшую расу и относится к нам с чувством снисходительности и вежливого высокомерия. Эта раса живет, мол, западной наукой и просвещением, но никак просветиться вполне не может. Отчасти потому, что славянские государства появились гораздо позднее государств Западной Европы, отчасти от суровых условий, например, русской физической природы, далекой от той благодатной, солнечной природы с ее теплым океанским течением, которою пользуется Западная Европа. В нас, русских, подозревается, кроме того, присутствие финской и монгольской крови, и нас легко объединяют с желтой расой. Если Япония является мстительницей за Азию, которую Западная Европа поглощает с моря, а Россия — с сухого пути, то борьба России с Японией, как бы борьба племен, очень между собою близких и одинаково далеких от Западной Европы. Западная Европа брала Россию в свои союзники, как военную силу, для подавления его (?) владычества. Европа давала России некоторую волю расправляться с Турцией и Персией, но и сама не жалела средств для подавления России, например, в севастопольскую кампанию. Не зазнавайся, мол. Полу-Европа, полу-Азия, Россия давала Европе сырье, а Азии — полученное из Европы просвещение и таким образом стала соперничать в Азии с госпожой просвещения очень серьезно. Разве отсюда «ненависть?».. Не делая себе никаких иллюзий, я думаю, что Россия для Европы, по крайней мере, для ее официального, правящего мира, только военная держава и только как с военной державой с нами и считаются. Это необходимо нам помнить и считать наше военное значение в высокой степени важным.
Наш лондонский корреспондент, так внимательно следящий за английской политикой, отмечающий ее фазы с тактом опытного дипломата, свидетельствует о повороте английского общественного мнения в нашу пользу.
Но я позволил бы себе спросить почтенного собрата, многое ли это значит? Письмо английского офицера не справедливо ли говорит о том, что это значит и почему такие перемены:
«Для страшного несчастия, которое ваших соотечественников разбивало».
Россия «разбита»… будто бы. Вот и разгадка «соболезнований» и сочувствия несчастию. Это и человечно и по-европейски корректно. Нас жалеют, и я даже верю, что англичане нас жалеют довольно искренно, как слабых пока на море, но несомненно храбрых, ни разу не сдавшихся, ни разу и ничем не посрамивших своей русской чести, не только в лице моряков-офицеров, но и в лице простых матросов. Сама убежденная и великая патриотка, Англия не может не уважать нашего патриотизма и нашей храбрости, но в то же время… не может и не воспользоваться нашими затруднениями.
Мы, русские Иваны, плыли за море подставлять свои груди за свободу буров и вернулись домой несолоно хлебавши, отведав разных неприятностей и даже английских пуль. А англичане доставляют в Японию «Ниссин» и «Кассугу» за такие суммы, какие никогда не приснятся всем русским «добровольцам» вместе взятым, и хвалятся своим молодечеством. Англия волновалась, Англия чуть не плакала, когда война с бурами вышла не такою легкою, какою она себе ее воображала. Мы бескорыстно сочувствовали бурам и не сделали ни одного шагу, чтоб затруднить положение Англии. А она? И союз с Японией, и тибетская экспедиция, и доброжелательное посредничество. Что могла бы отвечать Англия, если б кто-нибудь предложил ей посредничество во время войны с бурами? С английскою прямолинейностью и жесткостью она наверное бы отвечала:
— Благодарю, не нуждаюсь.
Русская дипломатия может отвечать ей то же самое, но как воспитанная в вежливости, более тонким языком:
— Ваше сердечное (непременно — сердечное) участие трогает меня так, что я не нахожу достаточно выразительных слов для ответа. К сожалению, события недостаточно еще определились, чтобы позволяли приступить к серьезному обсуждению такого важного вопроса. Предварительный же анализ…
Ну, и так далее. Наша новейшая дипломатия совершенно отстала от старых русских форм, весьма немногословных, но зато послушных прямому русскому языку, как выразителю русского характера.
Но дело теперь не в дипломатии, обязанность которой предупреждать войну: дело в нашей военной силе, которая стоит за наше право занимать почетное место на Дальнем Востоке. Это право честно нами добытое и настолько же неотъемлемое, как и права Англии на занятые ею области в Азии.
Зачем понадобились Англии Корея и Маньчжурия? У ней там никаких торговых интересов нет, а мы ничем не нарушаем ее интересов на юге Китая. Неужели железная дорога, построенная нами, дает Англии этот аппетит и на севере Азии? Неужели она непременно хочет следовать своей старой политике вмешательства и возбуждения одной страны против другой, чтоб оторвать себе где-нибудь новый кусок? Не будет ли ошибкой самый союз Англии с Японией, если Господу угодно будет дать нам победу над Японией? Ведь уязвимая пята у Англии есть, и она это очень хорошо знает, и Россия имеет возможность ударить именно по этой пяте, если обстоятельства нас принудят. В каком бы соглашении ни находилась Англия с Францией, но французский народ будет за Россию и не изменит ей в трудные минуты, а Россия доведет свое дело до конца. Не уступим же мы своего положения великой державы, своего значения в Азии иначе, как истощив все свой средства военные и финансовые. Ведь это понятно всякому русскому. Англия — великая патриотка, повторяю. Только патриотизмом, только страстною любовью к родине она приобрела все, что имеет, не исключая своих прогрессивных учреждений. Уважение к ней с этой стороны ничем неуязвимо. Ученица Европы, несовершенная еще конечно, Россия растет в этом же патриотизме сознательном и сильном и не может не только принять, но даже нуждаться в английском посредничестве. Говорить о соглашении, когда Англия находится в союзе с воюющей с нами Японией…
Да не смешно ли это?
16(29) апреля, №10100
CDLXXXII
Радостный сегодня день. Так сердечно, так великолепно принимал Петербург милых сердцу моряков. Петербург был неузнаваем, а загорелые моряки шли спокойно, серьезные, сосредоточенные, и за ними море шумного и радостного народа всех званий и состояний. Прочтите, с какой задушевной царственной лаской принял их государь и его августейшая семья. Может быть, никогда еще не раздавались во дворце такие чудесные душевные речи государя, согретые такой искренней любовью к борцам за святое отечество. Это был общий праздник, проникнутый одним и тем же высоким чувством. Сегодня же правительственное заявление так полно русского достоинства и мужества.
Мне весело и хочется шутить. Кстати, случилось презабавное происшествие.
Из заметки академика Соболевского я узнал о необычайной быстроте, с какой работает орфографическая подкомиссия при Академии наук. Вероятно, хотят спасти отечество, которое погибает от буквы ять, фиты, ижицы, иже, и других подобных врагов русского царства, скрывающихся в подпольях известной анархистки, русской грамматики. Собрана армия из одиннадцати корпусов человеческих под председательством сына самой богини счастия, Фортуны, генерала от филологии Фортунатова; один из корпусов состоит из солдата, забритого в городском училище, другой — из г. Кубе, забритого в реальном училище — надо думать, что это — самые храбрые корпуса армии. Генерал Фортунатов, не объявляя никому о своем плане, вероятно, хранящемся в тайне в главном штабе Академии наук, прямо бросился в битву со всеми корпусами и начал побеждать.
По достоверным известиям, полученным с Васильевского острова, кампания ведется не старою суворовскою формулою «пуля — дура, а штык — молодец», а новейшею, где действуют орудия и взрывчатые вещества, уничтожающие врагов без остатка. Стоит только академической кухарке вытереть замазанные буквенною кровью места — и ходи, как по паркету, свободно и весело.
Известно, что в России существует крепость, весьма давно построенная, едва ли еще не при Рюрике, и так прочно, что несмотря на все приступы к ней и на все усовершенствованные орудия, которые в последние столетия обстреливали ее постоянно, сохранила свои толстые, неуклюжие и смрадные от плесени стены. Крепость эта — надо ли ее называть? — носит постыдное, но тем не менее громкое имя:
русская безграмотность.
Вот для сохранения этой древней святыни Академия наук и образовала армию из одиннадцати корпусов, из которых осталось теперь десять, не потому, что один корпус был разбит, а потому, что он бежал, узнав, что дело идет о защите такой старины, которая презирается даже староверами древнего благочестия. Но и лишившись одного корпуса, войско г. Фортунатова продолжало действовать с блистательным успехом. Враги валились, обливаясь и собственною кровью и потом корпусов. Пот и кровь, смешавшись, представляли невиданное доселе в битвах зрелище чего-то похожего на ленту бразильского ордена св. Аннунциаты[8].
Отряды генерала Фортунатова с гиком носились по полю сражения; то выбивали вон из Цицерона твердый камень еры и заделывали цицероновскую дыру дощечкой и, то опять выбивали дощечку и и в цицероновскую дырку молотком, надсаживаясь все десять, загоняли опять камень еры, то похищали у латынян длинную жердь j, то выбивали окна (о) из короля и собаки и заклеивали азом, чтоб вышло кароль и сабака. То лихими казаками, с усердием набекрень, подскакивали к неприятелю здороваго, срывали с него колпак аго и надевали новый ово; то взрывали на воздух безобидных божьих стариц Ижицу и Фиту, то такого богатыря, как Иже и таких злодеев, как Ять.
Из этих супостатов добродетельных россиян особенною знаменитостью и смелым юмором отличался гнусный злодей Ять, ежегодно истреблявший значительное количество младенцев, предназначенных к безмятежному житию под кровом волшебницы Немогузнайки. Генерал Фортунатов напал на злодея всеми десятью корпусами и победил его почти мгновенно и затем он был разрезан на десять частей и проглочен победителями с аппетитом солдат Александра Македонского, когда сам сей знаменитый полководец ничего не ел, желая разделить с солдатами их голод.
Когда известие об этой победе распространилось, многие газеты закричали «ура», и «ура» это разлилось по всей малограмотной и безграмотной России. Одна газетка стала орать так громко, что смутила главный штаб, распоряжающийся планом кампаний и заседающий в Академии наук. Орала газетка, что надо послать вспомогательное войско по всем словолитням и типографиям и арестовать и казнить главного злодея Ять, который имеет преступную наглость есть есть.
Такого эффекта от победы генерала Фортунатова не ожидали ни самые старые, ни самые молодые академики, и прикрыв свои носы платками, притворились, что они чихают, и приготовились хором воскликнуть «на здоровье». Вслед за этим закричал «Ура, ура!» известный генерал от скверной русской погоды и тощего климата, Демчинский. Он очень часто обходился без ятей в своих предсказаниях о погоде и громогласно теперь объявил, что отныне он и все другие свои сочинения будет писать без ятей и они приобретут от этого необыкновенную оригинальность и силу. Академия наук, конечно, соберется в экстренное заседание на этих днях, чтоб забрить его в свои члены и высечь на булыжнике медаль ему на шею с надписью… Тут, если верить телеграммам с поля сражения, произошли в предварительном заседании Академии наук разногласия: одни говорили в пользу такой надписи: «Сим победиши», другие находили такую надпись кощунственною и все сошлись, наконец, на изречении: «Победителю дракона Ять», которое должно блистать сусальным золотом вокруг изображения самого дракона, заказанного одному из славных декадентов.
Отныне крепость «Русская безграмотность» будет читать только сочинения генерала Демчинского, чрезвычайному распространению которых мешала исключительно эта злодейская буква. Браво!
Слава вам, смерть врагу! Аллага, Аллагу!..Что за чепуха у нас делается и в такое серьезное время, когда требуется упорный, спасительный труд, знания, прилежание, когда требуется проповедь неустанной работы и одоление трудностей, когда мы узнали, что японские дети выучивают несколько тысяч знаков и являются хорошими грамотеями и техниками, когда французы и англичане, две образованнейшие нации, сохраняют свое чрезвычайно трудное правописание; особенно трудно английское, где множество слов выговаривается совсем не так, как пишется, где, например, слово мысль пишется семью буквами; thought, а выговаривается, как один звук, соу, Шекспир — десятью буквами и т. д. И англичанам это не трудно и они это одолевают и, вероятно, видят в одолении трудностей правописания первую и необходимую гимнастику ума над родным языком. А нам все трудно, все трудно, и одна буква ять приводит в содрогание наши ленивые головы.
Вам не смешно и не грустно? Вы не вспоминаете по поводу этого похода на ять, по поводу образования нового сословия ратников против яти, ятников, что в последние годы мы почти перестали учиться, что единственная наука, которою занимались у нас действительно серьезно и прилежно, хотя она неизвестна в энциклопедии наук, единственная наука, для которой было вволю искусных профессоров и великое множество прилежных слушателей, это — «обструкция»… наука не учиться.
Превосходная наука. Далеко на ней уедем.
Могу вас уверить, что «радикальные потребны тут лекарства» для нашего невежества, легкомыслия и лени, а не эта жалкая и презренная война с буквою ять, и Академия наук профанирует свое достоинство и свою добросовестность серьезного исследователя, заставляя своих ученых и неученых мужей работать с смешной поспешностью газетных репортеров на пожаре.
Успокойтесь! Если сгорим, то не от буквы ять и не от Цицерона.
17(30) апреля, №10101
CDLXXXIII
Я редко вхожу в область «большой политики» и считаю себя в ней просто русским, который чувствует ее удары, но иногда не может себе объяснить, откуда они и почему. Письмо ко мне С. Н. Сыромятникова (№10101) касается того, что писал я третьего дня о невозможности принять посредничество Англии и что нашел вчера в «Правительственном Вестнике» относительно всех держав. Посредничество не приемлется ни теперь, ни при заключении мира и ни от кого.
Очевидно глубоко чувствуется и понимается всеми, что приняв Берлинский конгресс, мы совершили великий грех перед отечеством и предали его таким мукам, что и настоящая война есть не что иное, как следствие этого конгресса, на котором главную роль играла Англия.
Является вопрос о соглашении с Англией; напоминаю об этом вчерашние строки С. Н. Сыромятникова:
«Говорить о соглашении с Англией не только всегда можно, но и должно, ведь не ждала же Англия прекращения русско-французского союза, чтобы войти в соглашение с Францией. Но для этого надо взвесить наши интересы в Азии и разграничить их. Если Англия борется против нас в Азии, то и мы боремся против ней в Азии. Борьба же эта выгодна более сильному и более ловкому, т. е. Англии».
Кому говорить? Если журналистам и знатокам, исследователям Азии, то, конечно, отчего же не говорить. Но дело идет о державах, и тут могут быть иные соображения. Я не вижу ни малейшего повода для России начинать переговоры с Англией теперь же и ставить их в зависимость от тех или других шансов войны. Не допуская посредничества, Россия не должна вступать в переговоры и соглашения с Англией во время войны, уж потому одному, чтоб не навязать себе переговоров и с Германией.
Возможно, что Англия «ловчее» России, но я не думаю, что она «сильнее» России в Азии, не на юге Азии, конечно, а на том севере ее, который известен под именем Дальнего Востока. Нам, по моему мнению, нечего добиваться других границ на юге, кроме тех, которые теперь существуют и которые определены битвою при Кушке, когда английская политика должна была отступить. Здесь только крайняя необходимость может нас заставить двинуться далее навстречу Англии. А на Дальнем Востоке мы имеем право и должны сказать Англии, что это не ее дело, а наше и тех держав, которые с нами там граничат с суши и с моря.
Что касается печати, на ней лежит не одна обязанность изучать взаимные интересы России и Англии в Азии. Она несомненно отражает и должна отражать всякий данный момент, особенно в остром его проявлении. Уверен, что война с Англией никому не нужна, но спокойно рассуждать и исследовать во время войны невозможно, когда английские журналисты оскорбляли нашу родину так, что кровь бросалась в голову. Тут невольно «ведешь войну» и в печати и мой собрат по газете и сам это испытывал, может быть, горячее меня и других.
Не верю я и тому, что газетная война подготовляет настоящую. Были сотни кровопролитнейших войн до появления газет. Влияние газет — дело недавнее, да и то все-таки второстепенное. Я не поверю той сказке, которую распространяли, что будто Япония начала с нами войну благодаря своей газетной агитации и каким-то своим «кружкам». На это можно ссылаться из каких-нибудь личных или дипломатических видов, но поверить этому было бы ребячеством. Япония начала войну, потому что страстно этого желала и была к ней готова. Не будь она готова, никакие газеты и кружки ничего бы не сделали.
Цитата из английской «Синей Книги», обвиняющая Россию в происках в Тибете, говорит мне очень мало, ибо на базарных слухах и предположениях г. Ионгхезбенда никаких серьезных политических выводов построить нельзя. Так он говорит, что сведения о привозе русского оружия в Тибет подтверждаются, а у тибетцев оказались, между прочим, кремневые ружья. Если б Россия хотела отыскивать такие прицепы к Англии, то могла бы их постоянно найти, например, в Персии и разных других местах.
Кроме того, я готов бы судить о тибетском вопросе не по Синей Книге только, а и по русскому Сборнику документов. К сожалению, у нас такого Сборника министерство иностранных дел не выпускает и не потому, конечно, что почти все цвета разобраны и остается бесцветность: синий — Англия, желтый — Франция, белый — Германия и Португалия, зеленый — Италия и Соединенные Штаты, красный — Австрия и Испания. Наш Сборник мог быть и не бесцветным и очень полезным для государственных людей, политиков, журналистов, вообще для воспитания общественного мнения и развития его кругозора. Министерство иностранных дел очень скупо делится с журналистами сведениями и весьма щедро на них жалуется. А следовало бы наоборот, ибо по вопросам внешней политики вся русская печать и всех направлений постоянно была настроена патриотически, как выразился один из строгих начальников по делам печати в одном официальном письме, — хотя из этого, конечно, не следует, что патриотизм в данном случае есть не что иное, как восхваление русских дипломатов. У нас, к сожалению, так бывает: так как каждое ведомство считает себя патриотичным, то критика его действий считается антипатриотичным делом. Это заблуждение пора бы оставить, ибо и патриоты могут иметь различные мнения о том же самом вопросе.
Сколько мне помнится, по делу о Кушке министерство иностранных дел выпустило Сборник, подобный Синей Книге и в оранжевой обложке, если не ошибаюсь. Пусть будет Оранжевая Книга, пусть будет даже Черная, благо Россию постоянно выставляют в черном свете. Все эти Синие, Желтые, Белые и т. п. книги, конечно, не полны и тенденциозны. Иначе этого и быть не может. Но они освещают вопросы с английской, французской, немецкой, т. е. национальной точки зрения. Так и в Оранжевой Книге была бы русская точка зрения и подбор документов, оправдывающих действия России. Пока этой Книги, которая составляла бы годовой отчет о русской внешней политике не будет, до тех пор нам придется руководиться только иностранными источниками.
18 апреля (1 мая), №10102
CDLXXXIV
Наше общественное мнение редко ошибается в авторах тех или других проектов законов, хотя при отсутствии гласности в наших высших учреждениях ошибки совершенно возможны. Моя ошибка относительно времени введения морского ценза, на что указывает сегодня в письме ко мне генерал-адъютант Чихачев, совсем не ошибка относительно автора проекта. Я назвал Н. М. Чихачева, потому что его, как автора, упорно называет общественное мнение, и сам он сегодня это подтверждает, говоря, что «под его ведением» составлена окончательная редакция Положения о морском цензе и объяснительная записка для внесения его в Государственный совет. У общественного мнения, как и у меня, журналиста, те же права относиться критически к «цензу» и «предельному» возрасту, как у Н. М. Чихачева отстаивать ценз с его предельным возрастом. Права эти основываются на том же чувстве любви к родине и родному флоту, какие питает и генерал-адъютант Чихачев. Я передавал то, что говорилось вокруг меня, говорилось прежде, говорится и теперь моряками всех возрастов. Морской ценз в том виде, в каком он введен был девятнадцать лет тому назад, мог быть полезен, даже действительно был полезен ввиду того, что во флоте были офицеры не только не плававшие, но и не бывавшие на военном корабле, как свидетельствует о том генерал-адъютант Чихачев. Таким образом, могли быть у нас, пожалуй, и адмиралы швейцарского флота, сидевшие на берегу и выжидавшие погоды. Но морской ценз, узаконивший плавания для каждого моряка, обратил с течением времени эти плавания почти в такую же формальность, как и прежняя выслуга лет. Тогда арифметически правильно считались годы, теперь арифметически правильно считаются плавания даже морскими кадетами. Относительно «предельного» возраста скажу только одно: неизмеримо труднее изучить и оценить человека, достигшего этого возраста, чем справиться по бумаге, сколько ему лет и вычеркнуть его…
Ссылка на западные морские страны генерал-адъютанта Чихачева еще немного говорит. Мало ли что хорошо на Западе, где морское дело несравненно старше нашего и где развитие технического образования несравненно выше русского. Мы то берем целиком это западное, с французского, с немецкого, с английского, как взяли и морской ценз, то говорим, что западное для нас преждевременно или чуждо нашей истории и народному характеру. В подобной аргументации невозможно оставаться не только вечно, но даже продолжительное время. По-моему, все дело в умелом, стройном, строго-систематическом применении и развитии на русской почве заимствованного западного, сообразно русским условиям и потребностям. Тогда западноевропейское вырастает в русско-европейское, получает русскую силу и душу. И во флоте нужна душа. Она нужна чрезвычайно. Душа эта не в одном мужестве, в котором русские моряки, как и сухопутные русские войска, не уступят ни одному народу в мире, если не превзойдут все народы. Душа в постоянной заботе, в бескорыстной, преданной любви к флоту и его совершенствованию, в неослабной энергии с целью поднять его на необходимую высоту. Ремесло в соединении с общим образованием везде важно, во всех специальностях, в литературной, художественной, музыкальной, в художественной оно очень трудно. Но показатели силы и высоты литературы и художества — таланты и гении, которые и средний уровень поднимают и возбуждают честолюбие многих. Для них формального ценза быть не может, иначе ценз их задавит и убьет. Хотя comparison nest pas raison, но сравнения наглядно объясняют сущность дела. Плавания необходимы для совершенствования морского ремесла, но имеет свое значение и часто повторяемый анекдот об адмирале, который на просьбу о повышении офицера, совершившего определенное число плаваний, указал на свой чемодан, который совершил еще большее число плаваний, чем офицер, но остался все-таки чемоданом…
Нельзя стремиться к равенству, вопреки природе. Нельзя опасаться того, что тот или другой офицер опередит товарища. Надо извлечь из способности личного состава наибольшую пользу для флота и отечества. Есть крепость здоровья, высшая, чем у других, способность приобретать духовную зрелость, есть таланты, есть призвание к морскому делу. Зачем тут пресловутое демократическое равенство, на котором основан морской ценз? Кроме арифметического, есть нравственный ценз, основанный на сумме практических знаний, опытности и дарований. Его провести труднее, потому что для этого надо быть всею душою и всею жизнью во флоте: не надо забывать, что действительно хорошее только то, что трудно.
Морской ценз существует девятнадцать лет. В это время явились новые суда, новые механизмы, чрезвычайно тонкие, новые приемы, новые требования от моряков, как техников, а Положение о нашем морском цензе, как оно редактировано генерал-адъютантом Чихачевым девятнадцать лет назад, так и осталось. Он говорит, что до ценза был слишком велик личный состав для малого количества судов. А не может ли случиться при этом цензе и предельном возрасте обратное, т. е. при большом количестве судов минимальный личный состав? Судов можно построить много, но если не заботиться о личном составе и полном вооружении судов, то из этого мало хорошего может выйти. У меня, не специалиста, разумеется, не может быть такого совершенного оружия для полемики, какое может быть у бывшего морского министра, который отвечает мне скорей формально, чем по существу. Но трагическая судьба нашей Тихоокеанской эскадры слишком сильно говорит в каждой русской душе и всякий обязан перед своей совестью сказать то, что знает. Еще в том же письме, на которое отвечает генерал-адъютант Чихачев, я упомянул, что в нашем флоте чего-то не достает и, быть может, важного, и что настоящая война открывает эти недостатки, а не какая-нибудь критика, всегда у нас робкая. А лучше бы жестокая критика, чем всякая война. Критика задевает весьма немногих, а война — целый народ. Я указал на морской ценз как на общее начало, к которому сводятся подробности, быть может, очень важные, но мне неизвестные, и, быть может, остающиеся пока в сознании искренних, даровитых и независимых специалистов морского дела гораздо больше.
Дай Бог, чтоб дело у нас кипело, чтоб честной энергии был простор.
19 апреля (2 мая), №10103
CDLXXXV
Если у нас никаких нравственных и материальных задач на Дальнем Востоке нет и не было, если все наши задачи даже не на Дальнем Востоке, а внутри России, для которой требуется много нравственных сил, много необходимых реформ, то для чего строилась Сибирская железная дорога, для чего заняли Порт-Артур, для чего изменили путь Сибирской дороги, проектированной на Владивосток, по берегу Амура, на путь через китайскую провинцию, Маньчжурию? Я слышал эти вопросы тысячу раз, сотни раз участвовал в спорах на эти темы, стараясь уяснить себе самому необходимость или ненужность всего этого движения, и мог только построить себе аргументы за и против.
Наполеон говаривал, что во всякой войне сорок процентов надо отнести на счет ума и расчета, а шестьдесят процентов останутся для случая. Стало быть, случайность на войне, безумная, зависящая иногда от какого-нибудь вздора, от ненужного молодечества, от ослушания главнокомандующего, да и ослушания невольного, зависевшего от какого-нибудь психологического момента, может расстроить глубокие расчеты и стать поперек умного плана. То же самое может случиться и в таких предприятиях, как наше движение на Дальний Восток, когда нас принудили почти покинуть Ближний Восток. Постройка Сибирской дороги увлекала. Размеры ее ширились, обстоятельства усложнялись и росли, надежды также росли, те надежды, без которых живучее государство жить не может, в особенности когда внутренняя жизнь то замирала в беспорядке, то в беспорядке волновалась.
Безумно думать, что великий народ может не расти или расти только по известным размерам, заранее определенным, что его можно заключить в известные рамки и из них не выпускать до поры до времени в уверенности, что так это и будет. Есть нечто никому неизвестное, что движет народами и указывает им пути, и все дело в том, чтобы угадывать эти пути, класть прочные по ним рельсы для движения и воспитывать народы в духе любви и крепости. Вот задача правящих классов, которые сами должны быть для этого воспитаны и приготовлены.
Случайностей, конечно, никогда нельзя избежать, но они тем меньше, чем больше спокойствия для обсуждения всяких вопросов в мирное время. Наше стремление на Дальний Восток, зависело ли оно от воли тех или других людей, или от той исторической повелевающей воли, которой и противиться трудно и трудно ее объяснить, но оно несомненно должно было сопровождаться войной, как это и вышло, хоть эту войну мы не предчувствовали и к самой возможности ее относились с большим сомнением. Теперь известно многое и всем из того, что до февраля известно было, может быть, только дипломатам, нашим и иностранным. Теперь все говорят и печатают, что еще в декабре Япония решилась воевать во что бы то ни стало, какие бы уступки Россия ни сделала. Разумеется, вздор, будто Япония не получила последнюю нашу депешу, которая должна была привести ее к соглашению. Она ее получила преисправно и начала войну, как раз для себя вовремя, и так именно, как она рассчитала, т. е. нападением на флот, мирно стоявший на внешнем рейде и ожидавший на утро практической стрельбы.
Теперь, для решения тех же вопросов, которые поставлены мною в начале письма, предположим, что случилось бы как раз обратное тому, что случилось. Японцы прервали дипломатические сношения с нами. Это значит — война, а не то, что это только перерыв и переговоры будут продолжаться. Не японцы, а мы начали. Или, если японцы, то мы были во всей своей готовности. Что бы теперь говорили? Говорили бы, прекрасное дело, что Сибирская дорога прошла по Маньчжурии, что Порт-Артур нами занят, что Маньчжурия занята, что наше значение на Дальнем Востоке утверждено, что нам не страшны ни Китай, ни Япония, ни Англия, что мы можем спокойно заняться нашим внутренним строем, действительно застоявшимся, в чем согласны решительно все, у кого есть голова на плечах, и что эти занятия внутренним строем только укрепят Россию и сделают ее голос еще более авторитетным на Ближнем Востоке. Ведь это непременно бы говорили.
Таким образом, те самые «проклятые вопросы», которые поставлены мною в начале, решаются надвое. При удаче — так, при неудаче — инак. И разве вся история не так идет? Всегда у нее впереди некоторая загадка и даже мудрый Эдип иногда оказывается жалким ребенком. Из этого, однако, может быть, следует, что мы с ними поспешили, не протянув их на более долгий срок, не рассчитали и не приготовили всего, что необходимо для совершения огромного дела, не решили в нем всех возможных случайностей, не откинули прочь каких-нибудь посторонних вещей, не разобрали подробностей очень важных. Говорят, например, что три ведомства переписывались об угольной железной дороге на Дальнем Востоке несколько лет, в течение которых можно было дважды построить очень хорошую дорогу, не только для одного угля, но и для всех других надобностей.
В нашей государственной экономике спокон веков существует большой недостаток, не чуждый всему русскому народу. Я построил дом. Подрядчик положил деревянные балки. Потолки в зале обрушились, ибо явилась будто бы в балках какая-то инфузория и превратила их в гниль. Пришлось во всем доме положить железные балки, что мне стоило многие десятки тысяч. Я рассказываю истинное происшествие и доселе не знаю, что это была за инфузория. Пожелают сохранить сорок тысяч ежегодной экономии, чтобы получить благодарность от начальства, и навредят на сорок миллионов всей России. Пожалеют сегодня пятьсот тысяч, через три года заплатят пятнадцать миллионов. Надо было, много лет назад, на неотложное дело флота, например, положим, сто миллионов, дали меньше. Составлен проект для экстренной надобности в тридцать миллионов, дали — двадцать. И так очень часто. Считают копейки и не считают рублей.
Роскошь именно в этой копеечной экономии, а не в рублевой; если рублевая основана на разумном расчете и разумной прочности, если она обсужена со всех сторон знающими людьми, экспертами, а не канцеляриями только, то это совсем не роскошь, а именно то, что надо: дорого, да мило. Копейки только глаза отводят от ненужных трат и облегчают те хищения, о которых император Александр III издал памятный указ.
Я, кажется, отошел в сторону от решения заданных себе вопросов. Но решит их только судьба в союзе с силою нравственною и материальною.
Вспоминая наши злоключения, мы не должны терять мужества. Мы взяли на себя тяжелую ношу. Ни государь в своем рескрипте главнокомандующему, генералу Куропаткину, ни главнокомандующий не скрывали этого ни от самих себя, ни от России. «Да поможет вам Бог успешно совершить возлагаемый мною на вас тяжелый, с самоотвержением принятый вами подвиг». Вот подлинные слова высочайшего рескрипта. Полководец всецело взял на себя свое время, данную историческую минуту с ее недостатками, грехами и достоинствами. Громадные расстояния усложняли задачу главнокомандующего чрезвычайно. Битва, в которой мы понесли большие потери, была при совсем несоответствующих силах; но мужество наших воинов удивляет и наполняет грудь нашу верою в наше отечество. Это была битва истинных героев. Это — битва великанов с ядовитыми карлами, за которыми стояли тяжелые орудия и которые постоянно освежались новыми войсками. Священник шел впереди пробивавшегося сквозь неприятеля нашего батальона, с крестом в руке и получил две раны. Раненые шли пешком, поддерживаемые братьями по оружию и по Христу. Наберемся спокойствия и терпения, которого просил А. Н. Куропаткин у русского общества, отправляясь на Дальний Восток. Он верил, что придет наш час. Тяжелая ноша может нас на время согнуть, но чтоб она не оказалась нам по силам, чтобы она раздавила нас — какая русская душа может это допустить, какая русская душа может это вынесть? Надо помнить, что мы русские.
21 апреля (4 мая), №10105
CDLXXXVI
Вчера целый день бродили по городу слухи, самые странные, самые противоположные. Говорю «бродили», потому что иначе нельзя сказать об этих привидениях, то добрых, то страшных. И эти, якобы «добрые» привидения нарочно лгали, чтобы обдать потом холодом разочарования доверчивые и действительно добрые русские души. Не верьте слухам, господа, не верьте этим якобы «добрым» привидениям, если они даже в самом деле добрые. Гоните их прочь, как я гоню их и гнал все это время, как гнал их вчера и сегодня. Ожидайте известий. Мы с благородной славянской честностью не готовились к войне, когда вели с Японией переговоры, и остаемся честными и откровенными в передаче наших неудач. Войска не могут летать. Их переходы медленны и сложны. Мы как бы говорили: видите, мы не готовимся, мы верим, что можем сговориться. Мы искренно не желаем войны и думаем, что и вы ее не желаете. Но враг готовился неустанно, расчетливо и, чем он был более готов, тем больше запрашивал. В России сто тридцать миллионов, но в той России, которая у ворот Тихого океана, там нет и миллиона жителей, а у врага там — пятьдесят миллионов. Не забывайте этого. Я спросил лицо, которое все знало в конце февраля: сколько у нас войска на Дальнем Востоке? Оно не назвало мне цифры, но сказало только вот что: «Наши войска — от Москвы до Порт-Артура. Мы можем выставить против японцев вчетверо больше, чем может быть у них, но на это надо время. У нас даже не ручеек, который непрерывно течет, а капли, которые капают». Слава Богу и то, что наша Тихоокеанская эскадра при всех своих несчастиях все-таки два месяца дала время сухопутной армии для движения. Флот мог бы сыграть не эту скромную роль, а огромную и решительную в этой кампании, не будь внезапного нападения японских миноносцев в памятную январскую ночь. Этот удар имел все те последствия, которые мы теперь переживаем. Этот удар был тем роковым, последствия которого начали сказываться с каждым днем больше и больше, обнаруживая полную боевую готовность нашего противника.
Мы сделали все, напрягли все усилия, как напряжено было все общество и делало все в своем благородном патриотизме. Но путь оставался один.
Байкал и реки были покрыты льдом. Железная дорога должна была перевозить войска, орудия, припасы, лазареты, даже товары купцам, ибо наше купечество не любит запасов и делает закупки на короткое время. Теперь Байкал пройден ледоколом, сибирские реки разливаются и делаются судоходными…
Я говорю это отчасти для того, чтобы умерить пыл наших стратегов, которых развелось теперь видимо-невидимо и которые готовы преподать самые верные правила для несомненных побед.
Грустное, тяжелое время. Я считал эту войну страшною и грозною и говорил это до войны. Но я ошибался, что Россия так же мало знает Японию, как Япония знает Россию. Теперь ясно для всех, что Япония гораздо лучше знает Россию, чем Россия — Японию. Японцы посещают наш университет около тридцати лет. Знающих русский язык у них очень много. Японское посольство знало по-русски. Это очень важно. Во время китайской войны я говорил об этом несчастном предрассудке нашего министерства иностранных дел руководствоваться в назначении послов служебной иерархией и посылать в Токио из Лисабона, откуда-нибудь из Дрездена в Китай и т. д. Дипломаты надо мной смеялись. Не все ли равно, что Дрезден, что Лисабон, что Токио, что Пекин, что Тегеран. Есть французский язык, на котором Япония называется Жапон, а Китай — Шинь, и есть переводчики, которые носят особое наименование драгоманов. Чего больше?
Изучают ли дипломаты всесторонне ту страну, в которой они пребывают? Не думаю. В русской литературе мало следов такой работы. Но дипломаты все-таки многое видят в столицах, многое слышат, многое знают. Они доносят своему начальству все, что они узнали и видели, а начальство делает свои заключения.
Какие? Мы не знаем. Мы, простые смертные, вообще знаем очень мало. Но, очевидно, и в высших сферах знали Японию мало. Мы не знали о большом развитии у нее техники, об этой жажде хвататься за всякое изобретение в Европе и тотчас им пользоваться, не дожидаясь, пока оно оправдает себя. Трусость китайцев обманывала нас и насчет храбрости японцев. Беспроволочный телеграф она ввела у себя с необыкновенной быстротой. Она плевала на честность дипломатическую, она хитрила и нарушила все то, что придает войне некоторое рыцарство и дошла даже до того, что стреляет по вагонам с ранеными и несчастным больным наносит новые раны в их койках.
История в свое время все разъяснит, все расскажет без утайки вплоть до алчности наживы, и вы это прочтете, в будущем, когда вы будете бодрее, образованнее, когда лучшая часть вашей души будет вся наружу в слове, в деле, в книге, в газете. Вся божественная часть вашей души, которая любит свое отечество, как родную мать, и желает ему добра, как самому себе, вся она раскроется, как раскрывается цветущая весна. Люби ближнего, как самого себя, — это возможно только для немногих, истинно высоких, избранных душ. Но люби свое отечество, как самого себя — это возможно и необходимо. Что вы сделаете для него, то сделаете для себя и своих ближних и дальних русских. Не стремитесь к тому, чтобы делать для всечеловечества, забывая родину. Там во всечеловечестве в нас совсем не нуждаются, а если у себя на родине вы сделаете все, что можете, как верный, как истинно-образованный сын ее, то будете и во всечеловечестве играть не последнюю роль.
Не будем падать духом, но будем строги к самим себе. Строгость необходима для самого нравоучения, чтоб не повторять наших ошибок, заблуждений, вольных и невольных, и пороков, чтоб не жить так, как мы жили. Так «строгость», о которой говорил г. Меньшиков и которую так исказили его противники в печати, несомненно должна войти в нашу жизнь. «Строгость» прекрасно уживается со свободой, которая требует строгого исполнения своего долга всеми от мала до велика. Строгость — не в садовых дощечках и в объявлениях от начальства «строго воспрещается», строгость — не в жестокости и произволе быть строгим к самому себе и к другим сегодня, а завтра, как мне или кому понравится, а во всем внутреннем строе свободно развивающейся жизни. Строгость — в равенстве ответственности всех. Судите нашу распущенность, халатность, пренебрежение долгом, своими обязанностями к общественному порядку, к пользам своего отечества и государя, — но судите не для праздных проклятий, а для того, чтобы быть лучшими, благороднейшими, великими сынами России. И благословит вас Бог и благословит вас родина.
24 апреля (7 мая), №10108
CDLXXXVII
Я только сейчас удосужился посмотреть «Вишневый сад» Чехова и слушал эту пьесу с большим удовольствием. Может быть, это не «пьеса», потому что в ней мало того, что называется «движением». Но если принять во внимание среду, где происходит действие, т. е. характеры, интригу или случай, на котором основана драма, то, пожалуй, замечание о «движении» окажется произвольным. Можно на этом настаивать, можно и не настаивать. Это яркая картина русской жизни, распущенности, халатности, ничегонеделания, благородных разговоров, именно благородных монологов, а не чувств и не действий. «Восьмидесятник», один из ничтожнейших людей, но по-своему хороший человек, говорит одушевленный монолог, обращаясь к столетнему книжному шкафу. Это очень зло. Благородное пустословие дальше этого идти не может. Дерево остается деревом, да и люди не лучше, ибо они слушают апатично и чем старее, тем апатичнее. Охают, ахают, видят, что все трещит и лопается, но все надеются на то, что авось что-нибудь случится, что бабушка даст денег, тетушка смилуется, выпадет выигрыш в 200 тысяч, а то так просто какое-нибудь чудо совершится, какая-нибудь неожиданность явится на выручку. А жизнь ни на йоту не меняется. Все изо дня в день, одно и то же, нынче, как вчера. Говорят, наслаждаются природой, изливаются в чувствах, повторяют свои излюбленные словечки, пьют, едят, танцуют, — танцуют, так сказать, на вулкане, накачивают себя коньяком, когда гроза разразилась, или вспоминают свои амуры, плачут, кричат в бессилии и, как стадо беззащитных овец, безмолвно уходят в такую же жизнь, бессмысленную, недеятельную, глупую, но с постоянной надеждой ленивого нищего, который вполне уверен, что с голоду не умрет и даже кто-нибудь так раскошелится, что и выпить можно, и с женщиной позабавиться, и сытно поесть хоть изредка. И все это «порядочные» люди, честные люди, с гордостью. Интеллигенция, вспрыснутая в это дворянство, говорит хорошие речи, приглашает на новую жизнь, а у самой нет хороших калош. Полуинтеллигенция, кулачество, работает и забирает дворянские имения и все то, что интеллигенция не в силах взять. Она раздражается, негодует, но потом сейчас же и пасует, ибо не находит в себе силы на борьбу даже с тем кулачеством, которое несколько почистилось и сознает свою отсталость перед образованностью.
Я считаю «Вишневый сад» лучшею пьесой Чехова. Она лучше, глубже, шире, чем «Чайка», которая мне всегда нравилась, чем «Дядя Ваня», не говоря уже о «Трех сестрах», которые мне совсем не нравились и которые во всяком случае обнимали очень узенькую атмосферу провинциальной жизни с ее стремлениями в Москву. В «Вишневом саде» полная беспомощность, полный «авось». Ни Москва, ни Петербург тут уж не помогут. Просто слепые надежды слепых, глухих, безногих и безруких. Разоренному дворянину обещают место в банке. Это бывает, но он наверно попадет под суд, потому что станет подписывать всякую гадость и удостоится сопричислиться с мошенниками, несмотря на то, что он «восьмидесятник» и честный человек, полный хороших монологов о самостоятельности, самосознании, независимости и т. п. добродетелей, вычитанных и воспринятых из хороших книг.
«Вишневый сад» по литературным достоинствам, по чувству поэзии русской природы, русского быта, по-моему, выше исполнения, хотя оно очень тщательно и в высокой степени добросовестно. Декорации дома превосходны. Собачий лай, кукушка и т. д. нисколько не занимательны. Мне говорят: «Да это так в деревне всегда». Может быть, но в театре можно обойтись без собачьего лая, даже следует, ибо интересного в этом ничего нет, когда есть умное слово, живая человеческая мысль.
Я считаю эту пьесу политическою, потому что она хотя и в мягких тонах, скорее грустной иронии, чем сатиры, рисует широкие слои нашей интеллигенции и как бы призывает к работе, к труду. Этих жалких овец совсем не жалко, но жаль русскую жизнь, жаль культурных гнезд, которые разоряются не потому, что хищники на них набрасываются, коршуны и вороны разоряют их, а потому, что не умеют сами владельцы гнезд снова их устроить и обновить. Кладут яйца и выводят детей все в старых гнездах, сделанных отцами и дедами при крепостном труде с его беззаботностью и беспечностью.
Жаль русского человека, который так опустился, что не находит в себе никакого протеста, кроме слез, причитаний и согнутой, понурой спины, которую показывают действующие лица при окончательном падении занавеса. Лица исчезли, остались спины…
Сам Чехов — русский человек до мозга костей. Не дворянин по рождению, он не плюет на дворянскую жизнь, на дворянский быт, как многие другие, а относится к ним с чувством глубокого русского человека, который сознает, что разрушается нечто важное, разрушается, может быть, по исторической необходимости, но все-таки это — трагедия русской жизни, а не комедия и не забава. Отрезаются прочь хорошие части общего русского тела в то время, когда жизнь нуждается в крепких, в образованных основах. Умирать мы умеем, но бороться еще не выучились, умирать с надеждой на воскресение, на лучшую жизнь. Поэтическое чувство многое подсказывает Чехову, чего, может быть, толпа и не разумеет вполне. Но та публика, которая так внимательно слушает пьесу, так симпатично относится к ней, она вместе с поэтом, вместе с его страдальческой душой чувствует всю горькую правду и расходится с благодарностью к нему.
29 апреля (12 мая), №10113
CDLXXXVIII
Молодой красавец, князь Мещерский, вчера встревожил меня, «старца» — его справедливое выражение. Он с некоторых пор говорит не от себя, а от имени России, от «135 миллионов русских», рекомендуя свои мнения, как самые авторитетные и непреложные и даже иногда налагая суровые наказания на своих противников, например, лишением чинов, дворянства и проч., и все это именем 135 миллионов русского народа, с которым он «дружески» беседует. Мне и прежде, когда он говорил сам от себя или только от имени дворянства, было приятно с ним беседовать, а теперь, когда он говорит от имени России, мне прямо лестно иметь словесное обращение с такою могущественною особою. Я старался не выходить из пределов порядочной литературной полемики и, игнорируя его выходки, отвечал почти всегда только на мнения его своими мнениями. Сегодня, повторяю, он меня встревожил серьезно. В своем «Дневнике», во вторник, 27 апреля, он шутил над статьей г. Лугового, который излагал свое мнение о том, что Россия воюет за выход свой к Восточному океану, через Сибирь, которая давно ожидала благосклонного к себе отношения. В среду, 28 апреля, он воспылал страшенным гневом на ту же статью, называя ее «зажигательною»… Пусть он сам говорит, что «навеяло» на него «чтение» этой статьи: «оно стеснило мне грудь сознанием сходства между японскими минами, взрывающими великанов нашего славного флота, и между такими статьями, как статья Лугового, которая с тем же вредом для России, разжигая бреднями умы, в то же время подрывает устои нашего государственного организма».
Неужели вы, молодой человек, в здравом уме? А?
Вы не рехнулись, почтенный римский сенатор (он сравнивает себя с римским сенатором), вы не выжили из ума, журналист?
Я думаю, что он не совсем еще рехнулся, и вот почему. Он всегда был недурным актером и шельмовски умел притворяться и брать на себя всевозможные роли, отвечающие, впрочем, господствующим способностям его души. Никто так не унижал дворянство, не представлял его в таком затхлом, карикатурном виде или в виде каких-то секуторов и башибузуков, которые беспокоятся только о своем чреве и своем господстве над всякими другими сословиями. И в то же время он притворялся удивленным, оскорбленным и возмущенным, что дворянство его не читает и даже отвертывается от него. Он божился и клялся, что он — единственный человек в России, который заботится о русском мужике и о русском ученике, для которого он приготовил совершеннейшую систему школьного образования, и выжимал из себя сладкие речи к молодежи, блиставшие высокопарным бездушием, которое могло обмануть только невинных агнцов. С таким же высокопарным набором слов и громких фраз прельщал он русское общество «свободой» от чиновничества, которое предавал таким анафемам, каким только Гришку Отрепьева предавали при Годунове, и с блистательной искренностью в то же время произносил анафему против земства, с такою же искренностью, с какою при Екатерине II произносил ее против Емельки Пугачева. И все это с ужимками опытного актера, который умеет и смеяться, и плакать, и льстить, и все это под личиною любви к отечеству. Но актерское его дарование невысокого полета: он не из тех актеров, которые глубоко чувствуют и переживают, а из тех, которые изображают чувство известными приемами подражания, а потому в смехе сюсюкают, а в трагедии орут, размахивая руками и выкатывая глаза, подобно филину. Это то, что называется «переигрывать» и ударяться в ходульный мелодраматизм. Поэтому этот актер никогда не мог увлекать и привлекать публику. Понятно, в старости мелодраматизм и сюсюканье становятся противнее и противнее, но актер не замечает этого и начинает просто орать благим матом совершенную белиберду хриплым и пронзительным голосом. Вот вам общепонятное и правдивое изображение князя Мещерского в его отношениях к тяжелой нашей действительности вообще и в частности к статье г. Лугового, совершенно невинной.
Вам теперь совершенно понятно, почему статья г. Лугового уподоблена японским минам, которые разрушили наш флот. Вам понятно, почему князь Мещерский сравнивает себя с римским сенатором и говорит о патриотических «струнах» в своей груди, почему он говорит, что какая-то газетная статья «стеснила его грудь» так же, как гибель «Петропавловска». Он уж и того не понимает, что всякая статья забывается быстро, а гибель «Петропавловска» и других наших кораблей будут помниться во веки вечные не только потому, что они внесутся в историю, но и потому, что залягут в народную память и оттуда никем и никогда не будут выбиты. Он потерял уже способность соразмерять свои мысли и чувства с важностью и значением событий, и там, где необходима грустная или торжественная гармония, он уподобляется или без струн балалайке или завыванию умоповрежденного. Он уже не соображает, что такое Россия, что такое дворянство, земство, молодежь, купечество, крестьянство. Он помнит только, что это 135 миллионов и думает, что он «выразитель» этих миллионов, как неистовый актер думает, что раек, его вызывающий, есть полный театр, что в этом райке и двор, и министры, и наука, и искусство, и литература, и все общественное мнение. Он думает, что перед ним бессмысленная толпа, безпастушное стадо, пугающееся от всякого дикого завыванья и рычанья и способное только шарахнуться то в одну, то в другую сторону, сегодня негодуя против японцев, считая их заклятыми врагами, завтра прося у них мира и снисхождения, «во имя восстановления в России порядка и подъема уровня народного благосостояния».
Он совершенно потерял всякий смысл русского человека, говоря, что «только враг России может зажигать замыслы созидать мираж на Дальнем Востоке». Враг этот — вся русская история, начиная с того момента, когда Ермак поклонился Грозному царю Сибирским царством. С этого момента нельзя было идти назад, а можно было идти вперед. Россия двигалась чрезвычайно медленно среди постоянных бурь и тревог своей тяжелой судьбы, двигалась через Смутное время, через эпоху петровских преобразований, через эпоху переворотов XVIII века, через Пугачевщину, через войны с турками и персами, с кавказскими горцами, с Европой у стен Севастополя, с азиатами Азии и проч.
В 1858 г. известный русский писатель писал в статье «Америка и Сибирь»: «Имя Муравьева, Путятина и их сотоварищей внесено в историю, они вбили сваи для длинного моста через целый океан. Во время мрачных европейских похорон, где каждый что-нибудь потерял, они с одной стороны, американцы — с другой, сколачивали колыбель». Прошло еще около тридцати бурных лет. Горизонты развертывались. К тем сваям и к этой колыбели решился император Александр III построить железный мост до Москвы и Петербурга, соединенных с Атлантическим океаном. Сын этого царя, император Николай II завершил здание этого великого памятника русской силы. Но у колыбели неожиданно явилась японка-нянька с мечом в руках, и эта нянька гордо объявила, что она возьмет колыбель и отбросит Россию. На весь мир она закричала, чтоб мы уходили! Она хотела войны, когда мы ее не хотели. А если один из двух противников хочет войны, то нет средств ее избежать. Она будет не нынче, так завтра. Избежать войны можно только тогда, когда оба противника ее не желают. Мы должны были ее ждать и к ней готовиться.
Итак, «враг России» — вся историческая Россия с 1583 года, когда Ермак влез в Сибирское царство; «враг России» — все ее отважные, даровитые, глубоко русские люди, дерзавшие иметь отважные помыслы. С таким врагом шутки плохи.
1 (14) мая, №10115
CDLXXXIX
Микадо изъявляет желание учредить в Японии государственную христианскую церковь, англикано-буддийскую.
Сообщая эту сенсационную новость, наш лондонский корреспондент говорит: «Замысел хорошо рассчитан для обеспечения популярности между англосаксами, но навряд ли действительно религиозные люди одобрят такой утилитаризм в религии». Так как действительно религиозных людей, имеющих голос, не особенно много, то этот шаг к христианству будет оценен в пользу Японии не среди только англосаксов. В Японии есть уж христиане, и, между прочим, православные. Сделавшись христианской, хотя бы с примесью буддизма, она крепче войдет в европейскую цивилизацию. Как государство конституционное, она постоянно указывает на эту свою особенность, которая ее из Азии переносит в Европу. Как государство христианское, она и вполне, значит, будет Европой. России останется утешение, что она своей войной с Японией содействовала обращению ее в христианство. Хомяков недаром сказал, что Россия будет способствовать обращению в христианство монгольских племен. Пророчество сбывается.
Затем за Японией последует Китай, и — кто знает? — может быть, в течение ста лет Азия изменит свою религию и приблизится к христианству, применив его к своим нравам, обычаям и старой своей религии. То, чего не сделали христианские миссионеры или сделали в размерах незначительных, сделает утилитарная и объединительная миссия Японии.
Удивительные события совершаются. Я говорил на днях, что мы не знали Японию, не знали ее ни наши дипломаты, ни наши военные люди, ни наши финансисты, а Япония нас знала очень хорошо. Мы начали с ней войну неприготовленные, о чем само наше правительство объявило и о чем председатель французской бюджетной комиссии сказал на банкете: «Государь, который созвал мирную конференцию в Гааге, до такой степени желал мира, что окружающие его лица почти забыли приготовиться к войне». Они не то что забыли, они не ожидали ее и не верили в ее возможность. А у японцев все было приготовлено, все рассчитано до такой точности, до которой едва ли достигал немецкий штаб, славный своей точностью. Скобелев говорил мне в Берлине — он присутствовал на германских маневрах: «Немцы удивительно точны, приказания исполняются с такою пунктуальностью, что просто на удивление. Но это ничего. Если нам придется с ними сражаться, мы спутаем их отсутствием всякой точности». Он говорил это со своей иронической улыбкой и голосом, в котором звучала уверенность.
На днях в небольшом обществе мы вспоминали отступление русских войск к Бородину. Как понимается теперь всеми то нетерпение, которое владело тогда обществом. Бородинская битва была данью этому нетерпению, но она подняла дух. Войска не только отступили после сражения, но и очистили Москву для неприятеля.
И теперь наши войска отступают, там, далеко, далеко, в тридесятом царстве, о котором десять лет назад никто не думал. История шла по рельсам железной дороги, а мы за ней не поспели. И тем не менее, кто теперь не желал бы слышать победные клики! Я не верю тому, что есть русские люди, которые радуются нашим неудачам, и потирая руки, говорят: слова Богу, второй Севастополь! Если такие люди есть, то они сами не знают, что говорят и они, по-моему, не лучше тех, которые пользуются войною для своей прибыли, хапают, мошенничают и грабят. Желать поражений — значит грабить, грабить русскую душу, русский народ, мошенничать лучшими чувствами и ожиданиями этого самого народа. Говорят, что во время севастопольской кампании тоже радовались, ибо военные поражения принимались за поражение правительственной системы. Я был в то время совсем молодым человеком и жил в провинции. Никакой радости я там не слыхал и не видал. И я совершенно убежден, что победа в Севастополе все равно привела бы к освобождению крестьян и другим реформам, быть может, более цельным и полным. Победа в Севастополе не породила бы того всеобщего отрицания, которое уже в начале 50-х годов переходило в революционное брожение. Все родное отрицалось; лучшие предания старинного самоуправления и быта отрицались, как ветошь, как предрассудок; семейные отношения попирались ногами; свобода понималась как своеволие. Тогдашние либералы, мечтавшие об освобождении крестьян и о суде присяжных, глазам своим не верили, присматриваясь к этому движению и сейчас же попали в ретрограды и консерваторы. Даже Герцен оказался отсталым. Разумеется, я не мешаю всех в кучу. Но было такое движение. Я понять не могу, ни на одну минуту не могу понять, как можно желать поражений своему отечеству, родным войскам. Разве это не постыдно для национального самолюбия? Как люди, считающие себя политически взрослыми, могут приветствовать чужую силу и победу? Какие же это взрослые? Насколько они выросли? То желают, чтоб молодежь волновалась, то желают беспорядков рабочих, то желают, чтоб били наши войска. И это будто бы политически взрослые? Да ведь это клевета на политическую зрелость.
По-моему, победа для всех прогрессивных и жизненных целей несравненно благороднее, чем поражение. Поражение подавляет дух всех. Победа обновляет дух, внушает доверие к себе, выдвигает вперед не одни только военные таланты, но и общественные, потому что война заставляет работать и общество и мирит общественные классы и вносит в них единение. Разве Германия пошла назад после своих побед над Францией в 1870 году? Разве мы не были свидетелями ее необыкновенного роста в эти тридцать лет, хотя ей ставят в вину ее милитаризм. Но, очевидно, и милитаризм не помешал развитию ее промышленности, земледелия, торговли, техники, образования. Разве сами французы не ахают от изумления, сравнивая Германию 60-х годов с теперешнею? Разве Англия ей не завидует? А Франция, — сколько лет ей пришлось жить в унижении и поправляться после разгрома немцами? Какой француз теперь даже, когда Франция опять заняла подобающее ей место, решится поблагодарить немцев за погром 1870 года? Такого француза не найдется. Каждому из них этот год дает горькие воспоминания и бередит раны, доселе еще не зажившие. Если крайние социалисты в Париже начали любезничать с такими же социалистами в Германии, то это еще не доказывает, что эти крайние французские партии в самом деле забыли поражение своего отечества. Франция пошла на соглашение с Англией, но не пошла на соглашение с Германией, которая не раз с нею заигрывала и которая, быть может, могла бы дать ей больше, чем Англия!…
Русское общество ждет военных событий со страстным нетерпением. Разговоров и споров целая бездна. Надежды и веры еще много.
5 (18) мая 1904, №10119
CDXC
Я поехал отдохнуть в деревню от петербургской атмосферы. Я думал: в деревне теперь благодать. Весна, зелень, цветы, тепло, тишина и соловьи. Правда, без газеты и в деревне не обойдешься, но газету будешь получать только раз в день, тогда как в Петербурге целый день не выходишь из области известий и слухов. В деревне, продолжал я думать, прочтешь телеграммы, в которых трудно что-нибудь понять, кроме каких-то маленьких, но жгучих и больно действующих словечек, и пойдешь бродить по лесам и полям, слушать жаворонков и соловьев.
Увы, я не нашел в тульской деревне ничего утешительного. Европейские ученые давно пророчат нашему «центру» участь бесплодных степей. Хотя это ужасное время еще не настало, но нынешняя весна возмутительна. С начала мая и до самого этого дня, 24 мая, холода стоят невероятные.
Соловьи либо молчат, либо чирикают, как воробьи; ничего не растет, ни хлеба, ни травы; сад едва-едва зацветает; пчелы недоумевая сидят в ульях, или, вылетев за добычей, погибают на холоде и ветре, который метет иногда в воздухе снегом, пополам с крупою и градом. Такой снег летел на землю 23 мая. Неумолкаемо кричат одни грачи, да гудит ветер, качая еще полуголые вершины дуба, который лениво раскрывает свои листья. Сегодня ветер повалил старый дуб и сбил с высокой вершины другого с гнезда цапель с начинавшими опериваться птенцами.
— Я больше сорока лет здесь живу безвыездно, — говорил мне здешний почтенный старожил, — а таких холодов в мае не запомню. Правда, был давно год, тогда 7, 8 и 9 мая были морозы, но вставало солнце и начиналось тепло.
Каков будет урожай, неизвестно. Но хлеб уж теперь вздорожал. Мука от 65 копеек стала 80 копеек, фунт черного хлеба вместо полторы копейки стал две. Если купечество станет так прыгать с ценами на хлеб, то до урожая мука может дойти и до рубля.
Хороший мой знакомый натолкнулся на одно совпадение 1812 года с 1904-м. 1812 год по Р.X. соответствовал 7320-му году после сотворения мира. Сумма цифр того и другого года составляет 12. 1904 год по Р.X. соответствует 7412 году после сотворения мира. И тут сумма цифр того и другого года составляет одну и тут же цифру, 14. «Не предвещает ли это, что и 1904 год напоминает нам вечно памятную Отечественную войну?» — говорил приятель, склонный к мистицизму. Но мы с ним скоро сообразили, что такое совпадение суммы цифр года от сотворения мира с суммою цифр года по Р.X. довольно часто. 1813 и 7321, 1814 и 7322, 1903 и 7411, 1902 и 7410 и т. д. Стало быть, цифры ничего не обозначают и идут своим нерушимым порядком. Не так ли идут и события, с тою только разницею, что цифру года мы знаем заранее, а события не предвидим и даже не предчувствуем. Очевидно, нет пророков, нет прозорливых людей.
Удивительное создание человек. В мирное время скорбит о всяком несчастий. Придавил элегантный экипаж на Невском мужика, выскочила дама с трамвая и переломила себе ногу, застрелился от любви юнкер, убили на дуэли титулярного советника, окончившего курс в Правоведении, объелась купчиха Трохимова гнилой рыбой и умерла, сошел поезд с рельсов и ранено десять пассажиров, — Господи, сколько сожалений, негодования, проклятий. Мне жаль даже этих бедных юных цапель, которых свалил ветер с вершины дуба, и жаль отца их и мать, которые вдруг выбиты из своей колеи воспитать новое поколение.
В военное время человек меняется. Людей взрывают на воздух и убивают тысячами и радуются. У нас три тысячи убито, у неприятеля десять тысяч. Слава тебе, Господи. Начинается совсем иная психология, и ничего против нее нельзя сделать. То есть можно читать прекрасные наставления о том, что радоваться нечему, что люди братья: шаблоны для этого искони веков выработаны, но заглушать в себе неприязнь к врагу, злорадство по поводу его поражений так же трудно, как доказать охотнику, который убивает на охоте птиц, как доказать всеядному человеку, который ест жареные трупы животных, что это неблагородно и ужасно. А потом национальная гордость, национальная честь, патриотизм — все это врожденное тысячелетиями, все это прославленное, все это запечатленное геройством, самопожертвованием, подвигами, в которых действительно говорит человеческая душа, благородная и высокая. Во время войны эта душа доходит до своего зенита великодушия и до величайшего презрения самого проклятого своего врага, смерти.
Я записываю свои деревенские впечатления, откинув всю столичную атмосферу, которая отравляет нервы и мозг и от которой убежать на время полезно. Здесь я прочел о гибели японского броненосца, «Хатцусе», который погрузился в воду так же быстро, как «Петропавловск» и с таким же количеством людей. Невестке бывают отместки. Только и всего. Ни мы, значит, ни японцы не избавлены от этих катастроф, и после каждой из них можем только спрашивать: чья очередь? Эти громады, кажется, исчезнут из флотов после этой войны. Пользы от них никакой не было, только стреляют издалека и то больше на ветер, а гибнут так же от укуса ядовитой мины, как маленькие суденышки. Прилетела злая муха, укусила, и нет человека. Подошла мина, дотронулась до водяной крепости и крепость заслонилась дымом и пошла ко дну со всеми своими машинами, грозными пушками и умными людьми. Кто умней? Мина ли эта, которая напоминает сигару, или эти колоссальные сооружения, перед которыми легендарный Ноев ковчег — детская игрушка? Спрашиваю, кто умнее, ибо и в предметах, искусственно одушевленных, надо думать, есть ум. Левиафан и комар. Рычащий издали громом лев и подползающая к нему незаметно ядовитая змея.
Когда-нибудь этой змеи попробует британский лев и зарычит на весь мир от боли. Роль «маленького» велика в природе и губительна. Микробы чумы и холеры истребили гораздо больше людей, чем пушки и ружья. Мина истребляет колосса на воде, вероятно, мина же будет истреблять и целые армии на суше.
27 мая (9 июня), №10141
CDXCI
Я очень люблю называть русский народ великим народом. Приятно принадлежать к великой нации, окружать лучезарным ореолом будущие судьбы. В самом деле, не великий ли этот народ, если он меньше всех работая и меньше всех учась, завоевал себе положение в просвещенной Европе, которая, впрочем, его терпеть не может, как выскочку, который появился неизвестно почему и неизвестно для чего. По мнению Европы, конечно; но и сами мы иногда сомневаемся, в чем собственно наше призвание, для чего бросила судьба наш народ в эту полу-Европу, полу-Азию, где природа так сурова, так трудно поддается человеческим усилиям?
Начинаю я этот разговор в деревне, прочитав весьма полезный указ о русских праздниках, обратившихся в русскую праздность. Государственный совет изложил свое мнение весьма осторожно, с оговорками о значении христианских праздников, но важно то, что он сказал, что никто не имеет права запрещать работать всякому, кто захочет работать в праздники. Доселе запрещали сельские начальники, урядники и многие наши «батюшки». Почин в этом деле принадлежит министру земледелия А. С. Ермолову, автору превосходного Народного календаря, в котором указана вся народная мудрость о погоде в связи с праздниками. От апреля по сентябрь этих праздников насчитывается семьдесят семь. А всех дней в этот период сто пятьдесят три, значит, рабочих дней семьдесят шесть, а праздников семьдесят семь. Скажите любому европейцу этот русский факт из самой рабочей поры, он подумает, что над ним смеются. Как, в то время, когда европеец празднует в эти пять месяцев только воскресенья, два дня Пасхи, день Вознесенья и Духов день, т. е. двадцать пять, много двадцать семь дней — если я что-нибудь пропустил, — русский человек празднует семьдесят семь дней, т. е. гуляет на пятьдесят дней больше, чем европеец. Какую же надо иметь силищу, чтобы заработать в семьдесят шесть рабочих дней столько же, сколько европеец зарабатывает в сто двадцать шесть дней. Надо быть богатырем, или особенным счастливцем, которому явно покровительствует небо, чтобы не впасть в нищенство. Но небо несомненно покровительствует Европе, дав ей лучший климат, более тепла и солнца, большее разнообразие произведений земли и большее время для пастбищ. Государственный совет совершенно напрасно в своем мнении не провел подобной параллели между Россией и Европой. Может быть, он опасался, как бы из этого не возникло нового раскола, но у наших раскольников, в особенности у сектантов, праздников гораздо меньше и не потому ли, между прочим, они живут лучше православных?
У Помяловского, писателя не только талантливого, но очень умного, есть в «Мещанском счастье» такое интересное замечание: «Не труд нас кормит — начальство и место кормит: дающий работу — благодетель, работающий — благодетельствуемый; наши начальники — кормильцы. У нас самое слово «работа» от слова «раб», хоть странно, — мы у Бога не рабы, а дети. Вот отсюда-то для многих очень естественно и законно вытекает презрение к труду, как признаку зависимости, и любовь к праздности, как имеющей авторитет свободы и человеческого достоинства». В этих словах, высказанных в 1861 году, много правды. Хотя с того времени крестьяне получили свободу, многое изменилось в воззрениях даже у них, но праздники и праздность не уменьшились. Поможет ли мнение Государственного совета уменьшению праздности, сказать трудно, ибо у крестьян есть тоже общественное мнение, в данном случае твердо обоснованное религией и преданиями. Несомненно также, что и мнение Помяловского продолжает иметь свое значение, а потому необходимо стремиться к освобождению личности, к простору труда и самодеятельности. Несколько лет тому у меня была в руках административная записка, приготовленная для внесения в Государственный совет, где исчислялись все те невозможные формальности, которые приходится преодолеть русскому человеку на поприще труда и личной энергии. Эти формальности не тем только страшны, что их трудно преодолеть, но главное тем, что самая мысль о них многих устрашает, устрашает возможностью потери хлопот и времени и человек махает рукой и никнет в своем почине…
Итак, мы трудимся меньше Европы, к которой имеем честь принадлежать. Как мы учимся, больше или меньше?
Передо мною сравнительная таблица, показывающая число дней каникул, неучебных и учебных дней в разных государствах Европы и в России. Я сделал несколько простых вычислений и прошу читателя присмотреться к ним.
Начнем с высших учебных заведений. Положим четырехгодичный курс в них, как в Европе, так и в России. Оказывается, что в эти четыре года занимаются науками:
русские — один год и двести девяносто пять дней,
французы — два года и семьдесят четыре дня,
англичане — два года и сто пятьдесят восемь дней,
австрийцы — два года и двести шесть дней,
американцы[9] — два года и двести десять дней,
немцы — два года и двести тридцать дней,
голландцы — два года и триста тридцать четыре дня,
датчане — два года и триста шестьдесят четыре дня.
Отсюда следует, что воспитанники наших высших учебных заведений занимаются наукой в течение четырех лет менее, чем все другие европейцы и американцы в такой мере:
на сто сорок восемь дней менее, чем французы;
на двести тридцать два дня менее, чем англичане;
на двести восемьдесят дней менее, чем австрийцы;
на двести восемьдесят четыре дня, менее чем американцы;
на триста четыре дня менее, чем немцы;
на триста тридцать четыре дня менее, чем голландцы;
на триста шестьдесят четыре дня менее чем датчане.
Я вас уволю от подробных сравнений нашего среднего образования с европейским по числу учебных дней. Если взять восьмилетний курс, то наши гимназисты учатся менее англичан на двести тридцать два дня, менее американцев на двести девяносто шесть дней, менее немцев на триста шестьдесят дней и менее датчан на четыреста пятьдесят шесть дней.
Отсюда несомненно следует, что мы и работаем и учимся меньше, чем все другие страны Европы. Несомненно же известно, что мы от всех отстали. Как отстали в земледельческой культуре, хотя желаем будто бы угодить Богу, празднуя несравненно больше Европы, так отстали в промышленности, в высшем образовании, отстали в науках, в искусствах, в технических знаниях, отстали так, что без Европы не можем обойтись ни на час, без ее ученых книг, без ее изобретений, без ее машин, без ее техников…
Неужели мы умней и способней всех этих народов, от которых мы отстали? Или бросить и образование и все науки, или надо работать и учиться, по крайней мере, столько, сколько учатся и работают в Европе. А мы еще кричим о переутомлении! Этого слова я во весь свой долгий век не мог понять, а работал я очень много. Если б мы в течение целого полувека не меняли постоянно системы образования, отыскивая самую благонамеренную, а оставались при старой уваровской, совершенствуя преподавание, приготовляя хороших учителей и улучшая их материальное положение и следя за развитием школ на Западе, брали бы то, что и нам необходимо, мы пожинали бы теперь другие плоды. А этим скаканием от одной системы к другой мы уронили наше образование и даже потеряли уважение к науке. Явилась та неуверенность, то шатание в мыслях и действиях, которые многое объясняют в тяжелом настоящем нашем положении.
10(23) июня, №10155
CDXCII
Если в нашей печати почти нет критики военных действий, то тем ее более в обществе. В обществе шумно, бестолково и тревожно. Конечно, надо согласиться, что такое критика. Обсуждать спокойно военные действия на основании телеграмм, как бы они ни были подробны, дело мудреное. Для сколько-нибудь верного суждения нужно очень многое; даже очевидец военный, знающий и образованный военный, не может разобраться в подробностях битвы и решить, почему она была проиграна. Когда битва выиграна, то обыкновенно не рассуждают. Она выиграна, потому что выиграна. Все действия командиров, значит, были верно рассчитаны, все шло с необыкновенной гармонией, командир все предвидел и все сообразил и т. д. На самом деле, быть может, совсем дело бы не так, командир далеко не все предвидел, никакой гармонии не было, но битва выиграна и все прекрасно. Все довольны, все торжествуют, нет ни трусов, ни плохих распорядителей, — все недостатки и промахи тонут в успехе, и раздаются награды в изобилии торжества и радости.
Я думаю, что и в битвах, как и в жизни вообще, счастье играет большую роль. Но для счастья нужны счастливые люди, а счастливые люди обыкновенно обладают счастливой организацией, а счастливая организация непременно заключает в себе талантливость. Что такое талантливость? Да та же счастливая организация, особенная гармония или дисгармония мозга и нервов. Говорят, что нормальный человек — бездарный человек, а гений — человек безумный. Не думаю, что это так, но несомненно, что в военном деле, как во всяком другом, необходима талантливость вождей. Талантливые люди — и счастливые люди. Конечно, кроме счастья, как говорил Суворов, надо немножко и ума, но ум вообще сопровождает талант, а талант — счастье. Народное слово «талан», думаю, одного происхождения со словом «талант», а оно означает человека счастливого, удачника.
Говорят, теперешние войны не то, что прежде, но какие бы они ни были, как бы ни изменило их современное оружие, все-таки нужно счастье и все то, что с ним соединяется. Говорят, теперь необходим расчет, превосходство в силах, в оружии, в артиллерии особенно. У кого больше артиллерии, тот и пан. Генерал Штакельберг проиграл сражение потому, что у него было меньше артиллерии, чем у японцев; вероятно, были и другие причины, и каждый критик непременно найдет свои… Под Тюренченом наши силы вообще были слабее во много раз, но храбрость наших войск была всегда изумительна. Третьего дня было у нас превосходное описание Тюренченского боя, принадлежащее одному из участников, описание сжатое, но грозное по своим доблестным подробностям. Очевидно, в оба раза расчета не хватало, а расчет — тоже одно из свойств таланта. Бывают расчеты медленные, сложные, обнимающие целую компанию или широкий круг действий, как, например, расчеты главнокомандующего, и бывают расчеты быстрые, вдохновенные, то, что называется в просторечии находчивостью…
На днях у нас была заметка о горных орудиях. Компетентный артиллерист говорил, что у нас не было горных орудий, потому что ни у кого их нет, кроме японцев. Японцы знали, что им придется сражаться в горных местностях, а мы, вероятно, не знали. Но я давно слышал, что горные орудия должны были быть и у нас, именно к прошлому январю. Но делались слишком долго испытания двух систем, а потому ни одна не поспела вовремя. Так говорят. Конечно, говорят много вздору и это, может быть, вздор, хотя тянуть дело, тихо ехать, совершенно в наших нравах. Мы все еще на старых пословицах: тише едешь, дальше будешь и семь раз отмерь и раз отрежь. Теперь посылаются и горные орудия, а наша скорострельная артиллерия превосходна, по всем отзывам и русских, и иностранцев.
Я упомянул вначале, что общество необыкновенно много говорит и критикует и откуда-то сообщает якобы факты, дающие ему право разводить свою критику, большею частью равнодушную, подбитую иронией, самую легкую для всех возрастов и для всякой степени невежества и остроумия. Я не люблю такую критику, ни в литературных произведениях, ни в художественных, ни в таких явлениях, как военные действия. Я предпочитал бы критику страстную, увлекающуюся. Как равнодушная, так и страстная могут быть одинаково ошибочны, но страстная критика, страстные споры — признак таланта или сильного чувства искреннего возбуждения; страстность говорит о живой душе, о силе одушевления, о муке сердца, об упорстве надежды на возрождение. Равнодушная, иронизирующая или мелко злобная критика — признак среды равнодушной к общественным интересам или привыкшей видеть эти интересы только в состоянии своих личных самолюбий, поползновений, расчетов и зависти. Отсюда комплектуются карьеристы, гастролеры, подозрительные дельцы, способные пользоваться обстоятельствами, и широкие говоруны и забавники. Отсюда комплектуются прожектеры, те господа, которые вдруг почему-то выплывают наверх и почему-то скрываются, не обнаруживая ничего кроме вреда, но на минуту изображают собою мудрецов. В этой среде и разводится по преимуществу та легковесная ироническая критика, о которой я упомянул.
Блестящий подвиг владивостокской эскадры не обошелся без проявления некоторой доли этой иронии. В одном органе (не ежедневном) высунулся мудрец и сказал, что вся Европа, мол, даже Англия восторгалась смелым подвигом Скрыдлова, но, по его же донесению, оказывается теперь, что крейсеры были под начальством адмирала Безобразова, подчиненного Скрыдлову. Но что ж из этого? Инициатором этого блестящего дела был адмирал Скрыдлов. Он взял его на свою ответственность, и он отвечал бы за его неудачу. Смелость — одно из качеств таланта. Он обнаружил эту смелость, этот отличный расчет, который счастие наградило успехом, т. е. то счастие, которое сопровождает талант. Он угадал тот психологический момент у японцев, когда они стали презирать русских и отрицать у них смелую инициативу. Это мог сделать только талантливый вождь. У неприятеля погибли тысячи, у нас — ни одного человека, и слава Скрыдлову прежде всего и слава Безобразову и всей его команде. Но ехидная и мелкая ирония ловит всякий случай для булавочных уколов, для потехи, для своих делишек и это гадко и противно.
Нас преследуют несчастия, вдруг превосходное дело и вместо того, чтобы встретить его, как встречают счастье, начинают судачить, змеиные жала высовываются и двигаются из стороны в сторону, ища себе сочувствия, поддержки и поощрения. Можно подумать, что мы недостойны и счастия по мелочности своей, по низменности своей души, прокисшей в каком-то стоячем болоте бессмысленной суеты и угодничества.
Наступающий момент великой нашей трагедии приковывает в эти дни внимание всего мира к Л. Н. Куропаткину. Но для него не мир важен, важна Россия, обращенная к нему всем своим наболевшим сердцем и верою в него. Что он сам испытал за это время, никто не расскажет, ни у кого не найдется достаточно ярких красок и выражений. Большая власть, соединенная с великой ответственностью, заключает в себе и великие муки. В недели человек переживает целые годы тяжелых душевных испытаний. Он, говоривший нам о терпении, с каким горячим нетерпением сам он ждал медленно подходившие полки и как сгорал он при неудачах! Теперь он возле неприятеля, который надвигается на него с юга и востока. Он каждый момент считает и работает с непрерывной энергией ума и воображения. Дай Бог ему силы. Противники приближаются друг к другу с каждым часом. Быть может, битва неминуема, но, быть может, она еще оттянется. Телеграммы — совсем не окна на поля сражений.
12(25) июня, №10157
CDXCIII
Я заключаю союз с англичанином. Я говорю не о России, а о себе, не об Англии, а об англичанине. Союз одного русского с одним англичанином. Мы сходимся не на нейтральной почве, а у меня в кабинете, или в кабинете у англичанина. Предполагается, что мы оба или говорим по-английски, или по-русски в такой степени, что друг друга понимаем хорошо, хотя выговор может быть и неважным. Никакой другой язык не допускается, ибо язык очень важная вещь при переговорах.
Совершенство наших дипломатов во французском языке и плохое знание других языков составляет одно из самых главных их несовершенств. Русский дипломат должен объясняться свободно, по крайней мере, на трех языках: на английском, немецком и французском. Король Эдуард, говоривший в Киле по-немецки, поступил, как даровитый дипломат.
Я излагаю англичанину все мои недовольства политикой его родины. Он излагает свои недовольства политикою моей родины. Потом мы стараемся найти пункты примирения и торгуемся. Торгуемся мы беспощадно и долго, назначая свидания друг у друга. Это также важно. Мы друг к другу привыкаем и друг друга узнаем. Мы простираем любезность до того, что я еду к нему в Лондон, он — ко мне в Петербург, я посещаю его на вилле, на острове Уайт, он — меня в деревне, в Чернском уезде.
Познав друг друга, мы начинаем критиковать политику наших правительств, наших государственных людей. Не только я его, а он моих, но я его и своих, и он своих и моих. Мы в этом отношении доходим до беспощадности, перемываем кости наших государственных людей так, что оба довольны и расстаемся до следующего свидания.
Покончив с государственными людьми, мы начинаем тузить немцев, не столько я, сколько он. У меня к немцам никогда никакой ненависти не было, но была зависть. Мне завидно было, помимо всего прочего, что у них был такой превосходный государственный человек, как Бисмарк, а у нас его не было, ни в его время, ни после. Что могло бы выйти, если бы и у нас был равный ему государственный человек, какую пару они составили бы, и к какому они союзу пришли бы! А так как такого человека у нас не было, то нам все приходилось жаловаться то на Бисмарка, то на Дизраэли. Тут я говорю англичанину мимоходом, что считаю большим человеком Дизраэли и понимаю надпись, сделанную королевой Викторией на его могильном памятнике: «Цари любят говорящих им правду». Это стих из Соломона, который в другом месте сказал, что «не следует бить вельмож за правду». Говорить царям правду — великое дело, но, к сожалению, у всякого человека своя правда.
Англичанин яростно нападает на немцев. Он доказывает мне, что никакого прока мы от них не дождемся, что они нас стараются провести, как проводили не раз. Они дают нам мед так, чтоб он тек лишь по губам, а в рот не попадал, тогда как мы проливали за них кровь и отдавали им в руки то Австрию, то Францию, как «добрые простаки» — это его выражение. Они, эти немцы же, из-под нашего носу взяли Турцию, они заняли Киао-чао, и дали нам повод взять Порт-Артур, они были причиной европейского ополчения против Китая и теперь ведут себя подозрительно: внутренне радуются неудачам русских, а наружно как бы сочувствуют. Англичанин перечисляет затем все немецкие пакости против англичан, всю их «недобросовестную» конкуренцию с Англией, все их ехидные дела на Ближнем Востоке, направленные против России и Англии.
Покончив с немцами, мы переходим к народам английскому и русскому, к народам в их свободном развитии, независимо от тех или других политических течений, дарований или бездарностей. Мы стараемся вникнуть в самые судьбы народов, соображаем ход истории, в которой были дружеские связи и вражда, определяем, что нам надо и чего не надо. Одним словом, целый конгресс вдвоем, при помощи книг, карт и своего разума, карт, конечно, географических, а не Воспитательного дома, который воспитывает умы столь многих. Я говорю, что высоко ставлю английскую литературу и свободу. Русские с XVIII века любили английский роман и любят его доселе. Англичане были нашими учителями. Шекспир и Байрон, Теккерей и Диккенс у нас почти родные. Только у англичан и русских есть юмор, а юмор — признак крепкой души, способной вынести величайшие испытания с спокойствием мученика. Если мы в политике не любили англичан, то потому, что Англия нам наделала достаточно пакостей. Англичанин соглашается, что действительно его родина наделала много нам пакостей, и он понимает, почему русский народ не любит «англичанку», т. е. королеву Викторию, при которой эти пакости были наделаны (Севастополь, русско-турецкая война, берлинская западня и проч.), но с восшествием на престол «англичанина» короля Эдуарда все может пойти иначе потому-то и потому-то. Пропускаю его доводы, ибо это наш с ним секрет. Он говорит много любезного о русском народе, об его духовном строе и проч. Он находит черты сходства у обоих народов, а иногда и превосходства русского человека над англичанином. Он сообщает мне свою оригинальную мысль, что у нас, как в Англии, есть настоящая аристократия — это Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Глинка, Брюллов и проч., не называю живых. Он прибавляет к этому, что дипломаты обыкновенно не знают самого важного в судьбах народов, это их литературы и искусства, воображая, что этого совсем не надо, тогда как это — дух народа, его стремления, его правдивые мысли. Они думают, что политика само по себе есть нечто цельное, забывая, что Платон и Аристотель были великие ученые и великие умы, не чета дипломатам. Он так просто и ясно говорит даже о настоящей войне, что возбуждает мои симпатии. Мы находим, что только и есть два народа, которые как бы созданы для того, чтоб идти рука об руку в Азии. Пропускаю подробности. Это тоже тайна.
Мы стали ставить условия союза. Разумеется, мне хотелось взять как можно больше, и ему несомненно этого хотелось. Так как ни он, ни я, мы — не министры-дипломаты, которые всегда стараются скрыть большую часть своих вожделений и даже обмануть друг друга с бессовестностью купцов, то мы вели разговор совершенно искренно, не скрывая своих вожделений, даже до мелочности. Мы горячились, потом смеялись друг над другом, потом над вожделениями друг друга и стали отбрасывать то то, то другое. И это выходило недурно, ибо, не скрываясь друг от друга и горячась, мы высказывали все затаенные свои мысли и потому взаимная критика была легка и не обидна. Разумеется, англичанин был сильнее меня, потому что он не воюет с японцами, а дружит, но и я ставил ему на вид будущее. We shake hardly our hand, несколько раз крепко пожали друг другу руки и разошлись. Союз еще не заключен, но я подумал: судьбы Божии неисповедимы.
18 июня (1 июля), №10163
CDXCIV
Я прочел много частных писем порт-артурских моряков за первые месяцы, когда этот город не был отрезан. Письма адресованы были к отцам, матерям, женам и приятелям. Все эти письма отличались свежестью впечатлений и большой искренностью. Никакого бахвальства нельзя было в них найти. Напротив, серьезное, высокое настроение и внимательное отношение к своему врагу, хотя иногда встречается слово «япошки». Но русский человек без юмора ни на шаг. Рядом с этим указания на недостаток наших судов, пораженных 27 января, на малочисленность миноносцев: «не на чем сражаться, на каждый наш миноносец у них три» — и тоска по балтийской эскадре. Я не могу иначе характеризовать те чувства и те желания, которые страстно высказывались молодыми людьми — прочитанные мною письма все больше морской молодежи, — как именно словом «тоска». Когда придет эскадра? Вышла ли она? Готовится ли выйти? В ней все надежды, наше спасение, наше нетерпение сразиться с врагом и померяться как равный с равным. «Господи, когда она придет?» Я думаю, и теперь это настроение, эта «тоска» по другу, по милому брату, к которому хочется броситься в объятия и разделить с ним судьбу, и теперь она существует там, на далекой окраине, на отрезанном «острове». Порт-Артур теперь именно остров, тогда как Севастополь, с которым его сравнивают, не был отрезан от материка.
Когда придет балтийская эскадра? Мы об этом ничего не знаем, но несомненно роль ее возвышенная не только в воображении и сердце порт-артурских моряков, но и в мыслях всей России и даже сухопутной армии. С месяц тому несколько раз печатались телеграммы из Копенгагена и других портов, что прошла огромная эскадра в сорок вымпелов и в ней видели балтийскую. Но это была только грозная тень ее, прошедшая через воображение какого-нибудь журналиста, а действительность еще зреет. Дай Бог, чтоб она зрела с необходимой энергией.
Мне иногда кажется, что у нас нет еще той энергии, которая чудеса творит, которая минуты обращает в дни и дни в месяцы. В деревне я читал Соловьева. Соловьев — не Карамзин, рисовавший художественные картины. Соловьев берет простые протоколы, но они ярко рисуют действительность самою сухостью своей, перечислением одних фактов.
В царствование Василия Ивановича Шуйского отряды поляков и литовцев бродили по России и нападали на города. Такой участи подверглась Устюжна (теперь город Новгородской губернии с 5 тыс. жителей). Она была беззащитна, ни укреплений, ни оружия. Но устюженцы и белозерцы, «не имея никакого понятия о ратном деле», все-таки вышли против неприятеля в некотором расстоянии от города и были «посечены, как трава». Поляки ушли. Тогда устюженцы стали делать острог и день и ночь, рвы копали, надолбы ставили, пушки и пищали ковали, ядра, дробь, подметные каракули и копья готовили. Скопин прислал пороху и сто человек ратных людей. Поляки четыре раза потом делали приступ к городу и четыре раза были отбиты с уроном, и устюженцы доселе празднуют 10 февраля, день спасения своего города от врагов, церковной процессией.
Откуда явились у этого городишка «саперы» и «техники», пушкари, оружейники и проч.? Из собственной энергии жителей, из желания во что бы то ни стало отстоять свой город. Каждый нес свой труд, свои знания, свое ремесло, и каждый, работая и вдохновляясь, совершенствовался. Вот что значит творить чудеса.
А у нас еще не так, чтоб каждая минута значила, значил каждый час и день, чтоб выискивались средства и родившаяся мысль горячо воспринималась, чтоб зажигались сердца, чтоб все кипели одним чувством — вывести родину из ее тяжелого положения. И чтобы все это было видно, чтоб примеры такой деятельности блистали. А в нашу работу все еще влезает медленная рассудочность, запоздалые поправки к начертанным планам, замедляющие работу, неуверенность в самих себе, в своих знаниях, в своей технике. О, эта техника, техника, как мы в ней отстали жестоко, как она дает знать о себе чуть не каждый день. Недаром соха-матушка еще царствует в наших головах, как пример нашего богатырства, недаром курные избы, да тяп да ляп и корапь.
Вы, пожалуйста, мне простите, если это не так. Я не обижусь, если вы даже выругаетесь. Отчего не выругаться: хуже всего молчать, ибо молчание — дорога к равнодушию, к вялости, к забвению энергии и долга. Я понимаю командующего армией, когда он говорит о терпении, т. е. говорит: «подождите». Он знает, что армия летать не может, что не в его власти сделать железную дорогу более провозной или строить тотчас второй путь, или, по крайней мере, множество разъездов. Его «подождите» зависит от того, пятьсот ли человек ежедневно прибывает или пять тысяч. Но там, на войне, работа кипит. Проводятся дороги, строятся укрепления, производятся ученья, закладываются фугасы и мины, сражаются и проч. и проч. Не говорю уже об умственной работе, которая в десять, в двадцать раз сильнее, чем в обыкновенное время.
Но о терпении говорить или ссылаться на терпение здесь, в Петербурге, в России, — значит забыть, что делается на войне и чего она требует, требует быстро, немедленно. Я не имею в виду указывать на что-нибудь специально — я говорю об общем подъеме, общей энергии. Ведь столько людей, которые сонно относятся к своему делу, так же, как прежде, медленно думают, так же медленно ходят и работают, так же играют в карты, это средство Воспитательного дома не только для незаконных детей, но и для законных чиновников. Уменьшился ли доход от карт? Народ в феврале на четыре миллиона рублей меньше пил. Ах, если б он перестал пить, то-то было бы любо, то-то пришлось бы позаботиться о государственных доходах более рационально, чем казенная монополия, в которой плавают, как детские игрушки, театрики и «образовательно-увеселительные» граммофоны.
Гёте сказал, что «невозможное только человеку возможно». И если когда было время показать, что мы можем сделать невозможное, то именно теперь. Если б я жил во время романтизма, я бы сказал, что нужен ураган деятельности. Не бойтесь, это не тот разрушительный ураган, который прошел по Москве. Он только показал, что может сделать природа в своих напряжениях. Проклинать ураган так же бесполезно, как бесполезно проклинает войну Л. Н. Толстой. Отчего не взывать к Богу и к божественному учению Евангелия о любви к людям и по поводу этого ужасного урагана, который не щадит жизнь людей и их состояния? Разве нельзя написать множество красноречивых страниц и о бессмысленных, по нашему мнению, и жестоких действиях природы, землетрясениях, ураганах, ливнях и засухах, от которых трудящиеся люди мрут в мучениях голода больше, чем от войны, написать о том «the АН», который это позволяет и направляет? Дерзновенной мысли нет предела, и она уходит от разума жизни в дебри путаной философии и «сочиненной» религии с «собственным» Богом. Человек — часть природы, и мир и тишина достигаются только борьбою и тяжелыми испытаниями. Надо взывать к энергии творчества, к энергии патриотизма и работы, а не к учению о «непротивлении злу» и японцам, хотя бы они пришли в Петербург, все истребляя на своем пути. Приятные перспективы, нечего сказать, и это якобы глас Божий! Весьма сомневаюсь и смею думать, что это — галлюцинация, не более. По-моему, надо напрягать всю энергию против врага и в этом — разум, всемирный разум. Напряжение энергии сокращает время войны и возвращает народы к мирному труду.
21 июня (4 июля), №10166
CDXCV
Из-за чего мы воюем?
Как это ни странно, но этот вопрос задают себе довольно многие, сознавая в то же время, что раз нас втянули в войну, необходимо поддержать честь и авторитет нашего оружия.
«Мы это отлично понимаем, говорят они, но из-за чего мы воюем? Не из-за Маньчжурии же и Кореи?»
Мы воюем из-за того, чтобы никто не смел трогать нас на Дальнем Востоке, ни теперь, ни в будущем. Власть государства основывается на том, чтобы все признавали его авторитет. Это дается испытанием его силы. Так было у нас с Казанью, Астраханью, Крымом, Кавказом, Средней Азией. Россия утвердилась там путем признания ее силы, путем войны, и никто не оспаривает у нас этих владений.
Россия не может позволить не только бить себя по лицу, но и в спину. Дальний Восток, если можно так выразиться, спина России. К нашему Дальнему Востоку протягивали руки не только Япония, но и Америка, и Англия, в особенности с тех пор, как мы провели туда железную дорогу. Таким образом, Россия ведет войну не с Японией только, но и с Англией и Америкой, и вот причина симпатий американских и английских к успехам Японии. Железной дорогой мы открыли для культурных промышленных стран Маньчжурию и обострили их аппетиты. Япония ударила нас, и Россия не могла и не может сказать:
— Бей! Я отойду!
Вот, в грубых, конечно, но понятных чертах ответ на вопрос: из-за чего мы воюем? Причина та же самая, которая лежит в истории объединения Русской империи. Эта история началась давно, и мы приблизились к концу, и надо отстоять себя во что бы то ни стало, с какими бы жертвами это ни было связано.
Япония ударила нас не во время. Наше движение на Дальний Восток совершалось медленно и очень благополучно, так благополучно, что это нам не стоило крови и особенных усилий. Подходили как-то сами собой благоприятные обстоятельства и мы занимали земли или нам их уступал Китай без всякой войны. Когда японцы, победив Китай, заняли Ляодун, мы их устранили оттуда опять без всякого пролития крови. И вот мы, так сказать, избаловались этими легкими бескровными победами и не могли себе вообразить, чтобы так скоро Япония могла собрать все свои силы и потребовала, чтобы мы уходили. Мы именно не могли себе этого вообразить. Отсюда и являются наши неудачи. Говорят, что когда генерал-адъютант Куропаткин приехал командовать маньчжурской армией, она не насчитывала и пятидесяти тысяч человек, разбросанных в разных местах, а наш флот уже был разбит до объявления войны. Нам предстояло одно средство для избежания войны — последовать учению Л. Н. Толстого и предоставить японцам воевать с не противящимися им, и забирать себе все, что они хотели, пока аппетит их не насытится. Это было бы необыкновенно оригинально, и обратило бы Россию снова в данницу монголов, принизило бы в ней национальный дух, подвиги ума, таланта и самоотвержения и рассыпало бы ее единство в прах. Все просвещенные страны, несмотря на миролюбивые теории и пропаганду публицистики, философии и романа, доселе продолжают судить о силе народов, об их живучести и значении и по военным успехам. Справедливо это или нет, но верно то, что выигранная кампания неизмеримо лучше проигранной и народ-победитель вырастает и в своих глазах, поднимаясь в своей энергии, и в глазах всего мира. Россия должна была принять нагло брошенный ей вызов и сражаться при обстоятельствах самых неблагоприятных, самых исключительных, какие никогда не встречались в нашей истории. Ей пришлось бы, конечно, закрепить за собой этот Дальний Восток непременно войною; она это отлично сознавала, укрепив Порт-Артур, и начав созидать флот, до того времени почти не существовавший там. История разберет все ближайшие причины этой внезапности войны, но теперь надо стоять во всеоружии энергии за свое дело, за судьбы России, за упрочение ее могущества, и всякий это поймет, если сообразит возможные последствия. Видно, Бог посылает народам испытания для того, чтоб они не зазнавались, чтоб они думали о себе серьезнее и глубже, чтоб они внимательно относились к каждой минуте своего существования и бережно и энергично хранили и развивали свои силы и свое благосостояние.
Что будет, мы не знаем. Но знаем, что есть, и можем себе с достаточной точностью объяснить причины настоящего положения. Не вступая в область военных соображений, не будучи специалистом, нельзя не обратить внимания на то, что настоящая война, помимо отдаленности от России и всех затруднений, с этим связанных, совершенно нова для нашей сухопутной армии по самому характеру местности. Наши войны были равнинные. Мы переходили Альпы, дрались на Шипке, но это были, так сказать, скоро проходившие мгновения. Ляодунский полуостров весь прорезан горами и возвышенностями, совершенно чуждыми для русского человека, у которого совсем нет горных привычек и горной выправки, хотя она была во время завоевания Кавказа, но это завоевание длилось десятки лет. Самое военное искусство должно было применяться к этим новым условиям, как и к совершенно новому для нас врагу, который обнаружил неожиданно необыкновенную готовность в военном деле, единство в действиях, столь необходимое в военное время, и сосредоточил на театре войны почти вдвое больше сил, чем могли мы это сделать.
Относительно «единства», в английском «Панче» карикатура под заглавием «Урок в патриотизме», с такою подписью:
Джон Буль: Ваша система действует блистательно. Как вы достигаете этого?
Япония: Очень просто. У нас всякий человек обязан жертвовать своей жизнью за родину и делает это.
Джон Буль: Замечательная система! Надо будет ввести ее и у нас.
Последние депеши, однако, говорят, что начинаются соперничества между японскими адмиралами и между генералами, зависть друг к другу, эгоизм, когда каждый считает себя незаменимым и готов смеяться над неудачами соперника. Явление весьма обыкновенное, несмотря на то, что оно весьма вредное.
Нам приходится воевать на суше и на море. Успехи на суше не могут еще нам дать окончательной победы, и военные люди, кажется, в этом отношении не спорят. Владея морем, японцы неуязвимы у себя на родине и могут выставлять еще долго войска.
Поэтому-то балтийская эскадра приобретает для нас, для будущих судеб России огромное значение. Она привезла бы с собою, может быть, силу более, чем стотысячная армия. Считаю возможным заявить о тех желаниях, выражение которых я слышу постоянно, чтоб хоть часть балтийской эскадры могла двинуться и усилить собою наши тихоокеанские морские суда. Возможно ли это, — мы, разумеется, бессильны решать такие вопросы, но их ставит самый искренний, самый горячий патриотизм, видящий в чрезвычайном подъеме русской энергии желанный конец войны. Героические подвиги владивостокской эскадры, слабой числом судов, но сильной мужественной смелостью и уменьем, еще более возбуждают те же желания…
26 июня (9 июля), №10171
CDXCVI
О моем союзе с англичанином известили иностранную публику по телеграфу. Можете себе это представить! А ведь мы только вдвоем и говорили и никакой политической подкладки на русском меху или английском трико не было. Оно и понятно: мы — частные люди, я — журналист, а он — англичанин. Он больше меня, ибо англичанин заседает в парламенте, участвует в митингах, говорит речи, знает, что такое политическая свобода, свобода печати, общественное мнение; он — один из четырехсот миллионов подданных английского короля, я — один из ста сорока миллионов подданных русского царя; его предки уже в XVI веке имели Шекспира и Бэкона, а мои — в то время имели только дьяка, в приказах поседелого, да монаха-летописца, и проч. и проч. Я очень хорошо понимаю, что он старше меня и благодарен ему, что он ведет со мною переговоры. Вы мне говорите: «англичане — свиньи», а англичане говорят. «русские — свиньи». И из этого можно вывести только такое деликатное спряжение: я — свинья, ты — свинья, он — свинья, мы — свиньи, они — свиньи. Из такого спряжения ничего не выйдет кроме свинства…
Наконец, кому какое дело, что я веду с ним переговоры? Мы не прокламации сочиняем, даже не политические статьи пишем. Мы просто разговариваем и даже очень свободно разговариваем, как я уже имел честь об этом докладывать. Свободно разговаривать мы уже выучились, вот только свободно писать еще не выучились, но и этому выучимся, если не я, то вы. Мы — не министры, не чиновники, ни он, ни я. Никакой политической подкладки, ни медвежьей, ни триковой нет у нас. Повторяю это для того, чтобы прибавить, что у нас подкладка зоологическая, т. е., пожалуй, медвежья и торговая, так как трико имеет отношение к зоологии: медведь — торговый и трико — торговое. Мы ведем переговоры на почве зоологии и торговой географии — есть такая наука, торговая география. Обе науки эти гораздо основательнее политики, ибо политика, по современным понятиям дипломатов, наука такая неустойчивая, что черт ее знает, где она начинается и где кончается, если принять в соображение политические партии, начиная с консервативной и кончая анархической. Заключается ли она во взаимной борьбе или взаимном обмане и лжи, добросовестный человек не ответит на это прямо, одним словом — «да» или «нет», а принужден будет сказать целую речь и притом такую темную, что из нее можно будет сделать два заключения, совершенно противоположные. Англичане и русские могут ругаться между собою. Русские между собою и подавно могут ругаться, ибо поедать друг друга они давно привыкли. Но мы с англичанином не ругаемся. Англичанин мне не говорит: «вы оскорбляете мой патриотизм», и я англичанину не говорю: «вы оскорбляете мой патриотизм», потому что мы оба понимаем отлично, что это глупо и к добру не приведет ни его, ни меня. Англичанин мне не говорит: «я в союзе с японцем и могу вас стереть с лица земли», и я ему не отвечаю какой-нибудь подобной же глупостью. Стоит только не говорить глупости и уж дерзости не скажешь, ибо дерзость и глупость — родные сестры. Но смеяться можно, можно рассуждать даже резко, можно критиковать с большою свободою и уважать друг друга и сговариваться об общем деле. Мы и сговариваемся об общем торговом деле. Мы заключаем союз торговый, а не политический, и я прекрасно понимаю, что с англичанином, заключившим политический союз с Японией, неделикатно даже и начинать разговор о политическом союзе. Англичанин выходит из тех же оснований, как Флетчер, Баус, Горсей и другие почтенные джентльмены XVI века, приезжавшие в Россию при царе Феодоре и Борисе Годунове для торговых соглашений и составившие о России интересные мемуары. А так как я несколько знаком с XVI веком, то с удовольствием в него ухожу от наших времен, от современной политики и дипломатии и думаю, что возвращение к старому иногда вещь очень полезная.
Когда я обнародовал свои переговоры с англичанином, то вдруг оказалось, что последовало соглашение России с Англией относительно котиков. Из этого отнюдь не следует, конечно, что мы с ним вели переговоры именно о котиках — для этого есть лица официальные, — но из этого следует, что мы это предчувствовали, ибо котики — это, с одной стороны, зоология, а с другой — торговля и промышленность. Вместо того, чтобы положить руки на мечи и клясться, как Гамлет и Горацио, на мечах, Россия и Англия положили руки на мягкого и пушистого котика и поклялись на нем не изменять друг другу относительного этого зверька, очень плодовитого, но для продолжения своего полезного для торговли существования требующего известного международного покровительства.
Япония была этим очень недовольна, ибо думала, что она — важнее котиков, но она будет еще более недовольна в будущем, когда увидит — это рано или поздно случится непременно, — что зоологические и географические союзы прочнее политических, которые заключаются для избежания крови и железа, но ведут к крови и железу очень часто. Она надсаживаясь кричит, что действует в интересах цивилизации и Европы, что она несет ей благодеяния и защиту от русского варварства, что желтая раса превосходит белую, которая скверно пахнет для японского носа; она льстит с грубостью кривляющегося выскочки, воображая, что Европа так глупа, что не поймет этой лести, не разберет для чего и какими путями она распространяется.
Я убежден в том, что эта воинственная, войнолюбивая Япония своими азиатскими вожделениями вызовет торговые союзы и антропологический союз белой расы, и это будет способствовать установлению европейского мира скорее, чем самые умные и убедительные речи писателей, романистов, проповедников и мирных конференций. Японию будут так же клясть, как теперь ей сочувствуют, клясть потомки тех самых европейцев, которые теперь пишут ей бессмысленные дифирамбы и истерические аллилуйя.
27 июня (10 июля), №10172
CDXCVII
Князь Мещерский налгал на меня сегодня целую страницу с тем бесстыдством, которое у него все увеличивается по мере приближения к гробу и возрастания плюшкинских добродетелей.
Он говорит, что якобы я имел претензию быть «экспертом по морским делам» и что якобы какой-то моряк сказал мне: «Вы все-таки ничего не смыслите и не больше знаете во флоте, чем свинья в апельсинах». Надо иметь совершенно свинское воспитание, чтобы позволить себе сказать такую фразу, а моряки — люди воспитанные. Но князь Мещерский не может уже ничего соображать, занятый желанием кому-то угодить, с кого-то взять, у кого-то выпросить; поэтому даже на свои авторитеты клевещет, рисуя их печной сажей. Как Плюшкин, он то и дело говорит о своем бескорыстии, жалуется на свою бедность, говорит о деньгах и расточает советы, как и куда жертвовать.
— Для вас пять тысяч все равно что для меня пятьдесят рублей, — говорит он, сидя в собственном своем доме. — Вам бы на раненых их пожертвовать надо, а вы — на флот. Знаю, вы национальный флот хотите создать! Ведь это вроде национальной гвардии? Ох, нехорошее дело, государь мой, вы выдумали, — шамкает он, как Плюшкин, завертывая полы своего халата над бренными коленками.
Я, государь мой, ничего не выдумывал, а ваши выдумки так плохи, что ребенок им не поверит. Своими деньгами я могу распоряжаться, как хочу, и не даю вам советов, как распоряжаться вашими деньгами. Можете даже кушать ассигнации и процентные бумаги, завертывая в них спаржу, — это дело вашего желудка и ваших желаний.
О морском деле я никогда не говорил, как эксперт, и никуда меня в эксперты не приглашали. Я говорил о нем только то, что всякий должен знать, если он не лишен рассудка, ибо во всяком специальном деле есть стороны, так сказать, общественные, о которых каждый человек может выражать свое мнение и до известной степени судить, а занимая известное положение, даже обязан судить. Вероятно, на этом основании есть очень просвещенные страны, в которых морскими и военными министрами бывают не моряки и не военные. Я не знаю, хорошо это или нет и прогрессирует ли морское и военное дело в этих странах. Я твердо думаю, что морскому министру следует быть моряком, а военному — военным, поэтому так далеко не захожу, чтоб давать право всякому не специалисту судить о деле с его специальной стороны. Но повторяю, что во всяком специальном деле есть стороны совершенно не специальные, о которых всякому смертному «должно сметь свое суждение иметь». Если на железной дороге расползается ни с того, ни с сего насыпь, то я имею право сказать, что кондуктор в этом не виноват. Если валится дом не от урагана, а сам собой, когда в воздухе тишь и благодать, я не вызову ни с чьей стороны протеста, если скажу, что дворник тут ни при чем, а виноваты архитектор и подрядчик, которые снюхались для личной своей выгоды и положились на безнаказанное авось и отсутствие хозяйского контроля, или общественного, если дом общественный. Князь Мещерский не сумеет сделать пол-аршина мостовой, но он имеет право сказать, что мостовая плоха, и даже доказать это. Заседая в думе, он может авторитетно сказать о провалившемся мосте, что он построен плохо и недобросовестно, а ведь князь Мещерский в строительном искусстве мостов ни аза не знает.
Вот и я так говорил о морском деле, говорил, как журналист, как представитель общества, прислушиваясь к его мнениям и к мнениям морских специалистов, выраженных в русской и иностранной морской литературе. Не боги горшки обжигают — это давно и умно сказано. Угождая богам, не следует забывать, что и они способны ошибаться и тем скорее, чем больше молчат вокруг них или поддакивают: «так точно, ваше превосходительство», «совершенно справедливо, ваше сиятельство». Далеко не всегда превосходительство и сиятельство правы, даже тогда, когда они специалисты. Известна статья в «Морском Сборнике» покойного адмирала Макарова, который спорил с кораблестроительным специалистом о переборках в броненосцах. Специалист не сдавался и делал по-своему. Только потом стали делать по-макаровски, когда убедились на деле, что он прав. Но таково бывает самомнение даже у специалистов, у богов, которые горшки не обжигают, а в некотором роде творят.
Вообще свобода мнений ничему и никому не мешает. Вздорные мнения падают сами собой, а дельные помогают. Ведь даже сапожник в известном анекдоте о Фидии высказал дельное замечание и художник исправил свою ошибку в обуви. А ведь не будь это великий художник, а просто заурядный и надменный скульптор, он назло бы не исправил. Как, мол, смел сапожник выражать какое-нибудь мнение обо мне, о скульпторе?
В морском деле я был именно этим сапожником, хотя ни одного Фидия морского дела не видал, и ни с одним таким Фидием не говорил, и даже не знаю, есть ли они у нас. Но страстно желаю, чтоб они были. Если князь Мещерский видел такого Фидия, который якобы мне сказал, что я смыслю в морском деле столько же, сколько свинья в апельсинах, то благоволит его назвать хотя бы для поклонения ему. Я очень склонен поклоняться гениям и талантам, и жажду их для своей родины, как евреи жаждали манны небесной в пустыне. Фидию я прощу даже грубость, а глупости он никогда не скажет.
В качестве сапожника в морском деле, я говорил о недостатке у нас техников, о необходимости развивать наше техническое образование для всех сфер жизни, не исключая морской, потому что горько видеть свою родину отсталой в технике на десятки лет, если не больше.
Я говорил о необходимости для России иметь большой флот, о том, что с Японией мудрено сражаться без такого флота; я печалился вместе с обществом о гибели наших судов и радовался вместе с ним, когда их поправили. Я приглашал общество к пожертвованиям на флот и только жалел о том, что мое слово недостаточно сильно, чтоб зажечь сердца так, как следовало бы; я принимал некоторое участие в разработке тех мер, которые приняты для сбора пожертвований, и желал бы, чтобы общество продолжало интересоваться нашим флотом, как интересуется им германское и английское. Вообще я говорил и делал, что мог, говорил свою «правду» от чистого сердца и имею доказательства, что читатели мне симпатизировали, даже в морской среде и морской журналистике, и поэтому имею некоторое право не обращать внимания на того моряка, с которым говорил князь Мещерский, если он говорил с моряком, а не со светским сплетником и балаболкой.
Dixi.
28 июня (11 июля), №10173
CDXCVIII
В последнее время стали появляться известия о варварских проявлениях японского характера и нравов. А то их все хвалили и ставили в образец не только России, но и Европе. Что значит успех в военном деле! Все кланяются и благодарят. Для того, чтобы быть образцом человека, для того, чтобы обратить на себя внимание великими произведениями научного и художественного творчества или великими благодеяниями человечеству, сколько лет для этого надо. Сколько надо победить предрассудков, зависти, злобы, невежества, сколько надо вынести борьбы умственной и нервной. Какие века нужно народу, чтобы его отличили и признали за полезный для человечества, даровитый народ, как много он должен потрудиться во всех областях жизни и как много он должен представить талантов и гениев! Возьмите любую европейскую страну и проверьте по ее истории это положение. А в войне — сейчас же слава. Так уж человек устроен: гром всякому понятен своею устрашительностию, но слава его преходяща, как слава войны. А потому непонятно холопство образованных людей перед громом войны, непонятно унизительное целование ног у победителя. А посмотрите, как иностранный журналист холопствует перед японцем, как старается выставить его не только в виде героическом, но даже в виде какого-то идеала, точно японец в самом деле исполняет великую цивилизаторскую миссию.
Несколько лет тому появилось японское искусство в Европе, японские вазы, бронза, картины, комнаты. Потом весь свет обошла какая-то пошлость, нестоящая развязать ремень у сандалий «Прекрасной Елены» Оффенбаха, и только потому, что она изображала японскую публичную девицу, гейшу. Весь мир аплодировал этой девице и сгорал желанием ее видеть. Японское искусство совершенно уподобляется этой девице в ее японском костюме и кривлянье.
И девица косоглазая, и искусство косоглазое, нелепое, все основанное на мелочах, на муравьиной работе, все какое-то искривленное, противное европейской красоте, искусству и глубине, лишенное замысла, возвышающей мысли, идеала, на котором человек мог бы отдохнуть от материальных и всяких иных мелких забот и возвыситься, просветлеть душою. И это косоглазое, бессмысленное, безнравственное смотрелось и приобреталось разжиревшим богатством, которому девать некуда денег. Что в моде, то и хорошо. Материальный век искал курьезов, ломаных линий, завитушек, женских голых тел, извивавшихся в виде змей, драконов, картин без всякой перспективы, бронзовых и слоновой кости вещиц, изображающих японское уродство. Европейская декаденщина немало из этого источника заимствовала и сама явилась курьезом в литературе и искусстве и останется, как курьез. Христианство падало, мельчало, т. е. мельчал христианин, мельчала женщина в известных сферах и явлениях, и все, казалось, играло в курьезное, косоглазое, маленькое, беспардонное. И вот это маленькое, жесткое и жестокое, способное и на войне на кропотливую работу и на укусы дракона, ни во что не верящее, кроме материи, и никогда не испытавшее великих идейных войн, идейной борьбы, никогда не знавшее ни классической литературы, ни классического искусства, мертвое в своей косоглазости, умственной и художественной, курьезное и в жизни, и на сцене, вдруг явилось с европейской артиллерией и европейскими пушками и стало умирать массами и пороть себе животы, чтоб не попасть в плен, и Европа разинула рот и стала кричать похвалы желтой расе и потрясать животом от восторга…
Чего радуются европейские господа цивилизации? Англичан били буры, итальянцев били абиссинцы, да и кого только не бивали в эти тысячелетия. Гунны, авары, монголы разрушали цивилизации, истребляли народы, проносились ураганом и исчезали. Ураган нравится. Об урагане весь мир кричит, о страшном землетрясении говорят, не наговорятся. И ужасно, и приятно, ужасна картина, а приятно потому, что вас она не касается. Вам этот ураган не принес никакого вреда, вы только о нем читаете, и для вас он просто скандал в природе. А скандалы вы любите и в жизни, и в природе…
Японцы делают некоторый вихрь, похожий на скандал для европейцев. Они воюют с маленькой Россией, как буры воевали с маленькой Англией. Россия и Англия — большие державы, но они — маленькие за тысячи миль от Европы. Против Англии выступила страна в триста тысяч человек, против России выступила страна в пятьдесят миллионов. Разница огромная, но английские журналисты охотно об этом забывают, выпуская против нас змеиное жало. Триста тысяч человек составляют менее одного процента всего населения Британских островов в Европе и менее одной десятой части одного процента населения всей Британской империи, а пятьдесят миллионов человек составляют половину населения коренной России и больше трети населения Русской империи. Пусть английские журналисты это сообразят и не особенно ликуют, ибо ликовать в этом случае просто глупо и унизительно для самих англичан. Пусть они помнят, что воюет маленькая Россия, а не великая…
Что такое совершили японцы? Что это Наполеон, что ли, идет, Александр Македонский? Куроки идет и еще Оку. Мы прозевали или были слишком добродетельны в ночь на 27 января, а японцы — слишком наглы. Они сделали большой «скандал» в эту памятную ночь, и Европа пришла в восторг. Мы вдруг, в один час, очутились почти без флота, и только бездарность японцев — причина тому, что они в месяц не окончили кампании: у нас была всего горсточка войска. Они могли бы тотчас высадиться на Квантуне и обложить Порт-Артур с суши и с моря. Но для этого надобна была даровитость, военный гений, полет орла, а не Куроки. А у них — только аккуратность, та мелкая аккуратность и старание, которые они выказывают в своем косоглазом искусстве.
Никакого даровитого военного действия у японцев не было, решительно ни разу, хотя они одолевали нас многочисленностью своих войск и артиллерии. Буры одолевали англичан своей малочисленностью и искусством. Японцам помогает из трусости или по-родственному то коренное население, где мы сражаемся и где у нас не один враг, а два, не считая англичан и американцев, занимающихся контрабандою в пользу Японии с большим успехом. И та и другая страна постоянно отправляют пароходы с контрабандой, с назначением разным Смитам якобы в китайские порты. А когда русские берут призы, английский торгаш кричит в парламенте и в газетах, а мы сейчас же готовы внимательно прислушиваться к тому крику…
Пять месяцев маленькая Россия, поставленная в невыносимые условия времени, пространства и затаенной вражды китайцев, бьется с большим драконом и обрезывает его когти и ранит его тело так, что он рычит от боли и злобы и начинает грызть умирающих от ран сынов великой России и даже терзать трупы их. О, будь мы приготовлены, как японцы, — а мы могли бы это сделать несомненно, если бы готовились, как они, — мы давно окончили бы эту войну и доказали бы, что никакой желтой опасности для России не существует, что белое племя во всех отношениях выше желтого и что косоглазие отнюдь не есть преимущество желтого человека перед белым.
Глаз есть зеркало души, косой глаз есть признак косоглазия души. Все их преимущество — чисто материальное и все оно европейское, изготовленное умом и наукою белого человека, только белого человека. Только он мог создать великую цивилизацию и поставить человеческой душе высокие требования…
Гг. военные видят в действиях японцев какие-то особые приемы тактики и стратегии. Может быть. Но это еще совсем ничего не говорит о преимуществе японского мозга перед европейским, японской души перед европейскою. Японцы храбры несомненно, но никогда им не победить белых племен, и все эти Куроки, Оку и как их там еще, никогда не будут в состоянии овладеть Азией и нагнать ужас на Европу. То, чем Япония владеет, может наделать Европа столько, что вся японская военная «гениальность» обратится в прах. Можно ли допустить хоть на минуту, что в наши дни возможны нашествия варваров, когда наука с каждым днем изобретает все более и более верных средств для войны и против войны, и когда великая Россия может встать железною стеною на своих границах, приобретенных русской кровью и русским умом.
Презирать врага не следует. Это общее правило. Но есть вопрос, какого врага? Иного врага презирать следует, но презрение должно опираться на силу, на сознание своей непобедимости, своей твердой воли и доблести христианской души. Над врагом надо быть выше, не с поговоркою «шапками закидаем», а с уверенностью в действенности своей нравственной и материальной силы. Чтобы вырабатывалась и поднималась эта сила постоянно и сияла светом мужественной и крепкой души…
Да, воюет с Японией и ее союзниками тайными и явными только еще маленькая Россия. Великая русская душа еще только поднимается, сгорая жаждою, чтобы ее направляли талантливые души и сильные умы. Русская могучая отрасль славянского племени может иметь неудачи, испытанные всеми народами Европы, но она останется сильною и живучею несмотря ни на что; она найдет в себе энергию, чтобы выдержать даже ураган, чтоб с ураганом бороться и победить его. Война с желтолицыми варварами — не гибель России, не конец ее. Россия живет и начнет жить той широкой и сильной жизнью, в которой со временем примут деятельное участие свободные и независимые славянские народы и славянское племя заговорит перед целым миром таким языком, которого он еще не слыхал и значение и силу которого он только еще предчувствует, радуясь желтолицей силе…
2(15) июля, №10177
CDXCIX
1904 год оправдывает дурную славу високосных годов. Смерть кричит теперь повелительным голосом. Вчера Чехов успокоился вечным сном.
Уже десять лет тому назад его одолевал кашель и были сильные перебои сердца, о которых он не раз упоминал в своих письмах ко мне. Из Ялты в апреле 1894 г. он писал об одном своем сердечном припадке: «Чувство теплоты и тесноты, в ушах шум… Быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как-то неловко падать и умирать при чужих». И чахотка давно таилась в его груди. У него случилось первое кровохаркание в Сибири, через которую он ездил на Сахалин (1890 г.). Но потом он чувствовал себя лучше. Первый сильный припадок чахотки, кровоизлияние, вследствие чего он лег в клинику, случился при мне в Москве в 1896 г., когда мы с ним сели обедать. Было это как раз в день разлива реки Москвы. Я увез его в гостиницу и послал за врачами. Один из них был его приятель. Когда, осмотрев его, они уехали, он сказал мне: «Вот какие мы. Говорят врачи мне, врачу, что это желудочное кровоизлияние. И я слушаю и им не возражаю. А я знаю, что у меня чахотка».
Но врачам до этого случая он не показывался и старательно скрывал от родных свою болезнь. Это была натура деликатная, гордая и независимая. В ней глубоко лежало что-то самоотверженное. Он начал писать еще студентом; родители его, на руках которых были еще сыновья и дочь, жили бедно, и его ужасно огорчало, что на именины матери не на что сделать пирог. Он написал рассказ и отнес его, кажется, в «Будильник». Рассказ напечатали, и на полученные несколько рублей справили именины матери. И с этого времени он стал кормильцем своей семьи. Все, что он делал, он делал необыкновенно просто. Строил ли он школу для крестьян, а он построил их несколько, помогал ли кому, принимал ли в ком участие, он исполнял все это как будто в силу какой-то врожденной обязанности, самой простой. Казалось, человек жил, ничем не задаваясь, ни к чему не стремясь, жил потому, что родился, но все то, что близко ему было, что находило отклик в его душе, все это получало от него какую-то здоровую теплоту. Его душа была так богата прекрасными дарами, что всякий, приближавшийся к нему, испытывал это. Это был как будто самый обыкновенный человек, со всеми слабостями, с самыми обычными требованиями от людей и от жизни; в какой-нибудь компании его трудно было отличить от других: ни умных фраз, ни претензий на остроумие, ни ложной скромности, ни каких-нибудь особенностей в костюме, которыми теперь, по примеру иностранцев, начинают отличаться новые «знаменитости», быстро попадая в боги и думая, что надо носить если не перо и шпагу, то какой-нибудь кафтан или куртку. Все в нем было просто и натурально. Он был как будто выражением всей той обыденной жизни, которую он изображал так превосходно, как настоящий мастер, и в которой герои и героини такие же обыкновенные люди, как он. Он любил свою среду и сторонился от всего того, что было ему так или иначе чуждо. Наедине с приятелем или в письмах он судил с необыкновенной тонкостью и чуткостью о людях и о жизни, но опять же без всяких вычур, без той литературности и назидательности, в которых можно было бы увидеть какие-нибудь претензии человека, поставленного на значительную высоту в родной литературе. Никогда он не стремился ни учительствовать, ни проповедовать. Я не сделаю никакого преувеличения, если сравню некоторые его письма с письмами Пушкина. Та же искренность, та же простота, тот же ясный слог, та же независимость мысли от какого-нибудь «направления». Он был глубоко оскорблен, когда бывший Союз писателей выбрал его в свои члены незначительным большинством за повесть «Мужики», которая, будучи правдива, грешила против тенденции Союза. В нем соединялся поэт и человек большого здравого смысла. Художественная объективность как будто руководила им и в жизни, и он смотрел ей смело в глаза, и самостоятельно разбирался. Я позволю себе привести следующие его строки из его письма ко мне из Ялты (1894 г., кажется — он иногда не ставил на своих письмах года):
«Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. <…> Рассуждения всякие мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением. Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, и они это свое неопределенное желание выражают так: «чего-нибудь кисленького». Так и мне хочется чего-то кисленького. И это не случайно, так как точно такое настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками, и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью…»
Он ошибался. Мамаем оказались не естественные науки, а что-то другое. Науки присмирели и даже попрятались.
Я познакомился с Чеховым давно, вскоре после появления его первого рассказа в «Новом Времени» (в 1886 г.). Он работал до того в «Петербургской Газете», подписываясь А. Чехонте. Я написал ему, чтобы он бросил этот псевдоним и подписывался своей фамилией. Так он и сделал и стал более и более обрабатывать свои рассказы. Прежде он писал быстро, как бы мимоходом, как пишет журналист. Он мне говорил, что один из своих рассказов написал в купальне, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик. Такие рассказы его походили на анекдоты и вращались в публике. Раз на Волге, на пароходе, один офицер стал ему рассказывать его же рассказы, уверяя, что это случилось с его знакомыми и с ним, офицером. В издании Маркса, который в 1899 г. купил его сочинения за 75 000 р., и то, что было напечатано, и то, что будет напечатано, с уплатою этих денег в течение трех лет, явилось много таких «анекдотов». Г. Маркс требовал от Чехова как можно больше рассказцев и составил из них несколько томов. Естественно, что г. Маркс выручил всю уплаченную Чехову сумму первым же изданием. Эта продажа составляла одно из мучений его за последние годы. Получи он 75 000 р. разом с г. Маркса, он мог бы еще что-нибудь сделать с этим капиталом. Но получая их по частям в три года, он затеял строить дачу и в несколько лет эти тысячи растаяли и растаяла мечта о своей независимости и свободе. Он снова остался без денег, и единственный ресурс, который ему оставался, это труд. А болезнь усиливалась, то замирая, то проявляясь сильнее. На несчастье Чехова, он продал свои сочинения как раз накануне того времени, когда явился Горький и вместе с ним началось необыкновенное требование на новых писателей и на Чехова. Два года тому назад, разъезжая с ним в Москве по кладбищам — и в Петербурге и в Москве он любил до странности посещать кладбища, читать надписи на памятниках или молча ходить среди могил, — он мне говорил, что не может писать беллетристики. Мысль, что он все продал, прошедшее и будущее, что есть у него «хозяин», который по праву покупки всем этим владеет, как собственностью, отравляла его. Он пробовал убедить г. Маркса, нажившего на его сочинениях, как говорили, большие деньги, изменить условия. Г. Маркс предложил ему 5000 р. на поездку за границу для поправления здоровья и свои издания в хороших переплетах. Чехов издания в хороших переплетах взял, а от 5000 руб. отказался…
Чехов оставил за собой только право на театральный гонорар за пьесы, и это право переходит и к его наследникам. Но право на издание самих пьес принадлежит также г. Марксу.
Как много он работал, видно из той массы рассказов, которые написал он под псевдонимом Чехонте. Раз я говорил с Л. Н. Толстым о Чехове, который в то время еще не был с ним знаком.
— Я прочел один из его рассказов в каком-то календарике, — сказал Л.Н. — Он живо написан. Но таких рассказов можно написать тысячу, и тогда даже трудно судить о степени таланта автора. А ведь он написал только десятки, вероятно.
Я передал в общих чертах этот разговор Чехову.
— Да, я действительно написал тысячу рассказов, — сказал Чехов.
Известность ему давалась медленно, но то, что он завоевывал, оставалось прочным его приобретением. Он видел, как изменилось быстро отношение к молодым писателям, как расхваливали их «рассказы», называл себя «стариком» и «отсталым». Но молодые писатели почтительно около него группировались или отдавали ему дань уважения. А сам патриарх, Л. Н. Толстой, после «Палаты №6», говорил о Чехове, как о большом таланте, интересовался не только им, но даже его мнением о своих произведениях и давал ему первые наброски «Воскресения».
И Чехов обладал очень тонким художественным чутьем. Работал он над своими произведениями так, чтобы «не было в них лишнего слова». Фантазия его была прямо поразительная, если собрать все те мотивы и подробности быта, которые разбросаны в его произведениях. Одним он мучился — ему не давался роман, а он мечтал о нем и много раз за него принимался. Широкая рама как будто ему не давалась, и он бросал начатые главы. Одно время он все хотел взять форму «Мертвых душ», т. е. поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями. Несколько раз он развивал предо мною широкую тему романа с полуфантастическим героем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия. Он начинал драму, где главным лицом является царь Соломон «Паралипоменона» и «Песни песней». Я думаю, что вечная забота о насущном хлебе и затем приступы болезни не давали ему свободы для большого произведения.
К успеху своих произведений он был очень чувствителен и при своей искренности и прямоте не мог этого скрывать. Когда после первых двух актов «Чайки» на Александрийском театре он увидел, что пьеса не имеет успеха, он бежал из театра и бродил по Петербургу неизвестно где. Сестра его и все знакомые не знали, что подумать, и посылали всюду, где предполагали его найти. Он вернулся в третьем часу ночи. Когда я вошел к нему в комнату, он сказал мне строгим голосом: «Назовите меня последним словом (он произнес это слово), если когда-нибудь я еще напишу пьесу». На другой день он уехал в Москву ранним утром с каким-то пассажирским или товарным поездом. Потом он оправдывался, говоря, что он подумал, что это был неуспех его личности, а не пьесы, и называл некоторых известных петербургских литераторов, которые якобы высокомерно с ним заговорили в антракте, видя, что его пьеса падает. На представления следующих своих пьес он почти не ходил. Когда он написал «Три сестры», то жалел потом, что не написал на эту тему повесть, что тема скорей для повести, чем для драмы.
Когда болезнь его еще не обнаруживалась, он отличался необыкновенной жизнерадостностью, жаждою жить и радоваться. Хотя первая книжка его «В сумерках» и вторая «Хмурые люди» уже показывали, какой строй получают его произведения, он не обнаруживал никакой меланхолии, ни малейшей склонности к пессимизму. Все живое, волнующее и волнующееся, всё яркое, веселое, поэтическое он любил и в природе, и в жизни. О путешествиях он постоянно мечтал и, будь у него спутник, он побывал бы в Америке и в Африке. С ним вместе мы дважды ездили за границу. В оба раза мы видели Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы, но тотчас по приезде в Рим ему захотелось за город, полежать на зеленой траве. Венеция захватывала его своей оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцом дожей и проч. В Помпее он скучно ходил по открытому городу — оно и действительно скучно, но сейчас же с удовольствием поехал верхом на Везувий, по очень трудной дороге, и все хотел поближе подойти к кратеру. Кладбища за границей его везде интересовали, — кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его таланта — грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех, и над окружающим и над самим собою…
В голову толкаются все мелочи, столько хочется сказать, и не улавливаешь целого. Да и как это можно, когда он еще стоит передо мной живой, и не можешь примириться, что жизнь его окончена. Одно сознаешь, как мало мы вообще ценим людей при их жизни и как они разом вырастают перед очами нашей души, когда закроет их гробовая крышка. Поднимается в душе какой-то укор, вспоминается разом целая куча разговоров, свиданий, вместе прожитых дней, легкомыслия, ненужных пустяков, недоразумений, умолчаний и самолюбивой замкнутости, которая иногда вдруг закрывает искренние движения души. Я обязан Чехову многим, обязан его прекрасной душе, которая молодила меня, которая давала и всем, кто с ним сходился, это чувство чего-то живого, прямого, благородного и вместе с тем здравомысленного. Меньше всего думалось, что это писатель, что это талант. Все это даже забывалось, и являлся человек во всем обаянии его ума, искренности и независимости. В Чехове было что-то новое, как будто совсем из другой жизни, из другой атмосферы. Таково, по крайней мере, мое впечатление. Ни сантиментализма, ни притворного участия, ни фраз. Иногда даже как будто жесткость, но жесткость правоты и твердости. В последние годы под влиянием страданий он стал благодушнее и мягче. Что-то меланхолическое и покорное судьбе явилось в его исстрадавшейся душе. С ним умер страдалец-писатель не в том представлении, которое легко впадает в общее место и обращается в банальную фразу, для не писателей непонятную, а в представлении истинного страдания, физического и морального, близкого всякому человеку, близкого той среде, поэтом которой он сделался, которая принимала к сердцу его драмы и понимала закрытый для других ужас земного существования и мечтала хоть о капельке солнца, хоть об обмане, который вывел бы ее из душной и бездельной тоски. Я раз спросил его в письме (1894 г.): «Что должен желать теперь русский человек?» — «Вот мой ответ, — писал он, — желать. Ему нужно прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство». Это кратко и неопределенно, пожалуй, но это выразительно и верно. Сам он всегда желал, желал прогресса русской жизни, желал сильных характеров, дарований, желал и искал весь свой краткий век солнца и так умер, не увидав его настоящего блеска.
В прошлом марте он говорил, что хотел бы поехать на войну. «Там интересно». Он сложил свою голову в той постоянной войне, которая называется жизнью и в которой он одержал несколько прекрасных побед, и эти победы увенчают его нетленным венком на «жизнь вечную». Лечивший его врач, доктор Шверер, телеграфировавший нам о последних днях его жизни, говорит, что он переносил свою болезнь, как герой, и с изумительным хладнокровием ожидал смерти. Он страстно хотел жить, но не боялся и смерти: он жил тем русским, простым, не кричащим героизмом, который хорошо понимает всякая благородная русская душа, и умереть он мог только, как герой, смело смотря в глаза надвигающейся Неизбежности и шепча умирающими устами: «Здравствуй, смерть!..»
4(17) июля, №10179
D
Неужели ультиматум?
Англия? Та самая Англия, которая якобы так хотела соглашения с Россией? Не верю. Это совсем не ультиматум. Это только «энергическая национальная политика», о которой говорят английские газеты и которой я всегда сочувствовал. Как, «энергической политике Англии против России?» Я сочувствую вообще энергической национальной политике, сочувствую принципиально, ибо без этого жить нельзя международной жизнью. Всякая страна должна быть так энергична и умна, чтоб отстаивать свои интересы по всем важным вопросам. В ее жизни это начало должно стоять твердо, и министр иностранных дел должен обладать всем арсеналом фактов и доводов, чтоб отражать каждое нападение, если не победоносно — победа не всегда бывает — то непременно с энергией, умом и блистательной логикой.
Как, разве и в том случае, если факт, давший повод к столкновению, в самом деле несуразный?
Ошибки, превышения власти, недоразумения везде возможны. Но храни Бог отмахиваться и говорить: «Ах, опять напутали! Опять полезли! Сидели бы смирно». Необходима упорная борьба во имя национальных интересов. Вредно говорить: «ах, опять напутали», «ах, ничего не надо», когда обнаруживается даже какая-нибудь ошибка агента. Вредно потому, что это подрывает доверие к действиям агентов правительства даже тогда, когда они совершенно правы. Невыгодная сторона этих ошибок в том, что соблазняет противника пользоваться ими для вымогательств, для нападений. Есть даже такой дипломатический прием — искусно, при помощи неверных и якобы дружественных сообщений вовлечь агентов соперничающей державы в какое-нибудь несуразное дело. Все это необходимо соображать и отражать. Ошибку, если она ошибка, следует признать, но не иначе, как с достоинством, и не позволять противнику пользоваться ошибкой для вымогательств. Я бы сказал, что политика есть наука об искусстве не допускать, чтоб от грошовой свечки Москва сгорела, а дипломатия есть наука о том, что два действительно умных человека гораздо полезнее двухсот почтенных людей, которые ничем не доказали, что они умны.
Вы скажете, что я шутки шучу на старости лет. Да оно и позволительно, смею вам возразить. Что это за серьезный вопрос о каком-то пароходе «Малакка», на котором найдены подозрительные ящики со стрелою. А стрела есть клеймо английского правительства, которое любит стрелять без пороха, но метко.
Почему эта «стрела» не подделка? Разве ее трудно подделать? Фальшивую монету даже Япония делает превосходно, превращая медь в золото, а уж стрелу и подавно можно подделать. Почему командир крейсера «Петербург» виноват, когда виновата просто война? Я не виню и Англию. Она постоянно подбирала везде все то, что плохо лежит, и изобретала причины, иногда очень грубые и даже глупые. Ведь вы знаете, что у сильного всегда бессильный виноват, особенно если он не защищается и спешит повиниться и даже в страхе наговорить на себя. Мало этого: сильный и глупость скажет, но глупость сплошь и рядом принимается за ум. Перед сильным слабому надо много ума.
Вы сочтите-ка, сколько наговорили глупостей английские газеты, когда национальное самолюбие затронуто. И зачем наши штатские, так сказать, пароходы вдруг стали военными, и зачем прошли через Босфор и Дарданеллы, и надо «Малакку» отнять. Союзница Японии, как она ни сильна, а все же не может повторить своего приказательного слова, что без ее согласия не может нигде раздаться выстрел, как было это когда-то. Буры ее кое-чему научили. А ее король Эдуард VII вчера еще говорил, что она должна воспользоваться миром, чтоб развить свое благосостояние. Война — не свой брат. Грозить легко, но вынуть оружие и действовать — подумаешь…
В этом все и дело, чтобы подумать. В деле с пароходом «Малакка», может быть, и была какая-то ошибка. Ее надо разобрать мирно и просто. Это будет лучше всего не только для России, но и для Англии. И я думаю, что Англия в этом нимало не сомневается…
10(23) июля, №10185
DI
Политика с помощью убийств возмущает душу. А она стала явлением обычным не у нас одних. И в республиках и в конституционных монархиях политические убийства совершаются постоянно. В первой половине XIX века таких убийств почти не знали. Они были явлением чрезвычайно редким, но со второй половины прошлого столетия они начались и стали чаще и чаще. Просвещенный мир не раз оплакивал благороднейшие жертвы этих убийств, падавшие под выстрелами, от ударов кинжала и взрыва бомб. Общество должно сознавать ту опасность, которая грозит ему, грозит его жизни и безопасности, ибо эта эпидемия может дойти до размеров ужасающих, до убийств массовых, чему уже были примеры.
Убийство В. К. Плеве совершено во имя той призрачной «свободы», которая летает где-то в диком и необузданном воображении и вооружена насилием и революционной ломкой. Совершать убийства во имя свободы значит убивать самую свободу. Кто убивает, тот враг того развития, которое совершается ростом самого общества, враг тех необходимых, назревших реформ, которыми удовлетворяется большинство. Убийства замедляют движение, обрезывают крылья у желаний самых умеренных, у той мирной и ясной свободы, которая вооружена просвещенным умом, знанием своей родины и верными средствами для поднятия ее жизни на известную высоту. Должно ненавидеть всякое убийство, как простое, так и политическое, совершается ли оно в революционное время, как орудие партии, захватившей власть в свои руки и террором, страхом желающей укрепиться, или совершается для внесения в общество смуты и переполоха. Убийство в пылу гнева, в безумной страсти, даже такое убийство не может быть, не должно быть оправдано. Пусть находят причины их в умоповреждении, во внезапном сумасшествии, в страданиях мозга, но все это, поддержанное натянутым красноречием и софизмами, не причина для того, чтобы сказать убийце: «ты свободен, иди и наслаждайся жизнью». Человек убивает мать и сестру — он сумасшедший. Человек подходит к ребенку и убивает его — на суде оправдывают убийцу. Когда свинья сожрет ребенка — ее убивают и бросают с ужасом, а человек сожрал ребенка — его отпускают гулять. И это называют гуманностью! Убийца за свое преступление так или иначе должен понести кару. Политическое убийство тем вреднее для общества, что дает оружие против этого самого общества, среди которого оно воспиталось или возникло, и за вину немногих отвечают все. Тот ореол, которым окружают политического убийцу его единомышленники, никогда еще не разделялся обществом, и убийцам памятников не ставили и не поставят. Даже легендарный мститель за свободу, Брут, померк перед своею жертвою, Цезарем, и самая судьба наказала его и принесла Риму бездну несчастий. Да был ли этот Брут умен, еще вопрос! Великий английский поэт в «Смерти Цезаря» недаром вложил в уста Антония такую речь, которая погубила «честного убийцу». А кто не знает, что за политическими убийствами следует реакция и те реформы, которые были готовы или готовились, судорожно чувствуют и над собой руку убийцы.
Как можно систематически, настойчиво, рассудочно готовиться к тому, чтобы убивать, каждый день об этом думать, выискивать всевозможные средства и случаи, готовить оружие, считать убийство благом, знаменем свободы и возрождения — да не безумие ли это? Не тупость ли это ума, который не идет дальше насилия, любит это насилие и воображает, что есть только одно средство для воздействия на общество и деятелей, и это средство — убийство! Умеют ли связать два разумные слова эти люди, которых обыкновенно отстаивает их партия такими аргументами, что, убивая, они сами жертвуют своей жизнью. Да что стоит их жизнь? Не было еще того великого ума или таланта, который стал бы убивать, чтоб прослыть «героем», не было того человека, который, сияя добродетелями, вонзил бы кому-нибудь нож в сердце, считая это подвигом. За это берутся только глупцы и маньяки. Можно гореть желанием прогресса своей родине, можно негодовать на медленность его шествия и препятствия, которые он встречал, можно далеко идти в своих убеждениях и признавать право на существование даже самых крайних, можно желать свободы для выражения смелой и открытой борьбы; но убийство должно быть чуждо честной душе, должно волновать ее и настраивать враждебно к этим окровавленным рукам, какими бы мотивами они ни побуждались. Мне всегда казалось, что глубочайшая фальшь оправдывать какого-либо убийцу, будь это Юдифь, убивающая Олоферна предательски и за это прославленная, или Шарлотта Корде, убивающая Марата, и находившая тогда сочувствие в высоких консервативных сферах. Марат являлся олицетворением революции, и убийство его нравилось врагам революции. Это была прямо даже политическая ошибка этих сфер. По-моему, надо так воспитывать человеческую душу, чтобы она ненавидела всякое убийство, чтоб она искренно возмущалась им и не старалась находить ему оправданий. Не смелость убийства должна быть, а смелость мнений и благородных чувств и поступков. История останавливается с любовью на смелых характерах, на независимых и благородных людях, которые идут хотя бы против течения, но с светочем мысли, ума и дарований, но она, занося на свои страницы политические убийства, называет не имена убийц, которые сгнивают в полицейских протоколах, а только орудия — кинжал, револьвер и бомбу.
Вот что еще мне хочется сказать по поводу смерти этого человека, несомненно умного, чрезвычайно деятельного, хорошо понимавшего недостатки русской жизни. Начато было многое, и многое предполагалось, как, может быть, ни при одном министре; но надо было разобраться в сложном организме, в котором пришлось ему работать. А что можно совершить в два года? У нас на одного способного человека вообще наваливают слишком много работы. У нас нет такого учреждения, которое сосредоточивало бы в себе такие дела, которые бы касались общих вопросов, одинаково необходимых и для населения и для всех министерств. У Государственного совета — законодательство, у Комитета министров — администрация. Затем у каждого министерства свои дела, а существенной связи между ними так мало чувствуется, что у нас почти вошло в поговорку, что наши министерства вечно воюют друг с другом, отстаивая друг перед другом свои границы. Для примера можно бы указать на нынешнее время. За начало войны винят министерство иностранных дел, которое ее не предвидело, но обязано было ее предвидеть. Неприготовленность сибирского пути потребовала энергичных усилий со стороны министерства путей сообщения, и князь Хилков своими поездками в Сибирь и Маньчжурию сделал много, решая вопросы на месте, возбуждая энергию одних и устраняя претензии самолюбий, которые столь часто приносят общее дело в жертву своему эгоизму. Но один в поле все-таки не воин. И в том и в другом случае и во множестве других требовалась бы общая работа правительственных сил под умелым и энергичным руководством. То, что называется «кабинетом» и о чем в «Новом Времени» говорилось когда-то не раз, могло бы в известной степени отвечать этой политической потребности и устанавливать не только программу, но и самое исполнение ее с известной гармонией, с единством действия. Это устраняло бы борьбу отдельных ведомств между собою, которая иногда походит на борьбу политических партий в парламенте. Внутренняя политика империи, как и внешняя, выиграли бы значительно от этого единства и облегчили бы задачу руководителя, получающего направление от самодержавного государя. Я говорю об этом только как об идее, но так хотелось бы, чтобы наше внутреннее бытие сложилось в стройную систему, и образовалось бы то, что называется сплоченным правительством, т. е. таким организмом, который всегда действовал бы, как нечто единое, согласное с потребностью населения и со своими полномочиями. Внутренняя политическая программа не разбегалась бы в стороны, и не было бы, может быть, надобности, например, делать ответственным за внутреннюю политику министра внутренних дел, за просвещение — одного министра просвещения, за суд — только министра юстиции и т. д. Мы забываем, что организм русского государства сделался чрезвычайно сложным, а наши правительственные учреждения все еще отзываются тем временем, когда он был гораздо проще и патриархальнее, пожалуй, временем императрицы Екатерины II. Положение министра внутренних дел — одно из самых труднейших и чтоб двигать дела, он увеличивал число своих товарищей, тогда как другие министры могут быть не особенно искренними его товарищами. Я ни на что не намекаю и не хочу этого. Манеру экивоков и скрытой иронии надо бы бросить. Надо бы поставить печать в положение более независимое, чтоб она, служа выражением общества, вместе с тем помогала бы и обществу и правительству в их взаимных отношениях, а не отписывалась бы, как отписываются в известных случаях канцелярии. Если кому придет в голову по поводу кабинета «диктатуры сердца» графа Лорис-Меликова, то я бы сказал, что требуется не столько сердце, сколько твердый и просвещенный разум, и не столько диктатура, сколько единство целей, гармония действия и энергия производительной работы.
16(29) июля, №10191
DII
Еще несколько слов на ту же тему о кабинете министров. По поводу моих слов об этом учреждении сегодня князь Мещерский свидетельствует, что эта «мысль давно высказывается большею частью благожелательного общества», и что «нельзя этого не желать». Но сейчас же гадает надвое. «Буква закона» создает кабинет министров, а в правах министерских останется разногласие, а может и так случиться, что никакого нового закона на этот счет не будет, а между министрами будет полное согласие. Князь Мещерский давно и много вращается в высшей администрации и оставил много черт ее в своих романах, в своих «Воспоминаниях» и «Дневниках». Если сегодня он повторяет то же самое, что и я сказал о той борьбе, которая происходит между министрами, то значит я прав. Он только привлек к ответственности «пошленькую либеральную доктрину», во имя которой один министр вредит другому. Дело совсем не в либеральной доктрине. Мне давно думается, что пора бы нам оставить в покое либеральные и консервативные доктрины, потому что они, кажется, давно вошли друг в друга и по некоторым важным вопросам не различишь консерватора от либерала. И если на практике эти клички часто выдвигаются, то просто для отвода глаз от вопроса, который не знают, как решить. У нас спорят и враждуют в государственном деле иногда точно так же, как и в частном, как в семейном процессе. Что-то будто бы делят, не то влияние, не то личные интересы, не то счеты жен наших и родственников, не то счеты рождения и принадлежности к тому или другому кружку, к аристократическому или административному, хотя еще Пушкин сказал о себе: «Я мещанин» в своей «Родословной», а в «Дневнике» своем причислил себя к среднему сословию, которое еще в его время начало образовываться из дворянства.
«Все дело в нравах и уровне государственного образования», прибавляет князь Мещерский в своих замечаниях к моей мысли о «кабинете». Но если этот уровень требует реформы, если он неудовлетворителен не по людям даже, не по воспитанию, не по идеям, а просто по традициям, потому что известные порядки отжили, то только новый закон и может создать новое, только указ государя может изменить нравы и воззрение на государево и государственное дело. Ах, Боже мой, как нам нужны новые законы! Учреждений совершенных нет, как и нет совершенных людей, как невозможно подобрать десяток лиц одинаково умных, одинаково мыслящих, одинаково сведущих в государственном деле и одного и того же темперамента. Мало-мальски умный человек дорожит и своей индивидуальностью и хочет идти особняком, свой инициативой. Таким образом, даже при добросовестности и желании идти вместе с другими в государственном деле, может явиться разногласие и нечто похожее на крыловскую басню «Лебедь, щука и рак». Поэтому и нужна дисциплина и подчинение общей правительственной идее и руководству главы кабинета, который объединяет администрацию и действует по воле государя. В этом случае боятся деспотизма одного, который стирает личности других министров, хотя на практике бывает это часто и наиболее умному, талантливому и ловкому, как говорят, а я бы сказал, искусному, подчиняются другие. Первый министр вырастает сам собой, незаконно, так сказать. По-моему, это представляет очень большие неудобства уже по той главной причине, что в этом случае министр вносит в дело свою собственную программу, конечно, постепенно, но прочно, и возбуждает и в товарищах своих, и в обществе несогласия и неудовольствия.
То, что освящено законом, гораздо способнее правильно развиваться, чем то, что выдвигается случайно, и потому я не понимаю практичности такого рассуждения, что «кабинет» и желателен, и, пожалуй, нежелателен, потому что и само собою все может устроиться. Это то, что говорится про бабушку, которая надвое сказала. Но бабушка эта давно умерла и завещала внукам позаботиться о чем-нибудь твердом и точном, способном примирять, сплачивать и двигать. Нам надо спокойно и серьезно искать выхода из настоящего положения и не упражняться в красноречии и чувствах. Настала пора разума и разум, надо извлекать из русских людей и уметь им пользоваться.
Мне рассказывали, что за несколько дней до трагической кончины В. К. Плеве, он, говоря с одним из провинциальных администраторов и оканчивая беседу, сказал:
— Делайте так, а правительство вас поддержит.
— Ваше высокопревосходительство, не будете ли вы так добры, указать мне адрес правительства.
Покойный министр улыбнулся и сказал:
— Вы все шутите. Я вам говорю серьезно.
Конечно, это больше остроумная выходка, бутада, чем серьезная мысль. Но остроумие, преувеличивая и даже карикатуря, иногда попадает в цель или указывает, по крайней мере, на важные недостатки существующего.
Я говорил в прошлом письме, что кабинет может образовать «сплоченное» правительство, а в этом и состоит серьезная надобность. Сплоченное, согласное правительство, которое всегда бы действовало как нечто единое, согласно с потребностью населения и, предвидя, по крайней мере, ближайшее будущее — в этом и сущность политики, — укрепляло государство и двигало его к благополучию. Политика отдельных министерств только спутывает государственное дело, разбрасывает его и усложняет так, что оно двигается слишком медленно и тяжело в век электричества. Мне рассказывали случаи из прошлого, когда министр узнавал об ином решении только из газет. А в государственном деле не может быть вопроса, который не касался бы так или иначе всего организма России и, значит, всех министерств, велики они или малы. Нужна политика единая, во все вникающая и соображающая все стороны внутренней жизни и международной. Я бы сказал, что нужно, чтоб все министерства составляли одно политическое министерство. Это была бы и хорошая школа для воспитания государственных людей. Только радикалы воображают, что наука управления есть легкая наука. На самом деле это — самая трудная наука, потому что она имеет дело с живыми людьми, с разумом и душою миллионов жителей, с историей, природою, этнографией и т. д. Когда радикал попадает в эту управляющую атмосферу, он тотчас же, если он умный человек, начинает сдавать в своем радикализме. Дело не в т. н. убеждениях, консервативны ли они, либеральны или радикальны, а в этой школе управлять, идти на компромиссы, отыскивать пути и высоко держать целое. О «системе» у нас говорят очень давно, но какая это система и в чем она заключается, Бог ведает. У каждого говорящего и делающего своя, вероятно, как у каждого министра своя, политика, которую он старается «проводить» и иногда проводят другие министерства. Можно сказать, положа руку на сердце, что всеми сознано это отсутствие политического единства в наших министерствах.
«Все дело в нравах и уровне государственного образования; то и другое правительственным распоряжением не создашь», говорит публицист. Не понимаю: почему? Я хочу верить для блага своей родины, что слова императора Александра II о реформах «сверху» останутся навсегда руководящим мотивом русской политической жизни. Мы дети той России, из которой Петр Великий прорубил окно в Европу. Наука, просвещение, литература, искусство, нравы, все обновилось и выросло через это окно, которое давно стало широкими воротами, в которые входит беспрепятственно или неуловимою контрабандою и хорошее и дурное. Чтоб хорошее побеждало дурное, надо, чтоб его было больше, чтоб оно было крепче, закономернее и сильнее.
Рутина в управлении не есть мраморная статуя великого художника, которую следует сохранить, как драгоценность. Рутина должна смениться искусством управления, художественным творчеством, и первый зодчий — государь.
19 июля (1 августа), №10194
DIII
Мне говорят, что «кабинет» министров — это нечто вроде визирата, а визират — дорога во временщики. Появление временщиков известно в истории всех европейских государств и притом при всяком режиме. Поэтому это явление можно бы оставить в стороне, как случайность и притом редкую. Россия — ни в каком случае не Турция, и судьбы ее — не судьбы Турции. Кабинет — однако, возможен, говорят мне, но только при свободе печати и гарантиях личности.
Я ожидал этих возражений. Но мне кажется, что развитие нашего общества несомненно подвигается, оно становится серьезнее, дельнее, вдумчивее, по крайней мере, в своем действительно образованном меньшинстве, которое не летает свободно в области теории, как известно, совершенно неограниченной, где от настоящего порядка вещей переход к социализму, анархизму и всякой бестолочи представляется крайним партиям столь же легким, как героям наших сказок легко в один и тот же день перебегать неизмеримые пространства, побеждать целые армии, нарушать законы природы и заставлять лебедь белую обращаться в царь-девицу. Эта безграничная теоретичность, впервые пленившая многих в шестидесятых годах, под влиянием реформ, и принесшая нам нигилизм с его арсеналом революционщины, исчезла совершенно в серьезных слоях общества, которые желают законного порядка и закономерности. Если это меньшинство получит возможность воспитательным образом действовать на большинство, то авторитетность здравых идей несомненно вырастет.
То, что называется свободою печати, тоже растет и растет в здравом направлении. Свобода периодической печати не есть свобода подстрекательства к беспорядкам, революции, свобода писать прокламации, пасквили и т. п. Свобода печати есть искусство называть вещи собственными именами, а не псевдонимами, искусство критики общественных и правительственных действий. Говорю искусство, ибо свобода печати сообразуется со степенью развития общества, с его настоящими и серьезными потребностями, с его законами. Это такое же искусство, как ораторское, как адвокатское. Там публика слушает, здесь она читает. Слушает она сообща, толпою, читает в одиночку. Толпа — хуже отдельного человека, а адвокатура — свободнее печати. Возьмите «Times», «Daily News», «Temps», «National Zeitung», — называю только несколько всемирно известных газет, — и попробуйте переводить по-русски статьи по каким хотите вопросам, самым революционным, так сказать, о социализме, анархизме и т. п., и все эти статьи окажутся совершенно цензурными у нас. Даже критика действий правительственных в этих газетах такова, что если б подставить под нее представителей русской внутренней и внешней политики, то окажется, что и это едва ли выйдет из тех пределов, какие были поставлены законом 6 апреля 1865 года. С критикой, с мнениями можно считаться и можно не считаться, но допускать их необходимо. Закон воспитывает и печать и общество гораздо лучше, чем взгляды на печать администрации, которая то благоволит к печати, то не благоволит. Сама администрация по делам печати совсем не свободна, потому что принуждена постоянно отступать даже от выработанного своего взгляда на печать. Те циркуляры, которые изъемлют те или другие явления и вопросы из обсуждения печати, нередко противоречат взглядам самого министра внутренних дел. Он издает их иногда не по своему почину, а по просьбам того или другого министра, который находит нужным молчание печати на известное время. При сплоченном правительстве и такие просьбы, конечно, поступали бы на обсуждение всех министров, и тут являлось бы правительственное единство.
У нас такая манера: является мысль. Это — невозможно, говорят. Почему? Потому, что вот этого нет, да того нет, а потому и мысль сейчас по боку. Ее не критикуют, не развивают, а просто устраняют, ставя перед ней жупел или иронию. Говоря о «кабинете», я разумел сплоченное, единое правительство, проникнутое единою мыслью. Это — прежде всего и важнее всего. Известная дисциплина среди министров, единство действий вовсе не должны исключать обсуждения вопроса всеми министрами, в присутствии премьера с известной программой, твердо начертанной и одобренной свыше. Ведь набрасывать свою программу тотчас после своего назначения теперь вошло в обычай у наших министров. Воздав должное своему предшественнику, как новые академики Французской академии своему умершему собрату, они говорят и о своей программе действий. Если б эта программа была бы предварительно обсуждена всеми министрами, что было бы тут плохого? Все они служат тому же государю, тому же отечеству, только по разным частям управления, и потому прежде всего надобно согласие в известных руководящих пунктах со всеми. Каждое министерство есть особая статья только отчасти, только в подробностях, но общий план и разработка его общими усилиями правительства должны быть предустановлены.
Мне говорят, что есть опасные стороны в премьерстве в том отношении, что премьер, даже устраняя возможность злоупотребления своей властью, может придать управлению слишком односторонний характер, сообразно своим личным воззрениям. В этом, конечно, есть доля правды, но наша практика знает такие явления и без кабинета. Во всяком случае, в составе наших учреждений есть нечто подобное кабинету, устраняющее премьерство.
Это — «Совет министров». Об нем русское общество меньше всего знает, ибо он редко практикуется. Учреждение этого Совета относится к началу шестидесятых годов, именно в 1861 году и восстановлено совещание министров по делам особой важности, установленное в 1802 году. Совет имеет в виду главным образом устранить рознь между министрами в общих целях управления. Он не затрагивает полномочий Государственного совета в обсуждении законов и проч., а предшествует закону на пути его в Государственный совет. В Совете министров, кроме проектов законов, обсуждаются и административные меры, и то, что войдет в закон, и то, что может остаться тайною и должно остаться, так как в государственном деле не все может быть открыто.
Чрезвычайно важною чертою этого учреждения является присутствие государя в этом Совете. Он — его председатель. Его согласие необходимо для внесения в Совет вопросов законодательных и административных. Особенного, определенного круга дел Совет не имеет, и действительно трудно предвидеть все то, что может указать жизнь. Для поддержания единства в управлении, в Совет вносят все «важнейшие распоряжения каждого министерства по его ведомству», и это для того, чтобы каждому министру было известно все то, что сделано и делается другими министрами. Таким образом, Совет контролирует деятельность всех министров в присутствии государя. Он как бы является средоточием докладов министров государю. Тут вся политическая программа, все ее детали, все способы ее развития. Это как бы небольшая прежняя Боярская дума и государь со своими ближайшими сотрудниками. Доклады делаются общим достоянием всех министров и служат тому политическому единству, о котором я говорю и которое нашим законодательством признано, как необходимое, еще сто лет назад и восстановлено в 1861 году.
Я говорю обо всем этом, как журналист, т. е. именно «говорю», а не пишу «проекты», с точным обозначением параграфов и их содержания, не проповедую и не утверждаю: се истина. Я — не юрист и не законник. Я вижу и знаю много несуразного, лживого, беззаконного в нашей жизни и ищу средств для того, чтоб произвола было как можно меньше и как можно больше благополучия. Не панацею какую от всех зол я рекомендую, а беру один угол нашей государственной жизни, и говорю о нем просто, как говорил бы среди своих приятелей. Не такое теперь время, чтоб строить многоэтажное здание. Война прервала ряд реформ, задуманных государем. Поэтому я и говорю только об единстве, о политической роли всех министерств вместе взятых и крепко соединенных между собой перед лицом государя и перед ним только ответственных.
Мне думается, что наша рознь слишком очевидна и восстановить согласие в министерской деятельности, ограничить министров единством правительственной идеи и единством действий — дело первой необходимости. Рассчитывать в этом отношении на «патриотизм», как полагает, например, князь Мещерский, дело едва ли прочное. Общее чувство, так сказать, патриотического единства является твердым основанием только в годины бедствий, в крутые моменты жизни государственной. В обыкновенное время патриотизм становится чувством рассудочным, так сказать, философским воззрением на действительность и на те средства, которые способствуют развитию страны. Искренние патриоты могут расходиться между собою значительно не только в подробностях, но даже принципиально. Необходимы твердые основания, ясная и последовательная политическая программа, подчиняться которой было бы обязательно для всех.
Я всегда был поклонником земства, земской идеи и остаюсь ей верным, ибо невозможно управлять Россией при помощи одних гг. чиновников, как бы превосходны они ни были. Ту «неблагонамеренность» у них, о которой сказал вчера у нас князь Мещерский, я совершенно не допускаю, и заменил бы ее словами: лень и рутина. В управлении необходимо участие независимых от чиновников людей, необходимо их знание местной жизни, их критика, их советы. Независимость — родня благородству, а благородство нам очень нужно. И это «приобщение» — употребляю бюрократическое слово — земского элемента к чиновническому будет тем полезнее, тем шире и свободнее, чем больше и крепче будет согласие в правительстве. Как оно может быть достигнуто, в этом весь вопрос. Вы думаете так, я думаю иначе, но мы все сходимся на том, что необходимо то единство идей и действий, о котором я только и говорю.
25 июля (7 августа), №10200
DIV
Эти последние дни — дни наибольшего напряжения и тревожных ожиданий. Что делается в Порт-Артуре и около Лаояна, этих двух городов, одного с европейским именем и другого с китайским — оба дорогие русской душе? Все наши думы там, и кажется, что от этих дней, которые прошли в постоянных боях и идут, сопровождаемые громом орудий и борьбой на жизнь и смерть, зависит будущее. На самом деле может быть это и не так. Исторический ход событий видят и чувствуют современники, но значение этих событий от нас сокрыто. То, что кажется важным, может отойти на второй план перед тем, что будет впереди. Трудно себе вообразить жизнь осажденных в Порт-Артуре. Отрезанные от всего мира, лишенные возможности подать о себе весть, лишенные надежды на близкую помощь, окруженные врагом со всех сторон, какую жизнь они проводят изо дня в день, с минуты на минуту! Человек ко всему привыкает, и пока бьется в нем сердце, он продолжает жить и надеяться, и во всякой обстановке, как бы ни была она тяжела, ищет какого-нибудь утешения, хотя маленького луча радости. Вероятно, все это есть и у защитников Порт-Артура, есть еще личная жизнь, одинокие думы, неразделенные страдания; все, что было близко им и дорого, их жены, их матери, родные и друзья, все это далеко, и все это тревожно ждет и со страхом берется за газету и прислушивается к толкам, и молится и проливает слезы, святые слезы любви и дружбы.
И это уже утешение для тех, которые заперты в Порт-Артуре. Их жалеют близкие их сердцу и сердце сердцу весть подает, дума встречается с думой, чувство с чувством, в миг пролетая пространства и рисуя себе милые образы. Их жалеют и все русские, все те, которые обладают достаточным воображением и живут общею жизнью своей страны. Их жалеют и высоко ценят их мужество, их подвиг, их жертвы. И это они знают, и это придает им бодрости в той общей их жизни, которая связывает их воедино перед врагом, связывает крепкой связью единодушия, тех же мыслей, тех же ощущений, тех же опасностей и задач.
Помоги им Бог!
Что они делают, что думают они в эти минуты, чего ждут на своем корабле? Эта крепость точно огромный корабль на бушующем море, вздымающем волны под Божьей грозою, под раскатами оглушительных громов и блистанием гибельной молнии, которая несет с собою жадную смерть. И эта буря не день, не два, она тянется с перерывами уже целые месяцы, и корабль, израненный, истекающий кровью, все еще жив, все еще грозен и могуч.
Помоги ему Бог в эту бурю и грозу!
Когда вы читаете газетные известия, как вы ищете хоть намека на то, что делается на этом корабле, хоть какой-нибудь надежды, что враг еще не овладел им, не разрушил его и не поставил на нем своего флага.
Мы так избалованы телеграфом и так стали нервны. Расстояний нет, и в эти дни ожиданий переживаются годы. Чувство так властно владеет нами и так быстро желает ответа, а его нет. Непроницаемое кольцо стягивает защитников крепости. Никогда, кажется, этого не бывало, такой осады, такой ожесточенной войны, таких невероятных усилий с обеих сторон. Когда вдумываешься в это, и страшно становится, и вместе с тем отрадно, какое мужество, какая сила характера, какая преданность родине у ее сынов. Чудесный, славный русский народ, и как стоит он лучшей доли, как стоит он довольства и счастия, как вправе ждать он доброты и забот, самых горячих, самых искренних и деятельных.
О, как надо гнать от себя равнодушие, как надо чувствовать и сознавать ту великую жертву, которую приносит там народ в лице своих сынов. Там не пушечное мясо, там живые люди, живые души, которые и страдают, и любят, и дорожат своей жизнью, и все-таки приносят ее, как чистую жертву, своей милой родине, такой далекой, далекой…
И какие труды, какие препятствия, сколько надо силы воли, воображения, неусыпного внимания полководцу. И как мы легкомысленны бываем в своих суждениях, как резки, недальновидны и скоры. Хорошо нам здесь рассуждать и судачить. А там сотни тысяч народа против других, еще более многочисленных сотен тысяч. И все это в постоянной борьбе, в постоянном внимании, в тревоге за свою жизнь и за свое дело. Друг за другом следят из минуты в минуту. Каждый шаг противника должен быть известен. Какое напряжение надо, чтоб все знать! Это ведь не шахматная доска, за которой игроки сосредоточенно сидят целыми часами и медленно думают и соображают. Там не шашки переставляются, а строи людей, и переставленные не так, эти люди рискуют жизнью. Там кровью обливается сердце при думах и соображениях, там не успех только выигрыша, там великая ответственность.
Так думаешь о Куропаткине, так понимаешь его в хорошие минуты просветления и как ненавидишь в это время все то, что ему мешает или может помешать, или даже в помышлении своем, не только в действиях враждебно к нему относится. Как глубоко был прав государь, когда, назначая его командующим армией, говорил, что «возлагает на него тяжелый подвиг, с самоотвержением принятый им»! Именно «тяжелый подвиг», именно самоотвержение нужно было, чтоб принять его. Государь понимал душу своего полководца и душою своею говорил ему искреннюю речь.
Было больше, чем предчувствие грядущих опасностей, было сознание того, что они надвинулись грозовой тучей и что надобны самоотверженные усилия, чтобы разогнать эту тучу. И эти усилия шли и идут, и мы увидим еще солнце мира, и оно осушит слезы печали. Личная жизнь коротка, а жизнь народа вечно обновляется и вечно в нем бьется благородное русское сердце. Идите только навстречу к нему, и Бог благословит русскую жизнь.
Я дописал эти строки, когда мне сказали о телеграмме генерала Стесселя государю. Весть все-таки дошла из того железного кольца, которым стянут Порт-Артур, и весть о победах. Враг отражен. Три дня адского огня, три дня приступов множества врагов, которые падали тысячами. Какие это бои, какой героизм! Если слава когда-нибудь венчала достойных жизни людей, достойных ее тем, что они смело встречали смерть для того, чтобы дать мирную жизнь миллионам своего народа, то она достойно венчает теперь нашу армию, которая бьется на полях Маньчжурии и у Порт-Артура.
Благослови же ее Господи завоевать нам мир!
26 июля (8 августа) №10201
DV
Старая истина: du choc des opinions jaillit la vérité. Правда необходима, как Божий свет, правда для жизни, для дыхания, для подъема нашего патриотического чувства, для подвигов, для жертв, для любви, для торжества России. «Я желаю, чтоб печать говорила правду». Это — золотые слова государя императора. Но правда всегда окрашивается субъективным чувством, опытом жизни, даже известным настроением. А потому правда является от столкновения мнений. Ум хорошо, а два лучше, потому что даже противоречие помогает делу.
Есть ли у нас флот? Этот вопрос задал себе М. О. Меньшиков и ответил на него, с оговоркой: «может быть, я и ошибаюсь», что его нет. Редакция «Нового Времени» сопроводила фельетон своим замечанием, что этот ответ не отвечает действительности. Конечно, не отвечает. Об этом и беспокоиться нечего. Историю флота у нас знают еще меньше, чем русскую историю, а русскую историю знают весьма плохо и большие, и малые. Если привести мнения о состоянии русского флота самого его основателя, Петра, и Екатерины И, при которой была Чесма, и проч., то окажется, что тогда флота почти не было. Были подвиги моряков, оставались блестящие имена адмиралов, мужество офицеров и матросов, но флот был плох. Балтийская эскадра и потом почти не действовала, а служила больше для парадов. Пропускаю севастопольскую эпопею, которая закрыла для флота Черное море на многие годы. Только при императоре Александре III, который с радостной надеждой и гордостью смотрел на возникновение судов на Черном море, флот стал возрождаться. Теперь он есть несомненно. И г. Меньшиков несомненно верит, что он есть, но хочет его видеть огромным, сильным, грозным. Он сказал свой ответ на свой же вопрос в страстном желании, чтоб Россия напрягла все усилия для создания флота: нужен «богатырский подвиг, который потомство благословит», так горячо выразился он. Это — общее желание, желание русского сердца и русского ума. Никогда оно не было так горячо, как в настоящее время, никогда оно и не было таким искренним. А в такие времена и преувеличение естественно, потому что оно диктуется общим подъемом желаний успехов своему отечеству. Желания так нетерпеливы, так ясно выражаются всеми, так нервны все мы стали, что спокойного обсуждения можно ожидать только разве от философов, которыми всегда мы были бедны и которые теперь, может быть, только на войне, среди громов, бурь, тропического жара и смерти. О, какая там нужна философия, какое спокойствие, какая выдержка! И какой любви и уважения заслуживают все эти бойцы на суше и на море. И кто им в этом откажет? И армия и флот показывают свою силу. Стало быть, и флот существует. Беда в том, что японская война застала нас почти врасплох. Созидание нашего флота шло в последние годы с большим напряжением, и если б мир не был нарушен японцами, через несколько лет наш флот явился бы действительно грозной силой. «Баян», «Новик», «Аскольд», «Ретвизан» — это все не немые имена, не «простые вымпела», а грозные витязи, не сказавшие еще своего последнего слова в этой необычайной войне, необычайной потому, что это — первый опыт борьбы флотов нового типа. Вот цифры последних годов, показывающие как вырастал флот:
В 1900 году русский флот увеличился на 6 судов: на воду были спущены броненосцы «Ретвизан», «Победа» и «Потемкин Таврический» и крейсера «Аскольд», «Аврора» и «Новик». В следующем году появились броненосцы «Александр III», «Цесаревич» и «Бородино» и крейсер «Богатырь». В 1902 году спущены на воду броненосцы «Орел» и «Князь Суворов» и крейсер «Очаков», в прошлом — броненосец «Слава» и крейсера «Олег», «Алмаз», «Изумруд» и «Жемчуг». В близком будущем эта морская семья увеличится еще на 4 строящихся броненосца («Павел I», «Андрей Первозванный», «Евстафий» и «Иоанн Златоуст») и на один крейсер («Кагул»). Не говоря о приобретенных кораблях, о транспортах и т. п. специальных судах, вспомним еще, что в одном 1902 году было спущено на воду 11 эскадренных миноносцев. Как же это не флот? Не такой, какого хотелось бы, особенно теперь, когда России послано тяжелое испытание, но он вырос и будет расти.
Хотя порт-артурская эскадра была слабее японского флота, но не будь несчастной ночи на 27 января, когда наши суда были изранены, эта эскадра постояла бы за себя. Все обратили внимание на владивостокскую эскадру, на ее «искусство», т. е. на технику морского дела, которую выказали наши моряки. Этого заслуживала и порт-артурская эскадра, возобновленная с такой энергией. Не говорю уже о времени адмирала Макарова, который заставил японцев уважать силу своей эскадры. И в последующие месяцы мы видим, что эта эскадра с достоинством поддерживает честь русского флота. Где эти победы японцев над русским флотом? Кроме памятного ночного успеха и нападения на «Варяга», столь бесславного нападения, из которого наши моряки вышли героями, и гибели «Петропавловска», отмщенного нами гибелью японского броненосца, где их победы? Не забудьте, идет седьмой месяц борьбы на море. Японская эскадра гораздо многочисленнее нашей. Сколько раз говорилось и японцами и в иностранных газетах, что она уничтожена, что она не имеет значения. Между тем, она не только не дается в руки японцам, но уничтожила у них девять судов. Вспомним эти многочисленные брандеры, эти атаки, отважно и искусно отбитые нашей эскадрой. Вспомним изумление японцев, когда наша эскадра явилась в обновленном виде и когда многочисленные ночные атаки, произведенные адмиралом Того, оказались безрезультатными, хотя адмирал Того и хвастался сначала победой, но, уличенный во лжи, замолчал. Конечно, на море нужно место, где сражаться, надобны суда. Если у нас их было мало, то личный состав флота показал себя на высоте своего призвания. Он помогал и помогает теперь мужественным защитникам Порт-Артура. Где бы ни являлось русское судно, оно всюду мужественно ведет себя, даже когда оно одиноко. Канонерка «Бобр», принявшая участие в Цзиньчжоуском сражении, миноносец «Бураков», который дважды героически совершил плавание в Инкоу, крейсер «Новик», действия которого особенно выдвигались при всяком случае, и проч., и проч. Когда настанет история порт-артурской осады, когда выяснятся все подробности и будут известны все случаи действий нашего флота, тогда видно будет, что он поддерживал достоинство нашего оружия и личный состав флота был выше всякой похвалы. Что бывают исключения, что бывают случаи антидисциплинарные, то где же этого не бывает. Есть плохие чиновники, плохие доктора, плохие солдаты и плохие моряки. Я даже думаю, что уж не такое отвращение у русского народа к морской службе, как у нас говорят. Мы — континентальный народ. Конечно. Но у нас несколько морей и если не было флота, то не на чем было б и выучиться. А его именно скорей не было, чем его нет. Ревнивое чувство заставляет желать большего, богатырского, великого. Я думаю, что это чувство прекрасное. Ревность мешает в любви, но и любовь без ревности, что это за любовь? Недаром существует выражение «ревность к отечеству», желание ему быть полезным, желание возбудить у всех ревность к труду, заботам, энергии. Мы браним свое отечество, браним многое, что у нас есть, не потому, что мы желаем зла своей родине, а потому, что желаем лучшего, совершенного. Разве эта война не пробудила этого чувства? Не пробудила нетерпения, тревоги, я бы сказал «святой тревоги», потому что кто тревожится, тот желает, мыслит и работает. А та святая тревога, на войне? Сколько подвигов, сколько самоотвержения! Дай Бог, чтоб не было уныния, злобы и вражды. Пусть все это будет далеко, пусть только любовь к счастию отечества руководит нами. Будущее за нами. Как этому хочется верить! И я думаю, что именно флот еще покажет себя. Еще балтийская эскадра сослужит России свою доблестную службу и сделает флот наш сильным. Он возрождается в минуты тяжелые, во время упорной борьбы, когда энергия тратится и на борьбу с врагом и на созидание — в этом наши необычайные трудности, — но он возрождается несомненно. Когда пойдет балтийская эскадра — это будет праздник для всей России. Смею думать, что я выражаю общее чувство.
28 июля (10 августа), №10203
DVI
Говорят, что от избытка чувств уста глаголют. Бывает и наоборот, когда от избытка чувств уста немеют.
Рассказ лейтенанта Рощаковского о нападении японцев на миноносец «Решительный», содержащийся в телеграмме его на имя государя императора, заставляет гореть сердце негодованием. Это хуже разбойничьего нападения. Разбойник рискует своей жизнью, он храбр, в нем просыпаются иногда великодушные чувства, и он способен на подвиги добра. Недаром благороднейший из поэтов написал «Разбойников», где настоящий злодей — родной брат разбойника. А тут ни признака храбрости, ни признака какого-нибудь порядочного чувства или повода, которые сколько-нибудь могли бы оправдать японцев. Это нападение подлое, и лейтенант Рощаковский, давший пощечину японскому офицеру, отвечал, как надо было отвечать на подлый поступок. Это — пощечина японской армии, японским морякам. Это — единственный настоящий протест, который можно было и следовало сделать. Что все эти лукавые протестации иностранных держав, все эти слова их о международном праве, о нарушении нейтралитета и тому подобное? Разве они что-нибудь значат, что-нибудь доказывают и кого-нибудь убедят?
Все это — слова, слова, слова.
Надо было дело, и это дело — пощечина! Пусть она горит на лице японского офицера, если он способен стыдиться за совершенную подлость, продиктованную ему его начальством, которое имеет полное право разделить с подчиненным своим этот удар по лицу. Не может быть того порядочного человека, статский он или военный, русский он или европеец, который не сказал бы, что русский лейтенант поступил, как благородный человек.
Только пощечиной и можно было отметить перед целым просвещенным миром этот подлый поступок японской армии, совершенный притом с увертливостью дрянного человека, который даже китайца обманул, чтобы овладеть «Решительным».
Японцы хотели так же овладеть «Цесаревичем» и нагло потребовали, чтобы «Цесаревич» выходил. Губернатор Циндао сказал им, что он будет разоружен. Немцы могли бы сказать представителям Японии: «Если бы у нас была тут только одна джонка, и тогда мы сумели бы показать дверь японцам и выгнать их вон».
Может, они это и сказали, а если не сказали, то несомненно думали.
Пощечина, данная японцам русским лейтенантом, останется памятной в т. н. международном праве.
2(15 августа), №10208
DVII
Чем бы ни кончилась осада Порт-Артура, защитники его заслужили перед родиной, как настоящие герои. Те отрывочные известия, которые доходят до нас, представляют примеры необычайного мужества и самой напряженной работы, работы до истощения сил, работы днем и ночью, бессонной ночью, ибо гром орудий не дает спать или делает сон бредом. Говорят, чтоб заснуть, забираются в пороховые погреба, где не так слышны адские раскаты. Никогда ни в одну войну не было такого дождя смерти. Японцы угрожают лидитными[10] снарядами осажденным. Чем только человечество не уничтожает друг друга, какие только средства оно ни выдумывает, чтобы грозить друг другу, устрашать, кричать: берегись, убью! И представители народов, при свиданиях, показывают друг другу свои вооружения, провозглашают тосты за взаимное благоденствие и как бы говорят при этом: посмотри, чем я тебя попотчую! И так будет до скончания века, и никакой гений не уберет этой силы в музей.
Приближается ли время мира? С необыкновенным искусством и умом Куропаткин сосредоточивал свою армию, собирая ее по капле, затрудняя наступления неприятеля и сообщая в своих телеграммах эти шахматные ходы, для нас, неспециалистов, непонятные и скучные. Но они входили в общий план, как детали, и имели свое значение. Неприятель, вероятно, оценивал их по достоинству, видя, как добыча ускользает из его рук. И он решается пожертвовать десятки тысяч своих солдат, чтобы взять штурмом Порт-Артур. Отчаянное предприятие это должно дать ему громкий успех, должно поднять его престиж. И если после этого он будет разбит, все-таки взятие крепости будет ему большим плюсом. Геройские усилия нашего флота остаются геройством, но они не в состоянии много сделать в этой борьбе, где имеют против себя значительное превосходство. Рассказывают, что еще в Петербурге Куропаткин говорил, что если бы могла быть на Дальнем Востоке балтийская эскадра, только тогда флот играл бы надлежащую роль. Он предвидел до подробностей все то, что случилось, и если не случилось нашего отступления на Харбин, возможность которого предполагалась, то только потому, что японцы слишком медленно подвигались. Сегодняшние телеграммы говорят, что у Куропаткина четыреста тысяч человек. Преувеличено это или нет, во всяком случае, силу его армии нельзя сравнить с тем, чем она была месяц тому назад. Телеграммы и корреспонденции еще в конце июня и весь июль говорили о большой и решительной битве, говорили почти ежедневно. Но ее до сих пор не было, и она все еще впереди.
У меня есть свое собственное мнение относительно наших крейсеров, которые арестами судов с контрабандою так подняли общественное мнение, особенно в Англии. Что, если бы эти крейсеры шли на помощь владивостокской эскадре, которая теперь, судя по телеграммам, так обессилена, вместо того, чтобы ловить контрабанду? Япония несомненно старается из всех сил, чтоб втянуть в войну Англию. Для нее это было бы величайшее благо. Я не думаю, что Англия желает войны, и не думаю, что ее вмешательство в войну останется без всякого отзвука на положение других европейских государств. Разумею не Францию, а весь европейский континент и возможные перестановки государств. Во всяком случае, войны с Англией нам невозможно желать. Могу сказать с полным правом, что таково было всегда мнение Куропаткина. Он считал наши границы с Англией на юге, на границах Афганистана, идеальными, лучше которых нам желать нечего. А он отлично знаком с тамошним краем и всеми его условиями. Политический такт и предвидение у нашего вождя замечательно развиты, ими и объясняется в значительной степени и его тактика в Маньчжурии. Воевать можно только тогда, когда к войне готовы, когда все расчеты и подсчеты сделаны почти с математической точностью. Он отлично понимал, что, если бы он бросился на армию Куроки и был бы разбит, то вся кампания пропала бы. Японцы разбивали бы наши войска, по мере их прихода, по частям. И они так и предполагали, рассчитывая добраться до Иркутска. В их газетах, в начале войны, говорилось об этом с уверенностью, и они имели право это говорить, ибо хорошо знали малочисленность нашей армии и провозоспособность Сибирской дороги. Расчетов Куропаткина они не угадали, и, судя по характеру русских, которые больше всего полагаются на свою храбрость, думали, что Куропаткин будет рисковать, что он не удержит пыла и нетерпения русских.
Будет ли взят Порт-Артур? На этот вопрос все военные неуклонно отвечают так: «Нет той крепости, которую нельзя взять». Наш военный обозреватель дает сегодня любопытные справки о силе сопротивления Порт-Артура.
4(17) августа, №10210
DVIII
В «Дневнике» князя Мещерского я прочел сегодня рассказ его о своем «диспуте» с покойным министром внутренних дел В. К. Плеве. Вот этот рассказ дословно:
«Я говорил о том, как было бы полезно такое центральное учреждение, где бы представители местного правительства сходились с местными представителями земств и с представителями центральных ведомств.
— Это немыслимо, — категорично заявил В. К.
— Отчего?
— Оттого, что представителя правительства нельзя ставить в такое положение, чтобы местный общественный деятель мог доказывать, что он умнее его.
— Отчего?
— Оттого, что это роняло бы престиж правительства.
— Но зато Самодержавие и народ выиграли бы. Самодержавие не может бояться, чтобы какое-нибудь правительственное лицо оказалось по способностям ниже неправительственного, ибо это ведь для него повод искать более способного; во всяком случае, от раскрытия правды путем спора самодержавие всегда выигрывает в своем престиже. Самодержавию одинаково нужны: умный земский человек и умное правительственное лицо, так как оба в одинаковой мере, каждый в своей сфере, служат его задачам. А народ выигрывал бы от спора правительственного лица с земским, например, если один из двух защищал бы правду».
Я решительно не верю, чтоб подобный «диспут» мог происходить между князем Мещерским и В. К. Плеве. Самая форма разговора подозрительна. Оба диспутанта знали друг друга двадцать лет «приятельски». Невозможно себе представить, чтобы министр ограничивался краткими репликами, а приятель говорил монологи слишком общеизвестные, чтобы оставить их без ответа. Приятели так не говорят даже тогда, когда один из них — министр, а другой — журналист. Во всяком случае, из-за могилы покойный министр не может ни отринуть, ни утвердить отчета об этом «диспуте». А то, что говорил князь Мещерский — не углубляюсь в даль годов прошедших — говорил недавно, именно в министерства Д. С. Сипягина и В. К. Плеве, хорошо мне известно, может быть доказано «Дневниками» князя Мещерского, который или тогда притворялся и лицемерил, или теперь притворяется и лицемерит, а, может быть, всегда притворялся и лицемерил. Я склоняюсь в пользу этого последнего вывода, ибо больше всех журналистов полемизировал с этим представителем «консерватизма» и постоянно защищал от его нападок земскую идею в ее историческом и современном развитии. Во время министерства Д. С. Сипягина князь Мещерский печатал, что «честный министр», который не хочет «изменить присяге, чести и совести», должен говорить государю, что «народ угнетен безответственным земством», что народ «стонет от земства». Я очень хорошо помню эти фразы. Почему земство «безответственно» и почему «ответственны» чиновники, этого никак понять нельзя. Почему народ стонет от земства, этого тоже никто не поймет, когда народ действительно стонал от разных неурядиц и крепостного права, столь любезного почтенному князю, который так долго и так упорно отстаивал порядки крепостного времени и теперь не прочь вспоминать о них с удовольствием, упоминая о «либеральных» реформах Александра II. По моему мнению, эти реформы пора перестать называть «либеральными». Они были необходимы в свое время, имели свои недостатки, но они вошли в плоть и кровь нашу и потому они теперь консервативны. А кто называет их «либеральными» с предубеждением против них, тот не консерватор, а только помогает другим усиливать смуту в обществе.
Когда при Д. С. Сипягине составлялось положение для неземских губерний, князь Мещерский писал, что это положение будет таким совершенством, что когда его введут, то «все земские губернии завопиют благим матом, говоря: за что нас разоряют земские учреждения поборами, и все у нас скверно, а там, где нет земских учреждений, все идет лучше и дешевле». Это — подлинные слова издателя «Гражданина». Когда в прошлом году приглашены были председатели губернских земских управ для совещания, кто на них обрушился самым неприличным образом, кто забрасывал их насмешками, по правде сказать, довольно глупыми, и ставил их в угол? Не кто другой, как князь Мещерский. Он дошел до того, что называл г. Шипова «папася», присюсюкивал и игриво изображал, как земцы перед этим «папасей» танцуют «Марсельезу» и не обинуясь называл их Робеспьерами и Маратами, забывая, что Робеспьеры и Мараты совсем в другом месте и что смешивать их с земством — значит все валить в одну кучу, значит заподозревать всех, всю просвещенную Россию чуть ли не в государственных преступлениях. По поводу губернских комитетов, куда предполагалось первоначально пригласить земцев, князь Мещерский говорил:
«Грешный человек, если бы от меня зависело, я бы предоставил губернатору выбирать кого он хочет, потому что между земцами очень мало людей, что-нибудь понимающих».
Это говорил издатель «Гражданина» в декабре прошлого года, и первоначальный проект приглашения земцев в губернские комитеты был оставлен. Сказать, что между земцами очень мало понимающих людей, значит сказать, что таково дворянство, таково купечество, таковы все землевладельцы, т. е. спокойная, способная и разумная часть населения. Откуда же губернатору «выбирать кого он хочет?» Из чиновников, что ли? Но чиновники тоже заподозрены, а многие из них, вероятно, с удовольствием выслушали бы мнения земцев, избранных самими земскими собраниями.
Когда же князь Мещерский говорит серьезно: в «диспуте» с В. К. Плеве, или в своих «Дневниках?» То, что он говорил в своих «Дневниках» — это ненависть к земству, к суду присяжных, к общественной самодеятельности, это — заподозривание всех в неблагонамеренности и в революционных стремлениях. И он выдает себя за политика, за серьезного мыслителя, когда на самом деле это — такой лицемерный человек, что в разговоре с министром говорит за земство, министром нелюбимое — по его словам, — а в печатном своем органе нападал на земство. Когда министр умер, этот «серьезный политик» ссылается на свой апокрифический «диспут» с министром, которого он якобы — пользуясь выражением пророка и царя Давида — наставлял «на путь праведных», тогда как сам он шел по «пути нечестивых».
Далее этот человек плетет такую паутину из слов и фраз, что в ней невозможно разобраться. Не есть ли это полный крах публицистической карьеры журналиста, совершенно запутавшегося в противоречиях и в своей собственной паутине? Паук истощился и весь вышел.
6 (19) августа, №10212
DIX
Телеграммою на имя генерала Стесселя государь горячо благодарит артурцев, всех, и гарнизон, и войска, и моряков, и всех жителей, благодарит за их тяжелый, самоотверженный подвиг и поздравляет с успехами в боях 13, 14 и 15 июля. Благодарит и от себя и от лица всей России. Единая душа, единая мысль, единые ощущения государя со всей Россией. Сердце государя бьется в сердце России и сердце России в сердце государя.
Неприятель близок к твердыням артурским. Сердце и все помышления наши там, у этих артурцев, которые заслужили так же, как севастопольцы. Но положение их еще трагичнее. Севастополь не был отрезан от России. Он мог получать все, что бы ему ни прислали. Окруженный сильным врагом, он не уподоблялся острову. Он потопил свои корабли, и моряки бились на суше. Севастопольцы могли отступить на родную землю, совершив свой удивительный подвиг. Артур — остров. Его порт далек от совершенства, как это доказано шестимесячными боями. Попытка соединиться с владивостокской эскадрой окончилась для нас печально. Погиб «Рюрик», другие корабли повреждены. Оказано мужество беспримерное, и значительная часть эскадры возвратилась в Артур, в плен гавани. Флот ослаблен морским боем…
Японцы предлагают сдаться, предлагают выпустить с военным почетом мужественных бойцов, которые доказали врагу свой героизм, но требуют за это сдачи нашего флота, обращения его в японский. Свое «великодушие» они ценят не только в сотни миллионов, которых стоит флот, но выговаривают себе те неисчислимые последствия, которые были бы связаны со сдачею флота. На этих судах появились бы японцы, из русских орудий понеслась бы смерть в русские сердца. После отказа генерала Стесселя принять эти условия, их не повторят. Флот не дастся в руки врагам…
А теперь каждый день, как только проснешься, первый вопрос: что Порт-Артур?
Его самоотверженные защитники, — сколько их осталось? Есть ли у них достаточно материальных средств? Не ушли ли эти средства на борьбу с несметной силой врага? Им ниоткуда помощи. Ни одного человека к ним не прибудет. Если прибывают, то мирные жители, добровольно берущие оружие в руки. В воздухе — не солнце, не летающие чайки, а облака дыма, закрывающие солнце, и летающие орудия смерти. Даже в тех больницах, где лежат раненые, и там нет защиты. Неприятель посылает смерть и разрушение не разбирая, где они лягут.
Есть пределы мужеству, есть пределы всякому самоотвержению. Неужели кто-нибудь вправе требовать от человека сверхчеловеческого? — если он все отдал, если он целые дни и ночи в постоянном труде, если каждый день прибавляет этого труда, если каждый час отнимает братьев-борцов и возлагает на остающихся и ту энергию, которая унесена выбывающими… И картины мужества, и смерти носятся в воображении, вся эта адская осада так кажется близка, так глубоко она чувствуется сердцем и понимается умом.
Сколько раз разносилось известие о том, что Порт-Артур взят. Сердце падало и замирало, но оставалось утешение, что русские люди остались верными своим преданиям мужества и самоотвержения.
Каждый день враг может обновлять свои ряды, по трупам, по горам трупов идет свежий строй, и сотни орудий не перестают метать пожирающее пламя в уменьшающееся число защитников, которые дорого продают свою жизнь. Храни Господь наших храбрых! Если придет их час выпустить из рук оружие, мы будем помнить, что оно вырвано у них чудовищем множества, и почтем их мужество, как величайшую добродетель, как доблестную заслугу, память о которой никогда не умрет.
Не будем ждать чуда, кроме чудес мужества, которые есть и будут. И не будем думать, что Порт-Артур есть последняя надежда, что за падением его — мрак. Он притянул к себе неприятельские силы. Он остановил другие японские армии. Гром орудий у крепости как будто прервал все битвы, как будто все встречи противников стали так маловажны перед артурскими боями, что не стоит и сражаться где-нибудь в другом месте. В трагические моменты на сцене среди зрителей наступает мертвая тишина. Артурская трагедия как будто наложила тишину на все другие армии, и они прислушиваются к монологам орудий, затаив дыхание.
Все мы, затаив дыхание, ждем каждый час, каждую минуту…
Но пусть ожидание будет ожиданием мужественных сынов России, которые без страха смотрят вперед. Пусть святая Русь будет не праздным символом, а действительно дорогою родиной, которая зажигает святое вдохновение энергии и творчества. Пусть собираются силы русского духа и растут, как росли богатыри. В месяцы должно создать то, на что в мирное время тратятся годы. Храбрым считается месяц за год, потому что в месяц они расходуют столько сил, сколько в мирное время их расходуется в годы. Так же все мы теперь должны жить и работать. Так должно быть, так требует святая Русь.
8(21) августа, №10214
DX
Говорят о мире. Английские газеты с особенным удовольствием, смешанным с злорадством, рекомендуют России мир. Даже пророчат, что мир будет не особенно позорен. Конечно, принижение несомненно будет, престиж России упадет значительно, но ведь мир, а с миром заря новой жизни и… вооружения, вооружения без конца.
Позволю себе выписать те строки, которые были напечатаны мною 4 марта.
«Россия прежде всего должна победить во что бы то ни стало в этой войне. Она могла не победить под твердынями Севастополя, могла бы не победить Турцию в 1878 году. Все это было тяжело и могло быть тяжело. Но там мы не ставили на карту все наше значение, как великой и образованной державы. А теперь мы его ставим. Или мы действительно великая держава, недаром стремившаяся в Азию для своих культурных целей, недаром тратившая силы и деньги своего народа, рассчитывая на его развитие и власть русского разума, или все это было какое-то глубоко-трагическое недоразумение, а во мнении цивилизованного мира — трагико-комический фатум, достойный смеха? Вот перед нами какая роковая задача.
Или мы победим, и победим тогда не Японию только, но окончательно победим и все страны, приобретенные нами в течение двух веков, победим предрассудки Европы относительно России, или мы будем побеждены, и тогда будем побеждены для всего мира, для Турции, для Кавказа, для наших среднеазиатских владений, для влияний на Балканском полуострове, для всего славянства, которое чует в России старшую и сильную сестру, для всех других врагов, наконец.
Вот как это будет… Или наше бытие, или ужас унижений. Что ни говорите, мир любит борьбу и победы, и горе побежденным!»
Через шесть месяцев после этого я могу только повторить эти слова. Мы потеряли значительную часть флота, но балтийская эскадра цела. Что будет с теми остатками артурской эскадры, которые адмирал князь Ухтомский привел в Порт-Артур, мы не знаем. Но японцам ее не сдадут. Что будет с Порт-Артуром, мы почти знаем. Как это ни тяжко, но предположение об его падении совершенно возможно. Оно даже принималось в расчет уже несколько месяцев тому назад. Во всяком случае, свою службу он сослужил и сверхъестественного от него требовать невозможно. У нас есть еще большая армия. Она не побеждена. Шесть месяцев упорной борьбы, потоков крови, тысяч убитых и раненых, — все это неужели для того, чтоб признать себя побежденными и отказаться от того, за что началась эта война? Неужели только требовалось доказать, что мы храбры, что мы умеем сражаться и умирать и что наши средства истощены в какие-нибудь шесть месяцев? Неужели насмарку все то, что мы сделали в Сибири, насмарку Великий сибирский путь, насмарку выход в Великий океан, который мы стали искать после того, как не удалось нам найти выход из Черного моря и о чем нам напомнила Англия своим протестом против «Смоленска» и «Петербурга», которые прошли через Босфор и вооружились за ним? Со всеми этими вопросами надо считаться, не говоря уже о народном самолюбии, которое теперь, когда такое множество людей читают и соображают, совсем не звук пустой.
Нашим заграничным советникам не мешает это знать.
Борьба ведется на маленьком пространстве, тридцать-сорок тысяч квадратных верст. Это — пространство Московской губернии, а если считать и Порт-Артур с Ляодунским полуостровом, то это — пространство Орловской губернии. Для наглядности представьте себе, что Мукден — Петербург, Лаоян будет Сиверская, Инкоу — ст. Плюсы, Вафангоу — Псков, Порт-Артур — ст. Режица (не доезжая ста верст Двинска), Ялу — Мета, в Боровичском уезде. Если Мукден — Москва, то Ляоян — Лопасня, Инкоу — Тула, Вафангоу — Горбачево (станция между Тулой и Чернью), Порт-Артур — сорок верст за Орлом, Ялу — у Мурома. Вот на каком ограниченном пространстве двигались армии японцев целых шесть месяцев. Японцы толкались вперед и назад, отчаянно бились, и теряли, по крайней мере, не меньше нас уж потому, что победитель часто теряет больше, чем побежденный. Армия Куропаткина не давала им возможности приближаться к Лаояну. То, что предсказывалось упорно множеством газетных полководцев в Европе, и американскими и европейскими корреспондентами, как такое, что должно случится через несколько дней, через месяц, не случилось и доселе. А предсказывалось не что иное, как поражение этой армии не нынче-завтра, как предсказывалось падение Порт-Артура, который даже был взят штурмом раз пятнадцать.
Сила сопротивления русских оказалась огромная, неожиданная для нашего неприятеля, который был все время в лучших условиях, имея горные орудия, массу артиллерии, большое количество войск, близость источника своих средств, где к их услугам образованные англичане и американцы, работающие для успехов Японии. Японец дерется фанатически, говорят наши телеграммы. Но разве фанатизм — неодолимая сила? Этот фанатизм очень мало бы значил, если б он не владел всем тем, что изобрела и приготовила Европа и чем он пользуется с уменьем, энергией и выдумкою. Он атакует ночью, он направляет электрические прожекторы на русские отряды, ослепляя их светом; он пускает воздушные шары и оттуда начинает бросать взрывчатые вещества. Все это гораздо важнее фанатизма, гораздо важнее того, что какой-то офицер разбил себе лоб о камни, чтоб не попадаться в плен. Если бы все японцы пороли себе животы или разбивали бы головы о камни, чтоб не попадаться в плен, это было бы, пожалуй, поразительно, но ведь этого нет и быть не может. Фанатизм растет с успехами и падает при первой неудаче. Ему надо разбить голову, и в этом вся задача.
Мы читаем о храбрости наших войск, о геройстве и об отступлениях. Не надо забывать, что эти отступления велись на пространстве Московской губернии, самой маленькой русской губернии, и на этом пространстве задерживали сильнейшие армии. Наши отступления героические. О прекрасном духе наших войск говорят не русские только телеграммы и корреспонденции, но и иностранные. У Куропаткина только часть нашей армии. У японцев израсходовано почти все. В Японии идет сильная агитация о мире. Они только и ждут того, чтоб война остановилась на их победах, когда все шансы торжества на их стороне. В русском обществе было распространено мнение, что, овладев Порт-Артуром, японцы не двинутся на Лаоян. Они останутся на юге, станут укрепляться и скажут: «Ну, теперь пожалуйте, к нам. А мы уж на вас не пойдем». Менее распространенное мнение было таково: японцы обойдут Лаоян и запрут там всю русскую армию, точно вся русская армия может оставаться в Лаояне и не выходить в поле.
Мы ничего не знаем о плане Куропаткина. В его телеграммах, очень сухих, чисто фактических, где нет и признака какого-нибудь красноречия и литературных описаний боев, действующих на воображение, видна однако твердая уверенность в своей армии. Войска продолжают двигаться из России. Наши финансы совсем не требуют какого-нибудь экстраординарного займа или общедоступной лотереи в добавление к разыгрывающейся лошадиной лотерее, о чем, наверно, мечтают прожектеры и гешефтмахеры, высчитывающие куртаж и комиссионные и ни во что считающие народные интересы. Ресурсы России огромны, и слово «мир» может быть произнесено только японцами. Малейший повод дать думать, что Россия готова просить о мире, будет превосходным средством в руках наших врагов отодвинуть Россию назад так, что никакой либерализм ее не поправит и те журавли «новой зари», которых обещают нам иностранные советники, улетят в ночи и рассвета мы не увидим.
Курьезнее всего тот эффект о тюренченском еврейском случае, по поводу которого говорит сегодня у нас автор «Заметок». Евреи ахнули от изумления сначала, потом от удовольствия. Требования на этот нумер из Западного края и из других мест России, где довольно евреев, были поразительны. Мы не имели возможности их удовлетворить. За границей такой же эффект, даже в Париже. Но среди русской, еврейской и еврействующей печати началась брань против нас. Эта печать точно испугалась. Как так? Кого же мы теперь бранить будем, над кем же показывать свой либерализм, на кого клеветать?
Для нас все это было неожиданно и приятно. Все это показывало, что нашим мнением дорожат, наше беспристрастие оценивают, и мы хотели бы, чтобы евреи ценили нашу независимость.
Будем рассуждать.
Автор «Заметок» напрасно оговаривается относительно упомянутого случая под Тюренченом. Передается факт очень симпатичный, и «Новое Время» не отказалось бы его напечатать, кто бы его ни доставил. На войне забываются все счеты, все чувствуют близость между собою перед общей угрозой смерти, и стоянье друг за друга тут не есть привилегия какой-нибудь народности. Ничего невероятного в этом рассказе я не вижу, проверить его есть полная возможность, и за напечатание его газета не подлежит ни порицанию, ни благодарности. Я ничего не имею возразить А. А. Ст-ну и с «христианской точки зрения», но эта точка зрения ровно ничего не может сделать для евреев. Если б Евангелие с его высокою нравственностию лежало в основе политики и общежития, то мир не походил бы ни на то, что он есть, а мы живем в этом мире. Победить любовью и Христос и его апостолы могли только небольшую часть еврейства и язычества, да и в ней немного было избранных. В современном же христианском человечестве, конечно, много язычества, но много и еврейства, того еврейства, от которого отвернулся Христос, и поэтому надо говорить, что современное христианское общество есть не языческое только, но и еврейское, и языческое и еврейское, далекое от христианства в его евангельском учении. Уж по этому самому, отмечая языческое, как несогласное с христианским, необходимо отмечать и еврейское, как еще более несогласное с христианским. Если язычники-христиане должны стараться побеждать евреев любовью, то евреи должны им отвечать тем же, т. е. христианскою любовью. Не говоря о том, что этой любви ни у тех, ни у других недостаточно, замечу, что если «закон», основанный не столько на Ветхом Завете, сколько на Талмуде, евреев к этой любви и не обязывает, то христианам приходится жертвовать собою, повинуясь своему закону Нового Завета, т. е. сделаться просто еврейскими рабами, подчиняясь их необыкновенной практичности. Апостол Павел упрекал евреев за то, что они, будучи евреями, живут по-язычески. А современные евреи, конечно, более язычники, чем современники Павла и больше закаленные практики, чем тогда, когда у них было еще реальное отечество и политическая жизнь, подавлявшие в значительной степени личный эгоизм.
Христианская религия, внося в мир идеализм, очень непрактическая религия, тогда как еврейская в высшей степени практическая. Христианская только одной стороной, Ветхим Заветом, примыкает к еврейской, а еврейская, опираясь только на Ветхий Завет и совершенно отрицая Новый Завет, заключает твердый союз с Талмудом и является могущественною, необыкновенно логическою и побеждающею силою в практической жизни.
Дело совсем не в христианской точке зрения на евреев, не в инквизиции, которой у нас не было, а в том, что называется правом. Когда я говорил однажды об евреях с Л. Н. Толстым, то он стоял именно на правовом порядке и одинаково осуждал как американцев за то, что они не пускают к себе китайцев, ограждая своих граждан от конкуренции с дешевыми китайскими рабочими, так и русских за черту оседлости. Я возражал, что если Америка боится китайцев, то России и подавно можно бояться конкуренции евреев с русскими. Что евреи одолеют черту оседлости, я в этом ни минуты не сомневаюсь. Мне всегда было жаль Малороссию, которая страдает от этой чести заключаться в черте оседлости. Но я желал бы, чтобы евреи одолели черту оседлости не ранее того, когда русский народ получит все права и все возможности свободно работать и свободно бороться. Пока он находится в нынешнем состоянии, нельзя к другим тягостям еще сажать ему на плечи еврея, который сильнее его. Вот моя принципиальная точка зрения. Она правовая, а не христианская, ибо христианство обязывает нас делиться с неимущими своим избытком, а этого никто из христиан не делает. У нас десятки миллионов своего нищенского населения, а что этим нищим сделало наше христианство? И тут вопрос в праве, в справедливом законе, в хорошем распределении налогов, а не в христианских чувствах, которые делают свое дело медленно.
Обратимся к печати. Что такое антисемитизм?
Вот это что такое.
Если я ругаю общество за его слабости, за его низости, холопство, лень и проч., то я ругаю только христианское общество.
Если я скажу, что еврейское общество исполнено обмана, лжи и перечислю то, например, что говорили о нем пророки, — это антисемитизм, т. е. ненавистничество.
Если я обругаю адвокатуру — это в порядке вещей, это — мое право журналиста, это — право всякого сатирика и писателя.
Но если я скажу, что адвокаты-евреи стремятся образовать из себя крепкую ассоциацию, чтобы господствовать и устранять от дела адвокатов-русских, или просто я нарисую еврейских адвокатов с отрицательной стороны, как и русских, то это — антисемитизм, т. е. ненавистничество.
Я могу говорить о подрядчиках, что они — воры, надувалы, эксплуататоры, что они заботятся только о куртаже, что для них война — нажива, это хорошо, ибо есть действительно такие подрядчики.
Но если я скажу, что еврейские поставщики на армию грабили ее и кормили всякой тухлятиной — это антисемитизм, это — преступление против альтруизма, культуры и проч., хотя несомненно есть такие еврейские подрядчики.
Кулаки — вредные бестии. О, да, понятно, конечно. Кулаки-евреи — вредные бестии. Смотрите, антисемит, консерватор, поклонник деспотизма и проч.
И так это всюду и всегда. «Новое Время» прослыло антисемитским после войны 1877–78 гг., когда я, побывав на войне, заговорил о подвигах достопамятных еврейских поставщиков армии, Грегера, Горвица и комп. Если бы это были Сидоров, Петров и комп., то евреи были бы мной довольны, ибо русские имена не бросают на них тени и этих Петровых и Сидоровых они стали бы ругать вместе с русскими.
И так не в России только, где евреи стеснены, а всюду, по всей Европе, во всех странах, где евреи пользуются всею свободой. Печать — великая сила. Евреи это знают и забирают ее в свои руки. Когда она вся будет у них — это будет не общественная сила вообще, а общественно-еврейская сила, еврейский контроль над христианами, только над христианами.
Она может отрицать все существующее, весь порядок вещей и это будет отрицание только христианского порядка вещей. Все пороки, все слабости, несправедливости — все это результат христианского порядка вещей. О евреях ни слова. Они только судьи. Их как будто и нет, но они царствуют и судят. Они вне контроля печати. Хозяева-евреи ни слова не позволяют сказать худого о евреях, которые распоряжаются биржей, капиталом и, будучи в меньшинстве, господствуют над большинством. Весь ужас положения не еврейской печати именно в этом: еврейская печать создает господство евреев в христианском обществе и оставляет действия евреев без контроля печати. И притом это господство не евреев вообще, не массы еврейской, которая так же нища, как и христианская, а господство евреев сильных и богатых.
Что я говорю правду, ни один умный и просвещенный еврей, не лишенный идеализма и желающей честного примирения своего племени с другими, этого отрицать не станет. Доказательство — появление на французских сценах двух пьес, где участвуют евреи, разумеется, богачи. Авторы этих пьес, Гинон и Донне, с замечательным беспристрастием представили французское высшее общество и еврейское. Донне даже изобразил идеальнейшего еврея, выше которого нет ни одного из действующих лиц. Все свое богатство он отдал на пропаганду света и правды и о дурных евреях говорит, что с ними он сам «чувствует себя антисемитом». Обе пьесы имели успех, но прошли со скандалом, и печать накинулась на обоих авторов с пеной у рта и ненавистью.
Как сметь свое суждение иметь о евреях! О них или молчать, или хвалить. Они позволяют только хвалить себя. А это — свойство тирании.
Заметьте, во Франции всего сто тысяч евреев на тридцать восемь миллионов французов, т. е. двадцать восемь евреев приходится на десять тысяч французов. У нас четыреста пятьдесят евреев на каждые десять тысяч прочего населения. Если в самой культурной стране мира сто тысяч человек-евреев овладевают печатью, овладевают целой третью всей недвижимой собственности Франции и направляют ее политику, то как же не бояться их в стране некультурной, бедной, малодеятельной, где евреев семь миллионов? Да их власть может сделаться прямо могуществом.
И опять мне скажут: это — антисемитизм! Нет, господа, я только рассуждаю, а потому спрашиваю:
Может быть, это «могущество» поможет разбудить нас от полусна, возбудит конкуренцию в торговле, промышленности, скрепит разъединенные силы интеллигенции, выдвинет новые дарования в общем отечестве и более сильную деятельность для общего отечества, где не будет ни еллина, ни иудея, вольет новые и свежие ключи в застоявшуюся реку?
Не знаю. Но могу спросить: почему же это не так в Европе? Почему роман немецкого писателя Поленца «Крестьянин», к которому Л. Н. Толстой написал прекрасное предисловие, изображает борьбу крестьянина с евреем, кончающуюся гибелью всего крестьянского семейства? Поленц — несомненный художник и, как художник, рисует жизнь, а не исключения из жизни. В самом деле, если интеллигенция может работать сообща и стремится к общим целям, то что принесет с собой в народ еврейская эксплуатация вообще?
Но, может быть, в Европе еще опыт мал, еще недостаточно прошло времени для слияния двух племен и родственных верований, для уничтожения глухой борьбы и взаимных счетов? Может быть, еврейство однороднее, логичнее и практичнее, потому что христианские идеи остались вне его, не сокрушали его старых традиций, его единобожия и старой морали? Поэтому оно только крепло и крепло, тогда как поэтическое язычество, арийцы, обратились в христианство и вынесли тяжелую историю религиозных, династических и всяких других раздоров, войн, вражды, всего того, что с христианством совсем не вязалось и что христианство обессиливало в такой мере, что оно не в силах бороться с еврейством правильно?
Я не умею разрешить эти вопросы, и для меня они остаются тревожными вопросами. Но я желал бы не победы евреев над русским народом, а мирной и просвещенной победы русского народа над ними. Для этого я желал бы как можно больше школ, как можно больше просвещения и тех учреждений и способов, которые поднимают дух, обновляют человека, удваивают его силы, дают ему радостные настроения в работе, делают его добрее, сильнее и великодушнее. Что эти превосходные качества общежития находятся в русском народе, доказывается и тем стремлением в Россию, которое так сильно среди евреев. Если бы не было какого-нибудь необыкновенного магнита, в достоинствах он или в слабостях славянского племени, кто бы заставил евреев идти постоянно в страну, где их угнетают? Иначе ведь придется допустить, что идут в нее худшие евреи, отбросы, а все лучшее, более образованное, развитое и талантливое остается в Европе…
Сложное, страшно сложное это дело. Мы его не разрешаем, но мы постоянно относились к нему искренно, отстаивая интересы своего народа, только что еще начинающего жить свободно. Пусть он вздохнет полной великодушной грудью и братских чувств у него хватит на весь мир.
Чудесный, солнечный день с приятным осенним холодком. Нева блестела под солнцем. Великолепный город Петра Великого, созданный народным гением среди топи болот, шумел обычным движением. На небе ни облачка, но тяжелая туча лежала над головою русских людей. Случилось опять что-то неожиданное и непредвиденное. После колоссальных боев, после мужества, о котором мы, мирные жители, не можем составить себе и приблизительного понятия, после душевного напряжения, которое одно, помимо страданий телесных, должно было измучить героев Дальнего Востока, укрепленный Лаоян оставлен Куропаткиным и начало совершаться отступление нашей армии перед превосходными силами неприятеля, с своей стороны употребившего такие же чрезвычайные усилия в этой борьбе. Бой продолжался несколько дней. Позиции брались штурмом и переходили из рук в руки. Недоставало снарядов, дрались грудь с грудью, бросали друг в друга камнями, не имели отдыха ни днем, ни ночью. Голодные, истомленные, истекающие кровью, последние душевные силы напрягали, чтоб победить. Горы убитых, десятки тысяч раненых. Вероятно, выбыло из строя и наших и японцев больше пятидесяти тысяч. Одно из тех сражений, одно из тех нечеловеческих усилий, о котором мир не имел еще понятия. Равные по мужеству, противники одушевлялись страшной борьбой, страстным желанием не уступать друг другу. Но вся доблесть наших войск должна была уступить численному превосходству неприятельских сил.
Что наши волнения, наши душевные муки в сравнении с тем, что теперь происходит на пространстве от Лаояна до Мукдена! Что значит петербургская деятельность, размеренная, расчисленная, с отдыхом, с развлечениями, с забавами, с порожними разговорами, приправленными перцем высокомерной или ругательной критики, что она значит с тою деятельностью, с тем напряжением, с теми муками душевными и телесными, с тем поистине святым самоотвержением, какие происходят в этой отдаленной стране, политой теперь так обильно русской дорогой кровью? Тут нельзя подыскать никакого сравнения. Мы должны записывать уроки, но задний ум наш должен молчать, этот всеутешающийся и всеутешающий задний ум, которым мы так богаты во всей нашей истории и который так расслабляет душу и отнимает у ней энергию и смелость, которые всецело должны быть направлены на общее дело. Этот задний ум готов только обвинять, выезжая на частностях и забывая общие причины и вычисляя, что было бы, если б дело было не так, а иначе, если б буквы азбуки не шли по порядку, а так, как в настоящую минуту нам кажется ясным. Да правда ли, что нам сделалось что-нибудь ясным? Не ходим ли мы во мраке сомнений и малодушия вместо того, чтоб укрепляться духом и всеми силами помогать нашим братьям? Да, наши волнения, наша нервность в сравнении с тем, что переживают войска в постоянной близости к смерти, преданные долгу, ничто иное, как забава детей, играющих в солдатики и ссорящихся между собою от завтрака до обеда…
Я получил несколько писем, в которых меня упрекают за то, что я будто бы восстаю против критики в настоящее тяжелое время. Ничего подобного я не хотел сказать. Я сравнивал наше петербургское настроение с его отдыхом, обедами, винтом и развлечениями, с теми невыразимыми страданиями, которые испытывают солдаты, офицеры и командующие на Дальнем Востоке. Я говорил о петербургской «высокомерной» и «ругательной критике», о критике непризнанных Наполеонов, которые ровно ничем себя не заявили, и разных статских Калиостро, чудеса которых только они сами зовут чудесами. Я разумел велеречивые сплетни и толки, которые действуют не открытыми путями, а потаенными, путем интриги, протекций, самохвальства и унижения соперников. Всякая открытая критика почтенна, если она искренна и основательна, если она ищет правды и имеет одну цель, — благо отечества. Не о такой критике я говорю.
Не раз уже упоминал я, что у нас мало критики в печати, но в разговорах ее тем более. Постоянный критик, который является от поры до времени в «Разведчике», это генерал Драгомиров. Но и его критика основана более на тонкой иронии и остроумных сопоставлениях, чем на разборе наших военных действий. Мы, статские люди, какие же критики? И притом военные статьи и корреспонденции подлежат у нас особой цензуре, как и в Японии. На войне кто победил, тот и прав, и победителя не судят. Но зато побежденного судят тем строже и тем безапелляционнее, судят «высокомерно» и «ругательно». Что происходит за двенадцать тысяч верст, мы совсем не знаем в подробностях, в подсчетах войск, в действиях их во время битв. В прошлую войну с Турцией мы постоянно читали подробные реляции о всех боях. Они печатались поздно, но все-таки печатались. Теперь мы имеем только телеграммы; корреспонденции частных газет печатаются в Петербурге о событиях ровно месяц спустя после того, как событие совершилось. Да и эти корреспонденции скорей бытовые, а не подробное описание боя, как в реляциях. Да и мало ли чего мы не знаем? Отсутствие реляций, вероятно, объясняется тем, чтобы не выдавать военных секретов противнику. Японцы хранят эту тайну тоже ревниво. Но они — победители и потому в разъяснениях не нуждаются. У них, кроме того, все идет с математическою правильностью. По крайней мере, нам так кажется и мы им завидуем и в этом отношении. У них близко от дома. Они — хозяева морских путей. Но мы, однако, прежде чем упражняться в высокомерной критике, должны бы знать подробности, если не о военных действиях, то о тех условиях, в каких находятся войска. Прочтите сегодня выписку в «Среди газет» из корреспонденции В. И. Немировича-Данченко. Она дает некоторое понятие о том, о чем мы говорим. Войска у японцев более, чем у нас. Доставка войск не только медленная, но с промежутками. У нас их постоянно меньше, и поэтому мы, избегая обходов, которые можно делать только при обилии войск, постоянно должны отступать. Дерутся наши, как львы. Наш неприятель признает это в донесениях своих генералов.
Все военные говорят, что в войне с японцами необходимо иметь, по крайней мере, равные силы, равные силы в пехоте, солдат на солдата, и равные силы в артиллерии, орудие против орудия. Ни того, ни другого у нас не было. Было уже много раз напечатано, что у японцев артиллерии всегда было больше, что у них были горные орудия, когда у нас они только приготовлялись в Петербурге и проч.
Наши войска дрались сплошь и рядом один против двух, тогда как японская армия едва ли не выше всякой европейской, и едва ли какая европейская армия выдержала бы так стойко все эти кровопролитные бои, как выдержала их русская.
Заметьте, что большая часть знаменитых сражений выиграна при превосходстве сил. Союзники имели в битве при Лейпциге триста тысяч, а Наполеон — сто семьдесят одну, при Гравелоте — двести семьдесят тысяч немцев против ста двадцати шести французов, при Седане — сто девяносто тысяч немцев против ста двадцати четырех французов, при Бородине — почти равные силы, при Садовой также.
С меньшими силами побеждать японцев, конечно, можем только мы, сидящие в Петербурге, и, побеждая в винт, выигрывая большие шлемы, свободно критикуем и мажем черной краской. Вот о какой «высокомерной» критике я говорю. Это все непризнанные Наполеоны и кандидаты в Калиостро. Будь они на войне, они давно бы победили.
Держи карман!
Японцы выигрывают битвы постоянно с превосходными силами. При Дашичао несомненно победили русские, об этом говорили все корреспонденты, но русские тем не менее отступили. Отступая, мы жгли интендантские склады, хотя, по-видимому, можно было эти склады отвезти заблаговременно. Почему этого не делали, неизвестно. В Инкоу офицер требует вагонов, чтобы вывезти запасы. Вагоны стоят свободные, но их ему не дают, и интендантские склады поджигают. «Наше железнодорожное дело здесь, говорит г. Немирович, одна из самых темных сторон этой войны». Что он разумеет, неизвестно. После войны все это разъяснится, но темные стороны есть и они несомненно вредят армии. Зато требование разных формальностей, удостоверений, печатей поразительное. Точно в Петербурге, чтоб каждая копейка прошла свой курс удостоверений, отношений, записей, расписок и т. д.
Голодным солдатам не выдают хлеба из огромных складов, потому что не все формальности соблюдены, а завтра эти склады сжигают. Один прапорщик не хотел было выдать снарядов из склада во время боя, потому что к нему обратились не по форме. Если от такого маленького человечка могла зависеть участь боя, то что же сказать о больших, у которых иногда является желание показать свою власть и заставить покланяться. Сколько таких случаев было во время нашей войны 1877–1878 гг. с турками. Вы просите тысячу снарядов, а вам отвечают: по нашим расчетам, снарядов у вас еще достаточно, а потому мы вам посылаем вместо тысячи — двести. Тот, кто посылает, сидит в совершенной безопасности и неприятеля не видит, но он находит необходимым сказать вам, что лучше знает, чем вы, сколько вам снарядов надо. За него экономия. Он сберег восемьсот снарядов, а у вас убили восемьсот человек лишних и вы отступили. Такой экономией наши военные летописи полным-полны.
Я сравнивал здешнее наше состояние с тамошним и говорил, что для этого нет подходящих сравнений, что здесь мы играем в солдатики, а там льется кровь, там настоящие, ужасные страдания. Я говорил, что вместо высокомерной критики, вместо холодных рассуждений и самодовольного хихиканья, надо дело делать, надо помогать, надо перевозить не то, чего не надо, а то, что следует. Г. Немирович говорит, что в течение десяти дней совсем не подвозили войск к Дашичао, когда они были до крайности нужны, и упоминает о целом месяце такой же остановки в доставке войск прежде. Чья это вина? Местная или петербургская? Во всяком случае, это не вина командующего армией, которому нужны войска и пушки.
Мне кажется, что критика нам нужна несомненно, но она прежде всего нужна здесь, где столько устной критики, обращенной не на себя, а в туманную даль. Сто раз уже говорилось, что деятельность нужна здесь, в России, кипучая, что надо делать вдесятеро больше, чем в мирное время, чтобы победить. Так как у нас Наполеонов что-то не видать, то всего лучше было бы делать всякому свое дело и, уж если критиковать военные действия, то с достоинством и открыто, в печати, а не за винтом и за хорошим обедом. У нас впереди новые грозы. Падение Порт-Артура, занятие Сахалина, Командорских островов, Камчатки, осада Владивостока — вот что намечено нашими врагами. Все то, что наши предки приобрели без крови, без усилий, что сделалось давно нашим, русским, все это подлежит спору, все это требует крови и смертельного боя.
Надо опасности прямо глядеть в глаза, не скрывая от себя ничего, не заслоняя от себя ее никаким туманом, никакими декорациями. Свет должен сиять на наши раны, чтобы видеть и знать и, видя и зная, понимать и творить. Творить из той же русской души, из того же русского ума и таланта. Неужели она иссякла, эта русская великая душа, неужели погас русский разум и спрятался в какой-нибудь пещере русский талант? Его надо вызвать светом солнца, добротою сердца, глубоким проникновением в нужды общества и народа. Творчество не должно иссякать, малодушие, сомнения, злоупотребления — вот что должно спрятаться и исчезнуть вместе с «высокомерной» критикой.
25 августа (7 сентября), №10231
DXIV
Кто бы что ни говорил, как ни печальны события последних дней, как ни растерзали они русское сердце, слава русского оружия нисколько не пострадала. Мы, статские люди, были очень довольны, когда корпус барона Штакельберга двинулся на юг. Это удовольствие разделяли и моряки. В обществе были уже тогда горячие симпатии к Порт-Артуру и нам казалось, что это движение поможет этой крепости, только что тогда оторванной. Но наши и европейские военные критики отнеслись к этому движению критически. Японская армия была несомненно сильнее нашей и в случае возможной неудачи этого движения, армии Куропаткина могла представиться тяжелая задача. Сколько мне известно из корреспонденций, в план нашего полководца не входило это движение. Но оно состоялось, благодаря Порт-Артуру; последовала битва при Вафангоу и ряд других боев и мучительных отступлений.
Следя за этими битвами и отступлениями, видя, как японцы более и более сжимали нашу армию своим кольцом, иностранные военные критики предсказывали прямо гибель армии Куропаткина. Предсказывали с такой уверенностью, что падало сердце. Еще в последних числах июля в берлинской «National Zeitung» появилось такое предсказание: «Нет ни малейшего сомнения, говорит военный обозреватель этой газеты, что положение Куропаткина отчаянное и что армии его предстоит гибель, если он не предпримет, насколько это возможно, какого-нибудь такого шага, который позволит ему прорваться сквозь японские войска… Некоторые мои собратья утверждают, что энергичное наступление японцев с юга помогло концентрации русской армии, но это походило бы на такое положение, если б кто признал вас совершенно здоровым на том основании, что у вас обе щеки вздуты». Один из русских корреспондентов говорит после битвы под Дашичао почти то же самое. «Трудна и невыносимо тяжела задача, исполняемая теперь русской армией. Ее бросили вперед, заставили нарушить первоначальный план генерала Куропаткина, т. е. держаться у Лаояна до подкреплений из России, вызвать японцев на себя, стянуть их с сопок и их таинственных ущелий в равнину». Японцы очутились в самых благоприятных условиях. Наступая с юга, с запада и с востока, они стремились сжать русскую армию в кольцо и принудить ее к сдаче. Они лелеяли такой же план, как немцы у Седана. Даже числа подходили. 20 августа (1 сентября) был Седан и это же число улыбалось японцам сделать еще историчнее, так сказать, устроив и России Седан в Лаояне. Седан и Лаоян хорошо рифмовали. И вот этот план не удался. Наша армия не только геройски выдержала десятидневный бой и положила массу врагов, но вышла из того критического положения, в которое начали ее ставить японцы уже со времени битвы при Вафангоу. Если бы генерал Орлов не «зарвался», наступление Куропаткина на Куроки, превосходно задуманное, окончилось бы успехом. Но и эта неудача не расстроила отступления. По-моему, наша армия не была разбита и могла еще сражаться, но ей грозило быть окруженной, и Лаоян был оставлен. Конечно, Лаоян — не Москва, но все-таки это — тяжелое дело. Телеграммы Куропаткина самою своею лаконичностью говорили о том состоянии духа, в котором он находился. Очевидно, ему невозможно было отвлечься от пожирающей мысли спасти армию. Эта мысль занимала его дни и ночи, мучила, угнетала, но неприятельский план отрезать армию от Мукдена не удался. Может быть, с тех пор, как существует русская армия, она не была в таком трагическом положении, как и не выносила такой продолжительной битвы. Разве отступление нашей армии после Бородина может иметь себе подобие в состоянии духа двух полководцев, если не в положении армий? И это отметили европейские военные критики, отдавшие дань уважения дарованию Куропаткина. Тот же военный обозреватель «National Zeitung», который говорил почти за месяц до Лаояна об отчаянном положении нашей армии, так заканчивает свой разбор этого отступления после боя у Литая (вчерашняя телеграмма):
«Если боевой фронт русской армии, противопоставленной Куропаткиным японцам в четырехдневном бою, да еще без содействия кавалерии, оказал такое сопротивление, что вся Маньчжурская армия за его защитой была в состоянии отойти на Мукден, то операция эта является одним из величайших военных действий, которым русская армия вправе всегда гордиться».
Я — не военный критик, и для меня отступление есть отступление. Но этот десятидневный бой, это отчаянное мужество, это отступление в проливной дождь, по плохим дорогам, доказали, что будь наша армия равною японской, она бы несомненно победила. Это сознание сквозит в комментариях иностранных газет, даже враждебных нам. Но необходимо единство действий, необходимо пожелать — повторяю то, что сказал наш военный обозреватель — «чтобы скорее прибыли наши подкрепления, чтобы наш командующий превратился, как у японцев, в главнокомандующего («полная мочь главнокомандующему», сказал Суворов), потому что только при этих двух условиях можно будет прекратить эти досадные отступления и достигнуть окончательной цели войны — разгрома врага».
Чтоб достигнуть этого разгрома врага, и надо употребить все усилия, напрячь все средства. Что-нибудь одно, или Япония обратится в великую державу и предпишет нам мир с контрибуцией в миллиарды и со всеми последствиями, которые ждут нас в наших азиатских владениях, или мы останемся с приобретенными нами владениями и обеспечим себе мир на десятки лет. Я готов повторить то, что сказал в прошлый раз о петербургской критике, которая иногда с таким легкомыслием относится к действиям нашей армии на Дальнем Востоке, точно дело идет о каком-то вопросе спорта: «Посмотрим, как справится Куропаткин с японцами!» Дело идет не о командующем Маньчжурской армией и не о главнокомандующем сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке — дело идет о судьбах России, которые несравненно важнее всех главнокомандующих, когда-либо бывших. А наши маленькие Наполеоны, которые сидят и в Петербурге, и в России, которые еще никого не побеждали и даже ни с кем не сражались, им следует прежде всего победить самих себя и отдать себе отчет в том, что они такое сами. Кто самого себя не победил и не довел себя до высоты глубокого беспристрастия, до признания заслуг мужественных, храбрых и преданных сынов своей родины, тот еще ровно ничего не значит. А это прежде всего необходимо, ибо дело идет о страшном вопросе:
Наступит ли желтое племя своей победоносной пятой на белое униженное русское племя?
Вот вопрос, который не должен выходить из нашей головы, из нашего сердца. Он должен поднять наше патриотическое чувство и развить русский разум до глубокого проникновения в этот вопрос, до безграничной преданности своей родине.
Льется кровь потоками, а у нас льются слова. Слезы только у тех, которые потеряли на этих далеких полях и горах, на этих морях своих сыновей, юношей, полных жизни и надежд, мужей и отцов, поддержки семейств, всех этих известных и неизвестных героев, этих страдальцев за нас, больших и малых, над которыми смерть не висит с поднятым мечом. Может быть, от всякого нашего упущения здесь, от всякой нашей халатности, пренебрежений, невнимания, высокомерия, от нескольких часов, проведенных в праздности или в праздных разглагольствиях, зависят сотни жизней, зависят успехи.
А публика в тревоге желала бы знать много подробностей. Она, например, спрашивает, где наши пулеметы? Действия их описывал американский корреспондент при Тюренчене, как необыкновенно страшные и губительные. После Тюренчена о них совсем не слыхать, ни в одной битве о них ни слова. Вместо того, чтоб бросать камнями в наступающих на батарею японцев, как было при Лаояне, можно было бы остановить их пулеметами. Мне рассказывали, что несколько русских офицеров сами приобрели пулеметы. Представьте себе кишку, из которой поливают улицу водою. Такое же орудие — пулемет. Он выбрасывает массу пуль и способен к движению в разные стороны. Мне рассказывали, что Англия имеет уже в своей индийской армии двести пятьдесят пулеметов.
При Лаояне японские воздушные шары делали свое дело разведки. Им они служили вместо кавалерии. Со страшной и почти безопасной высоты они могли наблюдать расположение всей нашей армии, всех укреплений. У нас их не было, а еще в апреле месяце печать об них говорила и даже открыта была подписка на их приобретение, по моему мнению, совершенно лишняя, так как это дело не общества, а военного ведомства, у которого должны быть на это суммы. Прославленный воздухоплаватель наш полковник Кованько только на днях отправлен на Дальний Восток, тогда как он давно туда просился. У нас есть такой обычай: если мне, начальнику какого-нибудь отдела, не приходит в голову того или другого средства, я преспокойно отвергаю ваши предложения. Я даже считаю их обидными для своего начальнического самолюбия! Пусть гибнет мир, а не мой авторитет. Я — маленький бог, и ко мне можно обращаться только с молитвами, а не с предложениям и новыми мыслями…
И затем мы слишком долго рассуждаем и обсуждаем разные системы, боясь, как бы не ошибиться в выборе. Не есть ли и это признак нашей неподготовленности технической? Японцы быстро все усваивают, а мы ожидаем у моря погоды. А время летит, события поражают своей быстротой, как блеск молний из тучи. Какие же нужны нам энергия, какая деятельность, какое неусыпное внимание! Как отделить отечество от военного дела, от этой армии, от этой русской чести? Ведь это теперь все, от этого зависит наше будущее!
Мне говорили, что я не прав, приводя фразы из корреспонденций, где говорилось о том, что какие-то темные дела совершаются на железной дороге, что какой-то прапорщик не хотел отпустить снарядов, что железная дорога не дала вагонов тому или другому офицеру. И железная дорога должна делать то, что ей приказано, и прапорщик не должен давать расхищать снаряды. Это — дело дисциплины, особенно необходимой на войне. Во всяком случае, Петербург тут, говорят мне, не виноват. Он заведует отправкой только до Харбина, а с Харбина распоряжается отправкой войск главнокомандующий адмирал Алексеев и потом уже командующий генерал Куропаткин, что железная дорога работает во всю силу, что было только две остановки (до Харбина), одна в апреле на два дня, и потом дней на восемь в разное время, между движением армии, и то по причинам неодолимым. Я благодарен за эти сообщения, но понимаю и корреспондента, который сидит на месте, видит то, чего мы не видим, слышит то, чего мы не слышим, и записывает свои впечатления среди тяжелых условий военного времени.
Желтое племя бросается на нас ураганом, как Аттила. Именно на нас прежде всего и Божий суд, быть может, возложил бремя отразить его, устроить ему Каталаунскую битву за Россию. Мы ли, они ли начали, не в этом вопрос. Скоро ли они разорятся или истощатся, опять не наше дело. Нам нечего считать в чужой стране и в чужих финансах. Они — победители, мы — побежденные. Мы должны считаться только со своим, его привести в порядок, его поднять на должную высоту, ему придать неодолимую силу… А это мы можем сделать только здесь, в России, и в Петербурге.
28 августа (10 сентября), №10234
Поправка.
Мне указали на ошибку в моем вчерашнем «Маленьком письме». В Лаояне были и у нас шары, но типа тяжелого, крепостного, а не легкого, выработанного под руководством полковника Кованько. Именно этот последний тип не хотели принять, и надо было для принятия его очень высокое покровительство и внимание. Это главное в моем сообщении, и в этом я не ошибся. Крепостной тип имеет лебедку в несколько сот пудов, его повозки громоздки, материалы для добывания газа тоже тяжелы; при этом главную массу материалов составляют железные опилки, которые необходимо везти из Европейской России, и серная кислота в бутылях. В Лаояне, конечно, и крепостной тип мог быть применен, но если бы предстояло движение армии в сторону от железной дороги, армия осталась бы без шаров.
В полевом типе вес всего уменьшен; газ добывается иным способом, более удобным, обоз вьючный.
Я говорил об японских воздушных шарах под Лаояном, потому что их видели и наш корреспондент, и корреспондент «Times»’a. Этот последний говорит и об японских пулеметах; но о русских воздушных шарах и о русских пулеметах, о чем я вчера упоминал, никто не говорит.
29 августа (11 сентября), №10235
DXV
О «желтой опасности» заговорила газета «Times». Нам это тем приятнее, что «Новое Время» много толковало об этом, как в передовых статьях, так и в корреспонденциях гг. Аргуса и Вандама. Г. Аргус (Г. С. Веселитский) настойчиво собирал сведения о деятельности японцев в Европе и в Азии; лозунг их — «Азия для азиатов», который, в сущности, обозначает «Азия для японцев». В июне Г. С. Веселитский прочел лекцию о желтой опасности в лондонском «Central Asian Society», где председательствовал Альфред Лайель. В этой лекции он повторил в дополненном виде свои корреспонденции в «Новое Время» и чтение это произвело своей убедительностию и логикою фактов большое впечатление на избранное общество, которое его слушало. Теперь эта лекция явилась отдельной брошюрой «The problem of Asia» с предисловием г. Мэккензи Уоллеса, весьма известного автора книги о России, бывшего редактора «Times»’a и главного редактора «Новых томов Британской энциклопедии». Г. Веселитский несомненно способствовал тому, что в Англии стали открывать глаза на японцев, на их виды на Азию и их военные силы, которые они так тщательно развивали в последние годы.
Как свидетельствует «Русский Инвалид», Япония может выставить миллионную армию, обученную по-европейски и снабженную всеми европейскими изобретениями по части истребления человеческого рода. Г. Веселитский является также горячим сторонником сближения России с Англией, сближения двух стран, которые особенно заинтересованы в азиатских владениях своих.
События разыгрались вопреки всяким расчетам не только России, но и Европы. Та самая Европа, которая со времен Наполеона бредила казаком, очутилась под грозой совсем неожиданной и еще малосознанной в Англии. Считая Россию своим врагом, всегда смотря подозрительно на ее распространение в Азии, Англия бросилась в объятия Японии. Но Япония в будущем грозит Англии гораздо больше и серьезнее, чем Россия. И прекрасная японская военная организация еще шире открыла глаза англичанам. Перед нами действительно монголы с жаждою побед и любовью к войне. Они представляют собою нечто противное европейскому христианскому чувству. Для европейского чувства противоестественны эти самоубийства, чтоб не попасться в плен, эти распарывания животов, чем они похваляются. Европеец не может с уважением смотреть на эти самоистязания и корчи. Для него война имеет в себе нечто благородное, рыцарское, и соперники на войне дружески сходятся в мире. Их связывает и общая культура и общая религия. Японцы — особая раса. У них широкие завоевательные цели, обладание Азией, прикрываемые пока какими-то цивилизаторскими намерениями; им мало Кореи, они хотят завоевать всю Маньчжурию — «до Иркутска», собираются «возродить» Китай, чтобы и в Китае организовать союзную армию по европейскому образцу, затем японские эмиссары действуют уже в Индокитае и, наконец, в Индии.
«Times» думает, что Япония не может господствовать в Китае, в перерождение которого не верит. Перерожденный Китай, по мнению «Times»’a, может явиться угрозой самой Японии тем скорее, что численное превосходство всегда было бы на стороне Китая.
Такая аргументация кажется мне плохо обоснованной. Если б я был искренним японцем, я отвечал бы так на эту аргументацию. Особенного перерождения Китая Япония и не желает, как не желает Англия перерождения Индии. «Times» может обратиться к своей великолепной родине, к ее судьбам и господству над другими народами. В Великобритании, собственно в Англии, Шотландии и Ирландии, и в настоящее время меньше населения, чем в Японии, именно сорок два миллиона, а в Японии — до пятидесяти миллионов. Если Англия может с сорока двумя миллионами населения господствовать над тремястами шестьюдесятью миллионами жителей Индии и других своих колоний, почему Япония с пятьюдесятью миллионами жителей не может господствовать над четырестами миллионов Китая, а господствуя над Китаем, не развить свое могущество и на всю Азию? «Times» скажет, что Англия — просвещенная и богатая страна, что она стоит среди европейских стран, как представительница высокой культуры, что ее господство обязано именно превосходному патриотическому труду многих поколений, выработавших свободные учреждения, стоящие особняком в мире по своей прочности и призывающие лучших людей в советники по государственным вопросам. Но разве Япония не может сказать того же самого относительно Азии, что Англия может сказать относительно Индии? У Японии хоть куцая, но все-таки конституция. Азиаты и теперь больше симпатизируют Японии, чем Англии. Япония серьезно сравнивает себя с Англией, не потому только, что она тоже на островах, а потому, что она мечтает о господстве в Азии, в той же лучшей и самой населенной и богатой всякими дарами части азиатского материка, где теперь до сих пор преобладание Англии никем серьезно не оспаривалось. Да иначе и думать невозможно, будучи японцем. Он является пионером европейской цивилизации; он доказал свою военную силу неизмеримо лучше, чем Англия; у него воинская повинность, дающая ему возможность иметь уже теперь миллионную армию, а в союзе с Китаем он может иметь армию в несколько миллионов и такой флот, который будет состязаться с английским. Что тогда Японии эта Англия с ее наемным войском и ненадежной Индией?
Вот что я сказал бы «Times»’y, если б был откровенным японцем. Да японцы уже и говорят так между собою. Как русский, я скажу следующее.
Японцы превосходно рассчитали, начав войну с Россией. Только она одна могла ей мешать, только Россия — действительно сильный враг ее. Япония умно сделала, заключив с Англией союз. Она использует этот союз превосходно, льстя ей грубо, по-варварски, и покупая все, что можно купить. Россия, конечно, защищает свои интересы, но невольно она защищает и интересы Европы и более всего интересы Англии, как это ни странно может показаться с первого раза. Победа Японии над Россией будет ее победой и над Англией, и то, что Россия почувствует сейчас же, Англия почувствует позже, но несомненно почувствует. Возрожденные монголы дают себя знать России, потом дадут себя знать и Англии. Взоры Индии устремлены не на Россию уже, а на Японию. Отсюда, по-моему, как нельзя более ясно, что интересы Англии и России должны бы быть солидарны. Тут не то что «желтый враг», а общий враг, имеющий шансы на господство в Азии.
Если Англия думает с Японией разделить это господство, сжав континентальную Европу и Россию с запада и с востока при помощи Японии, то настоящая война приобретает тем большее всемирное значение.
Не думаю, чтоб этого не понимала континентальная Европа и не готовилась к этому сюрпризу.
Пока Россия одинока. Но будущее не открыто и английским государственным людям. Они должны помнить, что их великий народ два года с лишком боролся с крошечным народцем, едва составлявшим четыре сотых населения Японии, и не нашлось в этой культурнейшей Англии, в этой владычице морей, ни одного государственного человека, который бы предсказал, сколько времени, сколько жизней, сколько миллионов и нехороших сдач ее воинства будет стоить ей эта война. Непроницательность англичан была едва ли не больше нашей. Наши войска не поднимают рук, моля о пощаде, не идут в плен гуртом, как стадо. Горсть храбрых в Порт-Артуре показывает всему миру беспримерные доблести.
С массой русских людей я верю, что мы с честью выйдем из этой борьбы. Le vin est tiré, il faut le boire. Кто бы как ни смотрел на эту войну, как бы она ни была для нас тяжела, но нам необходимо победить, необходимее, чем было Англии победить в ее войне с бурами. Говорят, что эта война у нас непопулярна. Пусть так. Но популярна армия, популярна честь России. Она дорога всем русским людям, каких бы политических убеждений они ни были. С русскою армией нельзя не победить. Ее можно было бы победить несогласиями между генералами, отсутствием талантов, протекциями, которые имеют свойство выбирать не лучших людей, не лучшим людям давать ход, а посредственным, ее можно было бы победить взяточничеством, подкупами, изменою, нравственным разложением общества. Но этого быть не может. Война не только роднит героев и таланты, но в трудные годы своего бытия Россия всегда умела быть единою, широко растворяла свое сердце и очищалась от своих немощей. Русский патриотизм — не пустое слово. Я ждал «весны». Наступила война. Но весна придет и обновленный ее здоровым веянием русский патриотизм покажет себя со всею силою. Если в это не верить, то и жить нельзя.
30 августа (12 сентября), №10236
DXVI
Вчера я прочитал предложение князя Мещерского заключить с Японией мир теперь же. А сегодня и мирные условия японцев изображены в телеграмме из Токио. Les beaux esprits se rencontrent. Князь Мещерский проживает в Вильдунгене и оттуда шлет свои «Дневники», полные столь же убедительных речей о мире, как убедительны его речи о своих великих достоинствах. А эти достоинства велики, именно он «на повечерии своих дней глядит каждому в глаза, с сознанием, что ни из кого и ни из чего не сотворил себе кумира, ни разу не покривил душой и никому не продал своей свободы мыслей». Это он сам о себе говорит, сей современный Тартюф. Даже из собственного чрева он не сотворил себе кумира. Так и мольеровский Тартюф рисовал себя Аристидом.
Надо знать, что князь Мещерский пишет совсем не для публики. Какая у него публика? Он пишет для людей власть имеющих. Если он удостаивает меня полемикой и даже скверными инсинуациями, то это благодаря тому, что у меня есть то, чего у него нет, именно публика. Но он зато воображает, что управляет Россией и свои советы раздает для руководства министрам. Одним он — родственник, другим — приятель. С покойным В. К. Плеве он был приятелем двадцать лет, советовал ему с глазу на глаз быть любезным к земству, а своей публике, в «Гражданине», шельмовал это самое земство, желая понравиться министру и его политике. И он смотрит «прямо всем в глаза», очевидно имея те глаза, о которых в одной народной пословице говорится не совсем деликатно. Имея эти глаза, он говорит и о мире с Японией, тем языком подьячего, которому хочется взять куртаж с обеих сторон, точно дело идет об оказании услуг Брянскому обществу за хороший куртаж.
Понятно, что мир предлагает князь Мещерский со всеми возможными оговорками и на четырех страницах постоянно берет в руки кадило и кадит им вверх, направо и налево, и ухитряется даже себе самому покадить, изображая себя мудрым отцом отечества, который невероятно страдает от его неустройства и поражений, так страдает, что начинает говорить таким сумбурным языком: «все это вводит душу (князя Мещерского) в такой глубоко мрачный и безысходный лабиринт тревожных дум, что страшно становится от бессилия ума найти исход или просвет».
Мне кажется, что при «бессилии ума» всего лучше молчать, а не проповедовать, ибо что же полезного или поучительного может преподать «бессильный ум?» Действительно, он берет самое легкое, самое портативное, так сказать: немедленный мир. Он будет нисколько не оскорбителен для чести и достоинства России, он «не есть последствие поражения, а вызван желанием прекратить беспощадное кровопролитие». Заключили же мы мир после Севастополя, причем только «некоторые условия этого мира имели для нашего самолюбия значение булавочных уколов». Отторжение России от Дуная и запрещение иметь флот на Черном море — это «булавочные уколы»!! Не будь этих «булавочных уколов», у нас был бы флот, не было бы ни Берлинского трактата, ни теперешнего погрома нашего флота, даже, вероятно, и войны с Японией не было бы. Мне это ясно. Кроме того, я должен напомнить, что тогда Россия вела войну почти три года, а не семь месяцев, и только тогда решилась на мир. Но теперь мы так ослабели, в таком отчаянном положении, по мнению князя Мещерского, у себя внутри, что наш единственный исход — немедленный мир и союз с Японией. Что ж, подавай Бог. Чего лучше? Коли мы никуда негодны для войны, то авось годимся для мира. Петр Великий был другого мнения. Но «бессильному уму» кто указчик? «Бессильный ум» есть просто бессилие.
Я думаю, что князь Мещерский, в сознании своего бессилия, охотно возьмет на себя хлопоты по заключению мира. Он поедет в Японию и убедит микадо заключить мир на самых выгодных для нас условиях. Вдвоем они живо это обработают, и, может быть, микадо уступит немного из ста миллионов фунтов стерлингов, что составляет около миллиарда рублей. Из этой суммы можно получить и хороший куртаж и облагодетельствовать Россию. Новый князь Пожарский, преображенный тремя веками нашей истории в князя Мещерского, может, не заезжая в Петербург, прямо из Вильдунгена, где он пребывает, отправиться в Японию.
Скатертью дорога!
И знаете, какой нос подставит Россия Англии! Просто чудо, что за нос! Ведь теперь Англия получает «огромную пользу» от этой войны, которая ослабляет и Японию и Россию; «следовательно, ни малейшего нет сомнения в том, что чем скорее мы перестанем служить войною с Японией интересам Англии, тем скорее явится возможность союзом с Японией нанести чувствительный удар Англии на Дальнем Востоке». Просто мед такие речи, прямо мед! Воображаю восторг Бобчинских и Добчинских, которые мятутся в желании покровительства около князя Мещерского, будучи ума еще более бессильного, чем он. Прибавьте к этому, что и Германия получит нос. Всем сестрам по серьгам, а Россия в объятиях с Японией будут мирно царствовать на Дальнем Востоке, объегорив таким образом Англию и Германию, которым тогда ничего не останется, как щелкать зубами и становиться на колени перед Россией и Японией. И подумаешь, что для всех этих благ стоит только заплатить хорошенькую дань Японии и постоять перед ней на коленках. Велика важность! Г. Струве из Штуттгарта давно это советует, и я должен отдать предпочтение этому публицисту, ибо он советовал это и раньше, еще в апреле, и убедительнее. Les extrêmes touchent. Так в Смутное время казак Заруцкий, муж Марины, дружил с князем Трубецким…
4(17) сентября, №10241
DXVII
Японцы приближаются к Мукдену, начинаются схватки и для нас снова момент тяжелого, лихорадочного ожидания. Но хочется смотреть дальше, соображать прошлое не столько с настоящим, но с будущим. Нужно, чтобы уверенность в нашей силе росла не по вдохновению, а по сумме действительных данных.
О роли командующего армией мы говорили и приводили слова Суворова о том, чтобы у него была «мочь главнокомандующего». На ком тяжелая ответственность, у того должна быть и власть главнокомандующего. Как разделять эту ответственность с другим в то время, когда делается история будущего и когда надо считать каждый лишний шанс в пользу единства действий, столь необходимого? При таких условиях во многом весьма существенным могла быть задержка, замедление. А в иных случаях даже борьба авторитетов, иногда невидимая, неприметная, борьба самолюбий и притом весьма естественная. Я сужу, как статский, о военном деле. Но я — не неуч в военной истории и кое-что знаю даже о таких людях, как Румянцев, Суворов, Потемкин, которые друг друга не любили, хотя были несомненными патриотами.
Зависимость непременно ослабляет инициативу, а независимость дает полет уму. Посмотрите на защиту Порт-Артура, где распоряжается всем один, генерал Стессель. Конечно, он советуется с другими командирами, но они ему подчинены, и все составляют одну душу. И какая это героическая страница в истории этой войны! Какие это удивительные войска! Кому придет в голову отдавать предпочтение японцам? И сколько там было сделано своеобразного, нового, о чем никто прежде не думал! Мысль, никем не подавленная и направленная в одну сторону, работает шире и глубже. Пусть завтра Порт-Артур падет, но он уж приобрел всемирную славу и сделал все, что в силах человеческих. Никто ему не помогал, ниоткуда он ничего не получал, ни войск, ни приказаний. Портартурская легенда останется такою же, как севастопольская, с той разницей, что Севастополь получал подкрепления и провиант совершенно свободно. Если бы пришла помощь Порт-Артуру с суши или с моря, его невозможно было бы взять. А что было бы, если б кто-нибудь командовал им с тылу по своим соображениям или не исполнял его требований тоже по своим соображениям!
Вернемся несколько назад, чтобы сравнить настоящее с прошлым.
Япония начала с лучших своих солдат, с того, что было у нее наиболее обученного, дисциплинированного, готового к бою, не исключая гвардии. Мы начали с другого конца. Нет такой армии в мире и никогда не бывало, чтобы все части ее были одинаково подготовлены к бою. При всеобщей повинности, в этом отношении тем более разнообразия, чем сложнее самый состав населения. Городское, например, менее устойчиво, более изнежено, чем сельское. «Русский Инвалид» расхваливает японский главный штаб. Какая там тайна, какой патриотизм и какая исполнительность, какое единство с армией! Это одно тело и одна душа. Военная газета воздает такие похвалы противникам. Это очень благородно.
Но неужели мы на это неспособны? Неужели у нас и теперь наш старый враг, разногласие, попреки, постановка своего авторитета на первое место, вопреки пользе дела? Дело совсем не в том, чтоб штабным офицерам идти в лакеи, в кухарки, в извозчики, как ходили штабные офицеры японские. Известный уровень культуры избавляет, мне кажется, от такой крайности. Дело в верной службе, в сознании своего долга, в единой идее, которая обращается в единую волю, и в хороших исполнителях. Одна душа должна быть у Петербурга с армией. В массе войск, полученных Куропаткиным (в этом плане мобилизации, конечно, и сам он участвовал вместе с главным штабом), была иногда половина, а иногда и более, резервистов, только что присланных из запаса. Все это — крестьяне, только что оторванные от сохи, озабоченные мыслью о семье, одетые лишь в военные мундиры, но далеко еще не солдаты. Их приходилось учить, а иногда прямо из вагонов бросать на поле битвы, о которой они и понятия никакого не имели. И вот в тот момент, когда победа летает над русской армией, — а она летала и в особенности при Лаояне — эти новобранцы вдруг дрогнут, да и командиры и их начальники штабов о войне только слышали, изучали ее по картам с пешками, и не могут сразу сообразить, что такое вокруг них происходит, что это за японцы, какой образ их действий, в чем их сила и слабость.
Нам пришлось и воевать и учиться. Куропаткин, мало имея войск и имея не лучшие войска и потому сознавая превосходство японцев, и действовал так, что уступал каждый шаг с бою, приучая войска к битвам. Если он начал вывозить из Лаояна еще в июле все громоздкое, без чего можно было обойтись во время боя, значит он не был убежден в том, что удержится в Лаояне. Битва должна быть жестокая, но необходимость отступления он предвидел. Иностранцы хвалят его отступление, его план, может быть, именно потому, что сознают, что в этих битвах наши войска закаляли свой дух и чем дальше, тем становятся крепче. Из резервистов, плохо подготовленных, получаются настоящие солдаты, и лаоянская битва, своими подробностями, напоминала героических защитников Порт-Артура.
И все условия должны быть направлены к тому, чтоб все стремилось помогать, чтоб ничто и никто не мешало командующему, чтоб он имел полную власть, как имеет ее запертый в Порт-Артуре Стессель.
Бюрократизма, на который теперь все жалуются, довольно и в военном ведомстве: канцелярий, переписки, докладов, соображений, путешествий от одного столоначальника к другому, от одного главного управления к другому; причем у каждого главного управления свои виды и расчеты, свои заботы об авторитете, а все это ведет только к проволочкам и опаздываниям на недели, на месяцы.
Я говорил о воздушных шарах тяжелого вида и о тех препятствиях, которые ставили целые полгода полковнику Кованько с его шарами, легко перевозимыми. В прошлом году выражалось авторитетное мнение, что для Порт-Артура шаров не нужно, так как там высокие горы, с которых можно видеть на двадцать пять верст в море. Но с шаров можно видеть на шестьдесят верст. А кроме того, с высокой даже горы не увидишь того, что делается за горами и холмами, занятыми неприятелем, нельзя видеть даже того, что находится за каким-нибудь пригорком, а с воздушного шара можно гораздо лучше обозревать позицию и передвижения неприятеля. После длинных решений и перерешений шар послали на пароходе, но он попал к японцам вместе с «Маньчжурией», на которой он перевозился. Другой воздухоплавательный парк прибыл слишком поздно и не попал в Порт-Артур, где, говорят, нашли какой-то старый китайский шар и его приспособили. Горные орудия не были готовы, потому что производились опыты разных систем. Воздушный телеграф тоже не поспел, потому что система Маркони не нравилась, и производились опыты над системой Слави-Арко. Мне рассказывали о каких-то капсюлях к орудиям. Их хотели сделать по заграничным образцам, но потом стали сами усовершенствовать, усовершенствовали целый год, и этот год пропал даром. У нас есть гордость, так сказать, самоизобретения, но не всегда она кстати.
Перечисляю эти недочеты, вероятно, только незначительную часть их, не упоминая о военных ошибках как на море, так и на суше — эти ошибки несомненно были, на море даже очень крупные, частью уничтожившие наши суда, частью разбросавшие их по обоим берегам Великого океана, — перечисляю все это для того, чтобы придти к выводу, что мы не имеем права отчаиваться в успехах, а становиться на колени перед японцами — это такой позор, который русская земля не вынесет. Бесчестья вынести нельзя, что б ни говорили князь Мещерский, почетный покровитель Брянского общества, куда он насажал своих любимцев, и присные ему вместе с евреями, которые так радостно приняли в свои объятия это заявление о мещерском мире. Мещерский мир с японцами очень интересен, но об этом в другое время. Мы не погибли еще. Никто не имеет права думать так. Не забудем, что несмотря на то, что сражались с японцами не лучшие наши войска, они сражались превосходно в большинстве случаев и честь русского оружия не уронили. Они выбили из строя врагов, по крайней мере, сто тысяч солдат. Наши лучшие войска почти еще не тронуты. Неподготовленность наша уменьшается несомненно, энергии прибавилось везде, финансы наши не дрогнули. Есть другие благоприятные обстоятельства для нас. Не все надо говорить, но надо верить в родину и ее силы.
Какие бы ни были у нас раны, нечего бояться того, что они обнаружены. Война — это рентгеновские лучи. Они проникают до костей и указывают накопившуюся гниль. Они же укажут и здоровое тело, и в этом здоровом теле России обретутся и таланты военные. Явятся опытом закаленные вожди. Еще слишком мало времени для того, чтоб таланты могли появиться, даже слишком мало для них было поприще, ибо нам приходилось только защищаться, а не наступать, и слишком густо наросла кора бездарности, посредственности, протекции и подобных добродетелей. Даже лучшие люди заразились этим, ибо надо быть морем, чтобы грязным потоком не заразиться; но святой огонь любви к отечеству сожжет, и этот поток и даст солнце весны, может быть, даже этой осенью.
И пример другим должны показывать те, которые стоят выше и пользуются всеми благами и спокойствием. Они должны жертвовать собой и своими средствами и действовать заслуженным влиянием. Аристократия рождения и богатства познается в тяжелые годы и в эти времена оценивается массами. Аристократия рождения, если в ней действительно есть красоты аристократии, независимость, гордая честность, смелая и открытая душа, аристократия богатства, если она бескорыстна, щедра и независима, крепко связываются с аристократией ума, таланта и добродетелей и, питая друг друга, все это вырастает перед народом, и народ признает их своими, родными, стояльцами за русскую землю, достойными уважения и любви народной.
8(21) сентября, №10245
DXVIII
Разговоры о главнокомандующем. Я на несколько дней уезжал из Петербурга и многого наслушался. Разговоры о главнокомандующем давно начались, и давно общий голос называет главнокомандующим А. Н. Куропаткина. В него верят. Нет другого имени, которое бы называли и в которое бы верили. Избранный государем на «тяжелый, самоотверженный подвиг», он получил русскую и всемирную известность. Может, многие его критикуют, иные разочарованы в нем, находя, что терпение, о котором он просил, обращается в долготерпение, хотя иначе и быть не может и только долготерпением можно поправить наши дела, что до сих пор он не порадовал нас ни одной победой. Но огромное большинство публики тем не менее за Куропаткина, которого любят офицеры и солдаты, а это очень важно. Все сознают, что те условия, среди которых он находился, были условиями прямо трагическими, при которых каждый шаг требовал и расчета, и огромного такта.
А мы знаем эти условия еще только в общих чертах. На известном пространстве он был полный хозяин, но он мог не получить всего количества войск, дошедших до Харбина. Главнокомандующий мог их отправить в другое место, что и бывало. Движение корпуса Штакельберга зависело не от него, а это движение чрезвычайно усложнило задачу защиты Лаояна. Сегодня я читаю агентскую телеграмму из Синминтина в лондонскую газету: «Здесь говорят, что генерал Куропаткин получил приказание из Петербурга принять бой в Мукдене». Конечно, это «говорят», да еще в китайском городе, где русских нет, может быть вздором, но заграничная печать не в первый раз отмечает зависимость командующего армией. Мы не знаем всех подробностей, не знаем внутренней борьбы, страданий самолюбия, страданий русского человека, которому дорога родина, ее интересы, ее военная слава, доверие государя. То, что каждый из нас чувствует, Куропаткин чувствует в неизмеримо большей степени. Каждое отступление, каждый бой приносит ему много горьких минут. Каждая ошибка отдельного командира ложится на его плечи. Каждая неисправность, задержка, опоздание, от него нимало не зависящие, — увеличивают тяжесть его положения и ответственность. Когда он уезжал, он рисовал себе будущность в условиях очень непривлекательных, но они были хуже, чем он ожидал. Но зато, наверное, во всю свою жизнь он столько не думал, столько не испытал и, быть может, столько не узнал, как в эти шесть месяцев. Этот военный опыт дал ему столько, сколько не дали бы ему долгие годы изучения военного искусства в мирное время, столь продолжительное, что мы начали мечтать о мире всего мира и военная интеллигенция стала несколько превращаться в статских граждан в военных костюмах и усердно говорить не о войне, а о мире…
Никого нет опытнее Куропаткина во всей русской армии, которую он знал, как военный министр, и знает теперь, как полководец. Я вовсе не против критики его действий и, если восставал против критики разных маленьких Наполеонов, то потому, что эта критика негласная, что она бесконтрольная, действующая не при Божьем свете, а среди котерии, для которой эта негласная критика — или праздная забава, или средство для эгоистических целей и сведения личных счетов. Я не могу оценивать военных талантов Куропаткина: у меня нет на это никаких прав. Я оцениваю только его военную опытность и твердый характер, который не гнется под тою бурей и грозою, которые свалились на него. Слушая устную критику нашу, можно, пожалуй, с первого разу удивляться тем похвалам, которые продолжают раздаваться в иностранной печати по адресу Куропаткина. Но если сообразить, что он не оправдал почти единодушных предсказаний о гибели русской армии, после несчастного движения корпуса Штакельберга, что он выдержал чрезвычайно тяжелый, но блистательный бой у Лаояна, который по предположениям японцев и их друзей должен был решить исход войны и заставить Россию подписать мир, что он с замечательным искусством отступил и сохранил армию, то эти похвалы совершенно заслужены.
Как он мог рисковать армией, в расстоянии десять тысяч верст от ее родины, от ее источников? Может быть, он сделал какую-нибудь ошибку, может быть, он, продолжая битву, мог бы ее выиграть, но ведь так рассуждать можно только в кабинете, смотря на план, который такой маленький, что отряд от отряда — на несколько сантиметров возвышенности, и овраги и дороги проведены штрихами и линиями и флаги с булавками передвигаются с такою же легкостью, как карты в колоде или шашки на шахматной доске. В действительности это неизмеримо труднее. На гору надо взобраться, по дорогам надо ходить, тучи и небесные явления не зависят ни от полководцев, ни от государей, солдаты и офицеры падают мертвыми и ранеными, мучаются от голода, жажды и усталости, артиллерия, будучи в меньшинстве, не успевает послать столько же снарядов, сколько выпустил враг, и многое множество всяких других неожиданностей и препятствий. Не говорю уж о том, что война эта — новая, совершенно новая, на которой всем пришлось учиться. Говорят, что никогда такой войны не было, и никогда и никто из наших генералов не предвидел такого неприятеля, так хорошо приготовленного, с такой превосходной и многочисленной артиллериею, ни даже Куропаткин, ни начальник его штаба, теперешний военный министр, генерал Сахаров, никто решительно. Значит, не критиковать надо, а помогать. Еще о флоте были верные и предупреждающие сведения печатные, которые усвоены были отчасти, конечно, и наиболее интеллигентной публикой, но сухопутная японская армия не только в качественном, но даже в количественном отношении оставалась terra incognita даже для наших военных агентов и всего нашего генерального штаба. Теперь это факты, не требующие доказательства. Этим незнакомством с японской армией объясняется и наша мобилизация, пустившая вперед резервные войска. Думаю, что ничем иным этого объяснить нельзя, и нельзя ничем иным объяснить недостаточность нашей артиллерии.
Если где-нибудь la critique et aisée et l'art difficile, так именно в этой войне. Пусть кто хочет поставит себя на место командующего армией и сообразит всю трудность своего положения. Ведь ни Александров Македонских, ни Цезарей, ни Суворовых, ни Наполеонов отнюдь нельзя сыскать между нашими генералами, и те из них, которые вовсе не нюхали японского пороха и не видели над головой своей шрапнелей, напрасно воображают, что они — великие люди и замечательные полководцы. Раз, два, три — и полководец! Это только в сказках бывает, да и то в самых детских. А дело идет не детское, а всемирное, огромное дело, от исхода которого зависит судьба не только России, но, может быть, всей белой расы. Полководцем, конечно, надо родиться, как поэтом, живописцем и проч., но поэзия и живопись не прекращаются, а война — редкое явление, и полководец может только на войне обнаружить свой талант и на ней воспитаться, в ее шуме, беспокойстве, среди стонов раненых и эпидемии смерти и самоотвержения. Всякому новому человеку придется еще учиться и наделать множество ошибок, быть может, гибельных и ужасных.
Я сказал, что о японском флоте мы имели больше знания, чем об их сухопутной армии. Но надлежащего флота мы все-таки не приготовили и тот, который был, разбит и разбросан. Самое командование флотом переходило из рук в руки. Не было одного и того же вождя, и самый талантливый погребен на дне моря, и эта случайность, эта смена адмиралов была истинным несчастием нашего флота, независимо от всего прочего.
Сухопутная армия, напротив, сохранилась в руках одного вождя. Куропаткин собрал, организовал ее, обучил, воспитал в огне сражений и всяких тягостей; уж это — огромная его заслуга. Он не дал врагу ни разбить себя, ни обойти. Он бросил укрепления Лаояна, но сохранил армию. Бросил камень и сохранил живые души. Если б он рискнул при Лаояне и риск этот не удался бы, а это — большая возможность, принимая во внимание, что у японцев было, по крайней мере, на пятьдесят тысяч больше войска, — он погубил бы все дело и России пришлось бы просить мира. Японцы были бы теперь у Харбина, а нам новую армию пришлось бы собирать разве у Иркутска. Теперь она стоит, готовая к новому бою, выдержавшая один из кровопролитнейших боев, опытная, рассуждающая, знающая своего врага и любящая своего вождя. Без таланта, без упругого характера, ничего подобного сделать было бы невозможно. Подчинять свои знания, сумму своего большого, выстраданного опыта, который собирался в его голове и в его штабе, другому лицу — это и обидно для самолюбия и не вызывается никакой необходимостью, а скорее внесет расстройство и потому не может быть желательно ни в каком отношении…
Все говорят, он не выиграл ни одного сражения. Но ведь и Кутузов проиграл Бородинское сражение, ибо принужден был отступить и отдать Москву, чтоб сохранить армию. Она была единственная. И у Куропаткина — единственная армия на Дальнем Востоке, и сохранить ее было необходимо. Он руководил только Лаоянским сражением. Это был первый его опыт, если хотите. Он отступил среди величайших трудностей и обессилил неприятеля так, что вот скоро месяц, а он еще не вступает в битву, которую предсказывали через несколько дней после Лаояна и уже видели наши войска на дороге к Харбину. Значит, есть что-то такое, что твердо не пускает японцев, есть такой человек, который своею силою, своим умом, своим опытом не дает неприятелю того, чего ему хочется, чего он добивается судорожным напряжением своих сил, которые истощаются более и более.
Все это есть в сознании того русского общества, которое желает от всей души Куропаткину быть главнокомандующим, быть главным образом независимым, ибо в этом — залог успеха. А успех нам так нужен, положение наше так сложно…
11(30) сентября, №10254
DXIX
Помните, прошлую осень я проповедовал «весну». Она возбудила толки. Покойный министр В. К. Плеве сказал мне: «Вы хотите весну. А я предпочел бы лето, когда все созрело и плоды готовы». — «Но лета без весны не бывает», — ответил я ему. Действительно, до лета нам, пожалуй, далеко, но весна, кажется, наступает. Разве речь министра внутренних дел, сказанная 16 сентября, не веяние весны, не ясный ее признак? Она говорит об обществе, о земстве, о взаимном доверии, основанном на искренности. Она дает прекрасное настроение, повышает русского человека перед самим собою и перед властью. Эта сентябрьская речь сказана в теплый день и вовсе не глядела сентябрем.
Пушкин очень любил осень, как лучшую пору для творчества. Дай Бог, чтоб и эта осень была началом серьезного и прочного творчества, чтоб это творчество осталось в жизни нашей таким же хорошим и незыблемым, как хороши и незыблемы поэтические идеи нашего великого народного поэта, как незыблема вечная красота их. Ах, как это нужно! Как надоели обещания и то поверхностное творчество, которое напоминает присказку: мы там были, мед и пиво пили, по усам текло, а в рот не попадало. Это всего ужаснее так пить, что в рот не попадает; жажда остается, жажда увеличивается, начинаешь сердиться, браниться, нервы расстраиваются, и в голову лезет всякая бестолочь…
При нашей малой культурности и отсталости, при большой свободе вредить и мешать друг другу, крайние идеи чрезвычайно легко распространяются и находят себе фанатических поклонников. Единственное средство против этого — создать прогрессивный оплот, самодовлеющий, который дорожил бы своим целым и связью своих частиц и отстаивал бы мерный и просвещенный ход жизни с таким же убеждением, с каким мы отстаиваем свой дом, свои семейные интересы. Государственное дело должно бы войти в плоть и кровь русских граждан, оно должно бы сделаться каждому дорогим, как такое дело, которое каждому обеспечивает порядок, свободу и просвещение.
Надо создать для правильного и быстрого течения жизни такую гармонию, по крайней мере, заложить ее так глубоко и искренно, с такой верой в народ русский и в его образованную часть, чтоб это создание служило и воспитательным средством для грядущих поколений. Не столько министерство народного просвещения должно воспитывать, сколько самая жизнь, ее устои, ее разумная свобода, ее учреждения. Все эти толки, какие я читал о том, кто должен воспитывать в гимназиях, инспектора ли, директора ли, учителя ли или специальные наставники, всегда наводили на меня недоумение, и я не принимал никакого участия в подобных писаниях. Никакие гимназии и никакие университеты многого не сделают, если они действуют в тяжелой атмосфере, где нет взаимного доверия и взаимной, искренней помощи. Воспитывает не ленивое учение и не обманная наука, а учение серьезное и серьезная наука без всяких экивоков, требовательная и плодотворная. Мы дошли ведь до того, что стали радовать молодые поколения тем, что мы их совсем учить не станем. Мы думали этим завоевать их сердца и сделать их довольными. Мы думали, что наши дети переутомлены наукою, а они переутомлены совсем не наукою, а тою же самой безалаберностью, как и взрослые. Порядок вещей доходит до корня, до семьи. Расстраивая ее своими противоречиями, своим высокомерием, непоследовательностью, недоверием, он лишает возможности создать дисциплину, привить сознание долга, воспитать свободное патриотическое чувство.
21 сентября (4 октября), №10258
DXX
23 сентября наш корреспондент телеграфировал нам из Мукдена: «С раннего утра по всему городу усиленное движение, все куда-то спешат… у всех радостный вид… Начинается что-то особенное». Что такое, думали мы, читая эти загадочные слова и не смея радоваться. Оказывается, что еще 19 сентября наша Маньчжурская армия читала приказ Куропаткина, в котором было сказано: «Непоколебимая воля государя императора, дабы мы победили врага, будет неуклонно исполнена. До сих пор противник наш, пользуясь большею численностью и охватывающим нас расположением своих армий, действовал по своей воле, выбирая удобное для себя время для нападения на нас… Пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле!..»
Чудесные, мужественные, достойные русского народа слова. Это — солнечный, яркий луч, пробивший тучи и разом осветивший огромное пространство, заставивший всех вздохнуть свободнее. «Заставить японцев повиноваться нашей воле» — вот истинный лозунг русского человека, который стоял во главе нашей армии, работал, страдал, выносил муки, выносил их молча, как настоящая сила выносит, как мужество умеет молчать, прислушиваясь к хихиканью и россказням пигмеев, к затаенной вражде и зависти. Армия, наконец, собралась в своей силе и радостно отозвалась на призыв своего вождя. И Петербург сегодня весь был в движении, весь в разговорах, в догадках, в надеждах. И в Европе сегодня, наверное, поднялся говор тем больший, что там никто ничего подобного не ожидал и не мог ожидать…
Я никогда не считал, да и не имел права считать «Новое Время» своим «личным органом», как считал «Московские Ведомости» своим личным органом Катков, которого я когда-то называл первым министром. Я — простой журналист и желал выражать настроение, желания и надежды общества. Та высокая радость, которую я испытываю на склоне своих дней, заключается во множестве писем и личных заявлений общественного сочувствия, которыми удостаивали меня читатели, в особенности после моего «Маленького письма» о Куропаткине (№10254), в котором я желал ему сделаться главнокомандующим и не видел и не мог видеть никого другого на этом ответственном посту. Я был решительно засыпан письмами; эти письма шли и идут доселе от лица всех сословий, начиная с лиц русской аристократии, военных людей старых и молодых и кончая торговцами и крестьянами. Из этих писем я убедился, как велика популярность Куропаткина и как непоколебима вера в него. Мои выражения о нем были слабы в сравнении с тем, что мне пишут. Я счастлив именно тем, что затронул общерусское чувство и желание, выразил то, что «накопилось», что «наболело у каждого», «о чем думал каждый из нас», о чем «говорят все и всюду». Я не приписываю себе тут ровно ничего. Я не могу даже повторить всего того, что мне пишут с тою русскою откровенностью и верою в Россию, которые поднимают чувства и надежды и заставляют любить народ. Я счастлив тем, что думал одно и то же со всем этим большинством русских людей, повторял то, что в голове и сердце каждого. Тяжкий подвиг, на который послал государь Куропаткина, будет исполнен им, если даст ему Бог здоровья и силы. Он поехал в армию, когда она только что начала двигаться из России, когда она была редка, когда силы врага только еще предчувствовались и далеко не в той мере, в какой они оказались, и он оправдал это доверие, совершил все то, что в силах человеческих совершить, когда неприятель своим множеством заставлял исполнять свою волю. «Русские люди — мужественные люди, но не боги», сказал один английский журналист после Лаояна.
Народная любовь никогда не дается даром. Какой-то необыкновенный инстинкт помогает русскому народу избирать своих героев. В войну 1877–1878 гг. превыше всех он поставил Скобелева, и на гроб ему представители армии положили венок с надписью: «Полководцу, Суворову равному». И это имя народного героя перейдет к векам. В Куропаткине народ признал свои черты, свой характер. Необыкновенное терпение, вдумчивый разум, спокойную силу, которая собирается и растет под влиянием грозы, не теряясь и не нервничая. «Мы верим в него и только в него одного. Не знаем почему, но верим. Он — наш, он — один только может победоносно повести нас к Тихому океану. Если даже он потерпит неудачу, мы не обвиним его». Эта фраза, взятая мною из одного письма, варьируется в других письмах ко мне на много ладов. Блеском победы скоро приобретается популярность и военная слава, но побед не было, были примеры необыкновенного мужества, самопожертвования Родине, были отступления, постоянные, перемежающиеся, как лихорадка, была огромная битва при Лаояне и опять отступление, прославленное иностранцами, как будто для того, чтоб доказать евангельское изречение, что нет пророка в своем отечестве. Но отечество в своем сердце, в своих помышлениях верило своему полководцу, что он оправдывает веру в него, что в эти страдные месяцы он закладывал крепкие камни для здания победы, о которые неприятельская армия разбивала свои силы и надрывала их…
Он предвидел, что от Лаояна придется отступить. Укрепляя его, он не забывал укреплений и на случай отступления. Но далее Мукдена он не отступит. Он это решил себе и уж с нетерпением ожидал последствий лаоянской битвы. И его терпению настал конец. Я так смею думать или, если хотите, читать в его голове. Когда в Европе говорили, что русская армия бежит к Харбину, что Мукден обходят, что Куропаткин в отчаянном положении, когда мы здесь, в Петербурге, переживали страшные дни, ругались, критиковали, отчаивались, говорили, что все потеряно, сосчитывали дни падения Порт-Артура и с злобою и завистью доказывали достоинства японцев, в пику русским, в это время наш полководец считал свою армию, спасенную им от разгрома, принимал новые войска и одушевлялся мыслью не только не пустить японцев в Мукден, но перейти в наступление. И вот час настал «заставить японцев повиноваться нашей воле!» Какие прекрасные слова, как они идут великому народу! Дай Бог, чтоб наш русский орел взлетел, расправив крылья, и понесся выручать своих братьев, туда, где они отстаивают нашу твердыню, как богатыри-мученики, желающие, чтоб небо раскрылось и Господний голос прозвучал о спасении…
27 сентября (10 октября), №10264
DXXI
Что за диковинка! Первопрестольная, собирательница Руси, — а на нее сетуют, что она равнодушна, что она не оказывает патриотизма, не интересуется войной, что она будирует. Вероятно, последние времена наступают, если Москва будирует. Да правда ли это? Может, она чего-то ждет, какого-нибудь привета, поклона, сладкой речи? Может быть, она страдает честолюбием и хочет показать Петербургу, что настает время, когда она, златоглавая, желает играть роль, что сияет она недаром, что в ней не царь-пушка только и не царь-колокол только, а что сама она — царица, наследница Византии, третий Рим. В ней развертывается новая Россия на фундаменте старой, тогда как у Петербурга стары только его болота, а все остальное ново, не исключая даже Невы, ибо она заключена в каменные стены. Москва выросла из народа, сама собой, и основана была каким-то якобы боярином, который носил однако собирательное имя Кучка. Чего она не видела, чего не испытала, чего не перенесла, и не пережевала, и не переварила! Она разбила монгольские цепи, она призвала в царский терем греческую царевну, она созывала к себе татар, немцев, литву и давала им русские фамилии, тогда как Петербург, благословляя немцев, оставлял им немецкие фамилии и создал тем какую-то якобы немецкую партию; она родила Грозного, в крови которого была кровь русская, литовская, татарская и греческая — по бабке — грек, по матери — литвин, а мать эта, Глинская, была дальней родственницей Мамаю. Грозный царь сам мучился в руках бояр, потом созвал Земский собор в великой радости личной свободы, потом казнил, потом отрекся от Москвы, назвав в ней царем татарчонка и окружив себя опричниной. Были тяжкие времена Смуты, кончившиеся избранием на престол Романовых. Кстати, избирательная грамота эта издана теперь во всем великолепии оригинала. Тишайший царь царствовал совсем не в тишайшее время: он выходил мириться с народным бунтом, стоял на суде, судясь с патриархом, приобрел много земель, и каких — Малороссию приобрел даром, усмирил Разина, издал Уложение при помощи земства, а по наущению греков проклял раскольников, возбудив религиозные смуты, и был отцом Петра Великого. Петр Великий поборолся с сестрицей и со стрельцами и, испугавшись старого закала и старых смут московских, бежал из Москвы в «парадис».
И перед младшею столицей Главой склонилася Москванадолго. Только Екатерина порадовала ее немного, избрав ее для заседаний своей знаменитой законодательной комиссии, состоявшей из нескольких сот депутатов (460 явились к открытию), настоящих депутатов с правами и полномочиями, от всех сословий, не исключая крестьян. Написав свой «Наказ» и с великолепным торжеством открыв комиссию 31 июля 1767 года, «дабы лучше нам было узнать можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа», она предупредила Францию, которая собрала представителей сословий только в 1789 году. 14 декабря того же 1767 года комиссия была переведена в Петербург и там исчезла. Сто лет огромное количество депутатских наказов и других материалов, превосходно рисующих «чувствительные недостатки» русского народа, тщательно сберегались от любопытных глаз в таинственном уединении архивов, как запретный плод. Только наследник цесаревич, впоследствии император Александр III, начал их обнародовать в «Сборнике императорского Русского Исторического общества». Издание началось в 1868 году и продолжается доселе. Издано в течение тридцати пяти лет десять томов, заключающих более пяти тысяч страниц. Ужасно долго сберегалась депутатская тайна, и долго издаются труды комиссии.
Снова заброшенная Москва увидела в своих стенах первого «антихриста», Наполеона. Граф Ростопчин ее сжег, и пожар способствовал ей к украшенью. Грибоедов изобразил ее в своей удивительной комедии, а университет ее долго был единственным.
В ней началось московское государство и в ней же писалась история этого государства даровитейшим нашим историком, Карамзиным. Ей же принадлежат сороковые годы с их университетским и философско-общественным движением, со Станкевичем, Грановским, Кудрявцевым, с Аксаковыми, Погодиным, Хомяковым и с новым историком России, Соловьевым.
Я должен отвлечься от своей темы, вспомнив, что сегодня исполнилось двадцать пять лет со смерти Сергея Михайловича Соловьева. Вспомнит ли его Москва чем-нибудь? Принадлежа всей России, он прежде всего принадлежит Москве. Я говорю не об университетской Москве, а о той, которая ныне правит и владычествует там — о Москве торгово-промышленной, которая со времени постройки железных дорог стала расти и расти и распустила в себе, как каплю, интеллигенцию. Об этой Москве и речь идет, когда говорят об ее нынешнем равнодушии и будировании. Выросла ли она до того, чтоб ценить своих известных сынов и напоминать о них при всяком случае и себе самой и всей России?
В Москве совсем нет памятников замечательным москвичам. Памятники Минину и Пожарскому, Пушкину и Александру II — дело правительства и всей России. А где же такой город на Руси, который был бы более богат в этом отношении, чем Москва? Митрополиты Петр и Алексей были политические деятели, и Иван III, Иван Грозный, Алексей Михайлович, Ордин-Нащокин, Матвеев, печатник Федоров, Новиков, Карамзин и проч. и проч. Можно бы назвать десяток имен, по крайней мере, бюсты которых должны бы украшать площади и бульвары Москвы. Дорожить своими знаменитыми людьми — это известная степень политического развития. Свои знаменитые люди — это лучшие наши предки, наши духовные отцы и деды. Москва могла бы воздвигнуть Мавзолей своим замечательным людям, общий памятник им, памятник своей истории и своего роста. И С. М. Соловьев заслуживает памятника, как первый историк, написавший русскую историю до 1774 года, а если сосчитать его книги о падении Польши и Александре I, то до 1825 года. Это — огромный добросовестный и талантливый труд. Труд москвича-патриота, москвича глубоко религиозного человека, соединившего в себе оба направления, западническое и славянофильское, — неужели не оценит этого Москва, та торгово-промышленная Москва, без которой едва ли что может создаться в первопрестольной столице? В эти двадцать пять лет, протекшие со смерти Сергея Михайловича, его «История России с древнейших времен» окрепла в своих несомненных достоинствах. Его имя стало популярным не в одних ученых кружках, но у всей русской интеллигенции, которая учится истории. Имя это повторилось и в его даровитых сыновьях, философе и романисте, которые тоже оба умерли. Владимир Сергеевич Соловьев оставил после себя благородный тип поэта, публициста и религиозного мыслителя, который предсказывал тяжкие дни, которые мы переживаем. Их чувствовал и наш историк, когда говорил: «Здоровые силы народа должны находиться в крайнем напряжении, чтобы одолеть многочисленные и тяжкие болезни, поразившие общественное тело, когда лучшие люди должны обнаружить всю свою деятельность, и деятельность их требуется на разных пунктах, ибо везде общество сильно нуждается в свете и правде».
За два года до своей смерти (он умер на шестидесятом году) он написал интересную книгу: «12 декабря 1777 — Император Александр I. Политика — дипломатия — 1877 12 декабря». В этой книге он прекрасно характеризует политику Меттерниха, основанную на консерватизме. Меттерних играл «роль наставника государей, руководителя министров». Он, говорит Соловьев, «очень заботился о спокойствии простого рабочего народа, который в его глазах был настоящим народом. Этот народ, по словам Меттерниха, занят положительными и постоянными работами, и недосуг ему кидаться в отвлеченности и в честолюбие, этот народ желает только одного: сохранения спокойствия. Враги этого спокойствия, враги настоящего народа — это люди обыкновенно из среднего класса, которых самонадеянность, постоянная путаница полузнания, побуждает стремиться к новому, к переменам».
Убежденный противник всяких крайностей в политике, С. М. Соловьев говорит далее:
«Мнимый благодетель (Меттерних) настоящего народа забывал о достоинствах и обязанностях настоящего правительства. Настоящее правительство не задерживает своего народа, не видит настоящего народа только в неподвижной массе; оно вызывает из массы лучшие силы и употребляет их на благо народа; оно не боится этих сил, а в тесном союзе с ними. Чтобы не бояться ничего, правительство должно быть либеральным и сильным. Оно должно быть либерально, чтобы поддержать и развить в народе жизненные силы, постоянно кропить его живою водою, не допускать в нем застоя, следовательно, и гниения, не задерживать его в состоянии младенчества, нравственного бессилия, которое в минуту искушения делает его неспособным отразить удар, встретить твердо и спокойно, как прилично мужам, всякое движение, всякую новизну, критически относиться к каждому явлению; народу нужно либеральное и широкое воспитание, чтобы ему не колебаться и не метаться при первом порыве ветра, не дурачиться и не бить стекол, как дети, которых долго держали взаперти и вдруг выпустили на свободу. Но либеральное правительство должно быть сильным, и сильно оно тогда, когда привлекает к себе лучшие силы народа, опирается на них; правительство же слабое не может проводить либеральных мер спокойно, оно рискует подвергнуть народ тем печальным случайностям, которые называются революциями, ибо, возбудив и освободив известную силу, надобно и направить ее. Правительство сильное имеет право быть вполне либеральным, и только близорукие люди считают антилиберальные правительства сильными, думая, что эту силу они приобрели вследствие нелиберальных мер. Давить и душить — это дело нехитрое, особенной силы здесь и не требуется; дайте волю даже ребенку, и сколько хороших вещей он перепортит, и перебьет, переломает! Обращаться с вещами безжизненными очень просто; но другие приемы, потруднее и посложнее, требуются при обращении с телом живым, при охранении и развитии народной жизни».
Я возвращусь к Москве. А сегодня — первые взятые пушки, первые, еще неясные намеки об успехе…
5(18) октября, №10272
DXXII
За последние дни мало известий из нашей армии. Остановились ли военные действия после этой жесточайшей борьбы, неизвестной в летописях всемирной истории, или это только передышка? Ужас берет от этих боев и потерь, которые за ними следуют, несмотря на то, что мы не имеем никаких красноречивых описаний сражений, никаких реляций. Все, что мы имеем, это сухие факты, изложенные со спартанской трезвостью, но самые факты слишком много говорят даже совсем не пылкому воображению.
Первые дни после приказа Куропаткина было очень жутко. Жутко от самих официальных телеграмм, еще более жутко от победоносных японских телеграмм и жутко от разговоров, которые раздавались со всех сторон. Куропаткина осуждали за это движение, находили, что оно было грустной бравадой, предпринятой без достаточного расчета, и тем более удивительной, что до сего времени он отличался такой необыкновенной осторожностью, что она, с своей стороны, вызывала осуждение всех его явных и тайных врагов. Самое отступление от Лаояна приписывали его известной осторожности. Не будь ее, армия осталась бы победительницей. Военный критик парижской газеты «Temps», человек, очень сочувствующий России, знающий Россию, которую он посещал, и говорящий по-русски, говорил, что Куропаткин проиграл лаоянскую битву «par imagination», т. е. вообразив то, чего не было на самом деле. Мне кажется, что критику чрезвычайно легко ошибаться par imagination, ибо критик постоянно и неизменно находится в области воображения, imagination, и не может видеть фактов, живых людей, живых движений, страданий и всего того, что у главнокомандующего находится перед глазами, или что знает он от очевидцев, приносящих ему факты. Можно гореть от нетерпения, страдать, изнывать от боли сердца, но решать издали сложные военные задачи дело очень мудреное. Мы все продолжаем верить в Куропаткина и продолжаем думать, что он еще не вышел из своего трагического положения, и не по своей вине. Мы продолжаем думать, что не все ему дано, что ему необходимо, но все придет, хотя бы для этого потребовались самые чрезвычайные усилия, и он достигнет своих целей.
Зато за неудачами, первые его успехи отозвались большою радостью, настоящим счастьем. Мы стали вдруг добрее, мягче, глаза прояснились и как будто у всех прибавилось здоровья. Замолчали враги, и умные, и глупые, и высокомерные Фальстафы и Бурцовы, забияки новой окраски, и все то ругающееся, и кричащее, и показывающее то шиш из кармана, то докладную записку, то пасквиль. Проклятая рознь наша еще дышит и змеиным языком ищет укусить. Иностранная печать, протрубившая уже новую победу японцев, стала вывертываться из победительной позиции. Победа поднялась кверху и ждет новых событий. Президент Рузвельт старается о мирном конгрессе и посредничестве, газеты доказывают, что державы имеют право на посредничество. Это — верный признак боязни за японцев и опасения русской победы. Как только японская победа становится сомнительной, сейчас же посредничество и разговор о мире. Заставить Россию заключить мир — это желание самых непримиримых наших врагов, их самая заветная мечта…
Мне кажется, что «непопулярность» у нас войны, о которой столько говорили, начинает получать иной оттенок, более примирительный, несмотря на потери. Война стала входить в жизнь как что-то неизбежное, предопределенное историей, как входят в нее бури и грозы, буйство стихий и перевороты. Резкие очертания исчезают и склоняются к округленным линиям. Но вместе с тем расширяется и поле зрения, является большая рассудительность о причинах войны и о самой войне и обо всем том, что с нею связано, а с нею связан весь наш быт и все наше будущее. Нет того грамотного человека, который теперь не читал бы своим неграмотным, родным и знакомым, известий о войне. На Дальний Восток поехало тысяч пятьсот русского народа, всех сословий. У этих сотен тысяч миллионы родных, знакомых, односельчан. Я не ошибаюсь, говоря о миллионах. Это все более или менее прямо заинтересованные в войне люди. Много других миллионов душ, прямо не заинтересованных, но тем не менее находящихся в этой военной беспокойной и тревожной атмосфере. Все это говорит, думает и рассуждает. У всего этого растет сознание, являются новые мысли или зреют и пополняются старые. Я убежден, что растет патриотизм, растет общерусское сознание. Не тот кричащий, самодовольный патриотизм, какого у народа собственно никогда не было, а тот молчаливый и вдумчивый патриотизм, который начинает ярче видеть вокруг себя и поднимается до более высокого уровня, чем стоял до войны. Я думаю, что русские люди растут теперь, как говорится, не по дням, а по часам. Народная психология — дело сложное. Иногда она десятилетия и даже столетие остается на одном уровне, точно замерзшая, а иногда она растет видимо и этого не замечают только те, которые не хотят видеть. Народ хочет победы, потому что в победе видит свою жизнь. Победа не достается без страданий, без ужасных жертв, а то, что выстрадано — дорого и не забывается. Все несли и несут тяжесть войны и все ждут обновления и улучшения жизни. Русский патриотизм держится этими надеждами несомненно. Это даже не надежды только, а вера. Победа не может быть пустым звуком, литаврами и барабанами, она должна подвинуть жизнь, наполнить ее новым дыханием. Она должна придти, как Христос входил в Иерусалим и когда радостно встречали его криками «Осанна!» За огромными жертвами должна последовать огромная радость, которая осушила бы слезы, вознаградила страдания и муки военного времени и дала бы духовные и материальные средства для того, чтобы новая мирная жизнь не походила на старую. Настоящая война — это Рубикон. Перейдя его, мы не повторим ошибки последней войны, когда мы не разобрали внимательно наших недостатков и не занялись серьезно и упорно внутренним делом.
Во имя страданий и доблестей наших сынов и братьев, во имя той веры в лучшие судьбы России, в ее обновление, в ее здоровую и сильную жизнь, надо призывать к жертвам в пользу тех, кто сражается, кто болен, кто ранен, кто зябнет. Было бы жестоко и ужасно, если б уменьшился прилив пожертвований, и было бы жестоко и ужасно, если б обнаружились какие-либо злоупотребления по доставке пожертвований. В этом отношении необходимо настаивать на контроле и чтобы он был живой, деятельный, беспощадный. Отсохни та рука, которая опустит в карман то, что дано на помощь нашим братьям, будь прокляты те нечестивцы и изменники, которые воспользуются копейкой, отпущенной на родных ратников. В семье не без уродов, но сколько честных, благородных и самоотверженных людей, которые смотрят за этим. В былые войны была наглость грабежа. Теперь за наглость грабежа без церемонии повесят или расстреляют. Несравненно больше теперь вероятий, что пожертвование непременно придет туда, куда оно назначено. Но чем больше внимания, чем больше серьезного отношения к этим жертвам, тем лучше. Но есть еще и такое соображение, которое прячется якобы за отсутствие контроля. Достаточно какого-нибудь непроверенного слуха, чтобы схватиться за это и сказать: «Я не могу жертвовать при таких условиях». Это тоже очень нехорошо. В мире нет ничего совершенного и злоупотребления всегда возможны, даже в самом святом деле и при самом совершенном контроле. Возвращающиеся с театра войны свидетельствуют, что в этом отношении дело идет несравненно лучше и честнее, чем в прежние войны. И притом сколько поистине самоотверженных работников, среди орудий истребления и смерти, с одним оружием — милосердия братской помощи и заботливого ухода! Как же можно отставать от них в жертвах и прятаться за какие-то сомнительные щиты, обнаруживая жестокость сердца… Правде не закрыты двери. Правды желает государь всем своим благородным сердцем и разумом. Не говоря о печати, правде помогут новые люди у власти, с своим искренним желанием, чтобы правда находила себе более и более путей в русской монархии. И победа наша, то одоление врага, которое мы ожидаем и которое мы видим, много зависит от тех самых людей, которые поставлены во главе управления. Все непрерывно связано между собой в этом огромном организме, где и я, и вы, читатель, незаметная песчинка. Будем бодры, будем и сильны. За прекрасными словами, которые мы слышали с таким удовольствием и которые были криком сердца, начинается уже дело. И дела еще много впереди и великого дела. Никогда перед Россией не стояли такие великие задачи, как теперь, и никогда так зорко и прилежно мир не глядел на нее. Многие сотни миллионов людей смотрят на нее и ждут, что она будет, какое место займет она среди этого мира. Как хочется верить во все прекрасное, мужественное, благородное, смелое. Только этим жив человек, только этим живы народы.
11 (24) октября, №10278
DXXIII
Государь назначил Куропаткина главнокомандующим. Эта фраза сегодня у всех на устах. Вчера она вызвала общее радостное чувство в армии. Русский человек во главе армии; человек, в которого верили и верят! Русские люди всегда страдают в дни невзгоды больше всех и прежде всех, но спасают русские люди. Эта гордость есть у нас у всех и в настоящее время она должна вырасти и вырастет. Дай Бог нашему главнокомандующему успеха и счастья, а нам всем — живого и искреннего ему содействия.
Эта радостная весть смахнула тревогу по случаю происшествия с Балтийской эскадрою. Она, вероятно, объясняется всего лучше душевным состоянием наших моряков. Надо войти в душу этих людей, предпринимающих великое по пространству и значению плавание. Несколько месяцев пути, сопряженного со всеми препятствиями, какие только может изобресть нейтралитет. Ничего определенного нет, но неопределенного, случайного можно ждать каждый день. И это неопределенное тем мучительнее, чем длиннее срок. Все эти лица истомились на месте, истомились несчастиями нашего флота, несчастиями поразительными, роковыми и грозными, которые следовали друг за другом, как удары колокола, бьющего страшную полночь, полную пляской и гримасами духов и привидений. Эти люди, сидящие на судах, стоящих миллионы и требующих для управления собой опыта, знания, внимания, поглощающих всего человека, волновались тем больше, что в самом начале поприща их им грозили всевозможные засады. Одна минута думы, что там скрывается гибель, что среди этих мирных рыбарей есть предатели и убийцы, что вот сейчас можно взлететь на воздух и разбить все надежды России, что привидение уже ползет с чувством ненависти и злобы и что завтра вся Россия болезненно охнет и в мире возвеселятся враги наши, захохочут и закричат, — одна эта минута решала судьбу тех несчастных рыбаков, которые не думали о смерти. Зависело все от одной минуты, от одной искры сознания величайшей опасности, которую ждали с напряженными нервами уже много дней и о которой были даже предупреждены. Или самим смерть, или смерть засаде. Это была страшная минута и для тех, которые стреляли, и для тех, которые пострадали от выстрелов. Это — печальная, скорбная минута, которую возвратить нельзя и которая в своих подробностях останется наверное загадкой.
Мне обидно было читать телеграммы с угрозой войны, возмездия, унижения. Но я думал, что тут самолюбие задето, самолюбие великой нации, которая очень много прощает себе и совсем не привыкла прощать что-нибудь другим. Это уж такое свойство народного самолюбия, в особенности в первые минуты, когда является только факт, обыкновенно преувеличенный донельзя, а о причинах явления никто еще не думает. Дико даже упоминать слово «предумышленность», которое проскользнуло в одной из телеграмм. Надо поставить себя в положение наших моряков в ту роковую минуту, о которой я говорил, когда, быть может, явилась по каким-нибудь признакам уверенность, что неприятель действительно тут. Прожекторы не избавляют от опасности, которая могла показаться тем возможнее, что впереди было несколько судов, что с них показывали рыбу, точно желая подойти ближе, а, быть может, какое-нибудь судно и двинулось вперед. Или произошло что-нибудь похожее на это. Известно, как ночью вырастает осторожность и как напрягаются мысли и резки ощущения. Прибавьте к этому неуверенность в англичан, не в английское правительство, а именно в граждан великобританской короны, которые столько деятельной вражды оказали России. Никто еще не забыл, как английский капитан Ли хвастался тем, что он со своими товарищами провел из Средиземного моря в Японию «Ниссин» и «Кассугу», как он провел русских моряков, как являлся к микадо, как его чествовали и как хохотали над русскими злым смехом победителей. Было бы постыдно русским людям забывать такие вещи; и они не забыты. И пусть англичане это оценят, как следует джентльменам. Сколько вражды англичане оказывали нам во все время войны, и в Англии, и в Персии, и в Китае, и в Японии. Они притом — союзники Японии и могли действовать, как союзники, каждый за себя, могли скрывать мины на этих рыбачьих судах или скрывать японские суда, которые приготовились броситься на наши. Наши моряки имели полное право думать, что им устроена ловушка среди этого флота рыбаков, который встал перед нашими судами, как привидение, они имели право думать, что здесь именно скрываются незаметно люди, подобные капитану Ли, что эти люди приготовлялись к встрече, что они сносились с японцами, закрывали и скрывали их, как ни в чем не бывало, и потом станут хвастаться и смеяться над добродушием и несообразительностью русских, которые спешат на тяжкое патриотическое дело, на спасение своих братьев и чести своей родины. Почему русские люди должны быть особенно осторожны, особенно вдумчивы, особенно осмотрительны? Потому что на них лгут больше всего? И сколько налгали в этом случае. Казалось, десятки, сотни рыбаков убито, множество судов потоплено и разбито. Первые телеграммы были именно такие, путанные, сумбурные, перемешанные с угрозами, с соболезнованиями, с криками и воплями.
А если бы русские доверились и если бы случилась катастрофа с нашими судами, нам и спрашивать было бы не с кого. Сказали бы «опять прозевали!». Лучше маленькая трагедия, чем большая комедия, — ведь на наши несчастия нередко англичане смотрят как на увеселительную комедию. Бедная наша родина! Сколько пролила она крови чуть не за все европейские государства в течение первой половины прошлого века. Наемница этих самых «мореплавателей», она сражалась за пруссаков, за австрийцев, за чужие выгоды, за чужую жизнь, и вот ей отплатили у Севастополя и отплачивают теперь, когда она стоит за свою честь и достоинство. Недостает того, чтобы сами русские стали бить себя по щекам, крича: «Стой! Назад!» и молить о прощении. Но нашлась и одна английская газета, которая заговорила с чувством человеческого достоинства и насмеялась над своими оралами.
Мы надеемся, что две нации приложат все старания к тому, чтоб этот несчастный случай разрешился благополучно. Мы живем в такое критическое время, когда самая атмосфера международных отношений готова превратиться во взрывчатое вещество, и довольно искры, чтобы начался неумолкаемый гром.
14(27) октября, №10281
DXXIV
Спасибо софийской «Вечерней Поште», спасибо братьям болгарам за их сочувствие России в настоящем столкновении Балтийской эскадры с английскими интересами. Минута для нас торжественная, когда нам нужно открытое сочувствие наших братьев славян, за свободу которых наши войска проливали свою кровь, а мирные жители несли свое достояние и лучшие свои порывы. В тяжелые минуты познаются наши друзья и братья. Нам дорого их платоническое сочувствие, нам дороги искренние биения их сердца в лад с русскими сердцами. Благороднейшие страницы нашей взаимной любви и дружбы, наших и их стремлений пусть говорят громко, как подобает мужественному славянскому племени.
Пока жива Россия, будет жив славянский мир в его свободном развитии. Пока будет жив славянский мир, свободно и доблестно будет дышать Россия. Наша взаимность — не пустое слово. Она скреплена общими культурными связями, общей любовью к родным, прекрасным славянским языкам, общим стремлением к благороднейшим славянским идеалам, и все это связано пролитой славянской кровью. Настает пора, быть может, когда всякие отдельные стремления должны быть приостановлены, чтобы слиться в общем родном чувстве. Я не говорю, что Россия в опасности, что она нуждается в чьей-либо помощи. Она сильна сама по себе. Источники ее силы еще только тронуты. Она еще собирается и готова вздохнуть полной грудью. Но нам дороги братские слова, дороги святые чувства воспоминаний недавнего прошлого. Кто знает, что день грядущий нам готовит, что осветит солнце, которое встанет завтра? Связи наши должны крепнуть, электрической искрою они должны проникать в славянские души и будить в них любовь, мужество и стойкость.
Привет же всем нашим славянским братьям, горячий, сердечный привет.
15(28) октября, №10282
DXXV
Читаю воинственные статьи, воинственные письма, слышу выражения негодования против Англии. Та ненависть против Англии, которая таится в сердце русского человека, вдруг вспыхнула ярко. Японцы как будто забыты, у всех на устах только Англия, которая всеми силами стремится помешать Балтийской эскадре и остановить Россию. Признаюсь, я ничего подобного не ожидал, когда писал о той естественной нервности, которая должна быть у наших моряков. Путешествие по нейтральным водам, мне казалось, должно было быть тем беспокойнее, что это — нейтральные воды, т. е. такие, в которых всякое встречное судно могло быть врагом, но врагом нельзя было его считать. Оно могло быть начинено минами, но нейтральные державы защищают свой флаг. Каждое судно могло выпустить мину и благополучно улизнуть. В море, где враг господствует, можно быть гораздо спокойнее. Там только враг и есть. Или избегать его, или сразиться с ним. И враг мой не скрывается, и я перед ним не скрываюсь, мы оба вооружены, как враги, и гордо идем друг на друга. А тут все джентльмены, совершенно приличные, безукоризненные с виду, но у каждого в кармане может быть револьвер и каждый только того и ждет, чтобы вы зазевались или поцеремонились, и в вас полетит пуля.
Морской устав говорит вам, русскому, вам, англичанину, что вы должны быть постоянно готовы и смотреть на каждое иностранное судно как на возможного врага. Можете себе представить это трагическое положение, когда около вас только возможные враги и вы должны вежливо протискиваться сквозь их ряды, стараясь никого не зацепить, а если зацепите — вам беда. Поднимается крик и гам. Сотни газет начинают сочинять небылицы, тысячи ртов кричат во все горло: «Теперь самое удобное время уничтожить Россию, когда она ведет несчастную войну с нашим союзником. Стоит только сделать мановение рукой, и общий враг уничтожен навсегда». Вся нация восстала, говорят нам. Вся нация обижена насмерть. Великолепный флот мобилизован. Балтийская эскадра сейчас же будет уничтожена. Скорей, скорей, все разом, нагрянем!… Ультиматум России, ультиматум!
Вот положение, которое создано нам. Оно всем русским показалось обидным. Все опасались какого-нибудь несчастия, но не такого. Всем кажется теперь, что это ловушка, превосходно устроенная, почти без всякого риска. Иностранные газеты с самого отбытия эскадры были полны предупреждениями об японских шпионах. Над японцами в Германии и Дании устроен был надзор. Они явились везде. Они старались нанимать рыболовные суда с тем, чтоб пускать с них мины. Такие известия напечатаны во многих газетах. Мне пишет из Ниццы приятель (В. А. Крылов), что 9 октября в Ницце в отеле West-End появились два японца. Один прописался из Токио, другой — из Иосамы, и уехали в Лондон. Лондон — прибежище для японцев, очаг японской агитации, где один японский посол чего стоит. Это — chef d’orchestre английской печати и persona grata всюду. Как не волноваться русскому общественному мнению, как не болеть от этой обиды. Англия вырвала у нас плоды победы в 1878 году, ее еврей-министр посмеялся над Россией, Англия снарядила против нас севастопольскую экспедицию. А потом насмеялась над французами при Фашоде и в прошлом году связала руки Франции. В течение целого полувека она только и делала, что оскорбляла Россию и приносила ей несчастия, и только раз при Кушке ей был дан урок и ее словесные громы напрасно раздавались; это — враг исконный, коварный и неумолимый.
Вот что у нас говорят, вот чем волнуются.
Продолжаю передавать те же толки.
Теперь мы пошли на следствие. Англия тотчас согласилась. Телеграммы нам говорят, что каков бы ни был результат следствия, она желает за собой сохранить свободу действий. Таким образом, пожалуй, выходит, что она только выигрывает время, тогда как мы только его проигрываем. Часть наших судов остается в Виго. Адмирал Рожественский, вероятно, там же. Долго ли эти суда останутся в Виго? Потребуют ли офицеров в Гаагу, станут ли их расспрашивать? Может быть, пошлют еще комиссию на место происшествия, отправят туда же часть водолазов искать затонувшие суда, привезут в Гаагу рыбаков и иных лжесвидетелей, и следствие будет тянуться без конца, а эскадра будет стоять без дела, в качестве обвиняемой. Что это за несчастный наш флот, что за роковые сцепления обстоятельств, и как все это мучительно горько!
А если следствие постановит дело в нашу пользу? Допустим, что будет так. Допустим, что адмирал Рожественский не ошибается — мы и теперь в этом убеждены, но дело не в нас, а в следователях. Какая будет компенсация России?
Что она выиграет? Кто вознаградит ее за этот простой, за эту тревогу? Предусмотрено ли это, или так уж и будет, лишь бы только разобрали дело, а там — где наше не пропадало? Конечно, эта следственная комиссия — хороший клапан для разбора недоразумений. Россия смело и честно пошла на это испытание, но если правда, что Англия выговорила себе право свободных рук, к какому бы выводу комиссия ни пришла, то эта может обратиться в волокиту.
Я считаю своею обязанностью все это высказать прямо и просто, в том виде, как я это слышал из многих уст, как прочел я во многих письмах. Я сам чувствую в этом много тревожной правды. Правительство английское ссылается на общественное мнение, которое якобы настроено против России, как было оно настроено против Наполеона. Мы платим им тем же. Может быть, взаимная ненависть разрешится в беспристрастном следствии, умирятся страсти и почуется правда, которая, однако, чрезвычайно редко управляет миром. Она скорей тут случайный гость, сплошь и рядом — незваный. Пусть же будет она хоть этим случайным гостем. С каждым днем мы убеждаемся более и более, что адмирал Рожественский поступил, как должно, что миноносцы действительно были, что найдутся, вероятно, свидетели и очевидцы их пребывания в гаванях, что правда восторжествует. Вопрос слишком важный, чтобы следователи не оказались на высоте своей задачи, и нашему общественному мнению следует спокойно ждать развязки, насколько спокойствие тут возможно. Но мы должны быть готовы по всему и отстаивать свое дело, как дело чести.
19 октября (1 ноября), №10286
DXXVI
Два слова по поводу приказа адмирала Чухнина по Черноморской эскадре. Этот приказ, явившийся в газетах, вызвал неудовольствие князя Мещерского. Неудовольствие это не Бог весть какой цены, и резоны его еще меньшей цены. Он начал свою обыкновенную песню о том, что есть отец-командир и есть его дети, офицеры и матросы; что отец-командир должен обращаться с детьми с отеческой любовью и не выносить сора из избы. Надо было пожурить неисправных, но публиковать на всю Россию о возмутительной халатности, которую позволяли себе некоторые моряки, это не следовало.
Я думаю, что кроме отца-командира и его детей, офицеров и матросов, есть еще мать у отца-командира и у его детей. Мать эта — Россия. Если мы ее сосем открыто и не стыдимся этого, то она должна знать все, что делают ее дети, как отцы-командиры, так и их подчиненные. Адмирал Чухнин поступил, как верный сын России. Он сказал открыто все то, что заметил в своей эскадре, сказал своей матери, России, как и матери своих подчиненных. Он напомнил им, что эта мать требует всех сил своих сынов, всю их энергию, всю их жизнь.
Князь Мещерский публиковал сегодня взгляд на публикации таких приказов адмирала Г. И. Бутакова. Этот приказ — от 18 августа 1870 года. В «Гражданин» его доставил «служивший лейтенантом на эскадре адмирала Г. И. Бутакова», сочувствующий «Гражданину», но скрывший свое имя.
Вот этот приказ:
«В одном из последних нумеров газеты «С. Петербургские Ведомости» я встретил приказ мой по поводу Гангеудского памятника. Публиковавший этот приказ не спросил меня, желаю ли я этого и разрешаю ли ему послать в газеты то, что пишется для своего круга сослуживцев. Я не знаю, кому этот приказ обязан своим появлением в публичных листках и не ищу знать этого, но считаю нужным обратить внимание служащих на броненосной эскадре на разницу между напечатанием и публикованием. Если мои приказы печатаются, а не списываются судовыми писарями, то это не значит, что они публикованы».
Из этого приказа совсем не следует того, что видят князь Мещерский и бывший мичман. Адмирал Бутаков только устранил себя от ответственности за обнародование своего приказа, но, очевидно, ничего не имел против того, что он явился «в публичных листках». Это появление было только без его согласия. Никто не спросил у него разрешения «послать в газеты то, что пишется для своего круга служащих». Говоря о разрешении, которого у него не спросили, он тем самым дает понять, что разрешение было бы возможно, если бы он нашел желательным появление приказа в газетах. Он оговаривает только настоящий случай перед своей эскадрой, и знать не хочет и не имеет знать, кто это сделал, и никакого упрека не посылает тому, кто отдал в газеты приказ.
Таким образом, ссылка на адмирала Бутакова есть только недостойный прием против адмирала Чухнина, и даже неудачный прием, ибо 1870 год ни в каком отношении не похож на 1904 год, решительно ни в каком отношении, ни по составу флота, ни по тем требованиям, которые предъявляются к морякам, ни по тем судам, которые теперь действуют, ни по военному времени. «Мир» и «Жизнь», «война» и «смерть». Вот разница. В мирное время можно щадить, в мирное время, может быть, удобны более мягкие отношения между командирами и подчиненными, более снисходительная дисциплина. Но допускать все такие вещи в военное время — значит губить дело, значит предавать родину. Командир должен подавать собою пример мужества, характера, воли и требовать того же от всех подчиненных. Личность тут исчезает. Является общая цель, которой подчиняются все. Родина требует ума, таланта, знания, мужества, жизни, наконец. Тут сантименты об «отце-командире» и о «детях-служащих» совершенно не у места, а упущения ужасны по своим последствиям, в особенности во флоте, которым началась война, и который был так все время несчастлив. Самый эпиграф к этой нашей военной трагедии есть знаменитая телеграмма адмирала Алексеева от 27 января, извещавшая о «внезапном» нападении японцев, которое могло быть не допущено и внезапность обращена против врага. Персонал моряков должен стоять на высоте своей задачи — вот смысл приказа адмирала Чухнина. Командир, требующий этого, исполняет только свой долг. Адмирал Бирилев делал то же самое. Общественное мнение тогда страшнее начальства, арестов и других наказаний. Общественное мнение доказало, что оно умеет защищать моряков всем своим сердцем и разумом: оно должно знать и недостатки. Повторяю: мы сосем нашу общую мать, Россию, и Россия имеет право знать, как тех, кто питается ею, исполняя свой долг и жертвуя ей, как верный сын, своими знаниями, мужеством и жизнью, так и тех, кто сосет ее для собственного удовольствия…
22 октября (4 ноября), №10289
DXXVII
Мне хочется повторить прекрасную телеграмму государя к адмиралу Рожественскому от 15 октября, повторить, как лозунг настоящего времени, лозунг, призывающий к мужеству и патриотической деятельности.
«Мысленно душою с вами и моею дорогою эскадрой. Уверен, что недоразумение скоро кончится. Вся Россия с верою и крепкой надеждою взирает на вас».
Все, что сделано адмиралом Рожественским во время своего пути на Дальний Восток, заслуживает самой большой симпатии русских людей. Он повел свою эскадру, хорошо вооруженный предусмотрительностью и решимостью действовать против опасного и настойчивого врага, который не терял времени для того, чтобы повредить эскадре, приготовить ей засаду, застать ее врасплох. Довольно уже было у нас этих «расплохов». По характеру своему наш враг не мог бездействовать во время приготовления нашей эскадры к походу, не мог оставаться только зрителем и выжидать, что будет. Он удивлял нас своей беспрерывной деятельностью. Не только верфи его работали, морское министерство напрягало усилия для скорейшей постройки судов и для покупки их всюду, где можно было купить, но и дипломатические представители Японии всюду выказывали большую энергию и инициативу. Мы этим не могли похвалиться. Может быть, если бы мы работали как следует, наша Балтийская эскадра была бы теперь уже у Порт-Артура. Если бы наши суда в ночь с 26 на 27 января ожидали неприятеля, иное было бы дело. С такими уроками идти беспечно за тридевять земель может только ленивый «авось» и глупый «ничего».
Только в Германии и Дании была стеснена деятельность японцев. Зато они были совершенно свободны в Швеции, Норвегии, Голландии, Англии. Помните весною дело о минировании гавани на острове Слите против Либавы? Говорили, что в Либаве с одного русского судна видели миноносец. Говорили, что миноносцы приготовляются в Швеции, говорили, что миноносцы куплены Японией у Англии и затем исчезли, что они скрываются в норвежских фьордах, длинных, извилистых, ненаселенных, где при них держатся небольшие пароходы с углем. Правительства, как нейтральные, конечно, не могли способствовать деятельности японцев, но японские дипломаты в Европе, но частные лица и компании без всякого сомнения могли, и уследить за этим чрезвычайно трудно. Ведь доставляется же теперь контрабандный груз воюющим сторонам немцами, англичанами, американцами, всяким смельчаком, и не английское ли правительство защищало своих контрабандистов, когда они были захвачены нашими крейсерами. За хорошую плату прорываются джонки и пароходы даже к Порт-Артуру, бравируя величайшие опасности. Почему же нации около Немецкого моря такие бескорыстные люди, что не польстятся на японские деньги? Почему в Англии не могут найтись рыбаки, или пароходовладельцы, которые за деньги не подставят даже свои бока под опасность выстрелов, сопровождая и скрывая миноносцы? Ведь это тоже своего рода контрабанда, прекрасно оплачиваемая. Что во всем этом удивительного и невозможного, когда контрабанда ежедневно совершается?
Эскадра шла, ожидая с минуты на минуту нападения. Каждое судно имело семь огней, расположенных на разных высотах, на мачтах, с боков, спереди, и это масса отдельных огней напоминала зажженную елку. Моряки и называли эскадру «Рождественской елкой». И вот с «Суворова» увидели миноносец. Морской глаз ясно различал его; потом — другой. У миноносцев — несколько коротких труб; у рыбачьих судов — одна длинная труба и парус. Смешивать их невозможно. Началась пальба и продолжалась минут семь. Недолеты и перелеты снарядов, тем более возможные, что на море было волнение, и пушки то поднимались на волне вместе с судном, то опускались, могли попадать и в рыбачьи суда, которые не были видны. Как скоро однако эти суда были замечены, адмирал приказал поднять огни вверх, и стрельба была прекращена. Ранее этого исчезли и миноносцы, на дно ли моря, или вышли из области света — осталось неизвестным. Нападение не удалось. Пострадало несколько англичан. Вот и все. Английское правительство согласилось на следствие. Английское общественное мнение продолжает волноваться и взывать ко мщению. В иллюстрациях печатаются «виды» мобилизации флота, причем матросы изображены радостные, готовые ринуться в бой для истребления эскадры. В газетах появляются письма высокого патриотизма и высокого комизма.
Таково, между прочим, письмо в «Standard»’e, о котором сообщил наш лондонский корреспондент. Наша эскадра закроет мрамором и гранитом Суэцкий канал и станет бомбардировать Бомбей. Когда английская эскадра придет к Бомбею вокруг Африки, Бомбей будет взят, и мы расположимся в Индии, как Англия расположилась в Египте после бомбардировки Александрии в 1882 году.
Вот какая догадливая нация. Не то, что мы. Нам и во сне не приснилось бы такого смелого шага, от которого все наши дипломаты померли бы от страху в один день. А англичане это бы, пожалуй, сделали. Недаром же приходят такие фантазии в голову англичанину, а распространенная газета их печатает. Что же после этого случая в Немецком море?! Да у англичан каждый год бывают такие случаи и о них никто даже не говорит.
Прочитав письмо в «Standard»’e, я думал: можно было бы придумать фантазию несколько правдоподобнее, например, предположить, что наша эскадра как-нибудь мимоходом пройдет к Константинополю и повернет Дальний Восток к Ближнему. Вот была бы история! Но и эта история хороша только в сказке или в приятной болтовне у камина. В действительности и такая история невозможна.
Увы, предание об Олеговом щите на вратах Цареграда отходит и отходит. Берлинский конгресс, кажется, совсем отнял у России даже самое предание. Я не мог спокойно читать воспоминания французского дипломата графа де Муи[11] об этом конгрессе. С нами поступали очень неделикатно, и нашим дипломатам, князю Горчакову и графу Шувалову, приходилось делать bonne mine au mauvais jeu перед англичанами, имевшими во главе своей чистокровного еврея, лорда Биконсфильда…
Представители «победоносной» России играли довольно жалкую роль побежденных.
Теперь начнется следствие. Это — тень Берлинского конгресса, привидение, им посланное. Ареопаг предстоит не такой внушительный, как в Берлине, но все-таки ареопаг. Он соберется, вероятно, недели через две. Кроме моряков, кто будет с нашей стороны статский? Кто будет «молодым, блестящим доктором» Бальтазаром, который явится перед судилищем с убедительною речью? Фантазия Шекспира дала эту роль женщине, Порции, переодетой в платье адвоката. Наша действительность требует мужчину. Необходим человек со знаниями и даром слова, а не какой-нибудь дипломатический чиновник, привыкший писать бумаги на заданные темы. Необходим человек с инициативой, с вдохновением, который был бы вровень с тем большим делом, которое ему предстоит. В этом деле есть Шейлок, который хочет вырезать живое мясо у России и заставить ее истекать кровью. Вот этого Шейлока надо одолеть…
Мне думается иногда, что наша война с Японией переплетает все вопросы и приведет Европу к одному из тех кризисов, о котором современники даже не догадываются. Может быть, эта война будет только первым действием той великой трагедии, которая не за горами. Недаром начала столетий так часто заставляют народы взыграть каким-то необыкновенным пылом, точно все прошлое надоело так, что с ним надо покончить. Это — стремление вдаль, в неведомые края, в мир будущего, к медовым рекам. Это — признак живучести народов, их душевного благородства, их нетерпеливого стремления к лучшему. При этом все расчеты благоразумия исчезают, и народами движет стихийная, неодолимая сила.
Что значат эти разговоры во французской палате о франко-англо-русском союзе, и притом как раз в такое неудобное время, когда Англия забряцала оружием и когда она вдруг так быстро стала влагать меч в ножны? Возможен ли такой союз? Не доказали ли нам англичане этою раздражительностью, что они хотят вражды, а не мира, что они высокомерно смотрят на Россию и ищут предлога унизить ее и лишить свободы действия на целые века? Не возможен ли другой, континентальный союз и нет ли Наполеона другого закала и другой нации, в голове которого зреет эта мысль?..
Во всяком случае, время, которое мы переживаем, в высокой степени интересно. Оно вызовет и новые умы, и новые таланты, и воспитает новые поколения, не поколения неврастеников и декадентов, этого продукта застоя и самодовольства, а воистину героическое поколение, смелое, независимое, благородное, полное высоких патриотических стремлений…
30 октября (12 ноября), №10297
DXXVIII
Я прошу вашего внимания к порт-артурцам. Что с ними? Близок ли час кончины Порт-Артура, или далек, защитники его совершили все, что возможно сильному русскому человеку.
На этих днях стали поступать пожертвования в пользу порт-артурцев. Начал бессарабский дворянин г. Строй-Строеско, который дал 1200 рублей в пользу защитников Порт-Артура. Это иностранное слово стало родным всем нам. За ним скрывается беспримерное мужество и самопожертвование. Эти подвиги связаны с таким трудом, с такими лишениями, о которых никто из нас не может иметь даже приблизительного понятия. Оторванные от всего мира, от родных и друзей, они находятся всякий час под угрозой смерти или таких ран, которые делают их калеками. Сколько останется в живых этих простых русских людей, которых мы называем героями, никто не знает. «Герой» — это лучшая похвала, которую мы посылаем им. Своим героизмом они весь мир удивляют — это дает нам право гордиться ими, как представителями нашего племени. Они заслужили не только перед родиной, но и перед каждым русским, который верит в живучесть русского народа и надеется на лучшее будущее. Это — настоящие борцы, которым всегда отдали бы должное, даже у врагов наших, которые умеют ценить и признавать мужество. Посмотрите, с каким вниманием отнесся к просьбе г-жи Сергеевой г. Идэ, секретарь Ямамото (№10302) и какое обстоятельное письмо написал он ей на своеобразном русском языке. Г-жа Сергеева — жена командира миноносца «Стерегущий». Она знает теперь подробности о последних минутах своего мужа. Это утешение, печальное утешение, но дорогое для супруги погибшего мужественной смертью.
Сколько таких храбрых погибло, и сколько они оставили семей! Сколько из тех, которые останутся живы и возвратятся на родину, сколько из них будут разбиты этой ужасной жизнью в Порт-Артуре. Помните, с каким чувством встречали мы героев «Варяга», как города друг перед другом старались устроить им радушную встречу. Это были первые герои. Теперь мы к ним привыкли. Но надо помнить свой долг перед теми, которые сражались и сражаются в Порт-Артуре, надо помнить свой долг перед их семьями. Эта беспримерная осада, невиданная во всемирной истории, должна быть запечатлена всей любовью, всем великодушием русского общества. Эта любовь и это великодушие должны бы остаться неразлучными с героизмом наших братьев и сестер. Там сражаются все, и солдаты, и мирные рабочие, и граждане, там сражаются и женщины, как мужчины, образованные и необразованные. Об одной из них, Короткевич, которая служила в мужском костюме, вчерашняя телеграмма сказала, что она была разорвана японским снарядом. А сестры милосердия, а жены защитников крепости, их удивительный труд — как все это не оценить. Помните, что это не дни, не недели, а целые месяцы. Говорят, человек ко всему привыкает. Бесспорно. Но какая же это привычка, чего она стоит! Кто нам расскажет об этой жизни, полной тревоги, заботы, бессонных ночей, полной грома орудий, стонов, похорон, разлуки и встреч, полной крови и страданий. И у многих в России жены и дети, отцы и матери, о которых они не имеют никаких известий, ни те, которые здесь, в России, изнывают по близким и ждут, ждут вести, или со страхом развертывают газету, чтоб прочесть, жив ли Порт-Артур, есть ли еще надежда, что он продержится и долго ли, долго ли? Имен нет, есть только одно дорогое имя — Порт-Артур. Жив ли он? Если он еще жив, может быть, жив мой муж, мой отец, мой сын, мой внук. Все эти милые и дорогие, милые и дорогие, как русские, как воины и как родные. Никогда не было, чтобы так долго, так мучительно долго продолжалась битва. Говорят, что у нас не было побед. А разве это не победа в Порт-Артуре, эта длинная вереница битв и подвигов, это отстаивание каждого шага. Сколько раз они, эти храбрые, победили, сколько раз они гордо имели право сказать: мы одержали победу! Разве без победы можно было бы держаться на этом вулкане. Десятки тысяч врагов легло там и усеяли холмы и горы своими костями. Своими победами они держали множество вражеского войска и этими победами они поддерживали бодрость во всей России. Да, они победители, они носители русской победы. Соединившись вокруг даровитых начальников, эта горсть русского племени, всех званий и состояний, перед всем миром может сказать: мы — русские! Мы — верные сыны нашей матери, России!..
И за все за это родина должна вознаградить как вдов и сирот, так и тех мучеников своего долга, которые останутся в живых. Вот почему я говорю, что общество обязано связать с собою эту порт-артурскую осаду, связать со своей любовью к родине, с своим великодушием. Все то, что мы дали бы им, все это ими не только заслужено, но заслужено преимущественно перед всем нашим воинством. Те, которые в Маньчжурии, счастливцы в сравнении с порт-артурцами. К тем доходят вести, подарки, теплая одежда, всякие мелочи, напоминающие о родине, о знакомых, о сочувствующих им русских людях, которые всем, кто чем может, стараются помочь или дать развлечение. Эта прекрасная русская черта едва ли не впервые во время войн так ярко, так единодушно сказалась. На далекую сторону столько посылается всеми и с таким братским, нежным чувством, с такою заботливостью все покупается, запаковывается и отправляется. Идет какая-то радостная, тревожная работа, посылается неизвестным, страдающим, больным и здоровым, как посылалось бы родным детям, братьям и мужьям. Может быть, никогда прежде русское общество и чудесные русские женщины в особенности не были на такой высоте благороднейшего сострадания к ближним, не были так прекрасно настроены, как в эти тяжелые дни…
Вот почему так симпатичны, так трогательны эти первые пожертвования в пользу порт-артурцев. Их вспомнили впервые не словами только, не похвалами, а таким участием, которое обещает утешение им и их семьям. В Петербурге первая дала 10 рублей бедная учительница. Дай Бог, чтобы эти жертвы разрослись, чтобы на них откликнулось как можно более богатых и достаточных людей, чтобы облегчить участь хоть немногих защитников Порт-Артура, их семей и сирот. Господь возвратит наши жертвы радостью исполненного долга, счастьем наших детей и, быть может, счастьем родины. Счастье родины так много зависит от нас, от нашей взаимной любви и согласия.
5(18) ноября, №10303
DXXIX
Почему министр внутренних дел не должен иметь своей политики? Потому, что редактор «Гражданина» этого не хочет. Вот единственный аргумент в пользу того, что у министра внутренних дел не должно быть своей политики. Князь Мещерский может и должен иметь свою политику. Он даже претендует на руководительство министрами, как это мы видели из признаний его о В. К. Плеве. Но министр должен стоять ниже журналиста и своей политики не иметь.
Мне это кажется весьма странным и даже чем-то недоумительным. Что за оказия такая? Такое множество и журналистов, и адвокатов, и дворян, и земцев могут иметь свои политические убеждения, а министр их иметь не может. Я знаю, что мне возразят: министр исполняет волю государя. Он, поэтому, должен быть только исполнителем этой воли. Когда князь Святополк-Мирский вступил в свою должность, он объявил о доверии правительства к обществу и о манифесте 26 февраля, как краеугольном камне. В этом манифесте, по мнению министра, в кратких и ясных положениях обозначена политика государя, его желания, его цели, имеющие предметом благо России. Значит, министр, принимая ответственную должность, всей душой разделял желания государя и хотел их выполнить, как верноподданный, как искренний слуга и честный человек. Я иначе не могу себе представить министра. Конечно, у каждого министра есть честолюбие, и без честолюбия мне тоже трудно представить себе министра. Власть имеет свои привлекательные черты, быть может, более сильные и даже более благородные, чем то чувство, которое называется любовью. Как в любви, и в честолюбии есть ревность, есть порывы, есть страсть, есть желание творчества для пользы своего государя и своего отечества, как и любовь стремится к творчеству. Если всякий любит по-своему, то и честолюбив может быть всякий по-своему. Министры в этом отношении могут очень различаться между собою.
Но возьмем министра в том корректном представлении, которое я обозначил, как верноподданного, искреннего слугу и честного человека, который со всем рвением желает исполнять волю своего государя. Может ли он иметь свою политику? Не только может, но и должен, ибо уж в самом исполнении воли государя лежат основания политики. Всякому понятно, что исполнять волю государя можно по тому или другому плану, причем и самый образ действий разных министров будет различный. Ее может выполнить так человек, знающий чиновный и канцелярский мир, и иначе человек, знающий Россию, знакомый с ее потребностями не по бумагам, а по живому общению с русскими людьми всех званий и состояний, проживший большую часть своей жизни в близком соприкосновении с самыми чувствительными нервами жителей. Оптимист может исполнить волю государя так, а пессимист совершенно иначе. Для одного Россия представляет безнадежную картину смуты, где только чрезвычайные меры опеки и строгости могут принести пользу, а другой, не скрывая от себя некоторые элементы смуты, в то же время убежден, что есть общечеловеческие просвещенные средства для того, чтоб примирить враждующие элементы и водворить необходимый порядок и возможное благосостояние. Я ограничусь только этими общими чертами, но есть еще множество подробностей, которые будут рождаться, быть может, ежедневно, когда министр станет приводить в исполнение волю государя. Каким же образом будет министр управлять, если у него нет собственной политики, т. е. собственного плана действий и программы? В особенности это должно сказать о министре внутренних дел, который есть по преимуществу политический министр, с которого спрашивается чрезвычайно много, который отвечает почти за все то, что сегодня совершается в государстве, или которого ко всему совершающемуся привлекают так или иначе, будь это вопросы экономические, учебные, религиозные, литературные, художественные, строительные, земские, дворянские или вопросы обыкновенного полицейского порядка. В то время, когда другие министры могут спокойно отдыхать на лаврах, министр внутренних дел все должен знать и все приводить к известной системе. Надо быть лишенным всякого милосердия или всякого здравого смысла, чтоб отнимать у министра внутренних дел право иметь свою политику и право защищать ее от всяких противодействий. Не иметь министру своей политики — значит не знать, что делать и как действовать, и значит «сеять ветер, чтоб пожать бурю». А с бурей шутки плохи. Даже в частном большом хозяйстве управляющий должен иметь свою политику, свои собственные убеждения о том, как и что надо делать, чтоб и хозяин был доволен, и рабочие были довольны, и потребители товара относились бы с доверием к фирме. Один управитель будет строг, немилостив, будет держать рабочих в ежовых рукавицах, налагать штрафы, другой возьмет совершенно иную политику, сообразно той новой фабричной политике, которая практикуется в Европе и которая дает лучшим рабочим даже участие в предприятии.
Мы живем в очень трудное время, и задача министра внутренних дел усложняется еще тем, что мы живем в военное время, когда нервы у всех в тревоге, когда общественный пульс не на войне только, но и здесь, в России, бьется сто раз в минуту. То военное время, которое мы переживаем, к несчастью, есть к тому же время наших неудач и тяжелых потерь, которые прибавляют еще горечи, тревоги и волнений. Русская душа должна бы в это время все понять и чувством и разумом и не затруднять движения жизни и искренних намерений вдохнуть в государственный строй России новые живые силы.
6(19) ноября, №10304
DXXX
Ну, вот вам и «весна», которую я предсказывал. Это предсказание было напечатано мною в ноябре прошлого года, когда я защищал земцев против князя Мещерского. Я уверял, что «весна идет» и придет с реформами сверху, а не снизу, и я проповедовал «доверие», как такой принцип, на котором только и можно возводить государственное здание. Теперь слово «весна» повторяется всюду и на все лады, и весна изображается в стихах и прозе с теми атрибутами, которые наиболее любезны тем или другим гражданам. Для одних это — «заря кровавая», жена «простоволосая, без шапки, вся в огне», умеющая — такая шельма! — «блестящей косой косить… дремучие леса», для других — «светлый гений свободы», для третьих нечто более понятное — «учредительное собрание», «государственная дума», «земская дума», «реформа» tout court, «правовой порядок», правопорядок, даже «твердый правопорядок» и, наконец, «реформы» — это самая умеренная весна с холодком, но все же «весна» с солнцем, теплом и новою растительностию.
В России весна природы мало походит на такую же весну в Западной Европе, как и наша зима непохожа на тамошнюю зиму. Там смена времен года гораздо мягче, постепеннее, незаметнее, и нет ничего подобного нашей зиме. Я думаю, что наш климат всегда имел влияние и на политическое наше развитие, которое шло гораздо суровее и медленнее, чем в Европе. Политические морозы гармонировали с естественными и гнали нас из-под неба в закупоренные дома, в искусственный воздух. Если весна природы настает у нас разом — разом поднимаются теплые ветры, разом начинает греть солнце, тают сосульки, эти замороженные слезы солнца, ломается лед, разливаются реки, бежит с шумом вода с крыш и пригорков и из земли так и прет все то, что хочет жить и расти, то и политическая весна может наступить разом. Она и наступила разом и с шумом бегущей волны, но при таких обстоятельствах, которые еще не говорят в пользу будущего урожая. Политика laissez faire, laissez passer для нового министра была, быть может, обязательна, в особенности для того, например, чтоб узнать настроения и способности общественных групп, но у нее есть и крупные недостатки. Весна природы в культурной стране, где возделана каждая пядь земли, где сам народ привык бороться со стихиями, совсем не то, что такая же весна в стране некультурной, и этого отнюдь не следует забывать. В некультурной стране она может снести много полезной растительности, образовать овраги, обесплодить равнины, снеся чернозем в бездонное море, разрушить плохо возведенные плотины и плохо унавоженные поля. У нас весна наступила в тяжелое и страшное время, о котором многие все еще не отдают себе ясного отчета: во-первых, война и ее несчастия, во-вторых, какой-то беспочвенный, шумный задор, не отвечающий серьезности настоящего положения.
Невольно мне вспоминается памятная статья Добролюбова, высмеивавшая формулу 60-х годов прошлого столетия: «в настоящее время, когда…» и проч. Вспоминается это, читая теперешнюю формулу: «В настоящее время, когда общественное движение, властно охватившее самые разнообразные круги и группы населения, и открыто выразившееся в требовании гарантии для осуществления основных политических прав гражданского общежития»… и проч. Мне не верится в эту «властность», «разнообразных кругов и групп населения», когда народ молчит и ничего не знает об этой «властности». Политика laissez faire, laissez passer его нимало не коснулась, и едва ли туда ее пустят даже самые те, которые хвастаются «властностью» кругов и групп. У стомиллионного русского народа тоже может явиться своя «властность». Мне думается, поэтому, что совсем не мешало бы употреблять слова более вдумчиво, не гоняясь за эффектом.
Разом наступила весна и в 60-х годах прошлого столетия после неудачной двухлетней войны. Эта весна уничтожила крепостное состояние, старый суд и приказ общественного призрения. На тех созданиях, которые выросли на обломках крепостного и полицейского самовластия, прилетела теперешняя весна. Вообще 60-е и первые годы каждого из последних столетий играли у нас исключительную роль, на что я подробно указывал еще в январе 1902 г. Не заходя далеко, напомню преобразовательную и военную деятельность Петра Великого в начале XVIII века, в 60-х годах преобразовательную деятельность Екатерины II (Законодательная комиссия), в начале XIX века преобразования Александра I и войны, в 60-х годах реформы Александра II, теперь, в начале XX века, война с Японией и начало реформ, которые намечены государем реформой школы, указом об Особом совещании и манифестом 26 февраля 1903 г. Естественно, смена поколений через тридцать-сорок лет не проходит бесследно. Поколения вырастают, учась даже у самой жизни, от которой требования вырастают, не говоря уже о науке. 60-е годы прошлого столетия блестели не только реформами, но и талантами, целою цепью превосходных талантов в общественной жизни, в публицистике, в литературе.
Это была весна, в которой аристократия ума и образования играла большую роль; это была весна, представители которой были настоящие, незакатные звезды, которые вечно останутся на горизонте русской культуры и славы. Настоящая весна покуда бедна талантами. Их нет в литературе, — остается Толстой, явившийся с весной 60-х годов, нет в художествах — Репин подошел к старости; нет в общественной жизни. Называют Шипова, как организатора земства, и Мих. Стаховича, представителя дворянства, как передового и прогрессивного сословия, — вот и все. Судя по внушительной речи Плевако в его процессе с князем Мещерским, Стахович останется верным своему сословию. Я не слыхал имен более громких, или таких же громких, как эти. Может быть, люди есть, но они еще под спудом, под весенним туманом, который поднимается от растаявшей земли и готов подняться к небу, чтоб оросить благодатным дождем русскую многострадальную ниву. Может быть, есть люди настоящие, свежие, с русским сердцем и русским здравомыслием, которым есть что сказать свое, не повторяя ни славянофилов с их несколько туманными воззрениями, ни западников с их наклонностью целиком брать западное, рабски его списывая, как рабски списывал свою конституцию Сперанский.
Столетие умственной жизни русского человека не могло пройти даром. Составил же он себе нечто свое собственное, разбросали же по своему пути здоровые плоды и мысли большие русские писатели, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, большие историки, Карамзин, Соловьев, Костомаров, Ключевский, большие критики, как Белинский, Вл. Соловьев, публицисты, как Аксаков, Хомяков, Чичерин, Градовский. Наконец, плеяда талантливых исследователей прошлого и настоящего России, — есть же она и была, и не может быть, что она ничего не создала, ничего не внушила положительного и ясного тому поколению, которое теперь может считаться взрослым, зрелым и компетентным. Не может же быть, что мы сильны только эффектной фразой, лирическими воззванием. Ведь даже народ в это столетие вырастал на религиозной и экономической основах, группировался в отдельные самообразования, оставаясь в корне русским. Ведь и он может сказать что-нибудь свое и внести свой взгляд, свои поправки в те положения, которые легко списать, как азбуку, но трудно ввести в жизнь, не изломав ее и не исковеркав. Ведь надо же признать, что тот бюрократизм, на который теперь вешают всех дохлых собак, заразил в значительной степени и т. н. земство, сообщив ему всю сладость приказательности, самовластия и «я так хочу, потому что я знаю лучше вас, что надо делать». Ведь положа руку на сердце, нельзя сказать, что земство свободно от этих элементов. Ведь оно тоже хочет не избирать, а приглашать кого хочет, повторяя бюрократические приемы. Я мог бы сейчас назвать несколько случаев, подтверждающих эти положения. В прошлом году екатеринославское губернское земство жаловалось министру внутренних дел на корреспондента «Нового Времени», который осмелился взять сторону того гласного, который указал на действительно существовавшие беспорядки в управской отчетности. Екатеринославские земцы просили министра внутренних дел запретить газете писать об этом случае. Разве это не бюрократический прием, не то же желание охранить себя от критики? Только свободно избранные населением могут считать себя выразителями общественного мнения, выразителями нужд населения, а вовсе не случайные и искусственно подобранные каким-нибудь бюро люди. 34 председателя земских управ так же мало значат, как 34 губернатора и 60 подобранных гласных или полугласных земцев при этих председателях, не более, чем 60 членов губернских совещаний при губернаторах. Правда, это две противоположные группы, обе искусственные, обе честолюбивые прежде всего, но дело в том, что ни та, ни другая не представляют народа.
Необходимо нечто большее, более независимое, более широкое и действительно представляющее собою население и его нужды. Представительство страны необходимо. Когда в апреле 1902 г. я говорил В. К Плеве о Земском соборе, о маленьком Земском соборе, человек в 200–300, он выслушал меня и сказал:
— В кабинете министра внутренних дел можно говорить о представительстве, но в печати нельзя.
— А когда вы служили при графе Лорис-Меликове, я называл себя в печати земско-соборником.
— Времена переменчивы, — отвечал он улыбаясь.
Теперь снова говорят о представительстве в печати. С университетских кафедр, по книгам, газетам, по наблюдаемой нами давно европейской жизни мы хорошо знакомы с представительством и внимательно следим за борьбою партий, в особенности в Англии и во Франции. Политических деятелей, министров, ораторов Европы мы знаем лучше, чем своих молчаливых, в уединении работающих государственных людей. И я желал бы именно такой весны, которая походила бы на эволюцию, а не на революцию со всеми ее ужасами, беспорядками, разгулом страстей, произволом, насилием и проч. Храни нас Бог от этого. Отечество нуждается во многом. Есть нужды, которые сейчас же необходимо удовлетворить. Во-первых, нужда в свободе работы, всякого почина, к которому влечет человеческая личность, стесненная целой массой формальностей и навязанных традиций. Об этом давно взывают, и это всем нужно, начиная с мужика и кончая образованным человеком, техником, юристом, промышленником. Там, где есть эта свобода, и бюрократия работает лучше, прилежнее, производительнее. Она чувствует над собою общественный контроль и около себя свободную деятельность всего населения. Слово «свобода» недаром у нас популярно. Оно было в нашем языке испокон века и испокон века было любезно русскому сердцу. Всякое «освободительное» движение было у нас популярно, были ли то ирландцы, греки и буры, или итальянцы и славяне. Да, даже славяне пользовались нашей любовью не столько потому, что они славяне, братья наши по крови, сколько потому, что они были угнетены и хотели свободы. Это — превосходная русская черта, черта нашей доброты, нашего великодушия. Мы — прекрасный народ. Я думаю, мы один из лучших, один из даровитейших народов, если не самый лучший. Управлять нами, может быть, не особенно легко, зато благодарно, возвышенно. Мы — чудесный материал для творчества, мы — живые камни, способные создаться в величавое здание, только бы нашлись у нас архитекторы-художники. Наши былины, песни, пословицы, литература, художество запечатлены оригинальным гением, и многое уже стало достоянием всего культурного человечества. Надо творчество, необходима творческая политика. Лозунг настоящего момента — к работе! Работа внутренняя не должна мешать той громадной и великой работе, которая делается на Дальнем Востоке во имя великих судеб России. Напротив, она должна ей помочь всеми силами общества, всем его напряжением. От государя до последнего его подданного — к работе для России, для нашего милого отечества! Пусть оно отстало, бедно, но оно всегда было велико духом, природным гением, оно найдет самоотверженных, талантливых, бодрых и сильных волею и любовью ко всему русскому, ко всему тому русскому, что есть и может стать общечеловеческим.
30 ноября (13 декабря), №10328
DXXXI
Победа, победа!
Это так поет Руслан в опере Глинки, когда он отрезал бороду у Черномора, а не то чтоб теперь была какая-нибудь победа. Ее очень нужно, победу. Она пролила бы свет в русские души. Она нужна для мира. Но победы нет и придет ли она? Известно, однако, что мир придет, ибо воевать бесконечно невозможно. Плохой мир лучше доброй ссоры — это правильно, когда ссора не началась, но когда она идет десять месяцев, все поднимаясь и поднимаясь, трудно желать плохого мира даже ввиду внутреннего творчества. Мне думается, для творчества надобна радость.
И самое творчество есть радость. Радость создания новой человеческой души в любви, в крепких объятиях, — это символ всякого творчества, литературного, художественного, государственного. Душа в это время растет и светится восторгом. Но радости у нас нет. Есть брожение, есть неуверенность в завтрашнем дне; а для утешения повесть о защитниках Порт-Артура — славная повесть, славная по мужеству войска, по талантам вождей и по их знаниям в военном деле. На небольшом пространстве они написали прекрасную историю русского непреклонного характера и любви к родине. Это — богатырская поэзия, воскрешающая для нас славнейшие сказания нашей истории. Что бы ни случилось далее, защита Порт-Артура явится свидетельницей того, что нет народа, которому бы русский уступил в своем мужестве, в искусстве военном, когда оно свободно распределяется и не встречает препятствий в рутине, рутинерах, бездарностях. Защитники Порт-Артура совершенно опровергают те доводы, что будто бы русский человек менее культурен, менее образован, чем японцы. Он не только умеет сражаться, не только умирать, но и жить, обнаруживать просвещенный ум и пользоваться наукою и создавать. Где тут преимущества на стороне японцев, в каком отношении — пусть скажут. Их нет, этих преимуществ. Есть крепкая, умная, способная, доблестная русская душа. И я бы напомнил снова о том, как они, эти представители России, заслужили перед отечеством и как они достойны, чтоб мы несли свои лепты на обеспечение их и их семейств.
Порт-артурская эскадра погибла. Это — гибель 200 миллионов рублей, не считая потери нравственной. Идет 2-ая эскадра. Готовится 3-я эскадра. Адмирал Бирилев приглашает к делу и просит не писать: «Теперь «повелено», а раз повелено, говорить более не о чем». «Своим писанием вы только смущаете людей, оскопляя энергию, вы убиваете уверенность в себе. Под давлением ваших статей люди носы повесили, а чтобы повесить нос, надо опустить голову, а с опущенной головой, кроме кончика своих сапог, ничего не увидишь». Нечего искать виноватых, продолжает он: «Виноваты все, и нет ни души правой». Все это очень хорошо, но из этих очень хороших слов вовсе не следует, что следует бросить писать. Между повелением и исполнением остается еще большая дистанция. Как, когда и каким образом исполнится повеление. Правда, прекрасны слова адмирала Бирилева: «Каждый потерянный день — проступок, потерянная неделя — преступление», но это еще должно быть сознано и исполнено. Общество не может успокоиться и должно знать, что именно так делается, что именно проступок — потерянный день и преступление — потерянная неделя, преступление действительное, а не для красоты только слога. На страницах «Нового Времени» много раз мы взывали к такой энергии и почти этими же словами. Когда начальник Балтийского флота говорит это, то сознание, значит, существует в крайней необходимости послать третью эскадру и как можно скорее. Мне думается, что те разоблачения, которые сделаны капитаном Кладо, были необходимы, как они ни горьки. Они осветили дело со всех сторон и должны вдохнуть энергию. Если под давлением статей люди повесили носы и опустили головы, то это не делает чести этим людям и этим головам. Не опустил же голову адмирал Бирилев, если он говорит энергическим языком, а он знал все то, что знал капитан Кладо; не опустили же голову даже те женщины, которых посетил адмирал: «ни капли слабости, ни звука жалобы, все гордятся своими мужьями, призванными на защиту родины». Опускать голову никогда не следует тому, кто считает себя человеком и достоин этого имени. Не опустили же голову порт-артурцы, а что еще можно выдумать более мучительное, более страшное. Кто опустил голову, тот уходи, кто повесил нос, тому грош цена. Крепкие люди, стойкие и талантливые должны взять в свои руки энергическое дело, и пусть посторонятся все те, у кого нос повис и голова видит только кончик сапога. Пусть устранятся те, на плечах которых лежит груз лет, или которые собственное спокойствие ставят выше всего. Они только могут мешать, а не те, которые пишут и поднимают свой мужественный голос, чтоб возвестить правду. У Корнеля Гораций говорит:
Notre malheur est grand, il est au plus haut point, Je l’envisage entier, mais je n’en fremis point[12].Замечательно, как флот приковал к себе общее внимание. Потому ли, что с него началась война, с ним были страшные катастрофы, как гибель Макарова, потому ли, что именно флот держит в напряженном состоянии дипломатию, грозя усложнениями, или общество инстинктивно чувствует, что с флотом связана победа, а уж одна эскадра погибла, а другая — где-то в океане, на пути к счастливому врагу, и это пугает. В первом заседании комитета по сбору пожертвований на флот, из пятидесяти человек, бывших на этом заседании, никто не думал, что общество раскошелится более чем на полтора миллиона. А общество дало пятнадцать миллионов. Это нечто невиданное у нас. Грядущая даль как будто что-то обещала, и русский человек жертвовал всего охотнее именно на то, что погибало. А теперь точно только и надежды, что на флот. Ведь есть армия. Сфинкс она, что ли? Молчаливый, выжидающий, загадочный. Армия и флот защищала. Порт-Артур сделался центром, потому что там был флот. Флот не хотелось выдать. Армия стоит и ждет, в виду неприятеля, который тоже стоит и ждет. Оба противника строят укрепления и тревожат друг друга. Что будет дальше?
Мы теперь на самой высшей точке своего критического положения. Возможность падения Порт-Артура, судьба 2-ой эскадры, быть может, близость новой и решительной битвы…
7(20) декабря, №10335
DXXXII
Многие не верили в нашу весну, да может и теперь не верят. Во что они верят, я не знаю. А для меня она несомненна. Никогда я не был так убежден в наступающем обновлении русской жизни, как теперь. Высочайший указ носит прекрасное заглавие: «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка». Не было на моей памяти закона, который носил бы такое заглавие и упоминал «о государственном порядке», о необходимости его «усовершенствования». В эпоху реформ 60-х годов этого не было; в первых правительственных предначертаниях к великой крестьянской реформе говорилось об «улучшении быта крепостных крестьян», приведшем к их освобождению. Теперь не улучшение, а усовершенствование Государственного порядка. Это — целая программа новой великой реформы, начатой сверху. И слава Богу, что она идет оттуда, откуда должна идти. Князь Б. А. Васильчиков в предисловии к известной записке своего отца («Новое Время», №10314) сказал, что «царствованию Николая суждено быть царствованием преобразовательным» по самому ходу нашей истории и по добрым намерениям самого государя.
«Но ведь все дело еще в том, как эта реформа будет проведена в жизнь», — говорят скептики. Конечно, от этого многое зависит, но многое и не зависит. Не зависит потому, что сама жизнь подвинулась, и это признано в высочайшем указе: все то, о чем упоминает указ, названо «назревшим», стало быть, необходимым. Что назрело, то должно быть удовлетворено и удовлетворено так, чтоб давало простор дальнейшему созреванию. Это условие, необходимое для всякой реформы и в особенности для такой широкой. За ней не должно быть стены, а открытое поле с торною дорогой. Окно в Европу, прорубленное Петром, давно стало воротами. Оттуда давно идет просвещение и наука, но есть несомненно и такое, что выработано русскою историей, жизнью русского народа и что должно быть согласовано с тем светом, который льется с Запада. Недаром же мы жили. Эволюционирует решительно все. Ничего не остается в первобытном виде, все видоизменяется и должно видоизменяться, но из этого не следует, что вырывается корень. Из хижин вырастают многоэтажные дома, со всем комфортом, на той же почве, на том же пространстве, где стояла хижина. Так и государственный порядок. Он необходимо меняется. Может быть, ему следовало бы измениться ранее да и были желания, были попытки, но и были препятствия в самих нас и тех недостатках строя, которые теперь признаны с высоты трона, как признана была негодность крепостного права. Есть такие вожделения: национальное государство должно стать государством правовым, отбросив национальные предубеждения. Я думаю, что т. н. национальные предубеждения должны остаться, потому что они нимало не мешают никаким правам, а русскому народу служат двигателем.
Я никогда не занимался государственными проектами. Это дело очень мудреное и меньше всего единоличное. Но всегда думал, что принцип управления заключается в том, чтоб поступать так, как будто весь народ, без всякого исключения — отличный, здоровый, добрый и способный. Другими словами: все то, что я готов сделать для хорошего, доброго и способного человека, все это я должен сделать для всех, потому что только при таком управлении возможно ожидать наименьшего количества отпавших, недовольных и неудовлетворенных. Есть общие идеи, общие идеалы, к которым обязательно стремиться, потому что они только дают возможность к усовершенствованию государственного порядка и к самоусовершенствованию. Если нет средств для самоусовершенствования, если для развития духа, энергии, всякой работы поставлены преграды, то и государственный порядок не может совершенствоваться. Одно с другим связано, и задача правителей заключается в том, чтоб быть наравне с веком, чтоб постоянно угадывать потребности вырастающего народа и углаживать ему дорогу к самоусовершенствованию, к тому, чтоб дух его не засыпал и крепко было тело.
Какие средства есть у Комитета министров для того, чтоб найти «наилучший способ проведения в жизнь намерений» государя? Вы заметьте — говорится о таком способе, который был бы «наилучшим», наиболее жизненным, наиболее удовлетворительным и верным. Дело идет о вопросах чрезвычайной важности. Один крестьянский вопрос чего стоит. Вопросы о свободе совести, печати, об единстве в устройстве судебной части, рабочий вопрос, строгая законность действий и ответственность всех властей, об устранении административного произвола, учреждении способов «достижения правосудия» для тех, кто страдает от этого произвола, и проч. и проч. Вчитываясь в этот высочайший указ, трудно себе представить, что им не предрешается в принципе, прямо или косвенно, из тех прав и обязанностей, которые должны составлять нравственную собственность каждого гражданина. Найти «наилучший способ» — вот задача, которая поручена Комитету министров. Может ли он обойтись своими силами? Не мне, конечно, отвечать на этот вопрос, ибо для решения его надо было бы определить всю сумму опыта, знания и способностей министров и тех членов, которые, по закону, входят в этот Комитет. Всех членов вместе с товарищами министров и лицами, их заменяющими, до пятидесяти — собрание довольно многолюдное и авторитетное по положению лиц, его составляющих, в высшей администрации. Важно то, что дело переходит в высшее учреждение, где должно явиться единство политики, единство действий. В чем должна заключаться работа Комитета министров? Ведь не в сочинении самых проектов законов, которые должны усовершенствовать государственный порядок. Это — не законодательная задача, а только приготовление к ней, выработка тех путей, по которым должна идти законодательная работа, составление проектов законов, обсуждений их и введения в жизнь. Поэтому Комитет министров может не довольствоваться своим личным составом и обращаться к помощи других знатоков дела. В это важное дело, которое поручено Комитету министров, входит историческая жизнь русского народа, все его исторические, юридические, экономические и другие отношения. Дело идет не о том, чтоб положить заплаты и зашить там, где распоролось. Дело идет о большом творчестве. Для него недостаточно того, что собрано Особым совещанием в 58 томах и затем разработано разными лицами по отделам в 23 томиках. Этот прекрасный материал только показывает настроение русской жизни. А в каких условиях будет совершаться творчество, это еще должно быть определено.
Надо принять во внимание ту огромную разницу, которая существует между тем народом и обществом, которые встречали реформы 60-х годов, и теперешним. Тогда — небольшое общество, в значительной степени однородное и чисто русское, без всякой примеси инородческих элементов. Провинция не знала ни административных ссыльных, ни прокламаций, ни революционеров, ни массы фабричных рабочих. Не было и той тучи, которая теперь стоит над Россией в виде войны. Тогда война была кончена, и мы стали дышать широкой грудью. Все стремления сосредотачивались около освобождения крестьян, и затем шли чисто идеалистические мечтания, довольно наивные и безвредные. Однородный состав общества в значительной степени облегчал задачи реформ и делал самое настроение, самый подъем духа более общим, более светлым, более заразительным и даже более понятным всем и каждому. Теперь однородности этой совсем нет, общество разношерстное и гораздо больше, и желания его гораздо разнообразнее и точнее. Недаром сам высочайший указ обращается за сочувствием к «благомыслящей части подданных». Таким образом утверждается, что есть и такая часть русских подданных, которых не может удовлетворить возвещенная реформа, что, конечно, вполне отвечает действительности. Но поступательное движение имеет за себя то преимущество, что оно постоянно заинтересовывает собою и берет себе больший и больший круг людей, возбуждает в них надежды на лучшее будущее. Оно завоевывает, как искусный и талантливый вождь, который умеет одержать победу, умеет пощадить побежденных и заключить, как говорится, почетный мир для обеих сторон. Если считать даже одно т. н. общество, то на стороне благомыслия — огромное большинство, а если брать весь народ, то это большинство подавляющее. И для него-то и необходимо, чтоб реформа была проведена не бюрократическим путем; как бы ни были талантливы и сведущи представители бюрократии, а этого отрицать у нее невозможно, они одни не могут справиться с этой реформой и не могут взять на себя за нее и за ее последствия ответственность.
Комитету министров придется работать серьезно, ему предстоит внушить веру в самые начала и средства своей работы, в их полноту и жизненность, которая бы отвечала народившимся потребностям благомыслящего населения. Самое это благомыслящее население, нуждающееся в усовершенствованном государственном порядке, нуждается вместе с тем неразрывно и в просвещенных способах борьбы с элементами, трудно или вовсе непримиримыми, против которых в настоящее время у него почти нет надлежащего оружия.
Мы начинаем новый век, век возрождения. Я в это верю всеми силами своей души и убежден, что не ошибаюсь. Конечно, дорога не может предстоять ровная, без ухабов, без распутицы, но этим смущаться нечего, ибо эта дорога несомненно ведет в Рим.
15(28) декабря, №10343
DXXXIII
О падении Порт-Артура, конечно, говорить нечего. Такие события чувствуются, а разговоры о них только раздражают, как разговоры о всяком тяжелом несчастий. Наши телеграфные агентства другого мнения. Они валили целые столбцы телеграмм, заключающих в себе мнения разных газет и разных лиц о падении Порт-Артура. Ни во Франции, ни в Англии, ни в Германии, ни одно телеграфное агентство не стало бы передавать подобные мнения о каком-нибудь несчастий своей родины. Но у нас, вероятно, необходимо знать самым скорейшим образом, что думают английские, французские, немецкие, итальянские и тому подобные газеты. Все эти газеты, однако, говорят одно и то же на разные лады: «Защита Порт-Артура была блистательная. Генерал Стессель отныне громкое историческое имя». И за этим такой припев: «Россия потеряла свое значение не только на Востоке и в Китайской империи, но и в Европе».
«Россия потеряла свое значение не только на Востоке, но и в Европе». Этот припев слышится во всех похвалах защитникам Порт-Артура. Они являлись как бы последней опорой той судьбы, которая целые одиннадцать месяцев преследует Россию в ее флоте и армии. Он пал, и пала Россия. Ей ничего не осталось, кроме мира, «конечно, невыгодного, но не позорного». Когда Россия примет этот «невыгодный мир», то он будет назван позорным теми самыми газетами, которые теперь называют его только «невыгодным». И этот «позорный» мир разнесется по целому миру и гибельно отразится прежде всего на престиже России в ее азиатских владениях.
Иностранные газеты говорят, что в России «все желают мира». Желает ли Россия мира, я этого не знаю. Мне мало говорят в этом отношении надписи на демонстративных значках «долой войну», пожелания некоторых земств, общественных кружков, газет и проч. Все это отдельные голоса, имеющие значение, как отдельные голоса, а не как голос всей страны, всей России. Как ни печальны следствия войны, как ни были ошибочны условия и расчеты прошлого, но война была принята Россией, и она доказала свое сознательное и зрелое участие в ней такими пожертвованиями, о которых в прошлые войны не имели понятия. Пожертвования и деньгами, и вещами, и личными услугами лились из столиц и больших центров, из уездных городов и посадов, из сел и деревень — не осталось ни одной деревушки, которая не откликнулась бы на войну. Русский народ, во всей своей совокупности, доказал, что он любит свою родину, ее прошлое, ее честь и честь своей армии, как в прошлом, так и в настоящем.
Возможно, что общество не отдавало себе ясного отчета в интересах Дальнего Востока, в Великом Сибирском пути, в необходимости для России Порт-Артура или Маньчжурии. Возможно, что эти имена ему мало что говорили и обещали. Но общество понимало своим инстинктом, своей народной честью, что дело настало важное и что отступать тут невозможно и некуда. Отечество есть не что иное, как история отечества, а патриотизм есть гордость этой истории. История, конечно, не в одних войнах. Она есть рост целого народа, это история его мужества, его труда, его борьбы с природой, с насилием, с обстоятельствами; это история завоевания той почвы, на которой он оселся, которую полюбил, обработал, засеял, воздвиг на ней города, храмы, школы, университеты, академии, мастерские, фабрики, заводы, на которой создал свою литературу и свое искусство, но все это под защитою своей армии, своих воинов, благодаря победам. Ни в чем так не сознает своего единства нация, как в своей армии. Армия в своих руках держит международную честь нации. Поражение армии есть поражение нации, и армия это сознает или должна сознавать. Как бы ни было велико и свято мужество порт-артурцев, как бы искренно и благодарно мы ни славили доблести этих истинных воинов, но и в их сердце, как и в нашем, таится глубокая тоска, глубокая национальная обида. Нельзя читать без чувства горести эти условия сдачи Порт-Артура. Они ножом режут по русскому сердцу. Как бы ни были запечатлены блистательными подвигами отступления армии Куропаткина, это — все-таки отступления, и от них нельзя не страдать, над ними нельзя не плакать, нельзя утешаться ежедневными телеграммами о военных пустяках, об одном пленном японце и о трех взорванных фанзах, когда отечество ждет важного и великого. Армия и народ — это одно целое. Поражение армии — это поражение народа. Без глубокого чувства нельзя слушать известный романс о двух французских гренадерах, возвращающихся из России во Францию. Слова этого романса принадлежат Гейне, поэту еврейского племени, которое меньше всего, по-видимому, помышляет об отечестве. Но святое вдохновение дало ему общечеловеческое, прекрасное чувство любви к родине, к военной славе, которая есть и слава отечества. Что ж будет с нами, когда наша армия, без единой победы, будет возвращаться на родину из этой Маньчжурии, будет возвращаться, как побежденная, израненная, истомленная, искалеченная? Что будет в ее душе, что она принесет в свои города и села, верившие, что враг будет побежден, что она принесет своим родным, своим детям, какие воспоминания? Не верьте тем, которые лицемерно говорят вам в печати и в обществе, что это — поражение бюрократизма, другими словами — правительства, точно оно не плоть от плоти нашей, не кость от наших костей. А эта дорога, этот великий путь к Великому океану — что с нею станется? Для чего и для кого строили? Зачем горы золота зарыты там? Разве Россия — бессмысленная орда, которая идет куда-то, сама не зная зачем; разве общество — бессмысленное стадо овец, которое тащится по подножному корму, и разве наши государственные люди, так же ничего не зная и не понимая, занимались строительством и тешились авантюрой, как спортом для собственного оздоровления и удовольствия? Ведь если все это нам ничего, если все эти потери, этот возможный ужас унижения, нам ровно ничего не значат и мы можем толковать сейчас же о мире, то, пожалуй, мы и сами мало значим и не знаем, что делать. Надо всем напрячь свои силы и прежде всего правительству. Соединение дает силу, а рознь ведет к революции, к вражде сословий, к бунтам, к распадению отечества. Я произношу страшные слова, но они толкаются в мою голову, в мое настроение.
Я не возьму на себя права говорить от русского народа, как делают это теперь многие. Пусть сам народ скажет, хочет он продолжать войну или нет? Вырос он или нет для сознания отечества, его чести, его славы и счастия? Вырос ли он для того, чтобы понять наши задачи на Дальнем Востоке, этот Великий Сибирский путь, эту нужду в открытом океане, эту роковую борьбу двух племен, белого и желтого, эту борьбу христианства с его отрицателями, христианской цивилизации и азиатской?
Или мы великий народ, или нет? Или мы можем дерзать, продолжая свою историю, или мы должны уйти в скорлупу Московского государства, побежденные и униженные? Но как же получить ответ на эти вопросы? У правительства для этого есть все средства, старые и новые. Государи с времен Ивана IV советовались с Русской землей и никогда в этом не раскаивались. Она несла перед лицо государя свою совесть, свою искренность, свой разум. Но прежде всего, что думает само правительство? Думает ли оно продолжать войну? Это не мой вопрос — я только орган того множества, которое взирает на государя, которое предано ему и Родине и не отделяет себя ни от него, ни от Отечества. Надо решить, надо все сообразить и расчесть не только до вероятности, но до убеждения. Надо посмотреть стойко и безбоязненно прямо в глаза тому, что идет на нас, что ждет нас в ближайшем будущем и сказать это открыто всему народу. Мир так мир, война так война.
Эти страшные часы выжидания и томления, этот жданный и вместе нежданный удар, поразивший нас перед Рождеством, удар гораздо более жестокий, чем другой удар на Пасху, когда погиб «Петропавловск», оставляет нас растерянными. Что будет? Что будет с эскадрой Рожественского, возвратится ли она или будет ждать третьей эскадры? Какова сила армии Куропаткина? Неужели в самом деле, если флот наш бессилен — бессилен ли он? — если пал Порт-Артур, неужели все кончено? Неужели надо склонить голову и сказать: «да, правда, Россия потеряла свое значение не только на Дальнем Востоке и в Европе, но даже на своих собственных окраинах, она разбила свой символ мощи и стоит обессиленная и изнеможденная?» Да правда ли это? Кто это смеет думать и говорить? Кто измерил ее материальные и духовные силы? Кто утверждает, что нет дарований, что есть только утомленная старость и бездарность, да позднее, трусливое резонерство, спешащее уверить себя и всех, что все уже погибло и что нет более спасения?
Все это страшно спрашивать, но я стою у двери и стучу…
Нам нужна уверенность в завтрашнем дне, нам нужны мужественные слова правды, нам нужен бодрый, творящий голос, который слышали бы все. Еще недавно нам говорили люди вполне компетентные, что финансовое положение России таково, что она может спокойно вынести еще такую же войну, говорили не пустыми хвастливыми словами, а непреложными фактами. Каковы наши воины, — Порт-Артур нам всемирный свидетель. Но японцы двинут свою осадную армию против Куропаткина и сила их будет решающая. Так ли это? Предсказывать никто не возьмется. У нашего врага одушевление победы, подъем мужества и решимости. Неужели у нас все истощилось и Порт-Артур — это та гора, которая обрушилась и раздавила нас? Но даже европейцы говорят, что о России нельзя судить так, как о других державах, — она непохожа на них и остается загадкой…
Кто же эту загадку разгадает?
Порт-Артур сдался лишь тогда, когда все силы его были истощены, когда все заряды был расстреляны. Не так ли должна поступить и Россия в этот торжественный, роковой час? Я только спрашиваю, спрашиваю, как ничтожная былинка в великом Русском царстве.
24 декабря 1904 (6 января 1905), №10352
1905
DXXXIV
В Москве открылась еженедельная трибуна «Русское Дело». На ней стоит известный публицист г. Шарапов, бывший противник С. Ю. Витте, как министра финансов. В финансовые «комбинации» г. Шарапова я никогда не верил, а теперь не верю и в его политические «комбинации». Вернувшись из Петербурга напуганным и возмущенным «мятежом», он написал несколько горячих строк против Петербурга и возложил надежды на Москву, которая, по его выражению, «хранит и бережет Русское государство». В исторически сложившуюся способность Москвы хранить и беречь, если не русское государство, то первопрестольную столицу, можно верить тем охотнее, что Москва торговый город, город именитого и богатого купечества, которое доказало, что оно не только умеет накоплять богатства, но и развило в себе способность управлять широкими делами. Однако г. Шарапов совершенно забыл историю Москвы, ибо напечатал следующие строки:
«Спасет ли нас не только парламентаризм, но даже и Земский собор, о котором говорит в последнем «Маленьком письме» А. С. Суворин? Не будет ли этот Земский собор тем же, чем стала наша нынешняя печать… Нет, избави же нас, наконец, Господи, от лжи, в какую бы форму она ни облекалась и какие бы громкие имена себе ни присваивала. Нынешняя Россия еще долго не может дать Земского собора. Дай Бог, чтобы она дала теперь несколько на что-нибудь похожих земских областных собраний».
Думаю, что эти строки, полные скороспелого отчаяния, соединенного с самоуверенностью непогрешимости своих выводов, продиктованы последователю славянофилов, каким считает себя г. Шарапов, крайней растерянностью и легкомыслием. Можно с клятвою утверждать, что ничего подобного, ни при каких политических обстоятельствах, не сказал бы И. С. Аксаков, поклонник самодержавия, укрепляемого представительством Земского собора. На страницах истории Москвы написаны деяния Земских соборов, которых было в течение 150 лет 32. Эти соборы давали дельные советы московским царям; Смутное время, можно сказать, полно было ими, хотя они не записаны и происходили по разным городам; в безгосударственное время ими же держалась русская земля; Земский собор, самый полный из всех, ибо в нем участвовали и «уездные люди», т. е. крестьяне, избрал на царство Михаила Феодоровича Романова, и он же содействовал юному и неопытному царю в разоренном, обедневшем и расшатанном государстве устроить порядок и освободить Россию от внешних врагов и внутренних. Первый император покончил с ними. Первый император старался вдвинуть Россию в Европу. Его гению все было возможно. Он мог повторить слова Гёте: «невозможное возможно только человеку». Он сделал так много, что Россия и теперь еще живет положенными им началами. Но он же и создал у нас бюрократию по европейскому образцу. Он же внушил и уверенность бюрократии, что она все может, что она всесильна, что своим трудом и властью она может продолжать созидание и утверждение государства, не обращаясь к содействию представителей народа. Его гениальная способность к творчеству, его несокрушимая энергия увлекала бюрократию на самостоятельный путь одиночного строительства. Сильная его духом, она поверила в свои силы и ревниво стала оберегать свою власть. Но Екатерина Вторая снова прибегла к Земскому собору, ибо созванная ею законодательная комиссия была нечто иное, как Земский собор. Земские соборы не повторяли друг друга своим составом и задачами, а сообразовались с современными нуждами, с взаимными отношениями сословий. Мы имеем свидетельство Сперанского об этой комиссии, от 1809 г., как увидим, совершенно лживое в своих выводах. Он говорит:
«Созваны депутаты от всех состояний и созваны в самых строгих формах народного законодательного представления, дан «Наказ», в коем содержалось сокращение лучших политических истин того времяни, употреблены были великие пожертвования и издержки, дабы облечь сословие сие всеми видами свободы и величия, словом все было устроено, чтобы дать ему, и в лице его России, бытие политическое — но все сие столь было тщетно, столь незрело и столь преждевремянно, что одно величие предприятий и блеск деяний последующих едва могли только сохранить сие установление от всеобщего почти осуждения. Не только толпа сих законодателей не понимала ни цели, ни меры своего предназначения, но едва ли было между ними одно лицо, один разум, который бы мог стать на высоте сего звания и обозреть все его пространство.
Таким образом громада сия, усилием одного духа, без содействия времяни составленная, от собственной своей тяжести пала, оставив по себе одну долголетнюю и горестную укоризну всем подобным сему предприятиям».
И однако этот вывод сей просвещенный бюрократ сделал 50 лет спустя после Екатерининской комиссии в таком акте, в котором проектировалась конституция, где говорилось, что «образ мыслей настоящего времяни в совершенной противоположности с образом правления», что «дух народный страждет в беспокойствии» и что это «беспокойствие» можно объяснить себе только «совершенным изменением мыслей, глухим, но сильным желанием другого вещей порядка». По изданным материалам Екатерининской комиссии мы знаем теперь, что депутаты принесли верную картину тогдашнего состояния России, что они положили основания новому порядку вещей на началах децентрализации, что тогда же созданы были губернские городские и дворянские учреждения, существовавшие целое столетие и отчасти существующие теперь. Выборное начало положено в них было довольно широкое, хотя извратилось временем злоупотреблениями и господством крепостного права. Если бы депутаты были никуда негодны, если б екатерининский Земский собор «оставил по себе горестную укоризну всем подобным предприятиям», то каким образом в течение 50 лет, прошедших со времени этого собора, все так изменилось, что потребовался новый порядок вещей и «политическая свобода» среди мрака и бесправия крепостного состояния? Сам Сперанский, впрочем, оговаривается, что со времени Ивана Грозного «напряжение общественного разума к свободе политической всегда более или менее было приметно», разумея, конечно, Земские соборы, право петиций (челобитные) и проч.
Что император Александр III сочувствовал идеалу самодержавия, стоящего в тесном единении с представителями народа, доказывается тем, что именно ему, когда он был наследником престола, принадлежит незабвенная заслуга обнародования работ Екатерининской комиссии, которые держались целые сто лет в секрете, под замком. Что с его стороны это было не любопытством только к важному историческому документу, ясно из того, что он готовился собрать Земский собор. Он стремился обновить самодержавие, спрыснуть его живой водой единения с подданными, которому мешало «средостение», как называли тогда бюрократию. Проект вырабатывался в министерстве внутренних дел нарочито приглашенным туда Голохвастовым, который занимался русской историей, но не принимал участия в проведении проекта. Было несколько заседаний министров, обсуждавших этот проект. Но оказалось, что само министерство внутренних дел так плохо знало историю этого учреждения, его личный состав, его права и обязанности, что не могло защищать своего проекта с тем авторитетом, который требовался для такого серьезного дела. Министерство, например, стало утверждать, что соборы состояли из каких-то «именитых людей», чего на самом деле никогда не было и самое слово «именитый» был титул, данный Строгановым за их заслуги и потом вошедший в употребление для обозначения богатого купечества и потомственного почетного гражданства. Проект остался мертворожденным. Когда И. С. Аксакову я выражал свои сожаления на этот счет, он сказал мне: «Скажите слава Богу. Государь видит, что его правительство не знает сущности того, что предлагает, что он не хочет комедии, в которую мог бы обратиться такой Земский собор. Если б он собран был в предположенном виде, то самое это имя исчезло бы и прервана была бы связь с прошлым. Государь сохранил нам это учреждение для будущего».
Я писал уже недавно, что в апреле 1902 г. я говорил о Земском соборе В. К. Плеве, но он находил его несвоевременным. Я всегда оставался неизменным поклонником этого родного учреждения и остаюсь им и ныне. Я убежден, что новый порядок не должен прерывать своей связи с историей, я знаю, что французские историки указывают на то, что Франция в 1789 г. сделала непоправимую ошибку, созвав свое национальное учреждение, Генеральные штаты, не созывавшиеся уже 175 лет, обратилась вслед за тем, вследствие хитрого маневра слишком многочисленного третьего сословия, к образованию Национального собрания, потом Учредительного и к английской конституции и тем порвала совсем с своим прошлым. Конституции следовали за конституциями (целых девять с 1791 по 1875 г.) и заставили государство пережить чрезвычайно тревожный и неустойчивый век. Английская конституция — родное учреждение. Она не существует в виде «хартии» или особого основного закона, организующего власти и основания публичного права. Она образовалась постепенно и вошла в нравы страны. Правда, Кромвель собирался написать ее, но она так и осталась неписаной и остается самой прочной в Европе. Конечно, существуют знаменательные акты, по которым можно проследить постепенное развитие конституции. Но ни один из них не выдавался правительством, как нечто новое. Напротив, постоянно повторялось с настойчивостью, почти курьезною, что ничего нового не давалось, а это все старые права, которыми английский народ постоянно пользовался.
Я желал бы, чтобы и мы делали так. Дело не в канцелярских бумагах, не в параграфах, которые легко изменяются, а в сущности жизни, в ее свободе. Нам надо то, чем пользовались наши предки. Самое 19 февраля было совсем не ново. Оно было возвращением к старым формам, которые должны были раздвинуться, чтобы обнять новую жизнь, новые русские души. Рядом с сильной властью, непременно сильной, которая не дала бы себя обмануть или провести, могут существовать такие учреждения, как Земский собор, как опора этой самой власти и ее свободный союзник, критик и работник для развития родины.
Обвиняют в смуте печать, обвиняют ее в измельчании, в пошлости, в подстрекательстве. Но на что же может опереться печать, когда она не имеет под собой твердой почвы? Она может быть правдива только тогда, когда она представляет общественное мнение рядом с представительством, которое может руководить ею и направлять ее. Почему она выражает голос страны, когда сама страна его не выражает? Почему она имеет это преимущество перед страною, которая представителей печати не выбирала. А эти неизбранные представители печати обсуждают важнейшие вопросы. Почему бюрократия может выделять из себя способных и талантливых людей для управления, а общество не может, ибо оно в этом направлении не воспитывается? Я вовсе не принадлежу к ненавистникам бюрократии, я знаю, что бюрократия сделала много полезного и прочного, что без нее обойтись никак невозможно, но я думаю, что она не в силах более справиться с тем громадным организмом, в который обратилась наша империя. Всякой силе, всякой способности положен предел, и этот предел настал уже явно для всех с началом великой реформы 19 февраля. Бюрократия была так завалена громадностью работы, что не могла ее выполнить. Самые реформы останавливались от этого бессилия «обнять необъятное». Вращаясь в своем заколдованном круге, она не может обновиться и не обновится, пока не явится обновление в том призыве народных сил, о котором я говорю. Отрицающий Земский собор журналист говорит, как власть имеющий, говорит приказательным тоном, как говорил он о финансах, к которым потом, однако, прибег. Приказательного тона довольно. Он нужен для служебной дисциплины, но он ровно ничего не дает для блага родины, в тех сложных и тяжелых условиях, которые мы переживаем. Я обратился к истории, я имею за собой массу русских людей, которые думают так же, как я, у которых, может быть, еще больше, чем у меня, веры в историческую преемственность родных учреждений. Земский собор не значит собор из земских собраний, из председателей земских управ и гласных. Земство имеет в себе до 70 процентов дворянства и не может, не имеет права считать себя выразительницей империи.
У нас есть сословия: дворянство, духовенство, купечество (в широком практическом составе), крестьянство. Хоть по сту человек от каждого сословия, но все они должны быть представлены в той или другой пропорции. Это дело разработки серьезной и внимательной, в которой должны принять участие люди науки. Я этими немногими строками отвечаю тем, которые почему-то связывают Земский собор с тем, законом установленным, земством, которое и существует только в 34 губерниях.
Надоедает критика, одна критика существующего порядка, переходящая к явлениям революционного порядка; дикие отбросы толпы городской, не имеющие ничего общего с рабочим классом, готовые принять участие во всяком беспорядке и довести его до ужасов бессмысленного бунта, — мы их теперь видели. Этого не могут хотеть добрые граждане, все те, кто работает и хочет работать. В души многих закрадывается страх за будущее, и началось то шатание, которое может обратиться в смуту. Хотят порядка, непременно порядка, чтоб можно было свободно и спокойно работать. Хотят школы государственного управления, чтобы люди из общества могли проходить ее и работать на пользу страны вместе с правительством. Хотят, чтоб не было лукавых рабов, не было тех «перелетов» Смутного времени, которые перебегали из Москвы в Тушино и из Тушина в Москву, где выгоднее. Хотят, чтоб к царскому престолу доходил голос страны в своем искреннем, правдивом выражении. Хотят, чтобы пред государем стояла вся страна, покорная его державной власти и готовая стоять на страже внутреннего законного порядка и упрочивать его до полной гармонии с характером русского народа и до красоты великолепного русского богатыря, сильного благородной и честной любовью к царю и родине, сильного разумом и свободою духа.
16(29) января, №10368
DXXXV
Революция кончилась или нет? И была ли это революция? Мне она очень сомнительна. Если революция, то разве рассчитанная на всероссийскую забастовку, рабочую и интеллигентную? В фантазии могла представляться грандиозная картина такой революции. Все прекращает деятельность, чем живет государство. Фабрики, заводы, мастерские, водопроводы, электричество, газ, профессора, чиновники, армия, земство. Все остановить, и когда все бы остановилось, тогда явились бы спасители. Если они были, то они обнаружили общий наш порок опаздывать и ничего во время не делать. И такая революция, во всяком случае, фантазия и бессмысленный бунт, чреватый бесчисленными бедствиями.
До утра 9 января меня прямо поражала необыкновенная простота этой революции. Какие-то группы людей являлись в магазины, в типографии, мастерские и проч. и то грубо, то вежливо, иногда с добродушной улыбкой приказывали бросать работу. Были случаи даже просто шутки и баловства. И все те, к кому обращались эти люди, очень послушно оставляли работу и уходили. Никакого беспорядка не было. Полиция иногда следовала за этими распорядителями забастовки, в виде почетного караула, иногда совсем отсутствовала или скрывалась в какие-нибудь ворота поблизости. Никакого «беспорядка» не было, никто не дрался, никто не волочил друг друга за волосы, и, видя этот образцовый порядок, полиция, очевидно, составляла в уме своем протокол, чтобы потом перенести его на бумагу. Эта простота, приводившая сначала в недоумение, потом ужасала осуществлением известной пословицы, что кто палку взял, тот и капрал. Какое-то эхо доносилось с Путиловского завода, невнятное, странное, не то грозное, не то миролюбивое, уповавшее на справедливость; по стенам домов полиция приклеила небольшие листки, в которых чрезвычайно кратко жители столицы извещались о том, что возможны решительные меры против стачников и чтоб публика береглась. Особого беспокойства в публике это не возбуждало. Она совершенно не знала о том, что происходит. Газеты печатали краткие отчеты, под цензурою градоначальника, о спорах администрации Путиловского завода с рабочими, представителем которых являлся о. Георгий Гапон — Гапон, как называли его рабочие, следуя малороссийскому выговору. Вопросы были чисто экономического свойства. Само правительство думало так и только 8 января узнало, что кроме тех экономических пунктов о 8-часовом дне, увеличении платы, расценки работ и проч., обсуждалась политическая программа, очень широкая, вплоть до отделения церкви от государства. Отец Гапон являлся предводителем политической манифестации и каких-то неведомых планов. Он, очевидно, мечтал и фантазировал о чем-то необычайном. Огромное большинство рабочих верило своему предводителю, который умел возбудить к себе доверие в этой массе рабочего населения, а политическая сторона агитации и ее смысл оставались рабочим неизвестными или сомнительными. Надо знать психологию толпы, чтоб винить ее меньше всего. Есть тысячи примеров того, что люди совершенно спокойные, не мечтавшие ни о каком перевороте, в толпе мгновенно, неожиданно для самих себя, меняли свои убеждения и шли за всеми, совершенно теряя свою индивидуальность, свой разум и свою волю. Толпа способна к энтузиазму и героизму, но еще больше способна к варварству, к злому, к буйству. Исследователи толпы говорят, что la foule est prédisposée, par une loi fatale d’arithmétique psychologique, plus au mal qu’au bien. Добрые качества отдельных личностей в толпе не соединяются, а исчезают. Соединяются качества ординарные, принижающие ум, чувство, развитие. К воздержанию толпа очень мало способна. А мыслить, значит воздерживаться от того, чтоб говорить и действовать, или, как говорит Сеченов: мысль есть рефлекс, приведенный к своим двум третям. Наше общество очень мало знакомо с психологией толпы, а в Европе есть прекрасные сочинения Тарда, Лебона, Сигеля и проч.[13]). Мы, однако, знаем пугачевщину и недавние холерные бунты.
Петербургскую толпу я не видел, но я знаю, что в Петербурге до 150 тысяч рабочих, значит с женами и детьми до полумиллиона. Это надо иметь в виду, а мы, кажется, склонны ничего не замечать. Я видел, что мы все, стоящие вне этой толпы, начиная с министров, являлись бессильными единицами, ничем между собою не связанными и ничем не проявившими того, что называется солидарностью, чувствами общей опасности и государственного долга. Даже дума собралась только в среду вечером. Кому повиновались все эти забастовщики? Не было никакого имени, никакого лозунга, никакого учреждения, законного или незаконного. Произносилось только одно слово «забастовка», да еще в виде вопроса: неужели это революция, государственный переворот со всеми его ужасами? Это была не революция, но мог бы быть страшный разгром, благодаря нашему сонному спокойствию.
При таких обстоятельствах произошло печальное, сто раз печальное событие 9 января. Сколько мне известно, министры не собирались, не обсуждали положения в связи с рабочим вопросом. То, что я говорил своим читателям о необходимости объединенного правительства, единой политики после смерти В. К. Плеве, то прежде всего и теперь следует сказать. Тогда и консерваторы («Московские Ведомости» и «Гражданин») и либералы («Вестник Европы») одинаково отрицательно отнеслись к моим мыслям, руководясь, конечно, не одинаковыми мотивами. Либералы с привычной им вежливостью указывали, что кабинет может существовать только при парламентаризме, а консерваторы «Московских Ведомостей» с запальчивостью видели тут какую-то интригу и указывали на Совет министров, который существует в законах наших, но редко на практике. Дело, конечно, не в названии, а в существе дела. О наших министерствах нет двух мнений: все давно говорят, что каждое из них идет своей дорогой и каждое отстаивает свою самостоятельность. А жизнь двигает вопросы и события совсем не по тем или другим министерствам, а по всем вместе, общие вопросы, в которых более или менее заинтересованы все классы населения. Забастовка работ касается не одного министерства финансов и министерства внутренних дел, а есть важный, общий государственный вопрос. Если б в его разрешении принял участие весь Комитет министров, куда входят и не министры, то, может быть, он не дошел бы до такого кризиса. Образование вовсе не вопрос министерства народного просвещения, а общий государственный вопрос, и министр народного просвещения есть только главный приказчик этой отрасли жизни молодого поколения и, значит, будущей, наступающей жизни государства, а вовсе не хозяин. Тут мы опять сталкиваемся с вопросом о представительстве и о том противоречии, на которое я указал прошлый раз. Если печати предоставлена известная доля свободы обсуждать государственные вопросы, хотя печать является самозванцем, по выражению графа Валуева, предок которого убил первого Самозванца, то избранным русским людям и подавно можно предоставить это право. Высочайший указ 12 декабря, поставивший на очередь важные вопросы, которыми теперь Комитет министров занимается с большим вниманием и энергией, указал и на то, чтоб поставить печать в более независимое положение. Я сказал уже в прошлый раз и повторяю теперь, что печать может быть правдивою только при представительстве. Что печать воспитывает и направляет общество — это несомненно, но необходимо, чтобы и общество воспитывало печать. А политически невоспитанное общество мало чего стоит и воспитывать никого не может. Это довольно беспастушное стадо, разъединенное и разбросанное, повторяющее то, что говорит печать. Печать соединяется в объединенные кружки и диктует обществу свои воззрения, а обществу своего мнения негде высказать. Как это сделать? Я назвал Земский собор. Согласны вы с этим или нет, но это нечто весьма определенное, хотя и старое. Оно не только сохраняет самодержавие, но укрепляет его. Меня удивляло всегда, что люди исторической нашей науки оставались чужды государственным проектам. Ученики прекрасного русского историка Ключевского, может быть, заседают где-нибудь в департаменте и составляют для нас законы, а у его учителя никто ничего не спросит. «Кабинетный ученый», говорят. Но почему кабинетные ученые, впрочем не у нас одних, а даже в парламентских странах, оставляются за флагом? Их не знает толпа выборщиков. Вот весь резон. Но разве нельзя было бы какому-нибудь государственному высшему учреждению, Государственному совету, Сенату, Комитету министров, Земскому собору, если б он осуществился, предоставить право выбирать в известной пропорции в свою среду достойных ученых людей, по разным отраслям знания, почтенных кабинетных или практических просветителей, как избираются академиями академики из ученых, литераторов, художников. В огромном большинстве случаев академии избирают таких людей, которые стоят этого избрания и которые указаны общественным мнением. И государственное высшее учреждение могло бы избирать лучших людей в свою среду с тем большим вниманием, чем выше оно ставит свой авторитет. Это было бы новшеством, но почему мы ничего своего не хотим попробовать и почему мы спрашиваем самих себя: можно ли это? и затем начинаем рассуждать, почему этого нельзя, и на этом засыпаем.
У нас только дворянство имело право ходатайства у престола. О чем оно ходатайствовало в течение 50 лет, прошедших со времени 19 февраля? Не только общих нужд оно не определяло, но не определяло толково и своих собственных, которые бы могли быть в известных отношениях и общими. Оно говорило о своих материальных нуждах гораздо более, чем об общественных. О бюрократизме оно почти не заикалось. Если некоторые [представители] дворянства выражали политические убеждения, то обыкновенно в таких туманных словах, что им можно было давать любое объяснение или не давать никакого и класть под сукно. Правительство могло думать, что у дворянства никакого мнения нет, нет никакой программы постепенных реформ, которые шаг за шагом могли бы вести Россию к улучшению и укреплению государственного порядка. Когда революционная пропаганда делала свое дело в широких размерах и перестраивала в своих книгах, газетах и прокламациях весь наш быт, дворянство ничего определенного не говорило. Была боязнь дела, была болтовня, была лень, было барство, не умевшее ни работать, ни мыслить. Земство, искусственно образовавшееся в совещание, составило пункты своей программы, на манер déclarations des droits; в этих пунктах упомянуты всевозможные свободы, как оглавление в книге, но самой книги и не было, и осталось неизвестным, каким образом следует ее написать и кто ее писать будет. Быть может, самая книга написана уже в жизни и дело оставалось только за оглавлением, но вернее, что только оглавление хорошо известно да и то из иностранных источников, а книга еще летает где-то на журавлиных крыльях и мало кто знает, как должна быть написана эта книга и каким образом согласована с содержанием русской жизни.
Изо всего этого несомненно следует, что необходимо управлять хорошо и искать новых путей для хорошего управления. Пути эти не столько в людях, сколько в самой системе.
19 января (1 февраля), №10371
DXXXVI
Я совсем не шутил, как упрекнула меня одна газета, когда спросил: кончилась ли революция или нет, и когда сказал, что она для меня весьма сомнительна. Революция в государстве, где сто миллионов одноплеменного народа, понятия не имеющего о том, что такое революция, надеющегося только на государя и верящего только в него, — очень большой вопрос. Даже г. Струве говорит, что «революционного народа в России еще нет» («Освобождение», 7 января). Зато такой всезнающий человек, как Жорес, говорит, что русский народ более готов к революции, чем французский в 1789 г. Откуда это он узнал? Из каких источников, из каких наблюдений? Недавно, именно в прошлом декабре, в распространенной венской газете («Neue Freie Presse»), бывший профессор томского университета Рейснер говорил сотруднику этой газеты, что русскую революцию устроит не третье сословие, как во Франции, а первое, т. е. достаточные и образованные люди. Это сословие заключает в себе все, что обладает образованием и состоянием, и он перечисляет деятелей этих в следующем порядке: «врачи, присяжные поверенные, писатели, художники, купцы и землевладельцы, образованные чиновники и офицеры». Он объяснил далее, что у нас нет вражды между бюргерством и дворянством, так как у нас всякий может сделаться дворянином и получить все отличия на службе государственной. «Князья становятся во главе оппозиции». Меня удивили в этом перечне «врачи», которые поставлены впереди всех, точно они совсем не имеют практики, а потому желают революции в надежде, что она даст им практику. Если князья становятся в оппозиции, то из этого еще не следует, что они становятся во главе революции. В приведенном мною перечне есть, конечно, люди и крайних убеждений, но большинство несомненно дальше либерализма не идет и очень хорошо понимает, что революция красива только издали, даже очень издали, только в романах да исторических сочинениях, не особенно заботящихся, или вовсе не заботящихся об истине. А в России революция — это значит пугачевщина и общий погром, который прежде всего покажет свою силу над интеллигенцией и имущественными классами. Если стачки считать революционными взрывами, то они наделали уже множество бед и причинили огромный ущерб народной экономии, который придется пополнять своим горбом тому же самому народу и тем же самым рабочим. О потерях рабочих можно судить потому, что в Риге и ее округе, например, они теряют ежедневно до 50 000 руб., а в Петербурге они теряли, вероятно, по 100 000 руб. Если счесть потери фабрикантов, то в какую огромную сумму обойдется это движение!
Забастовкам придается политический характер. Несомненно, что революционный элемент в них действует со всею энергией, как давно несомненно, что существует революционная, хорошо организованная партия, которая за границей имеет свои газеты и снабжает ими и прокламациями Россию и в своих изданиях дает постоянно отчет о своих действиях. Большинство рабочих действует в экономических интересах и во многих случаях вычеркивает из предъявляемых рабочим программ политические требования, а в других случаях поддается обману и журавлям в небе, которые непременно перед и во время всякой революции летают, а когда она совершена, то журавлей и след простыл. Их поймали и съели руководители, а народу остались обещания…
У нас большинство постоянно подчиняется меньшинству во всех забастовках, как интеллигентных, так и рабочих, вследствие полной нашей общественной дезорганизации. Плод бюрократического режима. Если благоразумная часть общества не вступится всеми силами разума и патриотизма в то брожение, которое охватило так много мест, под видом забастовки, то на русском обществе можно поставить крест, как на неспособном, ленивом, умеющем только говорить красивые слова или, как улитка, замыкаться в свою раковину.
Несколько врачей, которых я видел в последние дни, после 9–10 января, мне говорили по поводу забастовки интеллигенции: «За кого эти господа считают нас, врачей? За апостолов или за зверей? В то время, как они забастовали не учиться, не преподавать, не защищать подсудимых, мы не спали ночей, перевязывая раненых, делая операции, исполняя свой долг около больных? Мы исполняли его даже тогда, когда слезы стояли в наших глазах. Если гг. интеллигентные забастовщики так слабы нервами, что не могут исполнять своих обязанностей, то почему им бы не подумать о том, что и мы люди, что и у нас нервы и мы притом ближе всех к человеческим страданиям. И если с нашей стороны было бы варварством не лечить людей, не помогать им, то почему с их стороны — доблесть не делать своего дела и устраивать себе каникулы?»
В самом деле, почему? Разве ничегонеделание есть вернейшее революционное средство? Или оно признак мужества и высокой культуры? Несомненно, что дети и внуки, то есть те, которые годятся по летам в мои дети и внуки, идут гораздо дальше меня, да и странно было бы, если 6 они не шли, но и отец и дед имеет право советовать. Я мало понимаю обструкцию интеллигентов, и несколько лет назад возбудил к себе негодование многих за то, что заговорил против забастовки молодежи. Тогда союз писателей предал меня суду своему с тем, чтобы меня извергнуть из этого союза. Но суд ограничился замечанием, хотя в нем заседали мои политические враги. Я и ныне думаю, что стачки молодежи приносят вред как ей самой, так и России, наполняя ее полуобразованными людьми, ибо забастовка разлагает не только учащийся, но и профессорский персонал, делая его бессильным, почти презренным в глазах молодежи: профессора ставят выпускные отметки не за знания, которых нет, а за благонравие, выраженное тем, что гг. студенты благосклонно явились на экзамены. Это ли не унижение и для профессоров и для студентов?!
Я смею думать, что эти интеллигентные стачки рядом с неустойчивостью школы понизили уровень нашего образованного общества. Эти забастовки рядом с исключениями и ссылками сузили круг дарований русских людей, не дав им развиться правильно. Когда-то наших предков палками загоняли в школы и Митрофанушки предавались общественному смеху. Теперь меньшинство учащихся палками выгоняет из школ большинство, ради политических причин, якобы приближающих нас к обетованной земле. А если мы эту обетованную землю только запакостим своим невежеством и если только усилим прилив к нам иностранцев!? Вот в чем опасность интеллигентной забастовки.
Я никогда не сравню забастовку рабочих с забастовкою профессоров, студентов, адвокатов, фармацевтов; я от всей души желал бы, чтоб рабочий вопрос был решен в самом человечном смысле, чтоб были найдены законные нормы для открытой борьбы труда с капиталом, но я считал бы величайшим бедствием для России стачку лучших интеллигентных сил, если б ее признал закон. Это было бы стачкой нашей лени, нашей нелюбви к народу, нашей распущенности и утверждением того рабства, которое Россия испытывает даже и теперь, рабства перед просвещенным Западом, который дает нам фабрикантов, техников, промышленников, агрономов, ученые труды решительно по всем отраслям знаний. Иностранные имена на наших выставках бросаются в глаза. Наши ученые, социологические, технические сочинения — большею частию переводы. Из-за границы мы до сих пор выписываем более сложные машины, химические продукты и проч., все то, что требует много интеллигентного труда, выписываем даже рабочих специалистов; в свою очередь труд нашей интеллигенции никакого участия в вывозе не принимает: мы вывозим почти исключительно произведения крестьян, — «простого народа». И что ж, в отличие от движения сороковых и шестидесятых годов, в настоящее время говорится только о нуждах верхнего слоя, о народе же ни полслова: и он молчит, и об нем молчат…
Мы жалуемся на режим. Неудовлетворительность его признана самим государем. После этого говорить о режиме нечего. Но не все же и во всем виноват режим. Надо же что-нибудь оставить и на нашу долю, на нашу лень, распущенность и добровольное невежество. Самый режим несомненно зависит и от того, что мы дряблы, что мы не выработали себе характера путем труда и твердого убеждения в его необходимости. Почему еврейство, живущее среди нас при худших условиях, чем мы, почему оно побеждает нас и овладевает самыми выгодными профессиями? Разве оно нас даровитее, умнее? В значительной степени потому, что оно трудится, и беда в том, что при лучшем режиме оно будет еще победоноснее, а те, которые теперь идут за ним, в близком будущем, может быть, будут чистить сапоги у евреев и служить у них на побегушках и плакаться на режим.
Неужели это непонятно? Неужели не страшно думать, что Россия развалится, что она обратится в московское государство и русский народ в батраков у пришельцев? Мне страшно об этом думать. Так называемые наши инородцы могут быть вполне хорошими народностями, но что им до России? Они нас не любят. Они уж видят нас побежденными и готовы послать нам жестокие укоры в нашей отсталости, лени, бесхарактерности, болтовне, пьянстве, в разрозненности, в отсутствии патриотизма. Где наш национализм? Мы заменили его, если так можно выразиться, международным национализмом. Мы думаем стать выше всех, презирая свое родное и хлеща себя по ланитам и находя в этом какое-то варварское удовольствие. «Нам-то что? Пусть их кушают самих себя, коли ни на что другое неспособны. Мы знаем теперь, чего они стоят». Так уж говорят про нас наши окраины и могут отпасть без особого труда, если мы будем ждать всех мер только от режима, рассчитывая на него, как на философский камень.
Настало время не думать только, но действовать для того, чтобы сплотиться в партии, доселе разбросанные, неопределенные, вечно идущие на компромиссы и не видящие иной цели. Никакие репрессии не нужны, не нужно правительство, нужен разум, нужны убеждения, нужна борьба характеров, общественных положений и здравого государственного смысла. Пора перестать отделываться от проклятых вопросов общими гуманными фразами, полусловами и намеками. Дело идет не о каких-нибудь преходящих течениях, не о какой-нибудь игре в выгоды и невыгоды. Дело идет о России, о ее положении внутреннем и внешнем, о ее целости, об ее будущем. Каждый русский с этим обязан считаться, иначе он не русский. Нужна честная, открытая, мирная борьба за самые дорогие для нас цели, за личное и общее счастье. Нужен тот патриотизм, который поднимается высоко над частными интересами и во имя общей цели соединяется в одно целое, несмотря на разность убеждений. Не надо убаюкивать себя иллюзиями. Лучше хуже представлять себе настоящее, чем оно есть, но это может только поднять деятельность и бодрость в разумных существах. Я за то, чтобы работать теперь же, ибо во время опасности разум подвижнее, фантазия ярче, силы увеличены.
Я высказался за Земский собор. Я в нем только вижу выход из тяжелого нашего положения. Земский собор соберет всю Русскую землю перед лицом государя. Он услышит ее искренний, любящий голос. Как скоро образуется общественное представительство, образуется и единое и сильное правительство, чуткое к народным нуждам и к своей солидарности между собою и представительством. Мировой престиж Русской монархии поднимется тотчас же. Славянские народы от всего сердца будут приветствовать этот великий акт русской государственной жизни, как воссиявшее солнце. Волей-неволей весь просвещенный мир взглянет глубокими очами на русское возрождение. Настанет та шумная, но плодотворная весна, о которой я мечтал вместе с массою русских людей, верующих в крепость, в здравый смысл и величие Русской Державы. Недаром символ ее — двуглавый орел, царь и народ, живущие единою жизнью, единым сердцем, бьющимся для счастья Отечества.
Но я слышу: да неужели не рискован этот шаг? Принуждены же мы были броситься в японскую войну, пошли же мы на этот страшный риск. А тот риск, который представляется некоторым в Земском соборе, — есть риск просвещения, взаимного доверия, братских сближений сословий и состояний, общей и милой всем работы, риск государственной школы для всех дарований. Разве вы можете противопоставить ему что-нибудь превосходящее в том бюрократическом порядке, который заслужил всеобщее порицание? Если можете, то скажите. Ничего нельзя рассчитать наверняка. Ведь думали же, что сокращение реформ не только безопасное дело, но и полезное. Ведь думали же, что ничего нет лучше централизации, покоящейся на бюрократии. Думали, что реальное образование юношества спасет нас, думали, что спасет классическое образование, и затем снова начали думать, что ничего нет лучше образования реального. Чего не перепробовали для того, чтобы водворить порядок и благоденствие! Сорок лет пробовали и, наконец, торжественно заявили, что необходимо государственный порядок усовершенствовать. Стало быть, старые способы надо покинуть. Общество выросло. Бюрократия иногда работала усердно. Этого нельзя у ней отнять. Но когда общество вырастает, оно хочет воли и самостоятельности, как хочет этого юноша, выросший в мужа. Слабых можно поработить, сильных — никогда. Это всемирное явление, и напрасно думать, что старые средства все-таки помогут. Земский собор — это вся Русская земля, весь ее разум, все ее богатство. Что же, разве она соберется для того, чтобы разрушать исторические свои основы, обессиливать свою родину, бросить ее в пучину бедствий, отдать на произвол крайних партий, а не для того, чтобы принять их борьбу, положить им предел, указать им свое место и спокойно работать для общего счастья, выравнивая и утверждая русскую дорогу. У всякой дороги есть крайние стороны и всякая дорога ведет не только в Рим, но и в область бесконечного совершенствования человечества. Я верю в то, что говорю, всем сердцем, всем помышлением. Русская земля не может не оправдать себя перед своим государем и перед всем миром, который смотрит на нее с возрастающим вниманием. Русская земля растет общим желанием возрождения.
25 января (7 февраля), №10377
DXXXVII
Боже мой, сколько хотелось бы сказать в эту годовщину войны с Японией! В этот год Россия прожила полстолетия. И на полстолетия выросла! В страданиях люди и народы живут быстро. События являются представителями десятилетий, потому что люди, переживая тяжелые удары судьбы, испытывают так много, как в иные десятки лет они того не переживают. Помню первый удар, поднявший весь народ, указавший, что никто из руководителей русской политики ничего не знал на Дальнем Востоке. Ни граф Ламздорф, сидевший в Петербурге, ни адмирал Алексеев, сидевший в Порт-Артуре, ни барон Розен, сидевший в Токио. Несколько отважных японских миноносцев почти уничтожили флот. Я помню телеграмму наместника адмирала Алексеева о «внезапной минной атаке на эскадру, стоявшую на внешнем рейде. Броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада» получили пробоины. Степень их серьезности выясняется. Подробности дополнительно». Эта сухая, краткая, тяжелая телеграмма была ударом молота о череп России. Казалось, он треснул. Я помню проклятия, обмороки, слезы и взрыв патриотизма от края до края. «Внезапная атака!» Почему «внезапная»? «Степень серьезности пробоин выясняется». Только «выясняется». Точно мрак стоял и стали зажигать фонари. Огня не было, и старый солдат стал высекать огонь из кремня. Когда зажгли фонари, ужас всех объял, а когда взошло солнце… Оно всходило медленно-медленно, потому что это было не Божье солнце, которое встает, ходит и заходит по вечным законам, а солнце народного сознания, которое почивает иногда десятки, сотни лет, и все уж начинают думать, что это каменная глыба, а вдруг из этого камня начинают вылетать искры, соединяются в пламень, и пламень зажигает душу, и она загорается и говорит: «Я от Бога, я от вечности, я узнала, кто я и кто во мне живет».
Я помню торжественные молебны, множество икон, отъезд Куропаткина, его вещие слова о терпении, терпении и терпении, ничего доброго не обещавшие. Мне лично он говорил о полуторалетней, двухлетней войне. Но и он не предвидел того, что случилось. Ни войска, ни оружия и весь израненный флот, флот на костылях. Каким-то чудом Макаров наложил заплаты и гарцовал на костылях перед японцами так, что они призадумывались и не смели нападать с тою наглостью, с какой произвели первую «внезапную» атаку. И вдруг Макаров вместе с Верещагиным, со всем своим штабом и со всем своим домом, «Петропавловском», пошел ко дну в несколько минут. Это был второй страшный удар. «Морская война кончена», — говорил адмирал Скрыдлов, вызванный из Севастополя в Петербург. Но мы надеялись. Невозможно, чтобы мы были разбиты! Но сознание просветлялось и росло. Искры вылетали из русской души вместе со стонами. Пусть флот разбит. Армия у нас есть. Мы на суше непобедимы. Но уже долетали слухи, что войска мало, что мобилизация медленная, что дорога малопровозна, что забыли про горные орудия, которые опоздали сделать, что послали пушки, воздушный шар, снаряды на пароходе, который японцы захватили, что пулеметы не готовы… Но храбрость, храбрость, мужество войск — о, мы возьмем мужеством. И вот Тюренчен. Неожиданно, так же «внезапно», как американская телеграмма. Отступление, масса убитых и раненых, раненый священник с крестом и генерал Засулич. И затем опять надежды и бои, надежды и бои. Порт-Артур отрезан. Вафангоу, Лаоян, отступления, полупобеды и полупоражения, наступление и стоп. Обе армии становятся друг против друга, окапываются, укрепляются, сближаясь более и более, слушая песни и читая японские прокламации: «У нас хорошо. Не сражайтесь. Требуйте мира. Вы храбры, и мы храбры. Мы можем жить мирно и хорошо». И в доказательство картинки, на которых японские художники изобразили русских, танцующих с японскими гейшами, и японцев, танцующих с русскими дамами. Превесело. Ура! Банзай! Ура! Банзай!
И трагедия Порт-Артура. Страшная, увлекательная, мужественная, приковавшая к себе весь мир. Что будет? Собирается вторая эскадра. Собирается медленно, тяжело, с передышками. Поедет она то в июне, то в июле, то в конце августа. Пошла в октябре. Русские души притаили дыхание. Хотя в начале августа всем журналистам было сказано, что ожидается падение Порт-Артура и что надо приготовить публику, но Порт-Артур — в него верилось. И Россия и армия верили. Он продержится до прибытия эскадры. И вот мы всем сердцем с порт-артурцами, чем дальше, тем больше. Имя Стесселя приобрело всемирную известность. Редкие его телеграммы говорили о стойкости, мужестве и готовности умереть. Япония смутилась. Эскадра Рожественского являлась грозной силой. Казалось, погибший флот возрождается. Возрождаются надежды русского народа. Заграница притихла в ожидании. Еще вчера дух войск был крепок, еще вчера мы верили, что Порт-Артур продержится, по крайней мере, месяц, и вдруг сегодня он пал, пал «внезапно», проклятое слово алексеевской телеграммы, повторявшееся во все время войны. Все «внезапно» и неожиданно. Поражена Россия, поражена армия. Почему Стессель сдался? Он показал «гражданское» мужество, сказала какая-то радикальная газета вслед за английскими газетами, которые сказали: он показал «гражданское мужество». Позвольте, что это такое? Почему японцы на войне показывают только военное мужество, а гражданское мужество в мирное время? Разве у нас наоборот: гражданское мужество в военное время, а в мирное время — военное? Мы позднее узнали самую важную причину — убит Кондратенко.
У Порт-Артура отсечена голова. Эта голова, этот герой, горевший гражданским мужеством и военным, этот образованный генерал, говоривший, что он не переживет падения Порт-Артура, что он взорвется, когда всякая надежда исчезнет, погиб, как и жил, истинным героем, этот доблестный сын России. И с ним погиб Порт-Артур, последний крепкий оплот погиб. И японцы нам начинают высчитывать, сколько еще оставалось войск, снарядов, провизии, возможности держаться. Им вторит Европа.
Но мы еще ничего не знаем. История впереди, а события бегут, и за ними мы не можем поспеть. Мы точно зрители перед паровозом, который стремительно летит по дороге, сверкает перед нами, исчезает, а за ним новый паровоз, и все это с тенями погибших, со стонами и брызгами крови.
Как все это было ужасно, как ужасно. Какое сердце не дрожало, какой разум не затмевался! Я не могу продолжать. Надо плакать, а разве прилично плакать, когда нужно столько мужества!..
27 января (9 февраля), №10379
DXXXVIII
Есть ли у нас администраторы?
Один из наиболее талантливых немецких журналистов, всегда интересовавшийся Россией и особенно ее литературой, писал на этих днях мне следующее:
«Главное затруднение, как мне кажется, в вопросе о деятелях (Personenfrage). Никто не может любить русского гения более, чем я; но мне кажется, что именно самые привлекательные качества русских мешают им быть хорошими организаторами и администраторами. Потерпит ли народ иностранцев, например, американцев, на руководящих должностях? Для переходного времени, чтобы создать современную практическую административную организацию, можно было бы считать полезным подобный «привоз» (импорт)».
Это относит нас ко временам призвания варягов. Если в англосаксах, к которым принадлежат американцы, есть нормандская кровь, как в варягах, то это значит возвращение к тому же источнику: «Земля наша велика и обильна, но порядка у нас нет». В летописи не «порядок», а «наряд». А «наряд» некоторые толкуют так: некому приказать. Чтобы приказать, надо иметь власть и знать, что и как приказать. Так или иначе, но варяги устроили у нас «наряд» или порядок. О порядке и теперь идет речь, но он уже называется правовым. Англо-саксы во всяком случае умели устроить этот порядок, как доказывается это Англией с Америкой.
Америкой, впрочем, русские никогда не были довольны. Айвазовский уехал оттуда с таким удовольствием, что хотел было нарушить тот порядок, которому он следовал во всю жизнь: приезжать в известное число известного месяца и уезжать также в назначенное заранее число. Менделееву американская жизнь показалась препротивной. Один русский писал мне: «Здесь все ходят с револьверами, и каждый обязан защищать сам себя». Может быть, для нас это и не дурно. Но не думаю, что найдутся русские, которые желали бы пригласить к себе американцев в качестве организаторов и администраторов, хотя бы даровитый немецкий журналист и был прав, что «именно самые привлекательные качества русских мешают им быть хорошими организаторами и администраторами». Может быть, в самом деле это правда. Может быть, славянская душа принадлежит тому отдаленному и прекрасному будущему, когда человечество устроится идеально, будет царствовать любовь к ближнему, как к самому себе и ни в какой власти не будет надобности. Может быть, потому польское племя, возлюбив свободу паче себя, не могло устроить сильного и прочного государства и дало себя разделить. Не было администраторов и организаторов. Может быть, потому русское племя так долго влачило татарское иго и князья Рюрикова дома учились администрации у татар. Может быть, потому и Петр Великий обратился к голландцам и немцам и они устраивали у нас порядок. Немцы в особенности до того усердно и выгодно для себя этот порядок устраивали, что остроумный русский захотел, чтоб его произвели в немца. Осталась вражда к немцу и даже к немецким фамилиям, которые выходцы из немецких земель в допетровское время умело меняли на русские. С Петра, кажется, они стали сохранять свои немецкие фамилии, делаясь вполне русскими. Может, потому евреи покорили Польшу, а когда мы покорили Польшу, то евреи стали побеждать и нас. У нас нет организаторов и администраторов и, может, оттого администраторы с немецкой кровью так у нас часты.
«Ввоз» иностранцев мы пробовали при введении жестокого классицизма в гимназии, которые, с моей легкой руки, стали многие называть «чехиями». Грибоедов возмущался этим «ввозом» в своей бессмертной комедии. Иностранцу всегда честь. Везде его примут, обласкают, дадут должность, сделают воспитателем, учителем, администратором, полководцем, дипломатом. Пора бы уж возвратить Россию русским, но, очевидно, мы еще недостаточно выучены, а потому неудивительно, что талантливый германский писатель советует нам обратиться к иностранному «ввозу» администраторов наряду с машинами, деликатесами, модами, шампанским и конституцией. Для этого последнего груза еще не заказан паровоз, а существующие малосильны. Я потому, между прочим, и стою за Земский собор, что это нечто несомненно русское, совсем не напоминающее клерикализм, который примерещился одной газете в слове «собор» и она посоветовала поставить вместо этого слова «совет». Это было бы совестно. Другие называют «Учредительным собранием»: дубовый перевод французского assemblée constituante, ровно ничего не говорящий не только мужику, но и полуобразованному человеку, тогда как Земский собор есть собрание представителей земли и всякий мужик это непременно поймет сразу, как понимает сходку. Мужик соврет, сходка не соврет. Собор очень популярное слово у старообрядцев, у этих хранителей русских преданий и широкого самоуправления, сохраненного ими вопреки всем страшным преследованиям, но не без помощи той русской конституции, которая называется взяткой и которая во все времена помогала русским людям восстановлять права свои и свободу. Учредительное собрание довольно легко себе представить без крестьян, но непременно с евреями, но Земский собор без значительного количества крестьян — бессмыслица.
29 января (11 февраля), №10381
DXXXIX
Будет ли созван Земский собор теперь же, или после войны, к осени или зиме? Из кого он будет состоять, другими словами, кто будет обладать правом выбирать и правом быть избранным? Будет ли Земский собор от всей империи, то есть от всех русских подданных, или только от Великороссии и Малороссии, которые создали русское государство? Какое количество депутатов будет во всем Соборе, если в нем будет участвовать вся империя, и какое, если в Соборе будет участвовать только коренное население?
Хотя я не люблю интервьюировать, но нет правил без исключения, и в дальнейших строках я привожу, в сжатом виде то, что я слышал. От кого, это не имеет значения.
Все главные и связанные с ними другие, побочные вопросы о Земском соборе так важны, что их необходимо разрешить предварительной серьезной работой, для которой следует созвать редакционную комиссию, в которой были бы, кроме выборных членов и представителей правительства, историки и другие специалисты. От системы выборов зависит значение Собора, и было бы желательно, чтобы эта работа была произведена не наспех. Разумеется, всего легче произвести выборы по рецепту однодневных переписей. Все мужское и женское население совершеннолетнее — выборщики, и остается определить ценз самих депутатов. Такой проект уже напечатан в одной газете. Выборщиков оказалось бы около 70 миллионов. Нам непременно надо сейчас же превзойти всю Европу, а превзойти ее очень просто: стоит только не исключать женский пол из выборщиков и депутатов. Собор, таким образом, наполовину состоял бы из мужчин и наполовину из женщин. Кто знает, женщины, пожалуй, оказались бы дельнее мужчин. Недаром же ставят рядом с Петром Великим Екатерину Великую. А кроме Екатерины Великой были еще Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна (правительница) и Елизавета Петровна. Женщины же вообще консервативнее мужчин и даже, пожалуй, патриотичнее. Если депутатами будут и женщины, то и министрами они могут быть. Кто знает, может быть, из них выйдут хорошие администраторы, о которых вы говорите, что у нас их нет. Я упоминаю об этом только в виде дивертисмента. Но должен сказать, что чрезвычайно трудно допустить мысль и о всеобщей подаче голосов, тайной или явной. Печать, наверное, будет на этом играть много.
Первый опыт представительства не должен потерпеть фиаско, а потому все должно быть соразмерено с серьезными и высокими целями. Действительно лучшие люди должны составить Собор. Конечно, скажут, что он подстроен, но это говорит о каждой палате меньшинство ее. Непременно будет агитация партий, но и правительство, конечно, не будет спать. В Соборе должны быть представители земли, земледелия и землевладения, торговли, промышленности и науки. Теоретиков достаточно и в печати, которая разовьется значительно и представит собою все мнения, всякую свободную критику. Чем больше местностей прямо будет заинтересовано в выборах, тем лучше. Чем больше Собор, тем он лучше представит страну и тем будет спокойнее и жизненнее, тем дальше от фантастичности, которая так долго работала в русских головах, не находя себе выхода в жизни. Коренное население, которое образовало русское государство, конечно, будет господствовать. Было бы справедливо некоторые местности и народности считать такими же территориями, как это считается в Соединенных Штатах Америки в отличие от штатов. Мы находимся в более трудных условиях, чем Англия, Франция, Германия и Италия, где население гораздо более однородное и где колонии разбросаны в разных частях света. У нас метрополия и колонии все в одной и той же равнине, если не считать горные местности, сравнительно с общей площадью империи незначительные. Число народностей очень большое. Возможно, что в Соборе, кроме партий на европейский образец, консерваторов, либералов, социалистов с их подразделениями, окажутся партии националистические, польская, литовская, малорусская, армянская, татарская, грузинская, еврейская, сибирская, остзейская, латышская и т. д. Это тяжелая наша особенность, напоминающая несколько Австрию, и в этом отношении предварительная работа потребует многих соображений. В общий Имперский Собор должна войти и Финляндия, несмотря на свою конституцию, ибо общеимперские интересы того потребуют. Она не может оставаться простою зрительницей в общем деле.
Придется наверное разделить империю не только на выборные округи, но и на области, и принять в соображение взаимные отношения народностей, исторические, географические и этнографические, с тем, чтоб русскому элементу дать известное влияние. Необходимое условие — знание русского языка, ибо никакой другой язык не может быть допущен в прениях, кроме русского; у нас и этот вопрос может вызвать бесконечные споры и счеты, но тут ни о какой уступке не может быть речи. В ценз на право депутатства ни в каком отношении не должен входить образовательный ценз. Безграмотный мужик такое же имеет право, как и человек, получивший высшее образование; хотя трудно себе представить, чтобы крестьяне остановились на неграмотном человеке, но все-таки это возможно. Образовательный ценз не должен играть роли и для выборщиков. Так как у нас умственное развитие медленное, то лета для выборщиков и выборных должны играть одну из главных ролей. Число депутатов на наше многомиллионное население может дойти до полутора тысяч и даже больше. Такого множества нечего бояться, ибо оно должно будет разделиться на особые соборики и не представлять собою многоголовую массу. Хотя будет немало голосов в пользу компактного представительства, в 400–600 человек, но надо вспомнить, что в одной Европейской России 49 губерний и 1 область и в них 502 уезда. Во всей Империи 97 губерний или областей и 763 уезда. По переписи 1897 г., кроме Финляндии, было в России 125 млн. жителей при приблизительно 65 млн. мужского населения и в нем свыше 21-го года более 30 млн. Если принять теперешнее население в 140 млн. и только на каждую сотню тысяч по одному депутату (в Англии и Франции 1 деп. приблизительно на 80 тысяч жителей обоего пола), то Земский собор выйдет в 1400 депутатов. Каждые десять лет у нас население прибавляется на 20 млн., то каждые десять лет придется прибавлять по 200 депутатов. В этих подсчетах надо разобраться.
Когда говорят о Земском соборе, то вспоминают старое время. Но мы новые люди, новые у нас понятия и новые взгляды; даже крестьяне в значительной степени новые уже люди, в особенности в местностях торговых и промышленных, где есть и книги, и газеты и где самый крестьянский язык стал отходить от простонародности. Судя по крестьянским письмам, в особенности в этот военный год, немалое число их очень грамотное и очень выразительное, а есть и такие письма, которые изложены почти литературно. У нас, к сожалению, все думают, что народ все тот же самый, благодаря малому числу школ. На самом деле самообразование и в крестьянской среде пустило глубокие корни. В отчете Публичной библиотеки уже несколько лет между читателями ставятся крестьяне. И с этим элементом придется считаться очень серьезно образованным депутатам. Несомненно, и крестьянство внесет в Собор и знания, и мысли, и даровитость.
В печати были высказаны мнения, что в Земский собор должны быть допущены только христианские исповедания. В шведской конституции, кажется, устранены евреи, но там вообще мало не христиан. У нас же одних магометан столько же, сколько католиков и протестантов вместе (11 %). Стало быть, исключение их ни в каком случае не желательно.
На этом я кончаю изложение соображений моего собеседника.
2(15) февраля, №10385
DXL
«Не позволям!»
Это знаменитое и властное в польской истории слово, с которым связывалось право каждого шляхтича остановить жизнь, начинает соблазнять нас. Польша обязана этому праву в связи с безучастием к народу в значительной степени своим падением. Вся история происходила в верхних слоях, а нижний слой платил подати, работал и бедствовал и не имел права сказать:
«Не позволям!»
Мы тоже славянское племя и, очевидно, и у нас явилась потребность в той же властности в верхних и интеллигентных слоях того же повелительного:
«Не позволям!»
Я прочел два возражения мне на мое «Маленькое письмо», в котором я решительно отделял забастовку рабочих от забастовки интеллигенции. Оба возражения ничего существенного не возразили. Одно оспаривает право у врачей забастовывать, даже как будто и у присяжных поверенных; другое поучает меня, что забастовка — это протест против правительства, против бюрократических приемов его, точно я этого не знаю, и напоминает о Л. Н. Толстом, советам которого якобы интеллигенция в этом случае следует. Толстой советовал «неделание», пассивный протест. Не делайте, мол, того, что вам приказывают, если находите это несогласным с вашими убеждениями. Он говорил против военной службы, против присяги и т. п. Известный немецкий романист Шпильгаген, автор романа «Один в поле не воин», который имел у нашей молодежи огромный успех — в нем рассказана судьба Лассаля в связи с рабочим движением, — этот Шпильгаген написал тогда горячее письмо Л. Н. Толстому, порицая его за проповедь отказа от военной службы. Оно обошло все европейские и американские газеты. Л. Н. Толстой хотел написать ответ ему, но, очевидно, ответ было трудно написать победоносно, и он не отвечал. Шпильгаген — не кто-нибудь. Он рисовал с чувством искреннего художника судьбу этих несчастных молодых людей, которые решились последовать совету Толстого. Но я уверен, что Толстой никогда не советовал молодым людям не учиться и профессорам не преподавать своей науки, хотя Толстой никогда высоко не ставил университетского образования. Он к нему относился даже пренебрежительно, в разговорах особенно. А не так давно он и над самой наукой насмеялся. Я думаю, однако, что Толстой — не чета нам с вами. Толстой — великий писатель, мировой гений. Смеясь над наукой, он лет с 28-ми усердно читал все и учился и у природы, и у жизни, и у той же науки. Гении не идут в счет. Шекспир мало учился и так к книгам относился равнодушно, что ни в одной из тех, которые после него остались, не написал своего имени, что всегда делалось и делается и что становится привычкой с ученической скамьи, когда мальчики надписывают свои имена на тетрадях и учебниках. А Шекспир своим именем наполнил века. Я говорю о среднем человеке, о простом работнике, который учится для того, чтоб заработать свой хлеб и быть полезным своим гражданам. Поэтому Толстой не указ. Он ведь никогда не ходил за толпою, а вел ее за собою и ни в каких забастовках не стал бы участвовать. Он — один из тех, немногих, которые имеют право сказать, что он и один в поле воин.
Несколько сот профессоров заявили прямо, что они не считают возможным читать лекции до тех пор, пока не изменится существующий порядок. Студенты забастовали также поэтому. Необходимо представительство. В этом все согласны. Но ведь самое учение о представительстве представляет собою не нечто определенное, как дважды два, не математическую аксиому, а подлежит очень широкому развитию, уж не говоря о том, что для введения его необходимо время. Возможно, что известная степень примется профессорами, как такая, которая дозволит профессорам сесть на кафедру и начать читать лекции. Но студенты найдут, что эта степень ими не приемлема, или наоборот. В Италии — хорошая конституция, а забастовки там явление частое. В Японии — тоже конституция, но и там забастовки студентов — вещь довольно обыкновенная. Привычка — великое дело, а ничегонеделание для толпы — вещь приятная, что там ни говори. Кому не приятно полениться, да еще при сознании исполнения своего долга. Каждый из нас на себе это может проверить. К забастовкам легко привыкнуть и сделать их в учебной жизни явлением нормальным и затормозить эту жизнь при всяком режиме. За студентами уже идут гимназисты, отказываясь «отвечать уроки». Это факт.
Вопрос о равенстве.
Когда бастуют профессора и студенты, то студенты теряют несравненно более, чем профессора. Они теряют целые годы жизни, даже не одной только собственной, но и жизни своих родных и жизни той профессии, на которую они себя назначили. Они теряют время не только свое, но и своей родины. Вероятно, значительная часть их ложится на шею своих родителей, своих меньших братьев и сестер. Конечно, остается убеждение, более или менее натянутое, что все это полезно будет отечеству, которое благодаря этой забастовке получит политическую свободу. Но кто же докажет, что это случится благодаря им, а не другим, гораздо более глубоким и более деятельным причинам. Может быть, профессора и студенты будут играть роль той мухи, которая летала под облака, сидя на крыле орла. Ведь профессора, в сущности, ничего не теряют, исключая тех, конечно, для которых наука — призвание, святая святых их души, и преподавание — потребность их характера, их искренней любви к молодежи. Но ведь число таких профессоров всегда очень маленькое не только у нас, но во всем мире. Большинство — ремесленники, более или менее полезные. Они продолжают получать свое жалованье, писать в газетах и журналах, читать, пить чай, курить, приятно проводить время в семье и у знакомых, играя по маленькой и ухаживая за дамами. Мне говорили, что они продолжают получать даже гонорар, идущий из студентской суммы, взимаемой за слушание лекций.
9 января, как известно, среди убитых были два студента. Значит, они не платонически только сочувствовали рабочим. Они рисковали своей молодой жизнью. А ведь профессора и в этом отношении ниже своих слушателей. Есть одна причина, которую можно поставить в плюс профессорам: трудно читать лекции в такое смутное время, трудно избежать беспорядков в высших учебных заведениях, а беспорядки могут сделать студентов еще несчастнее. И только эта причина важная и только она может соединять профессоров со студентами, и вот тут требуется разум и влияние профессоров на студентов, и вот тут крик «не позволям» не должен быть лозунгом.
Беда в том, что у нас необходимо окончить университет, прослушать несколько лет лекции, сдавать переходные экзамены. Это равняет и ленивых и прилежных, и юношей с горячим темпераментом и холодным, и даровитых и бездарных. Это равенство нелепо, как нелепы дипломы, дающие окончившим курс чины известных классов. Не будь этого принудительного курса, молодые люди стали бы заниматься и держать экзамен, когда хотят. Одно это могло бы подорвать забастовки в самом корне. Ведь не Бог весть какая мудрость в лекциях. Эту мудрость весьма легко найти в книгах. Мы бедны для частных университетов, но и они явились бы.
Мне не объяснили, почему врачи не имеют права забастовать, а профессора имеют. Потому ли, что болезни тела важнее болезней духа, или потому, что все боятся смерти, все лечатся, что есть маленькие дети, есть большие страдания. Но ведь и забастовка студентов приносит страдания и многим из них и многим взрослым их соотечественникам, которые ясно видят понижение уровня образования в обществе, стало быть, и уровня просвещенной борьбы. Но и бюрократия, против которой направлена забастовка, тоже лечится, у ней тоже есть жены, есть дети, есть душевные и телесные страдания. Нет, уж если бастовать, пусть и врачи бастуют — ведь дело идет против бюрократии. Пусть и они забудут, что люди учились в средние века и без этого не было бы эпохи Возрождения. Пусть все забудут, что только учением люди приобретали политическую свободу, а не забастовками, только трудом и делом, а не неделанием. Может быть, у нас своя манера, своя оригинальность и других средств не находится. Может быть, так велика наша воля, что крик некоторых «не позволям» тотчас действует, как высший разум, а не как крик анархии и разложения.
Итак, пускай все бастуют, вся интеллигенция. Пусть начнется праздник Неделания, и пускай об этом узнает народ, на котором лежит огромный труд воспитания интеллигенции, своей помощницы и управительницы. Представьте себе, подумает он, подумает, да вдруг и скажет:
— Я бастую. Не хочу обрабатывать поля, не хочу платить податей. Мои подати идут на содержание таких заведений, где никто не учится и где никто не учит, на такие больницы, где остались одни фельдшера (да еще останутся ли?) и т. д. Ведь содержание на все это идет из моего скудного кармана. С какой стати я стану платить?
Вы скажете: это невозможно. Почему? Потому что такая забастовка была бы действительно ужасом и потребовала бы мобилизации армии? Я сказал, что русская революция — это пугачевщина. Мне отвечают, что я хочу пугать общество. Но разве во время французской революции не было сцен пугачевщины, не было междоусобной войны с ее кровопролитием? Были, да еще какие. Бывший томский профессор Рейснер, о котором я уже говорил, любезно сообщает, что руководители русской революции позаботятся о том, чтобы как можно было меньше пролито крови. Удивительное предостережение и предусмотрительность, но будущего, к сожалению, никто не знает, а оно грозно и печально и настоящие забастовки интеллигенции напоминают польское: «Не позволим». И у нас все идет в верхних слоях и за счет низших слоев, за счет народа. Забастовка профессоров и интеллигенции, забастовка земств, забастовка учителей — это все «не позволим». Народ молчит и пока этого не знает. Но, повторяю, он может узнать и сам забастует в ущерб всем нам, всему образованному классу, всему тому, что ведет государство и его просвещает, он, невежественный, не умеющий еще ценить науки и просвещение, но умеющий ценить здравый ум и труд.
Я разбираю вопрос чисто академически, не желая оскорблять ничьих убеждений. Я тем более хотел бы соборного решения, чем менее вижу людей сильного характера, сильных дарований и инициативы и великой и сильной души. Когда я настаиваю на Земском соборе, я думаю, что именно в том множестве выступят даровитые люди и крепкие русским разумом души. Я хочу говорить разуму, если он не исчез на Руси. Я искренно хочу реформ, хочу Земского собора, не кричащего и помпезного, с колоколами Ивана Великого, в Грановитой палате, украшенной кавалергардами, со всею этою мишурою для воздействия на толпу, а делового, скромного и работающего и непременно в Петербурге, где заседает правительство. Собирать его в Москве значит бросать Петербург. Вы знаете, как незаметно совершилась реформа 19 февраля, без всякой помпы и великолепия, а она была действительно великая. Таким же великим я считаю созвание Земского собора. Это будет нашей зрелостью, нашим возрождением. Я не могу не верить искренности начатых теперь реформ. Не могу считать их слишком поспешными, как думают некоторые органы печати. Есть вещи, которые необходимо сделать быстро, как делается хлеб, без которого жить нельзя. Хлеб насущный и Собор, хлеб насущный для всей России. Надо сейчас же желать образования спокойных партий, которые бросили бы эти идеи забастовок и взяли бы на себя труд работать против них. Я не стращать хочу, а хочу сказать ту правду, которую я чувствую и искренне исповедую.
3 (16) февраля, №10386
DXLI
Сегодня я прочел в «Гражданине», за подписью г. Икса, следующие строки:
«Последняя новость: сейчас прочел в «Новом Времени» остроумное предложение его издателя: припустить к Собору и русскую женщину. Я аплодирую этой идее маститого консерватора, но нахожу ее неполною: чтобы Собору быть полным выразителем русского народа, нужны не две половины, а три трети: мужчина, женщина и учащийся подросток обоего пола».
Я ничего подобного не предлагал и нахожу эту выдумку нимало не остроумной. Во-первых, я передавал чужое мнение о составе Собора, а не свое. Во-вторых, мой собеседник цитировал статью одной из петербургских газет и сам отрицательно и с иронией относился к женскому элементу в Соборе, сказав, что он упоминает об этом «в виде дивертисмента».
Вообще фантазировать насчет серьезных вещей я не вижу ни малейшей надобности и разделяю мнение одной своей корреспондентки, которая говорит, что совместное обсуждение государственных дел приведет к заключению многих браков, из чего, однако, не следует, что «население России значительно увеличится», как думает эта же корреспондентка. Население России увеличивается по известным законам, и эти законы, конечно, не зависят от того, обсуждают государственные дела одни мужчины или их обсуждают мужчины и женщины вместе. Однако, я думаю, что есть женщины, которые помогают своим умом и влиянием даже очень даровитым государственным людям, и при этом в хорошую сторону. Я не думаю и того, что женщины должны ограничиться любовью и детьми. Не все из них пользуются этим благом и не все им могут довольствоваться. У нас женщины пользуются правом выборщиц, хотя и через доверенных мужчин. Я не вижу ничего худого в том, чтоб они пользовались этим правом лично. Это нимало не мешает тому понятию, которое Гёте назвал ewige weibliche.
Что касается Собора, то сам князь Мещерский, отрицая его в настоящее время, признает его необходимость после окончания войны и наступления мира и спокойствия. Таким образом, все газеты, с теми или иными оттенками, или теми или другими ожиданиями от него, высказались в пользу Собора. Исключение за одними «Московскими Ведомостями», которые остаются верными убеждениям М. Н. Каткова, ничего не прибавляя к его аргументации, точно время, отделяющее нас от смерти знаменитого публициста, не произвело в русском обществе никаких изменений.
Вчера Д. И. Менделеев сообщил нашему сотруднику, что в Лондоне вышло 35-е издание его книги «Введение в химию», а у нас, на родине автора, только 5-е. В Англии ровно в 7 раз больше. Это хорошая иллюстрация к нашему просвещению и забастовкам вплоть до… «Учредительного собрания». Страшно даже подумать, как долго у нас не станут учиться! Ведь «Учредительного собрания» у нас никогда не будет и самое это слово напоминает нам только собрание учредителей… акционерных компаний.
Я знаю иную забастовку — русского православного народа. Это тоже забастовка интеллигенции, ибо вопрос веры относится к области духа и учения, но эта забастовка выразилась не в пассивном ничегонеделании, которое привело бы народ к отупению и равнодушию к вере, а в деятельной жизни, сохранившей в нем веру и те старые обычаи, вроде прихода, выбора священников и проч., которые сохранили в нем начала самодеятельности и самоуправления, несмотря на все препятствия и преследования.
Отвечаю на письмо, которое упрекает меня в том, что я назвал большинство профессоров «ремесленниками более или менее полезными». Я употребил слово «ремесленники» в широком значении этого слова, как употребил бы слово «чиновники», «ученые люди», «служилое сословие». Выражаясь высоким слогом, я хотел только отделить, так сказать, бриллианты от камней менее ценных.
4(17) февраля, №10387
DXLII
Вероятно, читатели будут благодарны А. А. Пиленку, доценту СПб. университета, за те подробности о студенческих стачках, которые он сообщает в письме ко мне. Если 100 приват-доцентов на собрании вели себя превосходно, говорили «дельно, умно и красиво», то этого отнюдь нельзя сказать ни о студентах, ни об администрации. Тут то «насильственные удаления» студентов, то «насильственные удаления» профессоров; студентов задерживают у ворот поверкой каких-то билетов; внутри университета дело доходит до драки и пощечин. Очень все это напоминает рабочие стачки. В Северной Америке, где рабочие стачки очень часты, кровавые драки между забастовщиками и теми, которые хотят работать, происходят то и дело; фабриканты держат свою полицию по вольному найму, которая защищает порядок на фабриках от горячих элементов. Против забастовщиков фабриканты устраивают свои забастовки. Но интеллигентные стачки устраиваются только в странах малокультурных, хотя бы и обладающих парламентаризмом. Я думаю, что умственное развитие студентов выше того же развития рабочих, но, очевидно, некультурность наших образованных классов сказывается на забастовках студентов, где употребляются насилия и химическая вонь — нечто вроде тех фокусников, которые называются петоманами. Это не умно и скверно пахнет.
Вотировали ли приват-доценты «умно и красиво» или нет? Я думаю, что единственный способ вотировать «умно и красиво» — это тайная подача голосов. Только тогда человек вполне независим, только тогда он поступает по доброй воле, не как человек толпы, а как вполне свободный человек. Всякое другое голосование — подневольное, не исключая и того, когда одна партия выходит в одни двери, а другая — в другие. Среди шума, горячих речей, сдобренных остроумием, сарказмами, выходками совсем не парламентарными, а иногда и оскорблениями по адресу противников, невозможно себе и представить какую-нибудь независимость отдельных лиц. Они невольно подчиняются вожакам и ораторам. Во всяком множестве людей с характером и с волей, безбоязненно высказывающих свое мнение, не страшащихся угроз и интеллигенций, очень маленькое меньшинство. В этом меньшинстве обыкновенно только несколько человек, или даровитых, или просто смелых и ловких ораторов, научившихся управлять толпой и направлять ее куда хочется. Как во всякой толпе, так и в студенческой, эти вожаки и играют главную роль, и против их влияния и их увлечений единственное средство — тайная подача голосов.
В таком серьезном деле, как учебная забастовка, тайная подача голосов так же необходима, как в избирательных депутатских собраниях. Дело науки и образования не меньше конституции, ибо конституция без образования — вещь шаткая. Только тайная подача голосов может дать правдивое понятие о действительном настроении молодых людей. У меня есть много писем за старые годы от студентов и их родителей, где рассказывается о тех интимидациях, угрозах и проч., при помощи которых достигается голосование сходок. Не говорю уже о той массе осторожных молодых людей, которые совсем не являются на сходки, а безмолвно подчиняются резолюции. Но если бы студенческие сходки объявили о тайной подаче голосов, то, конечно, отсутствующих на них было бы гораздо меньше.
Между тем в настоящее время покинут даже способ, практиковавшийся в прошлом году, по крайней мере, между бестужевками. Когда вышло у них разногласие с профессорами, курсисткам рассылали опросные листы, в которых они писали, желают они посещать лекции или нет. В нынешнем году таких листов не посылают и забастовки постановляются случайною толпою.
У меня есть письмо от горного студента, который говорит о себе, что он «студент, а потому и забастовщик». Он не ставит забастовку в зависимость от режима, но ставит ее в зависимость от 9 января. Сущность его письма выражается в следующих характерных строках:
«Забастовка повторяется периодически и продолжается более или менее продолжительное время. Это ведет за собою общее понижение уровня образования страны, но вместе лишает правительство возможности пользоваться молодыми специалистами, свежий и постоянный приток которых, как бы ни было, государству необходим; кроме того, это подрывает престиж правительства не только среди народа, но и среди других государств; со всеми этими последствиями правительство должно считаться. Уже в настоящую войну оказался большой недостаток в хороших техниках. А что же будет, если в настоящем году не будет выпусков, а, может быть, и в будущем? Ведь это не будет нескольких тысяч молодых специалистов, на которых государство рассчитывало. Я думаю, что забастовки одинаково вредны как для забастовщиков, так и для тех, против кого они направлены; но правительство как будто этого не понимает. Скажите, пожалуйста, что правительство предприняло в настоящем году для прекращения забастовок в высших учебных заведениях? В прежние годы правительство применяло различные репрессивные меры: одних удаляло из города, в котором учились, других сажало в тюрьму, третьих определяло в солдаты и проч. Меры эти, однако, оказались не отвечающими цели: забастовки повторялись и продолжались. Стало быть, надо изыскать другие средства. В настоящее время особых репрессивных мер по отношению специально к студентам правительство не принимает, но ограничивается тоже ничегонеделанием и забастовку как будто признает вполне нормальным явлением: профессора и студенты решили бастовать — пусть бастуют хотя бы всю жизнь. Ходят слухи, что решено открыть высшие учебные заведения 15 февраля; но обеспечило ли правительство чем-нибудь средства для того, чтобы профессора и студенты явились для совместной работы? Может быть, правительство думает, что именно не обращая внимания на профессорскую и студенческую среду, оно докажет, во что ставит мнение этой среды и этим-то заставит партию умеренных взяться за работу? Но это жестокая ошибка. Такое пренебрежительное отношение к этой среде только раздражает ее, и я лично знаю таких студентов, которые из партии умеренных за последние недели перешли к крайней оппозиции. Известно и то, что если не удается открытие 15 февраля, правительство само закроет высшие учебные заведения до осени. Но спрашиваю: разве будет достигнута этим цель? То же самое повторится в будущем году, как повторяется теперь то, что было два, три, четыре года тому назад. И что же тогда дальше?.. Я думаю, что будет ли созван в России парламент, сейм или Земский собор, или ничего подобного не будет, государство должно, хотя бы только в чисто политических интересах, изыскать средства для того, чтобы наука могла идти по своей дороге. Каков бы строй государства ни был, а без людей с высшим образованием оно, как таковое, существовать в настоящее время не может. Вся печать, какого бы направления она ни придерживалась, обязана об этом писать, имея в виду не только политические интересы государства, но и интересы страны, как родины, в которой наука родная не менее для ней дорога, чем политический престиж среди других государств».
Я не выпустил ни одного слова. Будем рассуждать и рассматривать этот вопрос со всех сторон. Сегодня я отвечу только кратко.
Представьте себе, что правительство в самом деле на «неделание» отвечает «неделанием». Хотите, учитесь, не хотите, не учитесь. Ведь появились уже карикатуры на студенческие забастовки — это забастовки средних учебных заведений и премудрые решения педагогических советов вместе с родителями в пользу забастовщиков. Где мы живем? Мы живем совершенно в дикой стране, которая не имеет даже педагогов для средних учебных заведений, стоящих выше уровня школьников, которые сами начинают предписывать свои правила. Скажите, г. Студент (подпись автора письма ко мне), что это такое? Неужели не карикатура, и самая злая? Где это видано, что несовершеннолетние управляют обучением и воспитанием юношества? Неужели это не стадное движение и можно ли против него принимать какие-нибудь меры вообще, не говоря уже о репрессивных, цену которых я очень хорошо знаю. Я представляю себе правительство так. Оно может сказать: «Я решилось бросить предания Петра Великого и учиться никого не стану заставлять, кроме детей, да и то, если этого захотят родители. Я знаю, что я делаю. Я решилось на реформы и буду продолжать их неутомимо. Но я не ворохну пальцем против забастовки, сколько бы времени она ни продолжалась. Людей с общим образованием я всегда найду, людей умных найду тоже, если захочу их поискать (я мало их искало, кстати сказать, и мало ценило). Что касается техников, то они найдутся среди мастеров и талантливых рабочих, в особенности теперь, когда вообще промышленность замялась. А не хватит их, стоит тем, кто в них нуждается, кликнуть клич — и Европа доставит техников в изобилии, как впрочем не перестает доставлять и доныне. Я буду действовать прогрессивно и в учебном деле, но не по указаниям учебной молодежи, а по указаниям европейского опыта. Я считаю нелепостью, не заслуживающею внимания, студенческие резолюции «бастовать до открытия Учредительного собрания». Никакой репрессии я не возьму на себя, ибо само убедилось в их бесполезности. Но я рассчитываю на репрессию разума и воли самого общества и хороших работников из молодежи. Я знаю, что эта молодежь идет на смену моему поколению, но только работающая ее часть может управлять впоследствии государством и служить общественному представительству. Повторяю, принуждать учиться я никого не стану, как нет этого принуждения в европейских университетах. Мне жаль родителей, которые содержат своих детей в университетских городах совершенно бесполезно, раз они не учатся. Но что ж мне делать? За академической свободой преподавания дело не станет и тем скорее, что она существует на кафедрах медицинских, химических, естественнонаучных и технических. Но слушаться указки, поданной со сходок, я не могу!»
Представьте себе, что правительство скажет это и исполнит? Кто победит?
6(19) февраля, №10389
DXLIII
Вся надежда молодежи и взрослых на лучшее будущее заключается в забастовках и ничегонеделании. Такова уж наша интеллигенция: она хочет получить революцию или конституцию при помощи забастовок. Когда вся Россия забастует, то нынешнее правительство тоже забастует, и тогда вся эта интеллигенция, правительственная и общественная, подаст друг другу руку и скажет:
— Славно ничего не делать! И что замечательно: мы ничего не делаем, а народ, черт его дери, работает и подати платит. Идиоты!
И затем:
Allons, enfants, de la patrie, — Le jour de zabastovka est arrive, —непременно по-французски, чтоб грубый народ ничего не понял. А народ прислушивается к этой бестолочи и сочиняет свою русскую песню, мрачную, как гроза, разгульную, как буря.
Подумайте, господа.
На вчерашней университетской сходке самое замечательное было — песни. Студенты пели чрезвычайно стройно и звучно, доставляя истинное удовольствием тем, кто слушал. Было бы совсем превосходно, если б студенты пели во все время сходки и ничего не говорили. Хор голосистых молодых людей был гораздо обаятельнее речей. В сравнении с ним речи ораторов — детские упражнения на серьезные темы. Толпа кричала: «Не надо! Довольно! Мы это знаем!» и проч. Свистала и аплодировала. Но подобно тому, как во время торжественного обеда московских купцов, когда все тосты были израсходованы, кто-то крикнул: «за здоровье преосвященного!» — так и на этой сходке, после всех речей, кто-то крикнул: «Я за абсолютную социал-демократическую республику», вызвав общий хохот. Говорят, сходка вообще носила веселый характер, хотя с гиканьем, и если были школьники и даже неприличные, то где же их не бывает в наши дни?
Когда люди решили ничего не делать, когда они забастовали до сентября дружно и благородно, то монархия ли, анархия ли, республика ли, не один ли черт? Что бы ни вышло, значит, они победили. Если б они учились, это значило бы, что они не принимали участия в общественном движении, что они были к нему равнодушны. А возможно ли равнодушие в эти юные годы? Забастовав же, они, в некотором роде, герои и деятели. Одно это сознание своего участия в общем деле чего стоит! Что может быть презреннее лекций, слушания лекций, созерцания этого жалкого профессора, который читает в нос одно и то же в сотый раз, воображая, что это наука. Что низменнее этой долбни, этого уткнутого носа в книгу, когда в сущности в России никто ничего не знает, а все только притворяются, что знают что-то.
— Скажите, кому принадлежит остров Цейлон.
— Г. профессор, да я не знаю, где он находится, — отвечает студент и получает удовлетворительную отметку.
И за каким лядом ему этот Цейлон, когда он презирает всю русскую историю, из которой и знает только то, что Россия широка и обильна, а порядка в ней нет. А зная это, он убежден, что для устроения в ней порядка надо бастовать. Лучше этого средства не найдено. Кто учится, тот либо дурак, либо шпион. На него гикают, его освистывают и напускают в аудитории вонь. Недаром же у нас самая лучшая аргументация заключается в кулаке!
Что за важность, что отцы и матери последние деньжонки посылают сыну, чтобы он скорее окончил курс и стал кормильцем. Это старичье ничего не понимает! Что за важность, что из крестьянских податей идут миллионы на содержание высших учебных заведений, что дворянство, земство, купечество, частные лица дают стипендии молодежи для того, чтобы она училась, а не для того, чтоб она праздновала. Кто сочтет одни те миллионы, которые стипендиаты-студенты не возвращают земству? Одно пермское земство потеряло на этом 140 тыс. Но разве это не пустяки? Ведь молодежь бастует ради великих целей политической свободы. Она лишает правительство образованных людей, а без них как же управлять государством? Она жертвует собой, приготовляет собою навоз для политической нивы. Навозом она и останется, зато из этого навоза вырастет политическая свобода. Давай Бог! Что за важность в самом деле, что 50 тыс. молодых людей только удобрение, а не жатва. На полях Маньчжурии в один год погибло 100 тысяч народу и своею кровью увлажили чужие поля. А тут свое, русское поле. Отчего его не удобрить? Кто хочет, пусть удобряет, но почему же все должны удобрять, когда прекрасный колос чувствует силы вырасти и на теперешней почве? Ни у кого на это не может быть права.
И правительство нехорошо делает, закрывая университеты и другие высшие учебные заведения. Молодежь забастовала до сентября. А если в сентябре не будет того, чего она желает, то она забастует до Рождества. Земского собора она не хочет уже потому, что я его хочу. Один оратор на сходке сказал:
— Господа, Суворин против забастовки, а потому мы должны объявить забастовку!
Вот не ожидал такой удивительной причины. Понятно теперь, что если я за Земский собор, то молодежь против него. Я не знаю, за что правительство. Но у него есть же свои планы и с его стороны не великодушно закрывать университеты, во-первых, потому, что оно уж теперь знает, что 1 сентября не может удовлетворить желаний забастовавших, а во-вторых, закрыть университеты — значит забастовать и правительству. Это уж никуда негодно и ни с чем несообразно. Я говорил, что правительство обязано держаться того правила, которое принято в европейских университетах: кто хочет, учись, кто не хочет, не учись. Хоть 20 лет будь студентом, но чтобы получить диплом, выдержи экзамен. Пока есть желающие учиться и учить, правительство не должно закрывать университетов. Забастовка есть насилие случайного большинства и вчерашняя забастовка была насилием. Остались молодые люди, которые желают учиться, но которые не умеют агитировать и сплачиваться в группы. Часть их открыто протестует и на сходке и в газетах. И это мужественно. Надо проявлять свою личность, свою индивидуальность, готовясь к жизненной борьбе. Тут дело идет не об измене товарищам, а об измене народу и науке, в которой он нуждается. Когда профессор говорит, что он читает не науку, а только нечто, то ему цена грошовая. Грановский и Кудрявцев жили в очень тяжелые времена, а оставили по себе прекрасную память и воспитали деятельное и либеральное поколение. Важен талант и благородный дух. В числе 2000 забастовщиков было человек 200–300 таких, которые не пошли на забастовку. За что их лишать права учиться? Разве государство не имеет возможности обеспечить им спокойные занятия? Но ведь в таком случае действительно надо всем бастовать. Другого выхода нет, если правительство так бессильно, что не может обеспечить свободу каждой личности. Учебные заведения должны так же правильно работать, как, например, железные дороги. Сколько бы пассажиров ни было, 10 ли человек или 1000, поезд обязан идти в определенный час. Если забастуют машинисты, их помощники и кондукторы, надо стараться всеми силами заменить их и возобновить движение. Случится крушение, необходимо немедленно восстановить путь. Это азбука в железнодорожном движении. Держать учебные заведения открытыми тоже азбука. Они закрываются, когда нет ни одного учащегося или когда не положено учиться. Если забастует вся масса учащихся, до последнего человека, и забастует правильным порядком, закрытой балотировкой или опросными листами, только тогда правительство вправе запереть двери университета. Но до этого времени оно обязано обеспечить возможность спокойных занятий, как обеспечивается всякий полезный труд. Министр народного просвещения, его чиновники, профессора и педагоги поставлены не для собственного их удовольствия, а для правильного хода образования. Они должны обеспечить занятия для тех, кто хочет заниматься, или выйти в отставку, то есть честно признать свою неспособность в этой борьбе, которая требует всего человека, со всей его душою.
9(22) февраля, №10392
DXLIV
Студенческая левая организовалась сама около «коалиционного совета». Необходимо организоваться и партии противной. По моему мнению, среди студенчества то же явление, что и в обществе. Левая и крайняя левая несомненно организованы и действуют с тою энергией, которую нельзя не похвалить. Эта энергия подкупает нерешительных и колеблющихся, и если они не присоединяются к левой или крайней левой, то представляют собою во всяком случае величину весьма сомнительную. Они тоже не знают друг друга, тоже не имеют никакой возможности сговориться и сплотиться. Даже меньше, чем студенты. Им все-таки разрешают время от времени сходки, тогда как взрослые этих сходок никогда не имели и не имеют. Крайние партии собирались на политические банкеты; партии умеренные, желающие занять центр и правую, не имеют где «преклонить голову» или обедают для удовлетворения своего аппетита или проводов начальников.
Пусть студенты начинают организоваться. В своих письмах в «Новом Времени», из которых мы напечатали только часть и притом такую, которая говорит только о забастовках, они показали и ум, и логику, и чувство. Это именно образованные люди, будущие наши деятели. И какой это вздор, что будто студенты малограмотны, не развиты, не образованны. Их письма — яркое свидетельство противного. А сколько чудесных женских писем, не назначенных к печати! Одна из женщин цитирует из «Государства» Платона, что «бывают такие времена, когда старцы становятся детьми, а дети — старцами и учителя начинают подольщаться к ученикам». Она этой цитатой хочет характеризовать настоящее время, и разве это несправедливо?
Причины забастовок, заявляемые забастовщиками крайней партии — чисто политические, а причины, на которые опираются умеренные забастовщики, заключаются в ненормальном положении нашей школы вообще. Эта ненормальность сознается всеми. Вспоминается с благодарностью энергичная деятельность старика Ванновского, который заставил в себя верить. С тех пор опять все заснуло; министерство народного просвещения качается из стороны в сторону, как часовой маятник на таких часах, где нет ни стрелки, ни боя и потому неизвестно, что они показывают, ночь или день, полдень или вечер. Никакого созидательного начала. Умный и деятельный моряк, волнуясь и негодуя, сказал мне: «Вся страна в войне, и только бюрократия пребывает в мире и рутине и думает, что это и есть деятельность». Отчего бы Комитету министров, этому единственному единому правительству, которое не управляет, но работает над реформами, не взять на свои плечи и школьный вопрос? В этом Комитете приступлено к обсуждению мер для прекращения забастовок. Он запросил советы высших учебных заведений, считают ли они возможным теперь же приступить к занятиям. Этого недостаточно. Советы, конечно, будут мотивировать свои ответы известными причинами, и вот к этим причинам необходимо отнестись внимательно, а внимание подскажет необходимые реформы. Но пока это будет делаться, пусть молодежь укрепляется в своем решении непременно учиться, пусть организуется партия желающих слушать лекции и держать экзамены. Это прежде всего. Не должно уставать в этом стремлении. Оно должно быть общим, независимо от убеждений политических, которые складываются у молодежи. И для охранительных, и для либеральных, и для крайних мнений необходимо черпать в одном источнике, науке. Без нее всякие убеждения шатки, неубедительны и неспособны для настоящей борьбы. Без нее только особенно даровитые, гениальные натуры могут найти свой путь, да и то он будет запоздалым.
Сказать более и умнее того, что сказано студентами и женщинами против забастовок, нельзя. Этот вопрос можно считать исчерпанным. Но осталось самое важное — организация, организация, организация. Общество страшно потеряет, если не даст своим детям нравственной поддержки. Оно будет ниже своих детей и бессильнее их, если в это время будет сидеть сложа руки и смотреть, как зрители смотрят из партера и лож на сцену, которая одна освещена и одна действует и где происходит тяжелая драма, близкая к трагедии…
Кто за порядок и за реформы, тот пасынок русской государственной жизни, тогда как боевая организация все крепнет и увеличивается. Она разбивается на кружки, которые понимают друг друга и друг другу подают руки. Они горят нетерпением и энергией, тогда как их противники только качают головой, пожимают плечами, жалуются друг другу на смуту или самоуверенно говорят: «Подождите, все придет в порядок само собой». А по моему мнению, настоящее время и есть время борьбы и время твердой организации партий, и для этого совершенно недостаточно собраний земских, дворянских и городских. Нельзя и правительству накладывать на свои глаза густой вуаль и смотреть на партию спокойных реформ как на таких людей, которые, якобы, «все равно наши» и о них нечего беспокоиться. Во всю мою жизнь меня удивляло это равнодушие правительства к спокойным элементам и равнодушие этих спокойных элементов друг к другу и молчание о своих нуждах перед правительством. Вследствие отсутствия центрального представительства, вроде Земского собора, печать управляет обществом, а не общество печатью. Поэтому я и говорю, что умеренные партии, если они хотят порядка, если они хотят реформ без всяких потрясений, обязаны найти возможность сговориться и сплотиться.
В конце концов, я прихожу к такому выводу: ни студенты, желающие учиться, ни общество, желающее мирных реформ, ни рабочие, желающие работать, вопреки забастовщикам, ни фабриканты, желающие правильной организации труда, не имеют ниоткуда деятельной помощи и в себе самих не ищут или не привыкли или не могут искать ее. Вот в чем истинно трагическое в нашем положении. Вывести Россию из этих условий — вот великая задача правительства. Столько здорового, столько истинно образованного и умного в обществе, но все это разрознено.
12(25) февраля, №10395
DXLV
«Император Франц-Иосиф не скрывает своего мнения, что России следует заключить мир». Так говорит одна английская газета. Я никак не воображал, что для России это важно. Скрывает ли свое мнение император Франц-Иосиф или перестал его скрывать, русскому человеку до этого ровно никакого дела нет, ибо он едва ли имеет какую-нибудь склонность, даже состоя в непреклонной оппозиции к своему правительству, переходить в подданство его апостолического величества в придачу к тем славянам, которые имеют это счастье. Очень возможно, что и король итальянский не скрывает той же мысли, и император германский говорит: «пора России заключить мир», и король английский того же мнения и даже молодой король испанский может не скрывать той же мысли, но все эти императоры и короли и президент Соединенных Штатов, который давно уже мечтает о посредничестве, едва ли не напрасно беспокоятся скрывать или открывать свои мысли. Есть русский царь и русский народ, и дело войны и мира — это русское дело, а не австрийское, не английское, не итальянское и американское. Пропадем ли мы, благодаря нашим невзгодам, военным и гражданским, или станем на пути к возрождению, это — наше русское дело.
Но что особенно мило, это известие «New-York Herald» о каком-то тайном совете наших министров. Наши министры якобы поклялись не выдавать тайны этого совета, но, конечно, выдали американцу в такой мере, что он не только узнал, что тайна эта — разговор о мире, но и может дословно передать речь одного из министров, который сказал, что Россия везде и всегда опаздывала и даже опоздала заговорить о мире. Зная цену газетных секретов, я ни секунды не верю не только в существование подобной речи, но даже в существование министра с таким остроумием.
Если 6 нашелся такой остроумный министр, который сказал бы своим товарищам министрам речь, что Россия всегда опаздывала, то несомненно нашелся бы другой, еще более остроумный министр, который заметил бы, что не Россия опаздывала, а опаздывали в своем великом усердии ко благу отечества гг. министры. Россия нимало не ожидала того, что она опаздывает. Она исправно платила подати, поставляла рекрут, считала и привыкла считать, что никакой враг ей не страшен, что Порт-Артур — неприступная крепость, что Дальний — накануне, чтоб сделаться мировым торговым портом, что наш наместник на Дальнем Востоке вместе с министром иностранных дел все предвидят, что наш флот в отличном положении и проч. и проч. Это давно сказано сто раз, и повторять это смертельно больно и даже страшно. Стало быть, говорить об опаздывании России никакой министр не станет, так как это значило бы говорить и о своем участии в этом деле. А фраза «к несчастью, мы опоздали говорить и о мире», при всем ее остроумии, едва ли выдерживает критику.
Мне думается, что во всем можно опаздывать, если уж самим Богом нам так определено, если у нас столько пословиц о необходимости опаздывать: «над нами не каплет», «дело не медведь, в лес не убежит», «поспешишь — людей насмешишь», но опаздывать с миром — может быть, даже следует, ибо раз началась война, государство входит в такое острое настроение, что обыкновенная мерка рассудительности совершенно не приложима. Могут сказать, что самый лучший момент для мира был бы тот, когда адмирал Алексеев телеграфировал о «внезапном» нападении на наш флот. Вместо объявления войны мы могли бы предложить Японии помириться: «Вы разрушили наш флот, никакой армии на Дальнем Востоке у нас нет, наша железная дорога совершенно не в состоянии перевезти необходимое количество войск даже в 10 месяцев, горные орудия мы и не заказывали, наши броненосцы еще когда-то достроятся. Вообще мы совсем не готовы». Конечно, это было бы очень откровенно и даже благородно, а, может быть, и очень глупо, но мы не поступили так и поступить не могли. Другой момент, тоже чрезвычайно благоприятный, это помириться с Японией после гибели «Петропавловска». Третий момент, еще более благоприятный, это — битва при Тюренчене. И так далее. Япония меньше всего потребовала бы после 26 января, немного более — после «Петропавловска» и чуть-чуть более после Тюренчена. Самый предусмотрительный министр был бы тот, который заключил бы мир после 26 января, и постепенно все менее и менее были бы предусмотрительны остальные.
Мне думается, что «лови момент любви» вовсе не идет к войне. Война — совсем не женщина и даже совсем не дипломатия. Война хоть и женского рода, но со всеми качествами сильного и крепкого мужчины, который гордится своей нравственной и физической силой и знает хорошо, что согласиться на постыдный мир значит пасть даже перед самыми слабыми народами. Война — это мерило крепости государства, мерило его будущности, его чести и достоинства. Чем дольше устоит народ, ввязавшийся в войну, тем он жизнеспособнее и независимее. Недаром сказано: «Горе побежденным!» Это — действительно народное горе, которое почувствует не одно поколение. И если народ не торопится заключить мир, то именно по этому чуткому инстинкту, который в этом случае совершенно отвечает разуму. Зачем этот Дальний Восток, если он так дорого стоит? Отдать все, что потребуют японцы, да и баста. С высшей точки зрения это даже превосходно. Все — люди и все — человеки. Японец ли, китаец ли, русский — все Богом созданы и все братья. Но до сих пор почему-то всякий народ стоит за себя, и никого нельзя убедить, что воюя он плохо делает. История — не сказка доброй няни.
Вот теперь Россия в брожении. Кто бастует, кто требует конституции, кто революции; кто хочет через революцию получить конституцию, кто через конституцию — революцию, кто бунтует и режет, как на Кавказе, кто просто галдит, ничего не понимая. Порвались какие-то связи, а как их связать снова — никакой министр отдельно, ни все министры вместе этого еще не знают. И не решил этого и русский писатель, ежедневно читающий множество писем, начиная с крестьянских безграмотных, но полных здравомыслия, и кончая литературными, которые в сущности заключают те же мысли. И все эти письма полны гнева и жалоб, что мы забыли войну, что наша «революция» на руку японцам, что она ослабляет нас ужасно, что она грозит нам еще большими бедствиями, большей растерянностью, что она уже поднимает инородцев, которые затевают междоусобную резню и т. д. Скорей мириться? Нет, мириться не надо. И приводятся те причины, которые лежат в народном самолюбии, те воспоминания, которые отвергают возможность окончательного поражения, потому что никогда этого не было со времен татарского ига и междоусобья удельных князей, что мир не только не поможет убить революцию, но даст ей новые силы и средства, и вечный попрек правительству, которое унизило великий народ до позорного мира. Несколько писем почти в одних и тех же выражениях говорят, что если французская революция подняла Европу против Франции, то это же самое может случиться с Россией и ввергнуть ее в такие бедствия, о каких теперь и подумать страшно. Наши западные и юго-западные области отторгнуты… Я хочу верить, что это — кошмар, что это — безобразный сон, который снится теперь исстрадавшимся русским людям, потерявшим сознание крепости русской жизни.
Что делать, как восстановить распадающиеся связи? Мир, мир! Пожалуй, и мир, но в таком случае с тем условием, чтобы Япония, кроме Порт-Артура, Сахалина, Кореи и Ляодунского полуострова с нашей железной дорогой, взяла бы и 7 миллионов еврейского нашего населения. Тогда мы будем в выигрыше несомненном. Вы мне скажете, что я кончаю шуткой, что евреи — не стадо баранов и т. д. Ах, господа, положить конец этому трудному времени заключением мира, конечно, просто, но не все то гениально, что просто. То, что просто, и самое трудное, и самое сложное. Где гении? У нас множество людей разумных, деятельных, образованных, но не соединенных. В этом беда. Я указывал на Земский собор и в печати, и прямо власти, когда петербургские литераторы беседовали 11 января с князем Святополк-Мирским. Другого средства я не знаю. На это возражают, что теперь не такое время, что Земский собор возможен только во время мира и спокойствия, а теперь он послужит только еще большему разнузданию страстей. Неужели еще больше? Такие доводы мне кажутся слабыми. Ведь теперь ни мы, ни само правительство не знает способных и полных мужества и таланта людей в России. По меньшей мере, хоть этих людей покажет Земский собор. Но трудное время может и соединить все то здравомысленное, образованное и жаждущее внутреннего мира, на кого и опирается порядок. В этом — гений созидания для всей России, не желающей победы гению разрушения…
14(27) февраля, №10397
DXLVI
Сегодня счастливейший день в моей жизни. Простите, что я начинаю с себя. Но я ждал этого дня с нетерпением юноши, и, говоря о себе, я чувствую, что говорю и от всех моих читателей, которым я так много был обязан во всю мою долгую жизнь. Я уверен, что и они разделят мою радость, радость старика, который может сказать: ныне отпущаеши. Новые поколения будут жить при более счастливых условиях, чем те, при которых прожил я. Но я счастлив тем, что дожил до этого дня, знаменательного дня в русской истории. Это рассвет того дня, когда голос русского народа будет слышен во всем мире. Это начало новой эры для всего русского народа, который полил своей святою кровью свою родную землю и создал своим тяжким и благородным трудом великое государство. Все славянское племя будет счастливо, услышав сегодняшнюю весть о возрождении русского духа. Я узнал о ней со слезами радости.
Великий государь Русской земли обратился к ней с радостным лицом и, призвав Божию помощь и благословение на новое, великое дело, зовет лучших выборных людей к себе, в свою столицу, в город святого Петра и того гениального великана России, который будет жить не только в «медном истукане», но и в живых душах русских людей. Пока не умрет последняя русская душа, будет памятен и день сегодняшней благой вести, возвещенной великодушным государем. Как будет называться собрание представителей Русской земли, Земским ли Собором, постоянной ли, непрерывно действующей Государственной Думой, это все равно. В этом представительстве будут голоса родной земли, опытные, искренние, неподкупные, будет русская благородная душа, которая никому не выдаст своего отечества и ни перед кем не захочет посрамиться, ни перед внешним врагом, ни перед внутренним.
Я понимаю оговорку высочайшего рескрипта о «трудности и сложности», с которыми придется бороться для проведения этого преобразования в русскую жизнь. Истинно великое не бывает легким и простым. Оно требует особенного напряжения труда и способностей. Я мог бы сказать, что оно требует не только огромного труда, но и мук рождения, чтобы явиться на Божий свет здоровым, радостным, обещающим долгую и счастливую жизнь. Россия много жила, много работала поистине «в поте лица своего» и много страдала. Можно сказать, она выстрадала этот призыв к законодательной работе, выстрадала множеством лет своего медлительного роста и отнесется к ней с тем сознанием ответственности и долга перед отечеством, которые налагаются на нее отныне. И не только перед отечеством, но и перед всем миром, который отныне будет считаться не с одним правительством, но и со всем народом. Отныне все то, что начато в разных комиссиях и комитетах, все это пройдет через собрание представителей, через общий русский разум и общую русскую душу. Она должна явиться во всей своей зрелости и блеске, как утреннее солнце, разгоняющее тучи и страхи ночи.
Сегодня целовались русские люди, как в светлый день Воскресения Христова. Целовались искренним, братским поцелуем, поздравляя друг друга с воскресением России и посылая душевные поздравления своему государю. Да будет же этот день вечно радостным днем для государя преобразователя, для государя, понявшего русскую народную душу и пожелавшего выслушивать разум своей державы для ее мира, спокойствия и счастья. Пусть этот день будет общенародною радостью, радостью всей царской семьи и благословением того царственного ребенка, который лежит теперь еще в колыбели, но понимает улыбку и поцелуи счастья.
19 февраля (4 марта), №10402
DXLVII
У нас давно говорят, что в России нет политических партий. Их действительно нет в той организации, которая существует на Западе, потому что там определяет и объединяет известные группы конституция. Но наброски партий, если можно так выразиться, существовали давно и у нас, даже в XVI веке. В Смутное время определялись даже в довольно ярких очертаниях три партии: монархии неограниченной, монархии ограниченной, как подобие польского и шведского государственного порядка, и, если хотите, была социал-демократическая партия, которая имела талантливого вождя в лице Болотникова, собравшего дружину и вступавшего в правильные сражения с царскими войсками. Можно сказать, что эти три партии существуют и в настоящее время. Конституционная партия перешла через верховников, через «комитет общественного спасения» в первые годы царствования Александра I, через Сперанского, декабристов, сороковые годы, через все движение шестидесятых и всех последующих годов до настоящего времени. Как в этой партии, так и в родственной ей, которую можно назвать соборной, или прогрессивной соборной, есть, разумеется, оттенки, но обе партии одинаково станут против социал-демократов и революционеров. Революции желает партия незначительная, но прекрасно сплоченная, обладающая большой энергией и резким, бранным языком в своих органах и прокламациях. Содержание: сокрушение существующего порядка всеми способами и пренебрежительное отношение к либералам.
По письмам крестьян, которые получаются в редакции, прокламации этой партии распространены сильно. Крестьяне и называют эту партию «социал-демократической», иногда «леворюционной» и говорят о Маратах и «Робеспрерах». Партия эта верит в революцию, «как в то, что солнце восходит». Что она действует последовательно и неустанно, об этом давным-давно известно. Крестьянские письма, которые мне приходится читать, относятся к этой партии и даже к рабочим забастовкам отрицательно и с порицанием, как и к бездеятельности самого правительства. Л. Н. Толстой совершенно прав, говоря, что крестьянам мало дела до рабочих, до 8-мичасового дня и т. д. Но крестьяне знают о Земском соборе и говорят с удовольствием о своем представительстве в нем и о том, что им есть что сказать и что они сумеют сказать.
Намечая кратко взаимное положение партий, теперь, как и прежде, я настаиваю на организации умеренных партий, о чем я говорил несколько дней назад и получил уже об этом несколько писем с горькими вопросами: как организоваться, где сговориться и сплотиться?
Надо действовать. Надо надоедать правительству в этом отношении и надоедать друг другу. Надо определить свои партии ясно и отчетливо. Пора общего бестолкового смешения, какой-то Вавилонской башни, должна миновать. 18 февраля положило ей предел и заставляет именно разобраться в своих симпатиях и антипатиях с совершенною искренностью и определенностью. Государство строилось и думало, что оно достроится при помощи старых архитекторов, которые усвоили себе только один стиль, дозволявший не думать долго о плане, о рабочих, о кирпичах, о связях. «Мы достроим до неба. Мы возьмем там гром и молнию». Но случилось то же, что с вавилонским столпотворением. Языки смешались. Бог ли смешал их или сами они смешались, но гром и молния остались в руках Божьих. А мы не знали, кто кому сочувствовал, кто на кого негодовал, кто кого любил, кто к кому обязан пристать: все это было сомнительным и все друг на друга смотрели с тою опаскою, которая невольно сказывается при смешении языков. Но 18 февраля указало новый план постройки и недостатки старого. Одно оказалось построенным напрасно. Другое осталось недостроенным и забытым. Третье и очень важное даже не начиналось. И вот теперь надо приниматься за работу ревностно и дружно, по новому плану, но помнить, что работе будут постоянно мешать дьяволы, умные, деятельные, насмешливые. Один из этих дьяволов, гётевский Мефистофель говорит рассудительному Фаусту: «Мы те, что способны достигать великих целей; смута, насилие и безрассудство (Tumult, gewalt und Unsinn) — вот наше знамя», наши средства. Не смотрите на них ни с презрением и пренебрежением, ни со страхом и боязнью. Смотрите бодро и смело, как мужественные солдаты, и помните, что чем меньше будет согласия между вами, преданными спокойной работе, тем более согласия между ними. Они поймут сегодня же, что их усилия должны быть удвоены и утроены, и они это сделают. Не думайте, что вы их истребите. Это постоянное историческое явление, начало которого, вероятно, относится к временам допотопным. Оно существует и в парламентарных монархиях, и в республиках, но борьба с ним всего труднее там, где, как у нас, и спокойные прогрессивные элементы не могут высказываться и действовать независимо. Целые два поколения люди крайних партий, укреплялись и находили полусочувствие, полустрах, смешанные иногда с высокомерием, и у партий умеренных. В государственной жизни надо прежде всего расстаться с высокомерием, со слепотою, беспечностью и самонадеянностью. Люди революционных партий еще после 1881 г. говорили: «нас было главных всего 30 человек. А мы водили за нос полицию тайную и явную, мы писали бумаги в III отделении, делаясь его чиновниками, проникали всюду, всюду находили помощь и защиту, наводили террор на правительство, и внушали молчание обществу, и распространяли наши издания в десятках тысяч экземпляров».
Вот к чему вело устранение спокойных общественных элементов от участия в управлении страною и законодательстве. Но надо помнить, что чем больше свободы в стране, тем жизнь беспокойнее, ярче, сложнее.
Не думайте, например, что Англия, эта страна свободы, спокойная страна. Это одна из самых бурливых и самых беспокойных стран. Возьмите хорошую английскую энциклопедию и просмотрите в ней слово «riots», бунты. За все прошлое столетие эти бунты, более или менее значительные, происходили ежегодно, с убийствами и грабежом. Начало этого столетия не обходится без них же. Сочтите стачки, митинги, сходки, не говоря уже о выборной борьбе. Они происходят тысячами. В 1888 г. стачек было 504, в 1889 г. — 1145, в 1890 г. — 1028, в 1900 г. — 648, в 1901 г. — 642. Какое же это спокойствие? Только у нас думают о каком-то невозмутимом спокойствии и воображают, что тишь да гладь и есть Божья благодать. Власть должна быть деятельна, разумна, предупредительна. Служба не есть синекура, не отдых, а постоянный труд. Ничего не разрешать значит ничего не предвидеть. Чем свободнее жизнь, тем больше она требует и от власти и от общества. Сидеть у Христа за пазухой уже невозможно ни правительству, ни обществу. Помните, что в этот один год мы прожили полстолетия. Мы неслись в этот год, как бешеный поезд, как корабль в бурю, без руля и ветрил. Мы уцелели, слава Богу, но сколько изломано, исковеркано, погибло, ранено в сердце. Надо не только сохранить, что имеем, но все исправить, вырастить и самим окрепнуть. Правительство должно быть везде. Оно точно сконфузилось от нападок на бюрократию и начинает устраняться. Это все видят и чувствуют. А общество, привыкшее на поводу ходить, тоже не знает, что делать, тогда как революционная партия работает и затруднения растут. Я того мнения, что предварительные работы для Земского собора (я бы его желал, это слово усвоено уже всею заграничной печатью) должно вести со всею энергией и дать обществу возможность сплотиться и действовать как можно скорее. Я это высказывал не раз, думая, что творчество в беспокойное время имеет свои преимущества в подъеме духа, в ощущаемой всеми опасности, которая будит и апатичных и возбуждает бодрость и энергию у спокойных.
Будет вечный позор и срам для людей спокойных, желающих мирной реформы, если они и после высочайшего рескрипта 18 февраля будут сидеть сложа руки.
— Рабочие бастуют.
— Что же делать? Пусть их! Это дело фабрикантов.
— Профессора и студенты бастуют.
— Вот важность. Юлий Цезарь, Вольтер, Петр Великий, Екатерина — в каком университете они были, каких профессоров слушали? Пускай не учатся.
— Бастуют гимназисты. Это ведь дело родителей.
— А что ж правительство? Почему оно ничего не делает и все позволяет? Сначала ничего не позволяло, а теперь все позволяет. Вот и вышло…
— Но ведь революция надвигается.
— Какая там революция? Просто скандал. Полиции нет, вот в чем беда.
— Да вы за кого?
— Теперь? За себя самого. Своего сына отправлю в Берлин. Имение продам, и сам уеду.
— Эмиграция? Ну а те, которым эмигрировать некуда?
— Это их дело. Пусть разбираются в этой чепухе.
Если так рассуждать, то выйдет, что мы не готовы ни к борьбе на войне, ни к борьбе за мирную реформу. Прочтите нашу берлинскую корреспонденцию: немцы называют нас «навозным народом» (Düngungsvolk). Мы служим удобрением для других народов.
22 февраля (7 марта), №10405
DXLVIII
Шуточки, шарады из инициалов первых букв фамилий, вроде «дураки», «подлецы», пошлости в виде фамилий на грузинском языке, которого никто, к счастью, не знает, — так что грузинское остроумие и останется таким же непонятным, как звуки «швили», «надзе» и «швали» — вот интеллигентные орудия той партии забастовщиков, против которой имели смелость подняться несколько сот человек. «Новости» сегодня даже перепечатали одну шараду из провинциальной газеты с указанием ее разгадки, точно трудно из инициалов фамилий и имен составить ругательные фразы на кого угодно, даже на евреев, подающих теперь петиции о равноправности — да будет вам это известно!
Мы думаем, однако, что усилия меньшинства молодежи не пропадут даром, как не пропадает ни одно здравомысленное и честное слово, ни один смелый поступок. Это меньшинство молодежи начинает серьезное дело организации тех созидательных элементов, в которых теперь настает такая нужда. Пусть бушует буря и раздается бессмысленный хохот толпы, когда льется кровь потоками, когда высятся холмами трупы, благородный и независимый голос меньшинства молодежи — явление в высшей степени знаменательное. Это те, которым в грядущих наших судьбах будет принадлежать роль энергичных общественных и государственных деятелей. Они вступят в ряды творческих элементов русского народа, приготовленные научным трудом, нравственной дисциплиной и сознанием долга перед своим народом. Пусть толпа пропадает, как пропадает всякий шум, как проносится сжигающий поля ветер, пусть она подчиняется инородческим элементам, тоже деятельным и трудолюбивым, как гг. поляки, как гг. евреи, может быть, роющие яму этой легкомысленной толпе своим подстрекательством, меньшинство русской молодежи, готовящейся вступить в жизнь во всеоружии науки, явится опорой русскому народу, который жаждет благоустройства и прочного порядка. Никто из этих юношей, которые подавали свой голос в пользу продолжения занятий и иногда так талантливо и смело мотивируя свою решимость, никто из них не обмолвился даже намеком против реформаторского движения. Все они одушевлены желанием работать для отечества на новых открывающихся путях, все они хотят, чтобы широко отворились двери для свободного труда, свободного соперничества талантов и независимости человеческой личности. Но они помнят свой долг перед отечеством, перед народом, который дает из своих скудных средств те миллионы, которые идут на высшее образование в ущерб народным школам. Они знают, что одно здание политехнического института, вновь построенного, стоит 12 миллионов, взятых из народной казны, тогда как на все народные школы не отпускается ежегодно такой суммы. Они знают, что народ, сражающийся на Дальнем Востоке, это — трудолюбивейшие дети России, усилиями которых создана Русь. Это меньшинство станет и в ряды армии, когда придет его черед, и не будет, при помощи своей забастовки, посылать вместо себя этого вечного мученика, мужика. Он — их брат, и народ оценит эту любовь, эту преданность образованных людей делу обновления народной жизни путем той просветительной помощи, которая требуется на каждом шагу. Пусть большинство увеличивает собою толпу праздных и продолжает жить на чужой счет до тех блаженных времен, когда настанет желаемое им время Учредительного собрания и всеобщего тайного и прямого избирательного права, оно обманется в своих ожиданиях, ибо чем сложнее, ярче и выше события, тем более требуют они ума, знания, способностей и твердого сознания своего долга. Принадлежать к толпе не Бог весть какое отличие. Недавно группа московских студентов-забастовщиков, отвечая в «Русских Ведомостях» мне, который назвал забастовщиков навозом, сказала, что они гордятся тем, что составляют навоз для будущего. Я мог бы заметить на это, что навоз навозу рознь. Есть такой навоз, который заглушает растительность, убивает плодородие; даже чрезмерное обилие навоза вредно действует на пашню и дает плохой урожай. Не о таком ли обилии навоза говорит московское студенчество? Не слишком ли много неразборчивого навоза собираемся мы класть в землю? Что толку в этом множестве молодых людей, которые, по народному выражению, слоны продают, т. е., только слоняются и готовы составить раек для рукоплесканий? Для этого райка и для этого интеллигентного навоза давно уже у нас много публики, так много, что она может аплодировать беспрерывно целые сутки. Но очень мало тех дарований, которые стоят того, чтоб им аплодировать. Большею частию все это посредственность. Я имею возможность читать заграничные русские издания, читаю прокламации. Все это большею частию так посредственно, такое пережевывание того, что я читал еще в молодые годы, что удивляешься этой пустоте. Талантливая вещь страшно редка, а оригинальная, не навеянная каким-нибудь европейским корифеем социализма и анархизма, совсем не встречается. А я читаю усердно. Я искренно желаю знать, что думает то поколение, среди которого я живу. Едва ли есть такая книга, изданная за границей по-русски, которую я бы не прочитал или не пересмотрел. Но Герцен до сих пор остается гигантом среди этой литературы и «Колокол» — лучшей газетой. Жажда быть навозом, может быть, и объяснима с лучшей стороны, которую она имеет. Но навоз и все навоз — ведь это даже скучно, а «благородство» жертвы испаряется и наполняет воздух и разлетается в широком небе. Вы скажете, что и пар падает на землю благодатным дождем. Да, падает. Но его довольно и от дыхания почвы, от глубокого дыхания народа.
Несколько крестьян пишут мне, что толки о забастовке профессоров, студентов и гимназистов надоели, как Демьянова уха. Я думаю, что это правда. Все сказано, что надо. В конце концов победит здравый смысл народа, который уже говорит в своих письмах, на своих сходках в деревнях. Чешский вождь, г. Крамарж справедливо говорит, чтобы вы не рассчитывали на тайную, всеобщую подачу голосов. 60 миллионов взрослых людей. Какая нужна сила, чтобы управлять этим множеством. Какая нужна самоуверенность в победе, да еще при страстном желании быть только навозом!
Идет страшная битва целых одиннадцать дней. Может быть, небывалая битва в летописях мира. Но сколько там мужества, отваги, героизма, преданности русской земле, и сколько в Петербурге пошлости и мелочности, нас поглощающих! Точно не происходит ничего особенного, не решается вопрос огромной важности на Дальнем Востоке, не существует сотен тысяч русских, которые дерутся как львы и умирают тысячами, убивая такие же тысячи врагов. Ведь мы, может быть, накануне возвращения России к старинным скромным границам, даже не времен очаковских и покоренья Крыма. В дыме пожара, в муках отступления совершается великая трагедия, отчаянная борьба русской армии. Сердце обливается кровью, и ужасом полна душа…
24 февраля (9 марта) №10407
DXLIX
Разбит флот, сдался Порт-Артур и страшное положение нашей армии. Вот три акта этой ужасной трагедии там, на Дальнем Востоке. Но трагедия идет и здесь, внутри России, и она тесно связана с той, которая разыгралась так несчастливо в далекой стороне.
Вся смута наших дней, все это смешение понятий, весь этот сумбур, и крик, и плач, и буйства, все это находится в связи с основным чувством всякого русского человека — обидою национального самолюбия. Каких бы ни был человек политических убеждений, хоть самых крайних, но внутри его клокочет эта обида, и он не может ее победить никакими рассуждениями. Его отцы, деды, прадеды, все его предки гордились русскими победами, славою своих знамен, своими героями. Каждый школьник заучивает стихи о славе русской, о русских богатырях, о Полтаве, о Румянцеве, о Суворове и Кутузове, о Скобелеве и проч. и проч. И все эти имена и вся гордость наша подернулись трауром поражений на Дальнем Востоке. Это жгучее чувство, многими не выговариваемое, тем сильнее поднимает в сердце обиду, ищет виновных и кипит гневом до потери самообладания и рассудка…
Может быть, положение нашей армии, этот оплот против врага, образумит хотя тех, кто еще не совсем потерял разум, кто еще верит, что это ужас для страны, когда разбито правительство, разбиты высшие учебные заведения, разбито общество. Может быть, несчастия родины услышатся и во имя ее отзовутся здоровые силы. Я никогда не воображал, что доживу до таких времен, когда студенты закрывают высшие учебные заведения, гимназисты закрывают гимназии, полиция грубо бросается на детей, точно обрадовалась, что наконец-то нашла таких врагов, с которыми может справиться. Это в Курске. Мне пишут, что педагогическое начальство открывало гимназистам залы для обсуждения общих вопросов, а затем пустило их на улицу для демонстрации. Какое гражданское мужество! К счастью, в некоторых гимназиях начальство не пустило детей на улицу, а вызвало родителей, которые и увели своих детей домой и избавили их от нагаек. В какой стране и какой министр народного просвещения обращался когда-нибудь к родителям для совещания с ними о «педагогике»? А у нас нашелся. Если б меня, например, позвали на такое совещание, я мог бы только сказать гг. педагогам: извините меня, если вы так бессильны и ничтожны, что не знаете своего дела, то почему же я-то должен его знать? Это признаки полного бессилия, а не то чтобы либерализма или каких-нибудь просветительных целей. Это такая же нелепость, как позволять гимназистам собираться на сходки для обсуждения общих вопросов и затем пускать их на демонстрацию. Кто тут виноват? Неужели дети? В Киеве гимназисты пришли к студентам и спрашивают: «что нам делать?» — «Мы сами не знаем, что делать», — отвечали студенты. Почему же гимназисты не обращались к педагогам?
И за всей этой бестолочью и бессилием интеллигентной бюрократии и интеллигентного общества, которое имеет столько родственных и материальных связей с нею, за всем шумом забастовок, споров о том, учиться или не учиться, работать или не работать, созывать Собор или не созывать, за всем канцелярским трудом Комитета министров, который образует многочисленные законодательные комиссии, которые легко и более плодотворно могли быть заменены одним Собором, за всей этой спешкой и бестолковым волнением, не слышно уж ни об армии, сражающейся, не считая не только часов, но и дней, и не слышно голосов благоразумия, или они очень редки и очень нерешительны. Неужели только одна печать может говорить с обществом и народом, а не могут и не должны с ними говорить министры и другие правители? Обычая нет? Но и такого времени не было. Надо создать обычай.
В воздухе стоит не то конституция, не то революция, бездарная революция на казенный счет, революция на счет того же мужика, который поит и кормит это государство со всей его интеллигенцией и который не понимает еще, что такое происходит и к чему это может повести, к нашествию ли немцев, которые придут устраивать порядок, или к окончательному разрушению государства и к новому, последнему рабству этого же народа. В этом необъяснимом безумии, которое мечется или упорно сидит, уткнув глаза в землю и думая, что все само собою устроится, только народ продолжает неуклонно исполнять свою работу, платить подати, подготовлять пашни для посева, извозничать, доставлять солдат в армию и сохранять свой разум. Только он продолжает свой вечный труд и живет в тех же нищенских избах, не мечтая о каменных палатах и своем суверенитете. Далекий от завоевательных планов, от усилий усовершенствовать государственный порядок и от усилий поднять революцию, он думает только, как бы увеличить свою пашню, и не верит проповедующим просвещение, которое якобы всему поможет и даст такие знания, что десятина будет приносить столько, сколько теперь и десять десятин не приносят. С глубокой скорбью узнает народ о беде русской армии, о десятках тысяч солдат, положивших голову безропотно за честь России. Он знает эту честь. Он умеет ее держать. Не беспокойтесь. Когда у него, у этого народа, не было никакой интеллигенции, когда цари даже были малограмотны, а начальство совсем безграмотно, он умел отстоять свою землю от просвещенного врага, начальство которого говорило по-латыни, и умел водворить порядок собственными усилиями. Он народ-строитель, народ-работник и не повесит голову. Он не поймет генерала Драгомирова, который уверяет, что оставление своего поста генералом Гриппенбергом есть проявление «высшего гражданского мужества» — для него это слишком кудряво и слишком вымучено, как суверенитет, за который прячется революция, — но видя это крушение всякого порядка, начиная с «гражданского мужества» генералов, он, пожалуй, подумает, что дальше войну продолжать невозможно. Кто же это воспитан на деньги этого народа, кто же это собирает какое-то «большинство» разных сортов интеллигенции, когда никто не спрашивает большинство этого народа? Почему даже евреи говорят именем этого народа и угрожают его представителям французской фразой «j’accuse», когда если б этот народ спросили, он послал бы этих евреев к кузькиной матери? Или интеллигенция и бюрократия желают соединиться с еврейством и обезгласить и обессилить этот народ, насадив на его плечи семь миллионов евреев, которые обездолят деревни и сядут в них помещиками? Понять невозможно.
Я потрясен всем тем, что происходит, до глубины моей души, и если б Бог судил мне сейчас умереть, я бы не позавидовал спокойствию тех моих просвещенных соотечественников, которые могут спокойно есть и спать и спокойно рассуждать. Миллион терзаний у русского человека. Как бы резко и отчаянно он ни говорил, это его душа кричит, и если люди ее не услышат, услышит, может быть, Бог и сжалится над нею.
26 февраля (11 марта), №10409
DL
Генерал Драгомиров высказал одобрение действиям генералов Стесселя и Гриппенберга и неодобрение «газетчикам».
Между современными военными писателями генерал Драгомиров неоспоримо авторитетнейший. Едва ли есть какой-нибудь военный вопрос не только крупный, но и мелкий, которого он не исследовал бы основательно и талантливо. Не обладая ни малейшим авторитетом в военном деле, я хочу говорить, как «газетчик».
Когда генерал Гриппенберг приехал, я хотел сказать, что он забастовал, как бастует студент, — студент до Учредительного собрания, генерал Гриппенберг до отставки генерала Куропаткина, который не помог ему выиграть битву. Но я этого не сказал, ибо у меня потом явилось другое объяснение поступка командующего первой армией.
Генерал Гриппенберг приезжает в армию и, прежде чем познакомиться с врагом и померяться с ним, говорит солдатам речь, что он «никогда не отступит», что если он отступит — ну, и т. д. И вдруг оказалось, что он принужден был отступить, хотя у него было 120 батальонов; если только по 800 человек батальон, то около ста тысяч. Но ему надо было все больше и больше, ему не дали, и это его так огорчило, что он уехал в Петербург и стал рассказывать журналистам подробности своих действий. Журналист имеет право быть нескромным — если тут можно говорить о праве, — ибо большая часть его обязанностей заключается в нескромности. Но у генералов должны быть другие обязанности и, как я ни объяснял себе поступки почтенного и несомненно мужественного и талантливого генерала, я путался. Рассказывали, что Куропаткин умолял его остаться, написал ему несколько дружеских писем, говорил, что теперь не время личных счетов, что их надо забыть ради пользы государя и отечества, что положение трудное, что предстоит решительная битва, в которой такой доблестный генерал может принести большую пользу, генерал Гриппенберг не ответил ни слова и уехал. Может быть, он предвидел поражение нашей армии и не хотел принимать в этом участие? Но разве это хорошо? Разве на войне всякий подчиненный, не согласный с своим начальником во взглядах, может спокойно уехать? Или это привилегия только немногих? Но ведь есть военные советы, соглашения. Указывают на Барклая и Багратиона, которые вечно ссорились, но оба оставались в армии. А тогда это было в России, а не в тридесятом царстве, как теперь.
Что ж генерал Драгомиров сказал? Он выразился об отъезде из армии генерала Гриппенберга так: «по здравому смыслу этим поступком он явил свидетельство высшего гражданского мужества, особенно тяжкого для военного и притом одаренного Божией искрой в своей специальности». То же самое «газетчики» говорили о генерале Стесселе, когда он сдал Порт-Артур, но я написал тогда, что в военное время не понимаю гражданского мужества. Однако генерал Драгомиров мотивирует свое мнение не как газетчики, но очень оригинально и влагает его в уста генерала Гриппенберга в таких выражениях: «Какое право я имею занимать место высшего командования, если по зависящим или же независящим от меня обстоятельствам я не могу исполнить обязанностей, тем местом на меня возлагаемых?»
О «независящих обстоятельствах» говорить едва ли возможно не только «по здравому смыслу», но и по незнанию этих обстоятельств: мы знаем только показания генерала Гриппенберга, а показаний генерала Куропаткина не знаем. Надо же быть справедливым хотя настолько, насколько справедлив суд, выслушивая прокурора, следствие и адвокатов в таких проступках, которые ровно никакого отношения к судьбам России не имеют. А тут ведь судьбы России. Не может же радовать генерала Гриппенберга теперешнее поражение маньчжурской армии. Если на минуту он допустит, что он бы помог выиграть битву, сердце старого генерала должно обливаться кровью и, может, оно обливается, и, может, он проклинает свой поступок и отвергает у себя не только «высшее», но и какое-нибудь «гражданское мужество».
Что касается «зависящих обстоятельств», то их, пожалуй, можно принять в таком виде: генерал проиграл битву и тут же слагает с себя командование. Так должны были поступить генерал Засулич, барон Штакельберг и прочие другие командиры отдельных частей. Командование немедленно принимает другой генерал. При таком порядке получилась бы возможность экзамена в генеральских способностях, тогда как теперь проигранная битва не лишает генерала случая проиграть еще несколько битв и даже получить награду по каким-нибудь военным соображениям, недоступным пониманию ««газетчика»» Такой порядок вещей приблизил бы молодых генералов и полковников к командованию большими отрядами и дал бы возможность им выказать свои военные таланты. Но ведь и способный генерал может проиграть битву, а на место способного может явиться неспособный. Это — во-первых; во-вторых, и тут не приложимо «высшее гражданское мужество»: как ни трудно сознаться в своей неспособности, все же самосознание не заслуживает такого титула. А в-третьих, и сам генерал Драгомиров едва ли разумел подобный экзамен генеральских способностей, прекрасно зная, что это самосознание легко может быть заменено просто сменой начальника, обнаружившего свою неспособность. На войне это необходимо. А у нас этого не было. Вероятно, из жалости. Как можно сменить хорошего или приятного человека? Как можно лишить его хорошего места, возможности получить награду, как огорчить его родственников, сделать неприятность его бабушке или дядюшке? Увы, это у нас сплошь и рядом, а отдувается за это Россия. Штабные давно пользуются репутацией ничегонеделания и тою необыкновенною легкостью, с какой они получают награды за совершенные пустяки.
Будучи сам стариком, я стою за молодых, ибо не все военные старики — старики Суворовы и Кутузовы. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Аннибал, Петр Великий (при Полтаве ему было 37 лет), Наполеон, Скобелев, будучи не равными по талантам, были совсем или сравнительно молодыми людьми, когда одерживали победы. Во время войны нашей 1877–1878 гг. выделялось много военных талантов. Почему их нет теперь, я не понимаю.
Может быть, потому, что первенство отдано все старикам? Вообще меня поражает общая русская бездарность на всех поприщах, и я вижу, как в зависимости от нее все падает и валится, и я вижу, как высоко поднимает голову инородчество, еще более бездарное, но не болеющее нашей русской болью, нашими поражениями, а, напротив, радующееся тому, что мы обессилили…
Побежденные генералы едут в Петербург и первое, что они делают, или сами, или через своих начальников штабов, — это откровенничают, то сваливая свои неудачи на других, то стараясь оправдываться перед русскими и иностранными «газетчиками». Так поступали адмирал Алексеев и его начальник штаба генерал Жилинский; но они не сказали нам, что они с огромным штабом делали в течение 4-месячного пребывания в Мукдене. Изучали ли они местности, делали ли съемки, предпринимали ли экскурсии в страну, вели ли свои журналы, освещали ли все в незнакомой стране, которая так знакома неприятелю? Все это покрыто мраком неизвестности. С откровенностями явился начальник штаба генерала Стесселя генерал Рейс, и, главное, так поступил генерал Гриппенберг. Зачем он скакал в Петербург? Что он привез с собою, чем он помог маньчжурской армии и в ее лице России? Удовлетворил свое самолюбие? Явился вестником теперешнего поражения? В чем же его «высшее гражданское мужество»?
Генерал Драгомиров справедливо говорит, что «оплевать своего доставляет нам особенное удовольствие, в коем себе отказывать никак не можем». Я бы прибавил: еще триста лет тому [назад] один русский сказал: «Мы едим друга и тем сыты бываем».
Не дают ли наши генералы, бывшие на войне и прибывающие в Петербург, где вообще генералы с таким самодовольствием критикуют и подписывают бумаги, новое доказательство этого печального качества?..
Я так и остаюсь в недоумении насчет «высшего гражданского мужества» генерала Гриппенберга. Не пустое ли это слово? Не лоскут ли это бумаги и ничего больше? Не там ли «гражданское мужество», где нет розни, где все действуют заодно, где не бастуют в трудное время ни рабочие, ни студенты, ни профессора, ни генералы и где долг перед отечеством запечатлен в каждом сердце?…
28 февраля (13 марта), №10411
DLI
Вы смущены, испуганы, не знаете, что делать?
Говорят, что со времен Аустерлица не было такого поражения русской армии, как в битвах под Мукденом. 2 декабря 1805 г. Наполеон разбил двух императоров, австрийского Франца и русского Александра, причем русские войска понесли наибольшие потери. Последовало перемирие и мир. Но Куропаткин, выдерживавший битву 15 дней, не просит перемирия и продолжает биться. Пускай военные разбирают причины этого несчастия и характеризуют и самого главнокомандующего, и его штаб, и корпусных командиров, и самую систему войны; я вижу только отсутствие талантливых людей и инициативы у отдельных командиров.
Пускай военные вспомнят Наполеона, который сказал, что полководец должен обладать божественною частью искусства (la partie divine de l'art), то есть тем вдохновением, которое составляет силу всякого искусства. Битва есть творчество, и чем она сложнее, тем напряженнее должно быть вдохновение и тем выше, тем гениальнее. При тех трудностях, которые представляла эта кампания, при той неподготовленности нашей, которая обнаруживалась на каждом шагу, при том малом знании неприятеля, от полководца, вероятно, требовались силы гения, которыми не обладал наш вождь.
Во всяком случае, дело в России, а не в отдельных личностях. Нам, простым смертным, для которых очевидно только поражение, а не его причины, довольно и этого. Я говорю, как простой русский человек, для которого очевидны только последствия, очевидно поражение и для которого все равно, почему оно случилось, как все равно было бы ему, почему случилась, победа. Победа не то, что поражение, победа — торжество народного духа, поражение — убыль его и народное горе. Было ли у нас меньшее или равное с неприятелем число войск, были ли у него лучшие командиры или худшие, это дело будущей критики. Для нас все это не важно, не важны те или другие личности, те или другие преимущества, даже не те или другие потери, как бы они тяжелы ни были — нам одно важно — результат. Народная фантазия заставляет вместе с войсками сражаться небесные силы и этому верят и этим радуются, когда раздается победа. Наша фантазия молчит. Она угнетена бедствием на поле сражения и тою смутою, которая существует внутри и которую не трогает народная печаль, точно это какое-то проклятие или камень бесчувственный, который только и знает, что давит и жалит, не останавливаясь перед преступлениями самыми дьявольскими, перед будущим, которое грозит большими потоками крови на родной земле, чем те, которые пролились в Маньчжурии. Что и кто может образумить эту вражду, поистине братоубийственную?… Не хотят ли эти враждующие силы помогать японцам и довести Россию до позорного мира?…
Из массы писем, полученных мною за эти три дня, только одно говорит о мире, да и то почетном. Все остальные в пользу войны во что бы то ни стало, до тех пор, пока враг не будет сломлен и не попросит мира. «Идти на позорный мир значит стать под знамя жидовства, которое теперь высоко подняло голову и кричит больше всех».
Я не думаю так мрачно, но очень хорошо понимаю, что в этой сумбурной революции на казенный счет, которую русский народ переживает теперь, возможны всякие мнения. Правительство молчит и никто не знает, что оно делает. Кроме передовых статей Комитета министров, в которых излагается то самое, что твердила печать много лет, мы ничего не знаем. Даже о нашем положении под Мукденом знаем только то, что телеграфируют наши корреспонденты. Сообщения генерала Куропаткина так кратки, что по ним нельзя себе составить никакого понятия о том, в каком положении находится наша армия. Действительно ли ее не существует более, как говорят лондонские газеты, — в таком ли она расстройстве? Действительно ли положение России вследствие поражения этой армии и сумбура внутри России таково, что ничего не остается, кроме того, чтобы просить мира? Действительно ли за всевозможными забастовками и бессилием исполнительной власти начинается пугачевщина? Действительно ли полиция возбуждает «чернь» к избиению интеллигенции, как о том неустанно твердят газеты, или сама эта «чернь» поднимается на интеллигенцию и в том числе на полицию и правительство, которые составляют часть этой же интеллигенции? Конечно, на все эти каторжные вопросы можно молчать и даже легко так устроить, что этих вопросов и не будет в печати. Но несомненно они будут в самой жизни, несомненно они приводят в смятение и тревогу население. Печать есть несомненный помощник правительства, в особенности в такое тревожное время, но когда она не может сообщать факты, она, кроме тревоги, ничего не может дать. Тревога же эта будет слышаться в каждой строке, она будет звучать в самых обыкновенных фразах. Я имею доказательства, что если б печать могла говорить обо всем том, что происходило в начале января на заводах, бастовавших под влиянием речей нового Никиты Пустосвята, попа Гапона, то не было бы 9 января совсем. Печать знала все, а министр внутренних дел, князь Святополк-Мирский сам сказал представителям печати, которые были у него 11 января в числе, по крайней мере, 20 человек, в том числе и я, что он узнал действительное положение только 8 января, то есть накануне движения рабочих на Петербург. Это исторический факт. Печать при своих ничтожных средствах, но с симпатиями публики, все интересы которой заключаются в сохранении порядка, знала больше, чем министр внутренних дел, у которого в распоряжении полиция явная и тайная, стоящая большие миллионы.
Мы знаем ежедневно, что происходит в каждой даже маленькой стране, где есть представительство. Телеграммы спешат оповестить о малейшем случае в этих странах на весь мир. Какое бы ни было представительство, состоит ли оно из «богатырей», адрес которых можно узнать у г. Демчинского, или из скромных людей, не лезущих в богатыри «пера и слова», но оно говорит, оно допрашивает гг. министров и гг. министры не могут не ответить им, и вопросы и ответы тотчас же узнают все, начиная от государя и до последнего его подданного, который умеет читать и интересуется тем, что происходит на его родине. Одно это, эта гласность значит чрезвычайно много для государственного порядка и уверенности в этом порядке всех и каждого. И когда говорят о Земском соборе, когда страстно желают немедленного его созыва, то прежде всего разумеют эту практическую выгоду, это практическое, высокое его значение. Кто его не желает? Таких людей, думаю, нет и быть не может теперь, когда бюрократия сама признает себя бессильной и когда член Государственного совета (см. №10413) говорит: «Мы живем в такое время, когда мысль, сейчас совсем правильная, через несколько дней является неприложимой вследствие быстро сменяющихся обстоятельств».
Не ужасно ли это, что «правильная мысль» сегодня, завтра оказывается какою-то ветошью, которую надо сдать в архив. Молчание правительства угнетает больше, чем поражение нашей армии, — говорю слова эти не на ветер: ими полна вся политическая атмосфера России.
3 (16) марта, №10414
DLII
Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, и пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый — ближним своим; юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин — над вельможею.
Исаия, 3, 1–5Узнав о поражении нашей армии, он «погрузился в небывалое по глубине и силе раздумье. Что это было за раздумье: молитва ли Богу или странствование души по тем святым местам прошлого, где воскресали дорогие тени всех тех, которых сердца были чистейшими родниками любви к отечеству, всех тех, которые не умели ни лгать, ни лицемерить в этой святой ее области, и там я воспринимал как будто их вдохновенное наитие».
Это — как бы плохонькое подражание Апокалипсису св. Иоанна Богослова. Когда князь Мещерский начинает говорить не своим языком, а приведенные слова — его слова, я обыкновенно ничего понять не могу и ни слову не верю. Не верю тому, что он «погружался в небывалое по глубине и силе раздумье». Я поверил бы, если б он говорил о простой ванне. Не верю и в странствование души его по всем тем «святым местам», где он якобы воспринимал «вдохновенное наитие», и существованию самых этих святых мест не верю. И зачем эти «глубокое раздумье», «святые места» и «вдохновенное наитие», когда он пишет эти пифические декорации для того, чтоб сказать самую простую мысль, что необходимо сейчас же заключать мир. Декорации выходят смешные и, в зависимости от них, естественность и простота мысли получают какую-то лицемерную вычурность.
Вот «Новости» гораздо проще выражают ту же самую мысль: «Можно хорохориться, упирать руки в боки, становиться фертом, плевать на события, — да ведь от этого сильнее не станешь. События все-таки окажутся и громче, и сильнее, и грознее; но чем позднее им подчинишься, тем горше поплатишься». Мне эта простота, несмотря на ее вульгарность, нравится гораздо больше превыспреннего «погружения в глубину раздумья» и странствования по святым местам, где текут «родники любви к отечеству».
Я думаю, что обо всем надо говорить просто. И прежде была любовь к отечеству, и теперь она существует, и прежде она выражалась различно, и теперь выражается так же. И в Смутное время, и в 1812 г. тоже говорили одни о необходимости заключить мир и идти на позорные условия, так как, мол, чем дальше, тем будет хуже; другие, напротив, настаивали на том, чтоб напрячь все народные силы и выйти из борьбы с честью и достоинством, приличными великому народу. Великому народу стыдно из великого стать малым. Между двумя этими направлениями патриотической мысли во все тяжелые времена и у всех народов происходила постоянная борьба. Во время французской революции, когда Европа вооружилась против Франции и двинула к ней свои войска, происходило подобное же явление, и во все эти времена находилось множество людей, которые считали необходимым отстаивать честь своей родины, не жалея ничего. В 1871 г. Франция легла у ног своего победителя, который пленил императора и взял столицу, и столица превратилась потом в очаг коммунистической революции, вызвавшей междоусобную войну, и этот пример доказывает, как трудно народ мирится с поражением. Оно и понятно: народ живет, пока в нем кровь кипит, и сердце сильно бьется, и пока краска стыда не покрывает его лица при криках: горе побежденным!
Как бы ни было печально настоящее, оно печально не потому, что будто бы уж никакой любви к отечеству не существует, кроме «трактирной», как выражается одна газета, или воровской и грабительской, как выражается другая, и что все прогнило насквозь, изворовалось, исподличалось, изолгалось и годно только на то, что все это смести в какую-нибудь бездну и засыпать известью, чтоб эта гниль и в смерти своей не заражала воздух. Я не вижу никакого различия между «погружением в глубину раздумья» для заключения мира и погружением в бездну веселого и самодовольного отрицания всяких достоинств того русского патриотизма, который не хочет переворота и революции, не хочет бесчестья позорного мира и который клеймится всякими ругательствами и выбивается всяким насилием, и все для того же немедленного заключения мира. И постный вид князя Мещерского, и самодовольно торжествующий вид других, выплясывающих какой-то жидовский танец на наших несчастиях, одинаково не отвечающий тяжелому настоящему вид. Теперь не может быть места ни мрачности, ни самодовольному смеху. И для того, чтоб заключить мир, и для того, чтоб продолжать войну, необходимы бодрость и смелость. Унынием и смехом ничего не возьмешь: и уныние, и смех одинаково лишены творческих способностей. Если мы в самом деле находимся на краю бездны; если в самом деле нет у нас даровитых генералов и способных офицеров генерального штаба, нет ни надежного войска, ни вооружения, ни возможности собрать армию и хоть часть расчетов возложить на флот; если у нас в самом деле революция, отчасти активная, например, на Кавказе, где происходит что-то уму непостижимое, и частью пассивная, революция, с которою администрация справиться не может по своей ли местной бездарности, или по бездарности общей; если у нас нет и не может быть государственных людей, которые могли бы стать в уровень с событиями и, одушевленные крепкой волей, сильной мыслью и патриотизмом, действовать с энергией того действительного гражданского мужества, в которое в наше время облекается бездарная воинственность и самодовольная забастовка; если нас не страшит возвращение на родину разбитых армий, которые привезут с собою недовольство, стыд и слезы; если нас не страшат условия мира лишиться не Маньчжурии только, которая не наша, но и того, чем мы бесспорно владели, и заплатить миллиардные контрибуции; если нас не страшат ближайшие и дальнейшие последствия, которые учесть и предвидеть никто не может; если русская душа не содрогнется, когда начнут отпадать наши области, одна за другою, отпадет Кавказ, отойдет наша Азия и Сибирь, наш юг возьмут другие и, может быть, японские кони будут пить воду из Волги. Если все это нас не страшит и если все в нашем настоящем старом, которое отживает свои последние годы, и в настоящем взрослом, которому еще долго жить, если все это бездарно и бессильно, а мудрость осталась только у детей и отроков, которые хотят править нами, и возрождения можно ждать только от революции, тогда… тогда… Тогда я обратился бы не к апокалипсису князя Мещерского, а к Апокалипсису любимого ученика Христова и стал бы искать в нем таинственного смысла:
«Знаю дела твои; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг.
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся».
Надо быть холодным или горячим. А вы только теплы. Тепла наша администрация, тепла наша забастовщина, теплы наши министры. Кто холоден, тот разумен и вдумчив, кто горяч, тот действует быстро и страстно. Теплота только поддерживает жизнь, и тогда всегда недомогание превращается в опасную болезнь.
Как случилось, что мы стали великим народом? Мы на это употребили огромные силы в течение целых веков. Силы эти прямо неисчислимы. Мы твердо и постоянно собирались в великое государство. Неужели же все разом должно рухнуть, в один год погубить достояние веков, труд многих и многих поколений?
Не верю, не верю, не верю…
5(18) марта, №10416
DLIII
Разговор между столичником и провинциалом. Думаю, что можно сказать «столичник», как говорят «опричник». К тому же столичник напоминает опричника во многих отношениях.
Разговор начался о том, как же вы составите Земский собор? Говорят, по сословиям; говорят, из земских и городских гласных и из других организованных групп населения; говорят, из «богатырей пера и слова»; говорят, только не из крестьян, ибо это не их ума дело устраивать государство, их дело умирать в рядах солдат, платить подати, служить в дворниках, и т. д.
Столичник говорит:
— Я думаю, что в «мужицком царстве» без крестьян ничего нельзя сделать. Да они и не дадут сделать. Достаточно вспомнить эту забастовку рабочих, чтобы понять, что крестьянство не останется спокойным зрителем таких выборов, где будут фигурировать губернские гласные, председатели земских управ, цивилизованные горожане и т. д. Крестьяне и теперь относятся с укором к тем губернским земствам, которые устраивают залы своих управ во сто тысяч рублей. На сто тысяч рублей можно бы купить тысячи две заводских бычков и в течение нескольких лет улучшить скот, а стотысячные залы строятся без всякого участия и опроса крестьян, кроме, конечно, опустошения их карманов на эти затеи.
Провинциал говорит:
— А, вы это понимаете. А я вам скажу, что без участия крестьян нельзя долее вести земское хозяйство. Вы представьте себе, что на 200 тысяч населения уезда только 6 гласных крестьян, и то все старшины. А вы знаете, как старшины выбираются. Земский начальник предлагает кандидата. Кто за него — иди направо, кто против — налево. Ну, разумеется, все идут направо. Выборы открытые. И этому выборному становой и исправник дают в шею, и получает он мизерное жалованье, несколько десятков рублей в год. Крестьянину, мол, и сто рублей много. А десятский и ничего не получает. Безвозмездная служба. Целый год высуня язык бегает с палкой.
— Так у вас свое устройство Земского собора?
— Свое собственное. Прежде всего надо устроить уездное земство и устроить так, чтоб хозяйство находилось в руках плательщиков, а не у бар.
— Но вы ведь сами барин. У вас 4 тысячи десятин в двух губерниях.
— Постольку, поскольку я плачу, я и хозяйничать буду. Там, где у меня 2 тысячи десятин, у крестьян 20 тысяч. Устранение крестьян от хозяйства, почти полное устранение их из земства — огромная ошибка правительства. Устранение их из Земского собора, чего так желают интеллигентные забастовщики, будет ошибкой еще большей и может повести прямо к пугачевщине. Уж одни слухи об этом волнуют крестьянство, в особенности при помощи прокламаций, которые стараются внушить крестьянам, что царь хочет дать им землю, а господа ему не дают это сделать. Да и прокламации эти не что иное, как воспроизведение собственных крестьянских мыслей, которые давно уже бродят в населении. Крестьянство обнищало без земли. Прошло 45 лет со времени надела их землею. Население удвоилось, и необходимо иметь это в виду.
— Вы того же мнения, как и Л. Н. Толстой?
— Да, он говорит сущую правду, и за это ему следует поклониться, а не проклинать. Земельного вопроса обойти нельзя. Крестьянский банк только полумера. Да и за нее спасибо. Без такой помощи положение было бы еще хуже.
— Мы, однако, отдаляемся от вопроса. В чем заключается ваша мысль об устройстве земства? — вопрошает столичник.
— В немедленном, быстром законодательстве, которое устроило бы крестьян так, чтобы они могли контролировать каждую копейку земских денег. Они не станут строить стотысячных зал для прохладных разговоров и не дадут красть на мостах, дорогах и на самых этих залах. Прежде всего сейчас же мелкая земская единица, положим, приход. Это всего легче. И пример у всех на глазах — раскольники. Это можно устроить скоро. Затем уездные земства. Например, в уезде 150 000 населения. Сел 100. От каждого села по одному гласному, который выбирается закрытой баллотировкой. Я беру круглые цифры и ценз коллективный для сел: известное количество десятин, дающих право на выбор гласного. Все остальные землевладельцы вступают в собрание без выбора, просто по праву ценза. Например, ценз 150 десятин, и каждый владелец этого количества десятин есть гласный. Таким образом, будет 100 гласных от крестьян, 30 или 40 от дворян и других землевладельцев и человек 5 или 10 от города. Собрание, таким образом, будет состоять из 150 человек. Это будет настоящее, совершенно правильное земельное представительство, и крестьяне увидят, что они пользуются доверием, что на них не смотрят, как на рабов, что они равноправны, что закон не отдает их в кабалу господам, не закрепощает их земству, которое представляет собою теперь не что иное, как собрание помещиков. А помещики берут себе в помощь статистиков и других наемных лиц, которые в сущности и распоряжаются всем. Это своего рода бурмистры и управляющие крепостного времени.
— Статистики — бурмистры?
— Да. Во многих земствах так. Не скажу во всех, но во многих так именно. Эти бурмистры совсем народа собою не изображают, а подгоняют его под собственные требования, под свою социалистическую программу. Я вас уверяю, что народ очень вырос, очень хорошо понимает, что вокруг него делается и как тратятся его деньги. Даже тогда, когда земское дело идет хорошо и экономно, даже тогда он ничему не верит и всех подозревает, и я вас уверяю, что только при подобном устройстве земства, и сейчас, немедленно, Можно избежать того бедствия, которое готовится. Прибавьте эти огромные расходы на войну, будущие пенсии раненым и вдовам и детям убитых. Все это придется больше всех платить народу. Пусть же он сам видит, куда идут эти деньги и как. Пусть будет отнята возможность внушать крестьянам разные нелепые подозрения и клеветать на самых добросовестных земцев и самые необходимые расходы. Крестьяне сами станут выбирать управы и, разумеется, в управы попадут крестьяне несомненно, и это демократизирует не только состав управ, но и их стоимость. В Норвегии и Швеции крестьянские земства прекрасно ведут общественное хозяйство. Все это можно и должно устроить немедленно. И тогда из этих земств будет готов и Земский собор, потому что эти земства будут представлять действительно всю Русь. А она сумеет устроиться сама и все устроит. Мы жили тысячу лет недаром. Складывать теперь руки и мечтать о какой-то Государственной думе по образцу, составленному бароном Корфом, прямо бедствие. Где живут эти бароны Корфы и что они знают? Не думают ли они, подобно екатеринославскому педагогу барону Корфу, все еще обучать народ тому, что у коровы четыре ноги, а у человека и птицы две. Тот состав Государственной думы, который составил барон Корф, есть просто баронская фантазия, ничего не выражающая, кроме ряда параграфов.
— Но вы проектируете, — говорит столичник, — первоначально несколько сот Земских соборов, в каждом уезде собственный Земский собор и из этих Соборов уже общерусский собор. Когда же вы дойдете до главного Собора?
— Да ведь все равно необходимо организовать выборы. То, что я проектирую, в сущности готово и не требует никаких особенных трудов и регламентаций. Есть ли в губернии земство или нет его, все равно. Система выборов проста как нельзя более. Закон можно составить в несколько дней и приступить к выборам в уездные земства.
Я этот разговор передаю только во всеобщее сведение.
10 (23) марта, №10421
DLIV
Известно, что министры нашего народного просвещения отложили просвещение до 1 сентября и положили запереть высшие учебные заведения. Будут ли забастовщики писать им благодарственные адресы, сказать трудно, ибо благодарить, по правде сказать, не за что. Благодарят авторитетную силу, если она уступает справедливым просьбам, если она внимательно относится к науке, к ее жрецам и студентам, если она стоит на заслуженной высоте и если ей не чужды все интересы молодого поколения и его родителей. А благодарить министров народного просвещения за то, что они по слабости освящают приказы забастовщиков остановить просвещение, за что же? Тут благодарность может быть только злой насмешкой, а гг. забастовщики, конечно, настолько воспитаны, что не станут смеяться над теми, которые передают им свой авторитет так любезно.
Мне думается, однако, что никакого порицания министры не заслуживают за этот акт слабой воли, которая очевидно ослабела у всех россиян. Даже самая забастовка интеллигенции есть акт слабой воли, или импотенция «в грядущей общественной акции», как выражаются сочинители «союза инженеров» Юго-Западного края. Поэтому я совершенно не разделяю мнения князя Мещерского, который видит в этом акте или акции гг. министров «измену, преступление и позор». Слишком громкие слова, которые надо употреблять тем реже, чем они громче. Иначе подобные слова потеряют всякий смысл, или приобретут тот ласкательный смысл любящей жены, которая своему мужу говорит «дурак» и «дурашка», и он приятно улыбается. Слово должно быть точно. Для меня приемлемей отзыв «Сына Отечества», который «приветствует эту разумную меру, которая только устраняет лишний повод к конфликтам в нашей и без того взбудораженной и взбаламученной жизни». Я прибавил бы к этому, что ведь в сущности какая беда, что забастовщики не будут учиться до 1 сентября не только 1905 г., но и до 1 сентября 1906 г., не только до созыва учредительного собрания, но даже до провозглашения демократической республики. Большинство студентов и без того не учится и выпрашивает себе у профессоров отметки для диплома, с которым оно и наполняет собой ряды бюрократии, поэтому становящейся год от году все более невежественной и неспособной. Профессор Тарасов говорит, что наши университеты совсем не университеты. То же самое говорил человек, авторитет которого всеми признается, именно наш знаменитый ученый Пирогов. С его времени университеты остаются такими же рассадниками бюрократии, как и ныне, и все нынешнее отличие заключается в значках, украшающих груди получивших дипломы. Конечно, нельзя не пожалеть тех профессоров, которые желают учить, и тех студентов, которые желают учиться. Но у гг. министров народного просвещения, вероятно, есть основательные причины для того, чтобы воспротивиться их желаниям. Если принять одобрительную точку зрения «Сына Отечества», с ее экивоками, то министры как бы хотят сказать желающим учиться: «вы напрасно, молодые люди, отделялись от большинства. Вам не следует иметь своих убеждений, а следует действовать сообща со всеми. Знаете, это не по-товарищески. Если большинство хочет, чтобы никто не учился, по тем или другим соображениям, разбирать которые мы не желаем, вам остается только подчиниться ему и не поднимать шума и не ставить свое начальство в затруднительное положение». Профессора могут себе объяснить эти неожиданные свои вакации, например, так: «Очевидно, у министров нашего народного просвещения никогда не было никакой системы, никакого согласия, никаких переговоров; они сделались министрами народного просвещения по какому-то недоразумению, обратившемуся в обычай, и вообразили себе, что это дело чрезвычайно легкое. Когда же оказалось, что оно очень трудное и требует не только возвышенного ума и способностей, но и полной душевной преданности делу, они не нашли ничего лучшего, как забастовать. Поэтому, мы думаем, что они должны бы подать в отставку, по крайней мере, как министры народного просвещения. Если нельзя в русском царстве найти такого министра народного просвещения, который взялся бы управлять один всем русским просвещением, исключая военного, то, быть может, было бы вполне целесообразно совсем не иметь ни министра, ни министров народного просвещения, а предоставить школам возможно полное самоуправление, под смешанным контролем правительства и общества в лице какого-нибудь совещательного учреждения, которое, состоя из лучших ученых и педагогических сил, объединяло бы их в смысле бюджета, инспекции и других нравственных и научных потребностей. Возможно, что такое учреждение употребит все силы на развитие народного просвещения и найдет себе опору и защиту в обществе, которое в настоящее время не знает, где ему искать помощи, как и где образовать своих детей».
Возможно, что профессора объясняют дело и совсем иначе. Я только хочу сделать еще несколько замечаний. Русский государственный механизм отличается молчанием, почти немотою. Его служители постоянно отмалчиваются и в этом, кажется, получают свою силу и на этом строят свой авторитет, помня, что молчание — золото, а золото дороже серебра. По каким причинам, например, совещание министров народного просвещения решилось одобрить забастовку, никому неизвестно. Оно просто решилось и разошлось на 8 месяцев. Что эти министры будут делать в эти месяцы, будут ли они приготовлять лучшие условия для просвещения, или просто будут ждать «лучших времен», никому они этого не сказали, ни большинству студентов, которое забастовало, ни меньшинству их, которые желают почивать на лаврах бездействия или «гражданского мужества». Для истории нашего просвещения было бы любопытно публиковать списки профессоров той и другой категории. Возможно, что бездействующим за их «гражданское мужество» будут воздвигнуты памятники во всех университетах, и Россия разом получит сотни великих имен…
Что такое министр? В высшем значении, это человек выдающийся, умный и талантливый, способный двигать порученное ему дело к лучшему. Во всяком же случае, это человек обязанный отвечать перед государем и Отечеством за свою область. В тот день, когда я признаю себя бессильным вести дело, я из него уйду и пусть его ведет более сильный и даровитый, более понимающий современность. Никто не может меня удержать от такого решения. Всякий человек свободен, и свободен министр. Признать свою неспособность честно. Куропаткин стал под начальство того генерала, который был его подчиненным. Это умно и честно. Своим поступком он разрушил иерархию и наказал себя, хотя не он один виноват и, может быть, он меньше других. Если он из главнокомандующего обратился в командующего, отчего министру не проситься в товарищи министра, раз неспособность его видна всем и он видит, что не ему побороть трудности. Если я министр, получаю большое жалованье, ордена, чины, аренды, пенсии, то я, значит, способен разрешать государственные затруднения, способен управлять во времена трудные и освещать их своею мыслью и делами. В тихое время и столоначальник управит не хуже министра. Приказать, подписать, сделать доклад, составленный столоначальниками и директорами, — важность не большая. Но быть в уровень с событиями, найтись в тяжелое, смутное время, уметь в это время повелевать сердцами, в это время хорошо править и соединять вокруг себя все даровитое, полное энергии и той вдохновенной смелости, которая не боится смотреть ясно и бодро в глаза настоящему и будущему — вот министр, вот государственный человек. А если он этого не может — почему же он министр и для чего?
Не понимаю.
15 (28) марта, №10426
DLV
Мир или война, мир во что бы то ни стало, или война во что бы то ни стало?
Давайте разберемся в этом вопросе объективно, насколько это возможно при теперешних условиях.
Перед Россией стоит этот вопрос во всем своем грозном значении.
Никогда Россия не переживала таких поражений и никогда ее положение не было так трудно. Следует сказать даже больше: никогда она не переживала такого тяжелого и такого важного кризиса, от счастливого, конечно, относительно только, или несчастного разрешения которого зависит все ее будущее. Самое простое решение вопроса, конечно, мир и arpès nous le déluge, после этого хоть потоп. Дальний Восток так далек, что его следует оставить его судьбам, каковы бы они ни были. Мы жили без этого Дальнего Востока и можем продолжать свою жизнь без него. Мы попытали счастья, попытка нам стоила дорого, даже чрезвычайно дорого, но где наше не пропадало. Мы попытались занять там гордое положение, стать против распространения Японии на материке, иметь влияние на Китай, стать его стражем против захватов и эксплуатации Японией и Англией и вместе с тем обеспечить и укрепить все наши владения в Азии. Занимая Порт-Артур с полуостровом, соединив его железной дорогой с Москвой, берега Великого океана с берегами Атлантического, Дальний Восток с самыми просвещенными странами Запада, мы совершали переворот в мире, огромный переворот, значение которого во всей его силе проявится только после этой несчастной для нас и счастливой для Японии войны. Выиграй мы эту войну, наше положение в мире выросло бы чрезвычайно, выросло бы гораздо больше, чем может вырасти значение Японии, ибо мы — белое племя, мы — христиане и мы даровитее, что бы там ни говорили японофилы. Если само христианство в нас не глубоко, то глубоко лежит в нас гуманизм, проникающий всю европейскую цивилизацию.
Идея Великого сибирского пути вплоть до Порт-Артура — чудесная идея, достойная великого народа. Теперь у нас немало людей, которые готовы порицать и самую постройку сибирской дороги. Зачем она? Жили без нее. Не будь ее, не было бы этой войны. Такие взгляды ничего не стоят не потому только, что всякие взгляды, начинающиеся с «если бы, да кабы» ничего не стоят, ничего не решают и ничему не помогают, но и потому, что стремление Японии на материк, господство ее в Корее и стремление подчинить своему влиянию Китай нисколько от нас не зависело и она у нас позволения на это не испрашивала. Она преследовала свою цель самостоятельно, и России следовало или закрыть на это глаза, или встретить врага лицом к лицу и вступить с ним в борьбу. Мы связаны с Азией неразрывно уж по одной Сибири, населенной русским племенем. Нам на Запад не двигаться — туда нас не пустят и делать нам там нечего ни с нашей культурою, ни с нашей промышленностью. Но на Востоке нам может быть дело, и мы туда стремились стихийно. Россия с XIII века была буфером между Европою и Азией: в этом веке она испытала все ужасы нашествия монголов, так и теперь об ее твердую грудь ударилась эта волна и залила собою сотни тысяч русских жизней, которые напитали своей кровью поля желтой расы. Россия первая и сближает Восток с Западом. Она своим движением на Восток прокладывала новые пути европейской цивилизации и торговле. Своим великим железным путем она открыла Амур, Маньчжурию и Монголию, о которых просвещенный мир почти не вспоминал со времен Чингисхана. Закончив покорение Кавказа, Россия двинулась на Восток с особенною стремительностью, завоевав Туркестан, Ахал-Теке и поставив Бухару и Хиву в зависимость от себя. Война с Турцией, битва при Кушке, все счастливые успехи избаловали русское правительство, и оно тоже слишком стремительно соблазнилось незамерзающим портом и поспешило провести железную дорогу через Маньчжурию вплоть до этого Порт-Артура, который стал для нас особенно дорог и по мужественной защите и по тяжелым воспоминаниям. Мы положили там огромные миллионы, начали создавать новые города и похоронили там свой флот, не считая уж русские жизни. Мы не только не приготовились к войне с Японией, но, поручившись за Китай, дали ей те миллионы, на которые она построила свой флот. Если объективно, независимо от несчастий этой войны, взглянуть на дело, может быть, мы и не могли приготовиться к этой войне. У нас для этого не было времени, наша дорога одноколейная, неспособная служить войне в тех размерах, какие требуются. В то время, как Япония напрягала все силы для войны, мы имели на руках и другие задачи и держали на Дальнем Востоке людей мало способных и скорее случайных, чем достойных исполнителей государственной задачи.
Нет ничего легче, как видеть свои ошибки в то время, когда они уже сделаны и принесли печальные плоды. И нет ничего легче, как разыграть роль умных и дальновидных государственных людей, покончив с этими ошибками заключением мира. Когда ошибки, если это были ошибки, совершались, умные государственные люди действовали по направлению этих ошибок, потому что совсем не чаяли, что они роковым образом поведут к войне. Никто бы не поверил ни одному русскому государственному человеку, если бы он стал утверждать, что он все предвидел, все знал наперед, но что кто-то или что-то ему помешали. Если б он был вполне независим, то, мол, кроме удовольствия для России, это стремление на Дальний Восток ничего не принесло бы. Не говоря о том, что независимость государственного человека зависит от него самого в очень значительной мере, я думаю, что история не подчиняется государственным людям в той степени, в какой они себе это воображают. В истории вечная борьба одних умов против других, борьба страстей, честолюбий, интересов и способностей одного народа против другого. Тут столько непредвиденного, случайного, рокового, даже капризного, что воображать себя господином истории можно только в собственном воображении и самодовольствии. А на этом Дальнем Востоке были против нас не только Япония и Китай, но и Англия и Америка, и во всех этих странах были и есть умные государственные люди, которые умеют сморкаться в платок. Нельзя забывать, кроме того, что tel qui brille au second rang s’eclipse au premier. Я хочу этим только сказать, что для России создалось еще до войны очень трудное положение, разрешить которое было не по силам действующим лицам. Так оно и пошло, не вызывая ни особенных дарований, ни особенной энергии, никакой предусмотрительности и даже опасений, но сопровождаясь гибелью флота, поражением армии и страшными расходами.
Говорят: мир. Мир, так мир. Чего лучше мира? Но было бы совсем не умно думать, какой бы позорный мир мы ни заключили, все равно, рано или поздно мы свое воротим. Нельзя забывать, что эта война одна из величайших войн в мире по своим потерям и последствиям. Она перестановит все государства, затронет глубоко интересы всей Азии, Европы, Африки и Америки. Она создаст столько новых движений и соперничества, что их и предвидеть невозможно. Мы в эти новые условия должны будем войти обессиленными и разбитыми, с огромными долгами, с уплатой военной контрибуции, по крайней мере, в миллиард рублей, которая обессилит наши финансы на многие годы и тяжело ляжет на народ, и без того бедный. Россия заплатит военную контрибуцию. Слыханное ли это дело? Но это не все. Нашим стремлениям на юг положится предел навсегда. Наша роль в славянстве увянет, не распустившись. Погибавшая Австро-Венгрия воспрянет. Тройственный союз, в главе с Вильгельмом императором, получит в Европе решительную силу, а двойственный, может, и тройственный тоже, Япония, Англия и Америка, такую же силу получит на Востоке. Наша союзница, Франция, убеждает нас вместе с теми русскими, которые давно кричат «долой войну», заключить мир. Она утешает нас внутренней культурной работой, после которой, мол, последует реванш. А много она сама взяла этим реваншем, о котором так кричала? Какую огромную внутреннюю работу она произвела и что осталось от ее реванша, от страстных желаний возвратить Эльзас и Лотарингию? Ничего не осталось. Не ради ли этого реванша Французская республика заключила союз с Русской империей, и теперь, когда эта империя терпит поражения, в республике настойчивей и настойчивей раздаются голоса против этого союза. Новые поколения начали совсем забывать об Эльзасе и Лотарингии, где немцы утверждаются более и более. Национальные чувства притупились, рана затянулась и венки на статуе Страсбурга, на площади Согласия, совсем засохли и похожи на брошенные лохмотья нищего…
Нет, о реванше нам нечего думать. Что уступим теперь, то будет уступлено навек. И к этим уступкам прибавятся многие другие. А Япония будет брать с Маньчжурии 200 миллионов дохода, и на них и на военную контрибуцию, взятую с России, она может создать двухмиллионную армию даже без помощи Китая. А если вооружит она Китай, то тогда мы возвратимся далеко назад и будем существовать, как государство-буфер, как клин, вбитый между желтым и белым племенем, заискивая перед Западом и Востоком, платя дань и Западу и Востоку, ибо оттуда пойдут к нам все товары и уничтожат нашу промышленность. Мы можем сказать прости всему тому, что сделано на этом Дальнем Востоке, и тому, что ждало нас на Ближнем, который мы оставили так нерадиво. Европа уже торжествует и не скрывает своей радости, что эта вечная «гроза», Россия, рассыпается и бьется в предсмертных судорогах, истекая кровью в Маньчжурии и крича в каком-то безумном ожесточении у себя внутри, где слово «революция» делается популярным, где бомбы бросаются на улицах, где интеллигенты вопиют к городам, чтоб они устраивали у себя милицию для защиты от крестьян. Точно предвидятся времена крестьянских войн и укрепленных городов, как в былые времена в Европе. Наш старинный враг, Англия, становится еще сильнее и насмешливо говорит нам: «Я радуюсь тому, что Россия вступает в круг европейских конституционных государств, но я не дам, чтоб Япония вполне не использовала своей победы». Еще бы! В Персии, в Мешхеде поднимается восстание против русских. Являются иностранные капиталы для поддержания забастовок. Кавказ волнуется. Сколько тут английского яда и нашей собственной незрелости! Слезы обиды выступают у русского человека, и начинаешь отчаиваться во всем, и в настоящем, и в будущем.
А разве это возможно? Неужели великий народ истощил в течение веков все свои силы на образование империи и стоит в нищенской одежде, осужденный, бледный, как смерть, и просит пощады? О, все мы знаем, как ему тяжело и как мы мало уделяли ему за все его труды. А другие сословия, дворянство, купечество, духовенство? Молчат? Им ничего не говорит грядущая беда, наступающее унижение? Избитое лицо России ничего не возбуждает в их сердце и не тревожит болезненно их разум? Нет русского, который не скорбел бы всем сердцем, который бы не плакал над несчастиями своей родины, который бы не стонал в мучительные бессонные ночи и не думал над тяжелой думой о мире или войне. А правительство, а наши государственные люди, разве они спокойно смотрят на все, что видят и слышат, разве в них не зажигается мысль, не кипит сердце, не бледнеет лицо от обиды и упреков других и собственной совести? Так отчего же они не говорят? Почему они только шепчутся между собой, когда их голос должен был бы раздаваться, успокаивать и объяснять, если не ободрять? Разве надо ждать конституции, которая обяжет министра не только говорить, но произносить целые речи, а теперь этого нельзя, это не принято, не в обычае?
Но вся Россия говорит речи, пламенные, возбуждающие, полные негодованием и желчью. Разве теперь достаточно холодных правительственных сообщений, изложенных полицейскою прозою, когда вся Россия горит, когда набат пожара раздается великой тревогой? Ведь этот пламень жжет и их лицо, — ведь и они несомненно русские люди. Мы ничего не знаем, ни наших потерь, ни наших средств, ни намерений правительства. Мы как в темной ночи в этом молчании правительства, в этом одиночестве с своим чувством и своими соображениями. Нам надо свету. Либо скорее Земский собор, либо надо лицам, составляющим правительство, найти случаи говорить не с одними корреспондентами иностранных газет, точно перед Европой только и прилично русскому министру говорить, а не перед русским обществом, которое этого еще не достойно! А как говорят английские министры, как их слушают, как они ездят из города в город, как одушевляют и объясняют. У нас это не в обычае. Да, Господи, разве у нас теперь обычное время, время молчания и спокойствия? Разве свистящие и шумящие крылья этого страшного времени не проникают в хижины, во дворцы и в палаты, и разве только стон и плач молитвы в Божьих храмах остается нам, как утешение и надежда?..
16(29) марта, №10427
DLVI
Пессимистически ли к нам настроена Англия, или оптимистически, не все ли это равно? Но, судя по телеграммам нашего почтенного лондонского корреспондента, это не все равно. В его словах то и дело звучит беспокойство, и если б недоверие между Англией и Россией прекратилось, тогда все пошло бы к лучшему в этом лучшем из миров. Но возможно ли этого требовать не говорю от России, но даже от русской печати, как бы она ни мечтала о мире? Говорю разумеется не о всей печати. Часть ее очень усердно требует во что бы то ни стало мира, как требуют его «резолюции» уже несколько месяцев, как требуют его «прокламации» еще большее число месяцев. Резолюции запоздали в этом случае и ровно ничего нового не придумали против прокламаций, и когда мир будет заключен, то не резолюции адвокатов, врачей и санитаров имеют право сказать, что они первые произнесли «Э», как в споре Бобчинского с Добчинским, а прокламации.
Таким образом, часть общества хочет мира, другая стоит за войну. Какая часть больше и сильнее? Несомненно, не кричащая и рассуждающая часть общества несравненно больше, чем кричащая, если считаться только с обществом образованным и полуобразованным, а народ оставить совершенно в стороне. Если кричат десятки тысяч россиян, то рассуждают и говорят с горечью и отвращением о позорном мире миллионы.
Русь вовсе не в кричащих, бунтующих, бастующих и бомбардирующих. Она — в массе русского общества и в народе, которые не хотят и не могут помириться с позорным миром и отвергают всякую контрибуцию. Я думаю, что Англия это должна понять и понимает хорошо. Англия должна верить, что если эти миллионы как один человек желают реформы, желают представительства, которое одно только в состоянии обновить Россию, то эти же миллионы жителей не желают унижения своего отечества и притом такого унижения, которое бедственно отзовется на наши будущие судьбы. Для этих миллионов дело вовсе не в том, как настроена к России Англия, благоволит она к нам или не благоволит, сожалеет ли она нас потому, что мы побеждены, или потому, что Земский собор якобы откладывается до осени будущего 1906 года. Мы имеем полнейшее право не верить никаким сочувствиям Англии. В течение всей войны нашей она только то и делала, что вредила нам и грозила даже войной. Очень может быть, что наша уступчивость всякий раз, как Англия поднимала шум и грозила нам войною, была ошибкою. Может быть, было бы несравненно лучше, если бы мы поменьше обращали внимания на эти угрозы и предоставили бы решить дело самой судьбе. Если бы это было не лучше, то ни в каком отношении не хуже. Даже быть побежденными Японией и Англией было бы для нас не так дурно, как одной Японией. Конечно, нельзя сравнивать 300 тыс. буров, с которыми Англия справилась только в течение двух лет и притом при полном невмешательстве других держав, кроме платонического сочувствия бурам, с 50 миллионами японцев, с которыми мы имеем дело. Если взять во внимание расстояние до Маньчжурии и разноплеменность наших окраин, то Россия сражается с врагом почти равносильным даже по населению. И если он победит нас, то это будет далеко не так позорно, как было бы позорно для Англии быть побежденной маленьким народом, население которого в пятнадцать раз меньше населения Лондона. Тем не менее та часть общества и народа, которая чувствует обиду нашего поражения и основательно беспокоится за его последствия, также права в своем патриотизме, в своей настойчивости продолжать войну, как права была Англия в своем патриотизме. Нам невозможно расстаться не с Маньчжурией, а с тем положением, которое Россия занимала около двухсот лет в Европе. Сохранить это положение, вот что для нас совершенно необходимо и вот во имя чего мы говорим против того мира, который нам показывают среди всякой откровенной болтовни корреспондентов с сановными людьми и среди шума иерихонских труб, которыми хотят повалить русские стены. Если бы буры одолели, это не потрясло бы в такой мере Англию, как может потрясти Россию позорный мир с Японией. И Англия это превосходно понимает, так и мы также превосходно понимаем, что наш позорный мир обещает ей только выгоды. А кто ж себе враг? О чем же нам говорить с Англией и для чего нам искать ее сочувствия? Это искание будет только унижением и ничего нам не принесет, кроме разочарования. Думается, что есть другие пути, более надежные и более привычные нам, но все они могут опираться только на нас самих.
25 марта (7 апреля), №10436
DLVII
Хотя несколько дней радости, несколько дней благородной гордости, а не унижения, не насмешек, не угроз. «Мы не можем отказаться от чувства восторга, наполняющего нас перед гордым отказом царя допустить поражение России, и после жестокой войны, идущей больше года, Россия, хотя и побежденная, все-таки не преклоняет колена перед победителем». Это говорит одна из самых враждебных нам английских газет, и хочется верить, что она говорит искренно, тем более хочется верить, чем больше она радовалась нашим бедам. «Гордый отказ царя!» Он может гордиться русским народом, который сделал так много, который при величайших затруднениях и бедах не потерял веры в свои силы, как потеряли ее те богатые и возвеличенные, которые твердили о позорном мире, как о единственном якоре спасения. Крайние консерваторы и крайние радикалы шли в ногу в этом желании. Одни боялись дальнейших поражений, которые могут привести к революции. Другие боялись победы и, дождавшись поражений, дождавшись даже отказа нам Францией в займе, твердили о мире, как о конечном унижении правительства и его полном банкротстве, за которым должно последовать… неизвестно что. Множеством писем от лиц разных сословий, от мужчин и женщин, которых дети офицерами на войне и во флоте, множеством писем от крестьян, проникнутых горячим чувством к родине, я мог бы доказать, как много тех, которые вторят государю. И это не крики «ура» и похвальба, а крики русского сердца, русского разума, который не может допустить разгрома того, что создано такою продолжительною жизнью народа. Он выковывал величие России медленно, под крестной ношей всякой нужды и великих страданий, выковывал усилиями всех сословий, соединенным разумом и гением русского племени.
И вот три дня счастья. Адмирал Рожественский привел свои корабли к Сингапуру. «Это подвиг!» — кричат иностранцы. Вся Европа всполошилась. Пропадавшая долгое время эскадра вдруг очутилась в том месте, где никто ее не ждал. Так русский флот существует? Живы русские моряки, жива русская благородная душа! Великий адмирал привел свои корабли смело, и за одно это он заслуживает самых горячих наших симпатий. Серьезный, строгий, с юмором на устах, с тонкой улыбкой, гармонирующей с насмешливыми глазами, этот русский человек волновался, кричал, бранился, выходил из себя, когда слышал о неудачах нашего флота и когда готовилась балтийская эскадра, но он повел ее, как осторожный, зоркий моряк, понимая, что на плечах его тяжелая ноша, и что каждый шаг его должен быть размерен и рассчитан. Тульский случай доказал, что он шутить не намерен. Дипломатия пусть разбирается, а он поступил так, как надо было, и он избавил себя этим на всем пути от назойливых соглядатаев. Под водевильный шум парижского судилища, он шел, не беспокоясь о том, чем водевиль кончится. У него было по горло дела гораздо более важного, и он весь был занят этим делом. Новые аргонавты за золотым руном если не победы, то русского мужества, настойчивости, терпения и выносливости, они должны были доказать, что Россия действительно готова употребить все силы на борьбу с врагом. И вот в то время, когда разговоры о мире сделались обычной беседой, обращавшейся в легкомысленную болтовню петербургских салонов и канцелярий, когда Ояма объявил, что Япония будет требовать 2 миллиарда рублей контрибуции, Рожественский явился как deus ex machina, как Нептун из моря. Это уже подвиг, и недаром восторгаются им англичане. Это не смелый набег, а мужественное, торжественное шествие к цели определенной. Англичане вспоминают свои усилия в борьбе, свою непреклонность в достижении целей, которой они обязаны своим могуществом. Сердце сердцу весть подает, как говорится, и враг аплодирует врагу, или вернее — европеец европейцу.
Но что ждет далее нашу эскадру в этой таинственной и трагической дали? О, если б Бог даровал ей победу! Как бы Русь воспрянула, как отлетел бы от нее весь этот дым и чад, все это удушье, бестолковщина и безначалье, и началась бы радостная, шумная жизнь обновления, началась бы не в мраке горя и несчастья, не в этом омуте всеобщего недомогания, похожего на припадки безумия и отчаяния, когда рвут на себе волосы, терзают себя и других, никому и ничему не верят и видят впереди только страдания и стоны и безрассветные дни.
О, если б Бог даровал победу!
Трудно думать, что будет завтра, послезавтра. Говорят, через два-три дня страшный морской бой. А ведь это — через два дня — 31 марта. Это годовщина погибели «Петропавловска» вместе с Макаровым, годовщина того дня, с которого счастье окончательно от нас отвернулось и мы пошли беспрерывно от неудачи к неудаче, от поражения к поражению, от надежды к отчаянию. Вся русская душа изныла и истерзалась, все тело избито и изранено, лицо побледнело и исхудало и глаза опухли от слез…
Неужели не конец? Кто теперь тоскливо не тревожится ожиданием, не прислушивается к говору, к слухам, к предположениям и спорам? Чье сердце не кипит той борьбою веры, надежды и отчаяния? Умирать мы умеем. На корабле нет трусов. Там все храбры. Все одинаково близки к смерти, как адмиралы и матросы, так и машинисты, врачи и священники. В армии совсем не то. Там нет такого равенства. На море все равны, и это равенство дает и равенство сознания своего долга. В каждую минуту можно похоронить себя в море. Но об этом не думается. Это жизнь. Это естественно в жизни моряка перед врагом. Ничего, кроме моря. На нем появляются суда. Кто они, что они несут, смерть или жизнь, новое бедствие или счастье? Но кто-нибудь заплатит своею жизнью и за счастье. И многие заплатят. Счастье покупается страшно дорогою ценой. И вот хочется верить в счастье и боишься верить, боишься самой этой веры, а вера все-таки разгорается в сердце при всяком повороте судьбы, похожем на успех. Говоришь «не верю» — и лжешь, не можешь не верить, не могут убить этой веры все беды и грозы, потому что, в конце концов, спасает только вера…
Что будет? Близко ли оно или далеко? Страшно или радостно?
30 марта (12 апреля), №10441
DLVIII
— Подождем. Все уляжется. Надо только терпение.
Так говорят многие высокопоставленные россияне.
Конечно, господа, надо только терпение, — это самое лучшее средство. Сиди себе китайским болванчиком, сложив руки на пузе, покачивайся во все стороны и жди терпеливо, когда все само собою устроится.
Так и Куропаткин все говорил о терпении, и, может быть, в самом деле терпение победило бы, ибо, по определению Бюффона, гений есть терпение, но победили его нетерпеливые японцы. Как бы таким образом и с нами не случилось, со всем тем советом умных людей, которые говорят о терпении и думают, что все само собою устроится. Это мне напоминает лакея Стивы Облонского в «Анне Карениной», который говорил, что все «образуется». Когда-нибудь несомненно «образуется», но как, какими путями и какими жертвами? В этом, кажется, все дело, какими путями, путем ли мирной реформы или путем революции. Об этом все говорят, все печатают, слово «революция» не сходит с уст, вероятность ее обсуждается в гостиных, в кабинетах, в вагонах железных дорог, на съездах, на митингах, в «конспиративных квартирах», куда собираются представители умеренных партий, желающие мирной реформы. Слово это, как известно, старое, времен последних годов царствования Александра II, когда революционеры собирались на «конспиративных квартирах». Теперь в шутку конспиративными, заговорческими квартирами называются роскошные квартиры и хорошо отделанные кабинеты, где бывают сенаторы, члены Государственного совета, богатые землевладельцы, земцы, предводители дворянства, вообще русские политики высокого ранга и хорошего положения, служащие и не служащие. На этих «конспиративных» квартирах ведутся беседы все о той же революции, — как ее предотвратить и победить. Но для победы и предотвращения надо знать и хорошо оценивать ее средства, и вот тут являются те утешительные «образуется», которые дают русской неподвижной натуре сладкую надежду, что она не будет потревожена ни за сытными обедами, где ведется приятный разговор, в легкой форме, о той же революции, ни за карточными партиями, где радостно приветствуется двойка, побивающая туза, ни в гостиных, в присутствии дам, где обсуждаются разные благотворительные подвиги и приношения.
— Подождем. Все уляжется. Надо только терпение.
Но нетерпение действует лихорадочно. Оно возбуждает, вдохновляет, изобретает, и всего этого не видеть и не чувствовать — значит быть слепым и равнодушным. Слышали ли вы о каких-нибудь собраниях партии мирной реформы, где было бы несколько сот человек или тысяча? Конечно, не слышали, потому что таких собраний не было. Но партия противоположная собирает не сотни, а тысячи, и все там говорят, рассуждают, убеждают пламенно, спорят с темпераментом настоящих ораторов, зажигают сердца, волнуют и соединяют. У нас есть Русское собрание; судя по тем рассказам, которые я слышу об его заседаниях, это что-то межеумочное и бессильное; вероятно, оно проникнуто таким духом, что о нем совсем не говорят, или говорят, как о мертвеце, опущенном в могилу. «Покойся, милый прах, до радостного утра!»
О «конспиративных квартирах» слышно тоже что-то такое, что не имеет определенного значения. Скорее там все предполагается, чем «образуется», и предполагается в различных формах облака, которое меняет свой вид: то верблюд, то овца, то барыня в чепце. Лежа летом в саду, приятно смотреть на небо и следить за этими капризными изменениями, как влюбленному приятно следить за изменением лица женщины. Но в страстной любви, но в страстной политической борьбе такие занятия довольно опасны. И женщина убежит, и политические цели убегут. Дворянство то в сторону Земского собора, то в сторону конституции, то в сторону выжидательной эволюции, и все это в той же неопределенной форме облака ходячего. Земство, кажется, застыло на своих 11 пунктах, как на десяти заповедях, и о нем не слышно. Отчего бы не соединиться вокруг чего-нибудь определенного, Земского ли собора, Государственной ли думы, Палаты ли депутатов, Имперского ли сейма? Название вещь очень важная. Оно определяет и сущность работ Собрания, и его права и обязанности, и избавляет от того лицемерия, которое выдвигает вперед лишь краткие программы, или краткие «Записки». Печать говорит свободно о будущем собрании депутатов, называя его тем или другим именем, почему же дворянству, земствам и городам не говорить об этом, хотя бы на «конспиративных квартирах» или в Английском клубе, или в Сельскохозяйственном, которые всегда были конспиративными квартирами для карт и административных перемен. А московский Английский клуб еще в «Горе от ума» играл политическую роль, и там говорили о камерах (палатах депутатов), присяжных и о «матерьях важных». Как давно это было, Господи, как давно! Неужели и теперь там только в карты играют и говорят:
— Подождем. Все уляжется. Надо только терпение.
Но, господа, ведь партии действия, партии требующие, протестующие, составляющие резолюции — все в одно слово твердят об Учредительном собрании и всеобщей, тайной подаче голосов для выборов. В сотнях, может, в тысячах резолюций эта краткая формула повторяется с неизменным постоянством, она сделалась излюбленною, и она, что ни говорите, соединяет и объединяет людей. Учредительное собрание среди передовой и нетерпеливой интеллигенции гораздо популярнее, чем Земский собор у партий мирного прогресса. Конечно, мне могут сказать, что не было еще такого глупого и ничтожного правительства, которое когда-либо созывало Учредительное собрание, ибо это значило бы признать полную свою неспособность к управлению, полное свое банкротство. Откуда уверенность у этих господ, что они имеют дело именно с правительством совершенно обанкротившимся, готовым уступить свое место всякому смелому сообществу, которое желает устроить государство по своему плану? Правители народов давали хартии, давали конституции своим народам, но Учредительного собрания не созывали. Даже Людовик XVI, который накануне взятия Бастилии, 13 июля, написал в своем дневнике: «rien» (ничего), что значило: не убил ни одного зайца, даже он не созывал того учредительного собрания, которого так хочет русская интеллигенция, и если оно явилось, то потому что было вырвано и было вырвано потому, что крестьянство не было представлено. Жюль Симон, этот умный и даровитый французский еврей, человек тонкого анализа, говорил, что если б было представлено крестьянство монархией Людовика XVI, то она обратилась бы в прогрессивную монархию, а не в революцию с ее последствиями и переворотами. Бот как важно представительство крестьян, которые теперь в земских собраниях только вытирают спинами стены, как выразился один тверской крестьянин в письме ко мне. Русского национального начала, национальной крепости больше всего в крестьянстве, и меньше всего этого национального начала будет в учредительном собрании, которое должно перевернуть все вверх дном и перевернет, если партии мирной реформы не поспешат соединиться и укрепиться. Нельзя не сказать и того, что само правительство нимало не заботится о том, чтобы эти партии образовались. Как «дьяк, в приказах поседелый», оно, кажется, только записывает явления новой русской жизни и думает:
— Погодите. Все уляжется. Надо только терпение.
Я далек от мысли, что до Земского собора могут образоваться твердо эти партии. Только Земский собор может дать для этого настоящую почву. Но необходимо теперь же сговариваться и теперь же вырабатывать программу не только начал и идей, но и деятельности и приемов деятельности и, по моему мнению, необходимо во всем этом заинтересовать крестьянство, с которым крайние, по-видимому, местами вошли в очень тесные сношения, и тут идти на встречу той пропаганде, которая ведется иной партией. Она уже печатно заявляет, что собирается фонд на издание таких книжек, которые помогли бы народу разобраться в нынешних обстоятельствах. Думают ли что-нибудь подобное другие партии или у них все по старине?
— Погодите. Все уляжется. И будет все по-нашему.
2(15) апреля, №10444
DLIX
Уменьшается или все еще поднимается та волна, которая теперь господствует и которая началась несколько месяцев тому назад подниматься и двигаться по широкой России? На этот вопрос трудно отвечать. Я в прошлый раз говорил, что едва ли сама собой может улечься эта волна и достаточно ли только терпения. Без деятельности тех прогрессивных общественных элементов, которые заинтересованы в мирном течении реформ, волна не может улечься. Меня упрекают в письмах, что я с иронией отношусь к этой деятельности. Но мне думается, что ирония не дурное средство для того, чтоб возбуждать человека. А я бы желал, чтобы русский человек искренно отрицательно относился к революции и искренно смело стал за реформы, как деятельный человек, а не как только мыслящий и желающий их. В той волне, которая поднялась и катится, спокойные элементы составляют несомненно больше частиц, чем элементы революционные: те пенятся, составляют гребни и разливаются далеко по берегу и увлекают за собою почву и роют ее, разбиваясь по мелкому дну, и кряж волны пенится. Необходимо, чтобы большинство, двигаясь, умерило бы волну и не давало бы пене образоваться. Этого можно достигнуть только деятельностью и резким отличием своих стремлений от революционных. Доселе же они в значительной степени смешиваются, и я поэтому уподобил их океанской волне, стремящейся на берег.
Вопрос о выборах выступает, как одно из первых средств, чтоб объединиться. Прежде всего необходимо отделаться от всеобщего избирательного права, о котором и думать еще рано и которое даже в таких развитых странах, как Англия, находит себе порицателей среди серьезных и всемирно известных политических деятелей. У нас как будто боятся все отстать, точно, усвоив все новейшее, Россия тотчас же сравняется с теми странами, где все это новейшее приобретено тяжелою и продолжительною борьбою. Боятся быть недостаточно либеральными, ибо крайняя партия затвердила о всеобщей, прямой, тайной подаче голосов. На гору не полезешь даже на паровозе, и нам надо выучиться ходить свободно сперва по равнине.
Мне кажется, у нас слишком много времени пропадает на охоту за бюрократией, за которой следует утешение, как у охотника: столько-то убил зайцев, столько-то коз, столько-то вальдшнепов. Охотники большие врали и всегда свои победы преувеличивают. В этом отношении и полководцы от них мало отстали. Охота на бюрократию напоминает мне рассказ одной моей знакомой: она была на прошлых святках у знакомого священника в Рязани. Маленький внук его вдруг говорит при ней деду:
— Дедуска, поедем в Москву бить бюлоклатов.
Этот крохотный охотник не есть ли олицетворение общей охоты на бюрократию? А московский съезд врачей, который объявил холере, что лечить ее не станет, если бюрократия станет вмешиваться в это дело по-прежнему? Конечно, холера отвечала: «Не беспокойтесь, я не оставлю своими милостями не только бюрократию, но и вас, врачей. Я ненавижу весь человеческий род, потому что в мире нет больших идиотов, чем люди. Уж одно то, что даже врачи не умеют меня лечить, доказывает, что люди как были идиотами, так и остались ими». Кто теперь не знает, что холера лучше бюрократии, даже в том случае, если врачи не станут ее лечить? Холера все-таки пройдет и без врачей, а бюрократия не пройдет и с врачами, будь они не только красными, но огненными. Это уж такая человеческая болезнь, что самые гениальные врачи ничего с нею не могут сделать. Я убежден, что если мир станет анархическим, — а он несомненно стремится к анархии, — то и тогда бюрократия будет дышать свободно, и заводить порядки, и издавать циркуляры, как издает она циркуляры в конституционных монархиях и республиках. Рая на земле нигде нет, но искание лучшего не должно идти одними разговорами. Я все думал, что вот выплывут люди, вот объявятся политические деятели с твердыми и определенными убеждениями, и спокойный прогрессивный элемент общества признает в них своих вождей. Но долго все только и было слышно, что Шипов и Петрункевич, Петрункевич и Шипов. Даже адвокаты не выставили ни одного имени, которое бы сияло популярностью и внушало полное доверие. Все полуимена, как полудевы. Потом появились князь Трубецкой, граф Шереметев, Самарин, Хомяков. Вероятно, около этих имен соберется настоящая политическая партия, деятельная и энергично работающая. В газетах мелькнули статейки князя Щербатова, графа А. Уварова с политической окраской, с желанием высказаться. Вообще Москва начинает проявлять серьезное русское движение, и дай Бог ей успеха и того согласия, которое, жертвуя частичными противоречиями, тем настойчивее соединяло бы основные черты реформы. В Петербурге, кажется, и доселе самый значительный политический салон — у Головина, слепого литератора и публициста с хорошо сохраненным внутренним зрением. Из провинции слышится толпа, слышится сутолока, однообразные резолюции кружков, но имен нет. Меня лично интересует орловский Стахович. Что он привез из Маньчжурии, какие идеи окрепли в нем после пребывания в санитарном отряде, после этой деятельности, полной тревог и впечатлений? Князь Васильчиков предпочел туда вернуться, чем получить в Петербурге отличное административное место. «Там лучше. Там я буду полезнее», — говорил он. В Москве и купечество высказалось, но за западно-конституционную форму. Вот уж можно сказать: «И ты, Брут!?»
Все изменилося под нашим Зодиаком: Лев Козерогом стал, а Дева…Ну, вы знаете. Наш корреспондент (№10447) привел несколько имен петиционеров, именно 26 иностранных и 10 русских, с Саввою Морозовым и братьями Рябушинскими. Любопытно бы знать, что они тоже за всеобщую, тайную, прямую подачу голосов или держатся времен Питтов и Веллингтона? Во всяком случае, хорошо, что они высказались. Я не придаю особенного значения господству немецких и еврейских имен в числе 59. Разве тут все главные торговые фирмы Москвы, все богатые московские купцы, весь Гостиный двор, Ильинка и проч.? Одолеет ли русский элемент, если дадут ему свободу, или преклонит выю перед иностранным, об этом Господу Богу только известно. Но мне думается, что сила Москвы не в одних крупных промышленниках, а и в среднем русском купечестве, которое может объединиться и высказаться так же твердо, как и вышеупомянутые лорды Москвы.
Замечательно, что мы видим пока в этих во всех именах все-таки сословность, и во всем движении сословность. Это дворянство, купечество, духовенство, принимая в соображение, теперешнее движение епископов и священников, и крестьяне. Остаются бессословными интеллигенция, где много деятельного еврейского элемента, и часть рабочих. Среди земства, я думаю, преобладают все-таки сословные взгляды, а не взгляды интеллигенции. Таким образом, некоторая общность классов населения замечается только в интеллигенции. Земство только отчасти объединено в землевладельческую группу. Такую группу, в которую бы входили дворяне, купцы и духовные, едва ли можно указать. Они смотрят внутрь себя, а не ищут союзников на стороне. Дворянство породнилось с торговым классом при помощи браков, духовенство с дворянством породнилось на почве бюрократии, но что-то и, быть может, важное отделяет эти группы друг от друга. Может быть, недавнее прошлое, так отделявшее друг от друга эти три группы во время крепостного права и барства, еще живет в душе каждой группы и повелевает ими и шепчет некоторую рознь. Покровительственная финансовая система, выдвинувшая фабрикантов в первую линию, не примирила их с дворянством, пользовавшимся крепостным правом. Одна группа потеряла свои привилегии, другая приобрела, но приобрела еще не все, чего она желает. Некоторый антагонизм между купечеством и дворянством несомненно существует. Можно судить по идее патриархата, выдвинутой духовенством, как относится к ней дворянство и бюрократия, в значительной степени тоже дворянская. Это отношение скорее отрицательное, чем положительное, заподозревающее духовенство во властолюбии. Лучшую, наиболее просвещенную часть ее нельзя в этом заподозревать, сколько я знаю. Понятно, как усиливает эта рознь бессословную интеллигенцию в ее политической борьбе. Интеллигенция, конечно, этим пользуется смело и практично, забрасывая удочки не только в рабочий класс и во все другие сословия, но и в народ. Но есть ли это нарождающееся третье сословие, его ядро? Этот любопытный вопрос откладываю до другого раза.
8(21) апреля, №10450
DLX
В деревне такая тишина, как будто ничего не случилось. Я только что вернулся из Тульской губернии. Поля зеленеют. Говорят, что урожай будет недурной. Для деревни вопрос об урожае остается первостепенным. Начали сеять овес, прошли дожди. Не видя несколько дней газет, кажется, что ничего не изменилось с прошлого года. Даже в прошлом году было как будто тревожнее, потому что тогда был призыв запасных и соединенные с ним семейные беспокойства. Глухие слухи об аграрных беспорядках, однако, дошли до населения, но оно совершенно спокойно и относится к беспорядкам неодобрительно. Ожидание холеры тревожит тоже мало. Явление такой гостьи дело бывалое, и оно переживалось много раз. О предполагаемой забастовке врачей говорят с иронией и не верят ей. Возможно ли, чтоб русская душа не содрогнулась при виде страданий и смерти. Это представляется всем чем-то прямо чудовищным и совсем невозможным. Могут найтись исключения, но чтоб этому последовало большинство, чтоб оно выдержало, как нечто обязательное, нельзя верить. В стихийных бедствиях, конечно, есть и стихийный эгоизм, но есть и стихийное великодушие, есть подъем человеческой души до тех высот, когда она действительно любит ближнего. Когда вспомнишь о холерных беспорядках, о бунте против врачей, душу свою положивших за этих бунтовщиков, которые не знали, что творили в своем невежестве, то еще менее веришь в возможность тех угроз, которые теперь раздаются. С людьми, способными жертвовать собой в такой степени, всегда возможно сговориться.
Холера напоминает силу того множества, против которого трудно бороться. Эти бесконечные миллиарды невидимых простым глазом существ идут, как вооруженное воинство, ранят и убивают. Чем больше эта армия, тем она сильнее, тем больше убивают и кладут в постели раненых. Врачебные отряды на войне людей с людьми так не подвергают опасности свою жизнь, как врачебные отряды на войне с этой губительной силою холеры. Тут врач настоящий воин, и если до сих пор не изобретен для врачей особый орден за мужество, за уход за больными, страдающими заразными болезнями, то этому мешает только предрассудок, видящий высшую доблесть в борьбе с врагом, в борьбе человека с человеком, а не в борьбе с невидимой, победоносной силой этих армий, которые не имеют ни пушек, ни ружей, ни броненосцев, но одним своим ядовитым множеством способных уничтожать целые армии людей. Только истощив свою силу, которая движется преимущественно по рекам, этот народ — холера исчезает на несколько лет, чтобы снова потом явиться с своим оружием и класть убитых и раненых. Какое огромное войско врачей нужно для борьбы с этим врагом, который притом побеждает наиболее слабых, наиболее обездоленных и бедных. Было бы чрезвычайно грустно, если б в эту борьбу был внесен политический элемент, протестующий в этом случае совсем не по разуму.
Я пишу это накануне Пасхи, праздника воскресения и возрождения, который нигде в мире так не празднуется, как в России. Дай Бог, чтоб он не был смущен каким-нибудь новым горем, какой-нибудь враждою и насилием, которых так много обрушилось над русской землей. Мы в этот год идем так быстро, что некогда оглянуться на прошлое и Россия как будто вся в будущем. В настоящем все еще тревожно, но как будто эта тревога начинает смягчаться, как будто более спокойные элементы начинают высказываться практически на той же почве свободы и законности, с которой сойти невозможно, да и не для чего пытаться сходить с нее. Это было бы все равно, как из преходящей бури погрузиться в невылазный ров. Новая жизнь несомненно началась отчасти на деле, но больше на словах, в мысли, в намерениях. Крайности сглаживаются и сгладятся. Часть этих крайностей становится комической, часть похожа на ту перестрелку, которою кончаются бои. Россия так велика, что даже телеграф бессилен начертать картину настоящего, и огромное большинство населения так занято своим делом, так страстно ждет спокойствия и отдыха под символической смоковницей, что похороны России надо отложить на весьма неопределенное время.
Выборы и эскадра Рожественского будут и завтра занимать нас всех. Судьба и того и другого как будто покрыта какою-то туманною дымкою. Что будет, когда она снимется и как снимется. От судьбы флота будет зависеть многое. Если улыбнется счастье, оно только прибавит нам энергии, ясности и бодрости духа! Я в этом никогда не сомневался и не сомневаюсь. Радость снимет тяжелый груз с плеч, освободит разум от постоянной муки за участь наших братьев на Дальнем Востоке и в Тихом океане и за нашу роль в мире, и осветит лучом своим будущее.
Будем бодры, как бодры все те, которые посылают нам привет по телеграфу, все эти военные люди, врачи, санитары, сестры милосердия. Они посылают его из Японии, Маньчжурии, Китая. Война разбросала их по Дальнему Востоку, среди чуждой природы и чужих людей. Одни в плену, другие лежат в лазаретах, третьи в боевых частях. Но все помнят родину, помнят родной, величайший праздник. «Да воскреснет в вас уверенность в лучшее будущее», говорит одна из телеграмм. «Надеемся будущую Пасху быть вместе», говорит другая телеграмма. И все говорят о бодрости, все желают счастья.
17(30) апреля, №10459
DLXI
Нынешняя Пасха останется вечно памятной в русской истории. Государь император привел в исполнение давнишнее свое желание создать в России свободу вероисповеданий. Этот высочайший указ — прямо великое дело, прекрасный памятник нынешнего царствования. Дело это широко задумано государем, основательно и подробно обсуждено и редактировано в Комитете министров. Оно ставит в братские отношения все народы России, все вероучения, все секты, исключая изуверных. Православный может гордиться своей религией, которая нашла справедливым не стоять более в исключительном положении и не прибегать к силе в деле спасения души. Этот закон протягивает братскую руку полякам-католикам, братские объятия всем славянам-католикам. К племенной связи прибавляется связь свободного вероисповедания. Нет более насилий над католичеством, нет препятствий для смешанных браков между всеми христианскими исповеданиями. Судьба детей, которые должны были стать православными в смешанных браках, не будет служить препятствием для заключения браков. Свобода совести подает руку политической свободе и свободе печати. Она разом устраняет из сферы взаимных отношений между гражданами одну из причин разномыслия, споров и недоразумений, иногда очень тяжелых. Она налагает и на православную церковь новые обязанности, обязанности высокого держания своего знамени, высокого служения своему народу, его просвещению и укреплению в нем веры. Русскому духовенству никогда не представлялось такой огромной задачи, как теперь, и такой потребности реформы внутреннего строя церкви.
Я очень радуюсь за старообрядцев, которые так долго и так много терпели жестокие преследования. Когда родственники ненавидят друг друга, то это одна из самых неугасимых ненавистей. Так было и между родными сестрами, православием и старообрядчеством. Секты, более отдаленные от православия или совсем отпавшие от него, испытывали меньше преследований. Тут, в отношении к старообрядцам, было что-то мелочное, обидное, унизительное, ежедневно испытываемое, ежедневно угнетаемое в самых дорогих понятиях и чувствах. И старообрядцы закалились в этой борьбе и остались искренними русскими людьми и в России, и в Пруссии, и в Австрии, и в Америке. Прекращение этой вражды не только важно с религиозной точки зрения, но и с русской общественной. Это — восстановление в гражданских и политических правах нескольких миллионов искренних русских людей, готовых стоять за свою национальность во что бы то ни стало. Сохранив старый религиозный обряд, сохранив приход и выборы своих священников и епископов, они нисколько не враждебны к просвещению. 6 их журналах, издающихся за границей часто славянскими буквами, свободные воззрения по отношению государства к обществу господствуют. Допетровская азбука нисколько не мешала расти свободным политическим воззрениям. Борьба выковала из их писателей превосходных полемистов, умеющих говорить ясным, оригинальным русским языком и с тою страстной логикой убеждений, которая заразительно действует на читателей. В настоящее время трудно себе представить все те выгоды, которые приобретает русское государство в этих гражданах, крепких, деятельных, трудолюбивых, убежденных и знающих по самому опыту всю цену солидарности, союза между собою. Дай Бог, чтоб эти качества зрели и укреплялись и с развитием просвещения, успехи которого у старообрядцев и теперь несомненны, а вместе с свободою устраивать школы возрастут быстро. Если теперь выборных священников и епископов у старообрядцев упрекают в невежестве, то свобода вероисповедания и этому горю поможет. Замечательно, что эти столь долго гонимые, непризнанные, становятся образцами. У православных нет ни крепкого прихода с теми благотворительными и просветительными учреждениями, как у старообрядцев, нет выборов для избрания духовенства. Старообрядцы держались не только за обряд, но и за более важные, общественные льготы старого времени. Митрополит московский Иоанникий говаривал: «Если бы не было старообрядцев, православие давно бы обратилось в лютеранство». Так ли это или нет, но склонность к протестантству была у Петра Великого и у части нашего духовенства. Известный католик Жозеф де Местр писал в царствование Александра I: «У русского духовенства и лютеранского есть два догмата к согласию: любовь к женщинам и ненависть к папе». По моему мнению у них есть догмат более важный, общий и православному и протестантскому духовенству и довольно чуждый католическому — это широкая терпимость. С большим нетерпением православная церковь будет ожидать обещанного собора всероссийской церкви. На этом соборе должна быть высказана мысль о необходимости снятия клятвы 1666 г., что потребует присутствия вселенских патриархов. Это снятие клятвы необходимо, и, конечно, оно совершится скоро.
Между старообрядцами надо ожидать живого, радостного движения. Оно должно отразиться и в Белой Кринице, в Австрии. Вообще провозглашенная государем свобода вероисповедания сыграет огромную роль в России, вызовет жаркие споры, полемику, переустройство во взаимных отношениях самих сектантов, но все это будет происходить открыто, а не тайно, не кривыми путями, которые все путают и разносят вражду и недоразумения. Было бы желательно, чтоб старообрядческая журналистика переселилась в Россию и нашла здесь ту свободу, которою она пользовалась за границей и которой и вся русская журналистика, светская и духовная, ждет с таким нетерпением.
20 апреля (3 мая), №10462
DLXII
Земцы, заседавшие в Петербурге 6–8 ноября 1904 г., приняв единодушно известные 11 пунктов, перешедшие несколько в видоизмененном виде в многочисленные резолюции, разделились на две партии относительно выборного учреждения, которое должно законодательствовать вместе с правительством. Большинство высказалось за конституционную форму, т. е. за разделение власти между монархом и представительством, а меньшинство — за правильное участие народного представительства в законодательстве при сохранении единой, нераздельной царской власти. Во главе последней партии стоял Д. Н. Шипов. Другими словами, разница между большинством и меньшинством та, что первое желает избранного учреждения законодательного, вроде парламента, а второе — избранного совещательного, вроде Земского собора.
Бывший профессор Московского университета, г. Максим Ковалевский, хорошо знакомый с парламентским управлением и давно живущий за границей, в «Revue Bleu» разбирает 11 земских пунктов и с удивлением останавливается на пункте 10, который говорит именно об указанном различии. По мнению г. Ковалевского, русские земцы знакомы с парламентаризмом только понаслышке и потому придают парламентским терминам такое значение, которого они не имеют. Даже в Англии члены парламента созываются только для совещания (ad consultandum). Это не мешает им вести дела страны, но при одном условии — представлять мнение большинства. Поэтому, как скоро правительство усомнится в существовании согласия между этим мнением и партией, господствующей в парламенте, оно прибегает к распущению парламента и предписывает новые выборы. По мнению бывшего профессора, споры о таких вопросах чисто академические. Они напоминают ему споры французского Учредительного собрания о том, должен ли король иметь абсолютное veto, или останавливающее (veto absolu и veto suspensif). Английский король имеет абсолютное veto, но им не пользуется, тогда как президент Соединенных Штатов со своим останавливающим veto, т. е. с правом не утвердить закон и потребовать нового его обсуждения, продолжает останавливать законодательные меры иногда очень важные. Мне думается, что московские земцы знают это хорошо по книгам, как и г. М. Ковалевский, но они придают значение тому, что в парламентском режиме власть государя разделяется с представительством, а в земско-соборном она остается единою. Они знают также, что представительство у нас только начинается и смотрят на дело прямо с точки зрения теории, а не практики. Ошибаются ли они, нет ли, но они не хотят лукавить. Одни из них прямо признают, что нам нечего выдумывать что-нибудь свое, когда парламент давным-давно выдуман, что выдумывать тут так же бесполезно, как бесполезно было бы не пользоваться телефоном, уже действующим, а пробовать изобрести свой телефон, русский. Другие думают, что управление страною нельзя приравнять к машине. Страна имеет свою историю, свой народ, свои обычаи, свою степень образования, что мы все-таки не лыком шиты, а потому имеем право, приняв выработанные на Западе политические права, выработать свою государственную форму, применяя ее к своей жизни. Исповедуя эти мнения, меньшинство вместе с тем строго придерживается рескрипта 18 февраля, в котором это обстоятельство указано, как основное.
Я имею в виду не один этот спор. Меня интересует полемика князя П. Н. Трубецкого и 19 гласных московского губернского собрания с председателем его, г. Головиным. Эти господа обменялись письмами, появившимися в газетах. Князь Трубецкой и 19 гласных отказались принять участие в таком же частном земском собрании, назначенном на 22 апреля в Москве, какое было 6–8 ноября в Петербурге, когда составлены были 11 пунктов. Отказались, главным образом, потому, что на этом собрании разговор будет о важных государственных вопросах, на что губернские гласные совсем не уполномочены, и потому, что среди губернских гласных нет крестьян, а без них такие вопросы обсуждать не годится. Подождав несколько дней, г. Головин ответил письмом, в котором так или иначе старался разбить князя Трубецкого, а крестьянам выразил платоническое сочувствие и «прискорбие» в таких выражениях: «крестьяне, подавленные экономическими недугами, обессиленные прямыми и косвенными налогами, угнетенные опекой земских и иных начальников, не имеют достаточно средств и самостоятельности, чтобы принимать участие в губернских земских собраниях». И далее: «едва ли в ближайшем будущем крестьянство примет участие в губернских земских собраниях». Естественно, что если крестьяне не могут принять участие в губернских земских собраниях, то и подавно им не быть в том выборном учреждении, имени которому еще не придумано, — будет ли это парламент, или Земской собор, или Государственная дума.
Конечно, все то, что говорит г. Головин о крестьянах, справедливо, но только относительно. Теперь и крестьяне есть самостоятельные и не угнетенные, богатые и даже довольно образованные. Мужик сер, но ум у него черт не съел. Конечно, он не может произносить речей, как дворяне и адвокаты, но едва ли дело в речах и красноречии. Участвуют же они в судах присяжными. Если они могут разобраться в преступлении, то неужто не могут разобраться в том, куда идут их деньги и как ими распоряжаются? Что им надо и чего им не надо? Мне очень сомнительно, чтобы они этого не поняли. Простой человек, даже безграмотный, способен так же верно рассуждать, как государственный человек. Чтоб жить, надо больше ума, чем для того, чтоб говорить; мысли, созданные для жизни, должны быть вернее, чем мысли, созданные для речи. Чем труднее жизнь человека, тем вернее он научается мыслить. Я не могу допустить, что в губернии на 2–3 миллиона жителей не найдется двух-трех крестьян, которые могли бы заседать с пользою не только в губернском собрании, не только в губернской управе, но и в Государственной думе. Теперь, надо помнить, прошло время для платонических сочувствий и словесных «прискорбий» к крестьянам. Надо дело, и отталкивать крестьян от общего дела значит продолжать создавать в них себе врагов — и чем дальше, тем более сильных и опасных. Г. Головин, утверждающий, что якобы губернское земство только о том и заботится, чтоб помогать народу, забывает, что учреждение земства дало значительный и постоянный доход дворянству. Народ понимает это и видит яснее, чем ту пользу, которую ему принесло земство. Я далек от мысли, что в выборном учреждении крестьяне должны составлять большинство, как составляют они большинство населения. Но изгонять их оттуда, принимать — сознательно или бессознательно — все меры к тому, чтоб они туда совсем не попали, это и несправедливо, и бестактно. Очевидно, г. Головин никогда не думал о тайне логики нужды, о тайне равенства, которая ставит рядом последних людей с первыми. Разговорами о равенстве и всякими прискорбиями о крестьянине мы сыты по горло. А вот когда дошли до дела — «вороти назад, держи около».
О записке г. Шипова у нас уже говорилось. С этой запиской, хотя не во всем, согласны: кн. П. Н. Трубецкой, кн. В. М. Голицын, М. А. Стахович, В. И. Герье, Н. А. Хомяков, кн. Г. Г. Гагарин и О. П. Герасимов. Семь видных деятелей.
Князь П. Н. Трубецкой, протестуя против приемов г. Головина, указал на необходимость присутствия крестьян в губернском земском собрании, куда г. Головин и его товарищи пускать их не хотят, очевидно помня, что в Екатерининской комиссии депутаты получали жалованье: дворянин 400 р., горожанин 122 р., а крестьянин 37 р. Эта градация остается, что ли, в умах прогрессивного земства? Хочет ли г. Шипов пустить крестьян в губернское земское собрание и в свой «Государственный земский совет»? Г. Шипов строит такую систему выборов, которая едва ли допустит крестьян в этот Совет. Трехэтажные эти выборы, да еще с кооптацией, такая мудрая штука, что, пожалуй, и в бюрократической канцелярии ее не сочинят. Если вы не знаете, что такое кооптация, я вам скажу. Например, население выбирает депутатов в уездное земское собрание, а эти депутаты уже сами сопричисляют к себе (кооптация — сопричисление), положим, 10 человек, каких им угодно. Это напоминает тех господ, которые ратуют против земства и говорят, что всего лучше предоставить губернатору советоваться с кем он хочет. Он знает людей, ему и книги в руки. Так и тут: у 50 человек есть знакомые, приятели, свита и они себе выбирают из них рекрут на помощь своей партии. Почему же губернатору этого не предоставить или центральному правительству? Я полагаю, что допустить эту кооптацию в первые же выборы было бы делом прямо компрометирующим выборы. Г. Шипов говорит, что кооптация потребуется в редких случаях и что ее возможно допустить только в размере одной пятой общего числа гласных. Но помня российскую распущенность, можно утверждать, что раз будет допущена кооптация, ею будут пользоваться в превосходной степени[14]. В Екатерининской законодательной комиссии каждый домохозяин в погосте имел право выбора. Это было почти 142 года назад. Теперь прогресс выражается тем, что г. Шипов не дает каждому домохозяину в селе право непосредственного выбора, а только одному из 10, тогда как всякий сельский конторщик, писарь или иной служащий, получающий жалованья 300 руб., имеет право выбора и стоит десяти крестьян. Не дешево ли ценит г. Шипов крестьян? Было бы любопытно узнать, согласны ли в этом пункте те семь лиц, кн. Трубецкой, г. Стахович и др., о которых говорит г. Шипов в своей Записке.
21 апреля (4 мая), №10463
DLXIII
Вы знаете, что я не верил в русскую революцию и теперь еще не знаю: верить или нет? Если все то, что происходит, не революция, то во всяком случае очень опасная бестолковщина. Один из признаков революции заключается в том, что все желают командовать и никто не желает слушаться. Команда из рук командиров переходит в другие руки. А у нас известна пословица, порожденная совсем не революцией, а беззаконием: кто палку взял, тот и капрал. Не слушаться очень приятная вещь при таких условиях. Это не столько ощущение наступающей свободы, сколько спортивное удовольствие. Кто дальше побежит, кто кого перегонит? И вся Россия бежит, спотыкаясь. Она бежит, спотыкаясь, вся в поту, именно в Европу, которая для нас играет роль Колхиды с ее золотым руном, политической свободой. Новые аргонавты бегут по суше. Впереди всех побежал Комитет министров, желая прежде всех овладеть золотым руном и объявить всей России об этом счастье и сказать ей, чтоб она не тревожила своих ноженок и остановилась, успокоилась.
— Помилуйте, можно ли было этого ожидать, — говорил мне человек, всегда бывший безукоризненно либеральным. — Можно ли было ожидать, что так холодно встретят свободу совести? Ведь эта реформа, пожалуй, больше освобождения крестьян. Она касается всей России, она всю Россию освобождает. Это поистине великая реформа, а почитайте: говорят, мало, и кисло ее принимают.
А мне это понятно. Все бегут и хотят перебежать Комитет министров. Он вперед, он думает, что скоро цель, ан, смотрит, впереди его уже целая толпа бежит. Ему бы передохнуть, а не может, — боится, что перегонят. Я говорю об этом «движении» языком, может быть, несколько вульгарным, но я чувствую, что эти сравнения со спортом очень справедливы, даже справедливее, чем сравнение г. Максима Ковалевского ноябрьского заседания в Петербурге земцев со сценой в зале Jeu de Paume, в 1789 г., когда Мирабо произнес свои известные слова: «Allez dire» и т. д. У нас этой торжественности еще нет, может быть, потому, что у нас Мирабо очень много и все они сами от себя, а не от народа. Но сами от себя и сами за себя они говорят красноречиво и хорошо, заливая иногда речи шампанским. Спрашивают, откуда это? Такое было молчание и вдруг!.. А вот именно от этого «вдруг». У нас все вдруг. Как Илья Муромец, сидим себе на печи, ничего не делаем и вдруг раскачаемся и встанем. Такой уж мы чудной народ. Мне говорил другой Ковалевский, не тезка Горького, два года назад: «Плеве решительно отрицает у нас третье сословие (tiers-état). Я ему говорю, что оно есть, а он мне отвечает, что у нас есть только дворянское сословие, крестьянское и т. д. Только законные сословия, а незаконных нет». Между тем еще Пушкин говорил о третьем сословии. В своем «Дневнике», который он вел некоторое время, 22 декабря 1834 г. он записал свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем о дворянстве. Великий князь был против явившегося тогда постановления о почетном гражданстве: «Зачем оставлять tiers-état, сию вечную стихию мятежей и оппозиций?», сказал он. «Я заметил, говорит Пушкин, что или дворянство не нужно в государстве или должно быть ограждено и недоступно иначе, как по собственной воле государя… Что касается до tiers-état: что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями; с просвещением, с ненавистью против аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне». И так далее, прочтите сами, что дальше. Пушкин не особенно жаловал Петра, называя его «Робеспьером и Наполеоном вместе», и «воплощенной революцией» (la révolution incarnée). Он не любил в нем деспотизма, как не любили в нем этого славянофилы. Но Пушкин не все предвидел.
Готово ли третье сословие, образовалось ли оно и организовалось, трудно сказать. Но Пушкин прав, что образовываться оно начало чуть ли еще не ранее декабристов. Мы видим, что дворянство раскололось, одна часть около программы губернских предводителей, другая образовывает «Союз русских людей», третья назвалась земством. Земская программа с общими, тайными по земской и городской системе для палаты, которая выйдет, разумеется, боярской и другою быть не может при системе выборов просеянных[15].
Можно пари держать, что в этих съездах умеренную партию составляют люди более образованные, а неумеренную — менее образованные. Это объясняется просто таким примером: я читал историю революции Л. Блана, вы прочли и Тьера, и Зибеля, и Тэна, вы прочли кроме того Токвиля и т. д. У меня будет совсем иное представление о революции и об ее благах, чем у вас.
Часть московского купечества или, вернее, гласных московской думы хочет образовать партию «Народной свободы» или что-то вроде этого для городского самоуправления. Все это хорошо, что зашевелились, заговорили, стали группироваться. Разумеется, много споров, разноголосицы, одушевления 41 потом усталости от волнений.
Появилось несколько книг о конституциях, разумеется, иностранных, ибо наши ученые этим праздным делом не занимались и предпочитают писать только «предисловия» к наскоро переведенным книгам, и в этих «предисловиях» стараются показать, что они знают больше, чем те авторы, которых переводят. Эти «предисловия» довольно смешно читать. Куда бы лучше было, если б в этих «предисловиях» они писали: «Сия книга переведена с английского языка, и содержание оной я одобряю». И только, ибо «содержание» книги читатель поймет без предисловия. Надо сознаться, что мы необыкновенно невежественны, начиная с профессоров и министров и кончая дворянами, земцами и журналистами. Мы начинаем учиться только накануне: на охоту ехать — собак кормить. Вы посмотрите в правительственных документах, в передовых статьях Комитета министров и разных комиссий. Так прямо и говорится: «на рабочий вопрос мы не обращали внимания, но теперь, когда рабочие стали бастовать, мы спешим» и т. д. Или на этих днях: «по случаю аграрных беспорядков, необходимо поспешить Государственному совету разобрать вопрос об арендах» и т. д. Все по какому-нибудь случаю, а не по системе, не по органической необходимости.
В эти недели я много раз слышал фразу относительно Кавказа и его волнений:
— Пожалуйста, помягче. Главное — помягче; мягкостью все можно сделать.
Я ни разу не слыхал такого наставления:
— Пожалуйста, поумнее. Главное — поумнее. Умом все можно сделать.
Вероятно, ум предполагается, но мягкий, вроде ваты.
Года четыре назад говорили о молодежи в учебных заведениях:
— Пожалуйста, сердечнее. Ничего не может быть лучше сердечности.
И мягкость и сердечность — качества бесспорно хорошие; они должны входить в политику, но они еще не политика, а если политика, то политика без определенного содержания, только с добродушием.
Совсем мы раскисли от неудач и ожиданий. И я думаю, что наша беда в том, что мы раскисли, и по этой кислятине идет наша революция, как тараканы по горшку простокваши.
30 апреля (13 мая), №10472
DLXIV
Несколько строк во вчерашнем моем «Маленьком письме» не вышли в печати. Они касались земских программ, всеобщего, равного, тайного голосования и трения около двух палат, верхней и нижней, избираемых по разным системам выборов. Нижняя по всеобщей и тайной, а верхняя по теперешней или по системе земских выборов 1864 г. О тайных выборах у нас особенно распространяются и даже уверяют, что эта тайность избавляет от подкупов. От подкупов не избавляет никакая система. В выборах рядом с «подкупом» нравственным и политическим, очень естественным, несомненно существуют все другие подкупы, кончая денежными. Это так же верно, как дважды два четыре, и прекрасно известны те суммы, которых стоят выборы в парламент, и все с этим мирятся, как с неизбежным злом, во имя того добра, которое приносит представительство.
Мне не приходилось встречать в печати относительно выборов указания на выборы в Екатерининскую законодательную комиссию. Из всех изданий «Наказа» Екатерины II только в издании 1776 г., при императорской Академии Наук, помещено, в виде приложения, «Начертание о приведении к окончанию комиссии о составлении проекта нового Уложения», указ Сенату, «Положение, откуда депутатов прислать в силу манифеста к сочинению проекта нового Уложения», «образцы полномочий», «образцы присяг» и проч. Уезды обязаны были прислать депутатов в Москву спустя полгода после обнародования манифеста. Всякий дворянин, владевший каким-нибудь имением, служащий или не служащий, имел право выбирать и быть избранным. Для горожанина-выборщика или депутата надо было иметь дом, или дом и торг, или дом и ремесло, или дом и промысел в городе. Остальные выборщики сосредоточены были в группе «однодворцев и других старых служеб служилых людей, содержащих милицию, государственных, крепостных и ясачных крестьян и пахатных солдат». В этом разряде выборы производились по погостам. Погостам дано было на волю прислать или не присылать поверенного для выбора уездного поверенного. Уездные поверенные выбирали провинциального депутата в Москву. Все выборы в уездные поверенные и в депутаты были тайные, при помощи шаров или жеребьев. Женщины не участвовали в выборах, ни лично, ни через доверие. Выборщики рассаживались по лавкам. Их выкликали по именам; они «встают один за другим и кладут свой шарик в поставленный на столе ящик, перегороженный по средине на две части и покрытый сукном, на правой стороне ящика написано: избираю, а на левой: не избираю[16]. Всякий кладет куды хочет, а тот, чье имя читали, волен класть или не класть шарик, оставаться при выборе или выйти. Начальник явно пред всеми снимает с ящика сукно, и выняв шарики, сперва оттуда, где подписано избираю, щитает, и велит записать в списке против имени того уездного поверенного, что столько голосов его одобряют быть депутатом от их жилищ этоя провинции; потом вынимает шарики и с той стороны, на которой надпись не избираю, и сколько пойдет шариков, также записывает как о правой ящика стороне выше сказано. После сего продолжают по списку имя другого уездного поверенного читать даже до последнего, и при всяком имени то же делают тихо и безмолвно». Губернаторам предписано было наблюдать, чтоб «все выборы происходили порядочно, с учтивостью, с тихостью и с молчанием тут где слова излишни», чтоб никому «никаких приметок и притеснений учинено не было: равномерно наикрепчайше запрещается употреблять при сем ненавистную мзду и лихоимство».
Возраст депутата не менее 25 лет. Но относительно выборов по погостам (крестьяне и проч.) сделана оговорка, что избранный погостом поверенный в уездные выборы должен быть не менее 30 лет, быть женатым и иметь детей. От дворян и горожан этого не требовалось. Я уже упоминал на днях о жалованьи — дворяне получали 400 р., горожане 122 р., а крестьяне и все прочие 37 р. Была еще оригинальная особенность: депутат, явившись в Москву, мог передать свое депутатство, с согласия Комиссии, кому хочет, отвечающему тем условиям, которые требовались от депутата: дворянин — дворянину, горожанин — горожанину, крестьянин — крестьянину, только не крепостному.
Екатерининская комиссия не исключала инородцев, не отделяла крещеных от некрещеных, не избегала крестьян, отставных солдат и проч. Ценз, за исключением упомянутых условий для крестьян, был одинаков: какое бы то ни было имение для дворян, для горожан — дом или дом и торг, для крестьян — дом и земля. Это было просто, практично и по тогдашним условиям равномерно.
Теперь дело стоит гораздо сложнее, и россияне всех более или менее культурных слоев относительно выборов не имеют ни определенных понятий, ни руководства, кроме газетных статей. Поэтому, suffrage universel, это «равное, прямое и тайное голосование», и принимается как нечто совершенное. На самом деле, оно даже в такой стране, как Франция, находит весьма основательную критику. У нас, при наших пространствах и проч., оно встретит огромные затруднения и может дать самый плохой результат. Наши радикалы диктуют это голосование и земству, и правительству. Часть земства принимает это голосование, недолго думая. Мы все обращаемся за образцами к Франции и не хотим знать, как устроены системы выборов в северных странах, как Дания и Швеция. А не мешало бы справиться, ибо какие же мы французы и что у нас общего с ними, кроме Парижа, в котором все богатые и достаточные люди чувствуют себя хорошо.
Мне кажется, наше правительство как будто устранилось от управления. Оно все рассыпалось по комитетам, комиссиям и совещаниям. Оно все сидит и рассуждает, а чиновники записывают и приводят в порядок прения. Все рассуждают о реформах и составляют реформы с необыкновенной поспешностью. Я вчера сравнил это со спортом и продолжаю думать, что это сравнение верно. Я бы прибавил к этому, что бюрократия как будто хочет доказать, что сливки нации в ней одной и что если она захочет, то сделает все бесподобно, что если всего этого она не сделала прежде, то единственно потому, что занималась управлением. А теперь она не занимается управлением, а потому весь свой досуг употребляет на рассуждения, а потому управление идет так не важно. Не слишком ли много она взяла на себя? Не придется ли переделывать то, что она делает, и не теряет ли власть в своем авторитете и внимании к населению от того, что административная храмина рассыпалась по комитетам, комиссиям и совещаниям? Это очень серьезный вопрос.
В теперешнее тяжкое время необходимо чрезвычайно много труда, внимания и энергии для одного того, чтоб управлять. Одному этому если отдать свою душу, то и того довольно. Реформы пойдут полнее и сообразнее с местными нуждами, когда выборное учреждение станет действовать.
Поэтому теперь самое нужное совещание — А. Г. Булыгина о выборах, самое нужное, самое необходимое, не терпящее никакого отлагательства и требующее самых тщательных работ. От выборов, от удачной системы их зависит и значение представительства, его живучесть и польза. Ведь дело идет не о комедии, не о блистательном спектакле, а о том, чтобы усовершенствовать государственный порядок и сделать его справедливым, крепким и сильным. Всем надоело жить как будто на даче, в дождливую осень, в ожидании перехода на постоянные, теплые квартиры, жить на какой-то временной почве, при временных правилах и законах. Эти правила и законы теперь постоянно нарушаются и никому не известно, правильно это или неправильно, и когда будут такие законы, которые нарушать нельзя во имя общего блага и общей справедливости. Ведь все потеряли уверенность в завтрашнем дне — и крестьяне, и фабриканты, и дворяне, и чиновники и купцы. Послушайте, что говорят, что пишут, что рассказывают приезжие из разных мест России. Какая эта нелепая картина внутреннего состояния России, когда прочтешь депеши из разных городов! Правда, Россия страшно велика, а телеграмм много. Когда они сосредоточены, то являются слишком густые краски. Правда-то оно правда, а все-таки… Все-таки очень тяжело всем.
1(14 мая), №10473
DLXV
— Так вы думаете, что революция идет?
— Идет.
— Какая же она?
— Рыжая.
Рыжая революция — не слыхал. Почему она рыжая? Не потому ли, что есть оранжевая грусть и белая печаль? Или потому, что рыжий близок к красному, или потому, что наша революция с волосами, выкрашенными в рыжий цвет, вообще выкрашенная и накрашенная парикмахерами из Европы?
Рыжая революция! Это не дурно. La grande révolution и la révolution rousse. Rousse — Русс. Филология сомнительная, как сама революция. В чем вопрос?
Русское общество в некотором чаду «самоопределения».
Естественно, что оно «самоопределяется» в самом радикальном духе и не хочет себя уронить ни перед кем, ни перед одним народом, чтоб кто не подумал, что оно стоит ниже других и меньше стоит. В общей волне много подъема духа и много радостного чувства. «Какое интересное время!» говорят многие. И за всю мою жизнь я не видел действительно такого интересного времени, когда все говорит, все спешит наговориться и высказаться.
Высказано так много, что хоть отбавляй. Россия уже не то федеративная монархия, не то федеративная республика. Польша уже существует отдельно. Образовалось Литовское королевство, Малороссийское гетманство, Грузия, Армения и т. д. Конституций великое множество, и все самые радикальные. Иные превышают социал-демократическую программу. Часть интеллигенции точно ничего другого не исповедует, кроме идеалов социал-демократов и ничего другого не желает, кроме президентства в республике. Относительно языка — столпотворение вавилонское. Русский язык гонят на всех окраинах, и все народности хотят говорить своим языком. В деле просвещения требуют такой свободы, какой нигде в мире не существует, Например, требуют, чтобы директоры, инспекторы и учителя гимназий выбирались населением. Каждый город желает чем-нибудь отличиться и пойти дальше другого. Но как ни странны некоторые явления этого «самоопределения», то комические, то нелепые, они понятны после долгого застоя.
Что вы хотите? Чем неожиданнее настало это время «самоопределения», тем человек стал восприимчивее, сообщительнее, требовательнее и неудержимее. Темпераменту простор полный и тем менее он способен войти в благоразумные границы, чем человек менее образован. Но думается, что разговоры улягутся, «платформы» определятся, «резолюции» получат практическую форму, не столь блестящую, как она выражается в словах, но практическую. Чтоб все было разом — в это нельзя верить и никогда этого не бывает и не бывало. Постепенность — закон природы. Даже физические перевороты, когда образовывались горы, вулканы и пропасти, когда пенились моря, подчинялись законам постепенности и не разрывали своей связи с прошлым и с окружающей природой.
Всем естественно желать Жар-Птицы, той волшебной Жар-Птицы, в руках которой талисман всякого счастия. Жар-Птица — фантазия и прекрасная фантазия, и отчего бы в эту фантазию не верить? Всякое сердце ждет счастья и увлекается идеалами. А вдруг вместо Жар-Птицы получишь индюшку? Только бы не «утку». Индюшка вкусная и большая птица. Получив ее, одни успокоятся, а другие, вкушая от нее, все-таки не перестанут желать Жар-Птицы и будут ее зарабатывать на поле более свободном. Так всегда делалось в истории и будет делаться. Но чтоб все можно взять криком: «вынь да положь!» — весьма сомнительно.
Ничего нет страшного в свободе веры, которая стала законом, ничего нет страшного в свободе речи, которая теперь всюду раздается, не страшны и свобода печати, сходок, собраний, неприкосновенность жилища и проч. Все это определяется законом, который предвидит злоупотребления, и закон действует тем решительнее, чем более обеспечена свобода. Я верю, что мы накануне этих человеческих благ, но мое искреннейшее желание в том, чтобы они наступили не путем революции, насилья и крови.
Когда министерство внутренних дел опубликовало свой циркуляр о сходках и собраниях, я пожалел, что оно не взяло две, три статьи из германской конституции, не провело их через Государственный совет и не публиковало в виде закона.
Это предложение может показаться странным только с первого разу. Но рассудительным людям известно, что в конституциях говорится не только о свободах, но и об ограничениях их в известных случаях, не только о правах граждан, но и об обязанностях их к монарху и государству. На обязанностях строятся и права.
Конституция допускает всякие собрания в закрытых помещениях, для чего необходимо только уведомить полицию о месте собрания. Полиция посылает туда своего представителя, который слушает все то, что говорят, и когда настает «полицейский час» (Polizeistunde), кажется 10 или 11 ч. вечера, собрание закрывается. Ей же предоставлено, в некоторых случаях, закрывать собрание и раньше, когда оно выходит из пределов. 6 помещениях допускается только определенное вместимостью зала число посетителей, как в театрах. В общественных собраниях и сходках так же возможны паника и пожары, как в театрах, и это везде принимается в расчет. Под открытым небом собрания разрешаются только в расстоянии нескольких миль от столицы и рейхстага (14 верст). На что Лондон свободный город. Но на этих днях в эту столицу Англии пришло несколько тысяч сапожников с целью подать петицию в парламент. Их остановили за полторы версты (англ, миля) от парламента, т. е. считая во все четыре стороны по полуторы версты, совсем не пустили в центральные части города; сапожники выделили 10 депутатов, которые однако министрами не были приняты.
Чего проще и удобнее закона? Ведь все равно у нас собираются, говорят, спорят, волнуются. Это входит в нравы, станет необходимостью во время выборов. И тем не менее для таких собраний не назначается часа, после пробития которого они закрываются; для них нет никакого регламента, никаких законных постановлений, и результат — произвол с той и с другой стороны, возбуждение, неудовольствие, беспорядки и казаки. Ни полиция, ни общество не знают, что дозволено и что не дозволено. Существуй закон, что никакое сборище не может быть допущено под открытым небом иначе, как в известном расстоянии от центральных частей города (в Берлине на расстоянии 14 верст от палат и резиденции короля), то 9 января в Петербурге могли бы и не разыграться всем памятные страшные сцены. Можно пари держать, что ни генерал Фулон, ни князь Святополк-Мирский не подозревали, что в Европе существуют законы, оберегающие жителей городов от всяких сборищ, от всякой толпы. Революции там научили правительства многому, и физиология толпы, ее легкая возбуждаемость, гипнотическая солидарность и проч., правительствами очень хорошо изучена. Известно, что генерал Фулон расклеил тогда по стенам предупреждение для жителей, чтоб они не собирались, в виду опасности, которой они могут подвергнуться при подавлении беспорядков. Отсюда следует, что и рабочие не знали о том, имели ли они право идти отрядами в тысячи человек в центр Петербурга. Если б был закон, подобный германскому, они бы очень подумали нарушать его. Никто себе не враг. А у нас все по патриархальному, от времен Петра Великого и его наследников. Юрист мне говорил, что у нас законы насчет порядка в городах, на улицах — курам на смех. Это наша самобытность. И вся-то она — в невежестве, угрозах, халатности и произволе. К произволу все приучились, к закону никто, и вот настало время, когда произвола перестали слушаться, а закона не составлено. Те, которые терпели от произвола, взялись за это же оружие. Что тут удивительного? Для меня это ясно, как дважды два. Полицию создала французская революция, а не королевство. Свобода требует законного порядка, уважения к самому себе и к ближнему. У нас очень мало того и другого, и нам еще предстоит длинный путь для создания граждан. Настоящими беспорядками зато вволю пользуются даже хулиганы, которые являются как бы политическими деятелями, называя себя «интеллигентами», а по следствию оказываются профессиональными ворами и мазуриками, как это на деле было документально удостоверено.
И вот сплошь и рядом распространяются слухи о беспорядках и манифестациях. Перед Святой говорилось о «корпусе хулиганов в 15 000 человек», который будто бы образовался в Петербурге. На 1 мая сулили беспорядки и манифестации в обеих столицах и в главных губернских городах. В заграничных газетах появились известия о приготовлениях каких-то «религиозных манифестаций» в столицах и во всех главных городах. Все это тревожит мирных жителей, которые не знают, что их ждет завтра. Те законы хороши, которые охраняют безопасность каждого жителя и направлены к тому, чтоб предупреждать всякие беспорядки, а не к тому только, чтоб их подавлять. В этом смысле исключительные законы об охране не достигают своих целей, потому что они не столько предупреждают, сколько карают то, что уже случилось.
История учит ли правительства, или правительствам некогда учиться и они только доставляют материал для истории?..
5(18) мая, №10477
DLXVI
«Мы требуем!» говорят евреи, обращаясь к С. Ю. Витте, как председателю Комитета министров. Не просят, а требуют равноправности, как уплаты по векселю, как Шейлок требовал куска мяса христианина.
Это не мое выражение, а лондонского корреспондента «Новостей». «Шейлок требует своего фунта мяса». Превосходно. Где Белларио, знаменитый юрист? Где Порция, очаровательная, умная Порция, которая явилась в адвокатском костюме и так блистательно защищала бедного Антонио, венецианского христианина? Их нет. Белларио нет. А Порции занимаются женской «платформой». Это чудесно. Пусть смеется над русскою женщиной кто хочет, я не могу. Я в ней всегда видел что-то особенное, яркую впечатлительность и вместе с тем большой разум. Они не создадут никогда той «платформы», на которой стояла гильотина, но и не создадут чего-нибудь узкого и пошлого. В их «платформе» могут быть наивности, невозможности, но никогда пошлости. Я не думаю, что между ними много аристофановской Лизистраты, которая прибегла к героическому средству, чтобы заставить мужей прекратить войну, но они разумны как Лизистрата, преданы как Антигона, любвеобильны, как Юлия, и что-то в них есть от Жанны д’Арк. Но роли Порции они не возьмут на себя в наше время, когда резать мясо из живого тела никто не явится перед судом. Предполагаю, что С. Ю. Витте говорит гг. евреям на их требование равноправности так:
— Да, господа, ведь сто миллионов русского народа не имеют равноправности. Давно ли этот народ был рабом? Да и теперь что он такое? Он в сущности имеет такие же права, как вы. Он оселся на своих местах и живет впроголодь, но он признает все тяготы, он отдавал и отдает государству гораздо больше того, что может; он оставляет для своего пропитания минимум, жалкий минимум. Правда, и вы тоже уселись на своих местах и живете в большинстве тоже впроголодь. Но этот народ сделал всю русскую историю, тогда как вы ее не делали. Сначала надо бы устроить этот русский народ так, чтоб он не жаловался, чтоб он мог нести эти тяготы, не разоряясь. Будьте справедливее. Ведь если теперь снять черту оседлости, это значит дать конституцию «еврейскому народу», как давали ее Польше и Финляндии. Ведь вам больше этого ничего и не надо.
А что бы ему ответили гг. евреи? Они бы ему ответили такой петицией:
— Ваше высокопревосходительство, можно нам быть откровенными с вами? Вы нас не выдадите? Parole d’honneur?
— Parole d’honneur.
— Хорошо. Мы вам верим. Мы вам сделаем такой сюрприз, что ах, какой сюрприз. Такого сюрприза и оценить нельзя: мы прекратим революцию. У русских вовсе никакой инициативы нет, тогда как у нас ее так много, что ни один народ с нами не сравнится. Куда бы ни пришли, мы сейчас становимся господами. Во Франции нас всего 100 тысяч на 40 мил. французов, а мы и там приобрели такое влияние и такие богатства, что и говорить нечего. Англия хочет запереть перед нами двери. Говорит: довольно! Печать, банки, торговля, комиссионерство, всевозможные сделки, биржа, все это в наших руках. Молодежь тоже в наших руках. Что она, ваша русская молодежь, понимает? Она ничего не понимает. Кто ораторствует на сходках? Мы. Кто умеет сплотить русских и направить их? Мы. Снимите черту оседлости, и забастовки сейчас прекратятся. Учебные заведения будут переполнены молодежью. Не русскою, может быть, но еврейскою непременно. Мы любим просвещение. Мы знаем, что без него даже и еврей — дурачок, а уж о русском что и говорить. Он только и может брать счастьем. А счастья нет — он дурак. Вам теперь деньги на войну нужны. Вы без евреев их не найдете. Деньги все у евреев. Лондонский Ротшильд говорит теперь: «Как можно верить России? Если она заключит мир, — революция, если она станет продолжать войну, — революция». А лондонский Ротшильд такой же умный, как и парижский. Все Ротшильды умные. Вы знаете, кто создал Будапешт? Думаете — венгры? Куда им? Этот прекраснейший город создали евреи. Без евреев Венгрия бы погибла. Поверьте, и в России будет так же. Мы поднимем ее своею деятельностью так, что через десять лет ее узнать будет нельзя. Пойдите в Гостиный ваш двор. Там с каждым годом все более и более евреев. Никто с ними конкурировать не может. Мы везде имеем кредит, везде нам верят. У нас мальчишка уж думает о том, как бы приобретать, как бы не сидеть на плечах родителей. А у вас дети до 30 лет любят сидеть на папаше и мамаше. Когда папаша и мамаша не имеют денег, только тогда дети начинают думать, дела искать, да и тут дела у них только в канцелярии. Возьмите у них канцелярии, что они будут делать? Ах, как жалко, как жалко нам русских. Русские — хороший народ, очень хороший народ, но ничего не умеют, что теперь надо. Мы заставим их дело делать, мы выучим. Для нас Россия — отечество, и мы ее любим. А без нас ничего не будет. Говорят, мы народ будем эксплуатировать. Мы будем управлять им. А вы управлять не умеете. Мы денег ему дадим, кредит откроем. Вы все говорите только о народном кредите. Сколько лет говорите. Ах, как говорите, как обещаете. А у крестьянина все нет кредита. А мы ему дадим. Это наше дело. Вы еще сто лет будете обещать самый дешевый и самый доступный кредит, а все его не будет. А мы дадим, какой можем, но дадим, и крестьянин будет доволен и будет с нами жить мирно. Мы не обманщики. Мы знаем, чего кому нужно, когда купить и когда продать. А вы все только думаете. А когда вы думаете, уж об этом думали мы еще при царе Давиде и хорошо думали и с тех пор думали все лучше и лучше. Куда вам за нами поспеть? Вам невозможно. Пока русский одевается, да спину чешет, а еврей десять дел сделал…»
И долго еще говорят они и долго будут говорить и шуметь, и когда будут равноправны, будут говорить то же самое, ибо они вечно будут считать себя обиженным народом, и когда солнце померкнет и земля начнет умирать, на льдине будет сидеть последний человек, и этот последний человек будет еврей и он будет жаловаться и укорять Бога за то, что он не отвел ему другой планеты…
11(24) мая, №10483
DLXVII
— Вот сибирная жизнь! Просто мочи нет.
— Почему? — спросил я господина лет сорока, здорового, краснощекого, сидевшего против меня в ресторане за завтраком.
— Сибирная! — повторил он. — За каким чертом Россия существует, кому она нужна и для чего она нужна? Представьте себе, что она провалится. Вместо нее — море. Что за беда: по морю англичанин поедет. Что мир потеряет от того, что мы пропадем? Ровно ничего. Провалятся миллионы нищих, глупцов, рабов, всякой дряни, — ну, с ними, конечно, и порядочные и добрые люди, но все это не имеет никакой ценности с культурной мировой точки зрения. Кому русский человек нужен в Европе? Как он там жалок! Даже образованные русские никому там не нужны. А богатые нужны разве кокоткам и рестораторам. Да и то над ними тешатся и лупят за все с них втридорога. А вот всякий иностранец у нас приобретение. Англичанин, немец, все эти господа сейчас же находят у нас занятия, положение, выгодный труд. А сунься во Францию и Англию русский — шиш! Вы, конечно, скажете, что это оттого, что у нас нет конституции. Будь у нас конституция, мы бы орлами были. Держи карман! Нет, с этой славянской ленью, с неряшеством, с грубостью, с грязью, с клопами — орлами не будешь. Вот, например, Комитет министров со своими реформами. Это не так, то не так. Верно! Ну, а пускай он возьмет на себя вывести клопов из России. Пускай проведет такую реформу, чтоб клопы исчезли. Кажется, чего проще! Ведь это не Сибирскую дорогу построить, не золотую валюту провести, а просто клопов вывести. Пускай возьмется. Погодин говорил, что выведение клопов — важнейшая реформа. И действительно. Пускай-ка выведут клопов! Вот это будет гениально!
И он набросился на принесенной кушанье с жадностью. Оно мигом исчезло в его желудке. Он выпил две рюмки коньяку и потребовал себе еще чего-то.
— Однако, вы говорите! — сказал я ему.
— Не нравится?
— Уж слишком радикально вы говорите.
— Радикально? Да уж если выводить и вводить у нас что, то не иначе, как радикально. Клоп в моих словах совсем не символ, а реальная вещь, и о реальностях я говорю. Персидская ромашка тут бессильна, хоть купи ее на миллионы и рассыпь по всей России. Тут культура нужна, пути надо расчистить для культуры. Жалкая, противная, грязная, нищенская страна, и никто и никогда ее не умоет, не причешет и не вычистит. Тютчев правду сказал, что сам «Христос в ризе крестной исходил ее благословляя». Действительно Он ее исходил, действительно благословлял. Для меня это реальность. Богочеловек не мог поступить иначе. Он видел, что все это божьи создания, несчастные, бедные, в сквернейшем климате. Что ж ему оставалось? Благословить их и только. «Живите, мол, страдайте и не ропщите». Ничего больше этого и сделать нельзя, как благословить. Посмотрите — май месяц, а собачий холод. Шесть месяцев зимы! Где, скажите, есть такая культурная страна, где шесть месяцев зимы? Такой страны нету, не было и не будет. Зима еще хуже клопов. Зиму никто не выведет. Вы знаете, почему нас никто не завоевал? Потому что не стоит пачкаться. Монголы завоевали, а потом взяли и бросили. Надоело. Ну, потом Наполеон пришел в Москву. Говорят, Кутузов его обманул, заманил в Москву и не хотел заключать мира. Какой вздор! Просто сам Наполеон увидел, что овчинка не стоит выделки. Когда он приехал в Париж, первые слова его жене своей, Марии-Луизе, были: «Какого дурака я сломал! Тысячу раз дурак. Идиот! Прямо идиот! Я воображал, что Россия нечто вроде Германии, а это — дикая страна! Краснокожие!»
— Вы так говорите, точно сами присутствовали при свидании Наполеона с Марией-Луизой.
— Уж поверьте, что так. Я знаю, что говорю. Мы сидни, медведи, ленивцы. Вы думаете, что Комитет министров знает Россию? Ни малейшим образом. Он реформирует ее точно так же, как стал бы реформировать Гренландию, в которой он не был. Пункты известны. Одни отменил, другие водрузил. Вот и все. Почему отменил одно и водрузил другое — неизвестно и ныне и присно и останется неизвестным во веки веков. Аминь. Почему мы воюем с Японией? Неизвестно. Какая-то там Маньчжурия. 35 дней надо скакать до нее по железной дороге. 35 дней! Можете себе это представить. Еще 35 дней — и кругом света объедешь. Для чего? Никому неизвестно. Объехал кругом света! Да для чего ты объехал? Себя показать хотел? Да кому ты нужен? Других хотел поглядеть? Да ты и смотреть не умеешь. Ты думаешь, что смотреть — значит буркулы выпялить? Ошибаешься. Смотреть значит понимать и поучаться. А ты ничего не понимаешь. Сидел бы дома да галок считал. Маньчжурия! 35 дней! Миллиарды! Потоки крови! Нажива, взяточничество, грабеж. 63 тысячи пленных! Когда это слыхано? Один Стессель предоставил японцам 40 тысяч. Вот молодец! Чужого не жалко… Мало нам Сибири, за Сибирь надо. Где всего хуже, там и нам надо быть. В хорошие места нас не пускают — мы в скверные. И у себя скверно, а мы ищем еще более скверного, чтобы оно подходило к нашему неряшеству, к нашей лени, к неумытому нашему рылу. Гармония! Гармонии хотим, грязь к грязи! Чудесно! Кто меня удивляет — это евреи. Лезут в центр России. Живут они в лучших местах России, на западе, юго-западе и юге. Территория, им отведенная, равна Франции. Нет, пусти их в Россию, во внутрь ее, в самое нищенство. Чтобы нищий нищего обобрал и слопал. Дурачье! А у нас их считают умными. Я бы их пустил, — пусть лезут, а русских мужиков перевел бы на их место. Да у нас никто ничего не понимает. Эй, человек, дай мне коньяку!
Вот говорят: конституция. Не верю. Все пишут конституции. Педагоги, адвокаты, земцы, дворяне, думцы, инженеры. Теперь конституцию писать так же легко, как адмиралу Алексееву управлять Квантуном. Пиши что хочешь, проектируй губернаторов хоть в белых лосинах, а Квантуном все-таки управляют японцы. Вон Шарапов в Москве обнародовал конституцию, сочиненную думской комиссией. Во-первых, спрошу вас, дело ли это думской комиссии писать конституцию, да еще с «упразднением» винной монополии»?
— Отчего же? Ведь это наше представительство. Думцы, земцы, дворяне — это организованные общественные единицы и вправе делать то, что делают. Можно критиковать их конституцию, но необходимо оставить их в покое заниматься этим делом.
— Вы так думаете?.. Человек, дай же мне коньяку. Что ты мне рюмкой подносишь? Дай графин. Жалко тебе, что ли? Я ведь не конституции у тебя прошу…
Татарин улыбнулся и подал графин. Он поднял его на свет, поглядел и поставил.
— Хорошо, — сказал он. — Если, по вашему, московские думцы имеют право писать конституцию и требовать упразднения винополии и возрождения «смирновки» — черт с ними, пускай пишут, а Шарапов пускай издает. Но я вас спрошу, что мне-то от этого? Я еще мальчишкой читал конституции, а мне теперь сорок стукнуло. Все пишут конституцию, а ведь у меня ее нет, у вас ее нет. Ведь нет ее?
— Нет, — отвечал я. — В этом вы правы.
— Слава Богу. Я прав? Да когда я не был прав? Я реалист. Мне вещь подай, а не думскую конституцию. Ценность мне подай, а не аллилуйя с маслом. Раз я отцу так сказал: «папаша, что вы читаете? Аллилуйя с маслом»? Он меня высек. Впрочем, не больно. Он был добрый человек. Может, и теперь меня следует высечь. Не даром Монтень сказал, что «всякий человек достоин того, чтоб его трижды повесить». И он прибавил, что себя самого не исключает. И я себя не исключаю, хотя я не Монтень. Вы революционер? Не отвечайте: я отгадаю. Вы землевладелец?
— Немножко.
— Ну, значит, революционер.
— Почему же революционер?
— А потому, что верите в революцию и боитесь ее. Кто в нее верит, тот революционер. Это ясно, как день. Пассивный революционер, а не активный… Это еще хуже. Он перестает понимать и себя и других. У него руки отваливаются, глаза не видят, голос хрипит, ноги дрожат. Он «готов», как говорится о пьяном. Но он хуже пьяного. Пьяный отоспится, а пассивный революционер потеряет сон, разрыхнет, ослабеет и составит толпу. Он будет толкать революцию вперед и кричать в толпе, как дурак: «en avant», потому что со страху и русский язык забудет.
— Вы землевладелец? — спросил я его, смеясь невольно.
— Дворянин, земец, землевладелец и заводчик, — отвечал он тоже смеясь.
— Пассивный революционер?
— Активный. Я все одобряю и все порицаю. Отделяется Царство Польское, отделяется Кавказ, Малороссия выберет гетманом Антоновича, Тверская губерния призовет к себе варяжских князей и станет Тверским княжеством, Новгород объявит себя республикой, Псков призовет себе Синеуса или Трувора — все одобряю и порицаю всех и все. Порицаю с таким же удовольствием, как одобряю, с удовольствием злорадства. В груди моей что-то кипит и клокочет, и мне хочется иногда голову себе разбить о стену.
Он замолчал.
— Неужели вы серьезно так думаете, как говорите? — спросил я его.
— Да ведь это почти общее мнение. Поговорите с кем хотите. Поезжайте в салоны, — везде одно и то же. Равнодушие, бесстыдная болтовня, трусость и лицемерие. А я не лицемерю. Говорю, что в башке сидит.
— Зачем же вы живете в России? Вы человек богатый.
— Я русский. Эмигрировать не желаю. И так валом валят в Европу соотечественники. А мне там стыдно. Да, стыдно. Ну, а в России все-таки поругаешься, поволнуешься, покричишь, выпьешь, покаешься в своих гадостях, ругая чужие. Я, как Лермонтов, родину люблю, но странною любовью. Я бы разрушил ее и на развалинах стал бы рыдать и целовать землю…
У него дрогнул голос.
— Нет, я вру, вру. Я желаю ей жить, желаю счастья. Разве это не ужас столько испытаний. Может, теперь, когда я богохульствую против родины, на нее собирается новая гроза, новое несчастие готово поразить нас. Может, оно караулит нас давно и вдруг ударит, чтоб придушить нас окончательно. Лучше не думать.
— Эй, человек, шампанского! — крикнул он. — Выпьем за здоровье Рожественского. Пусть он не победит, но он герой. Милый, славный человек!
Он поднял бокал. В глазах его стояли слезы, но он улыбался. Мы чокнулись.
Дикий человек.
12(25) мая, №10484
DLXVIII
Общественные несчастия окружают нас такою атмосферою, что не знаешь, что будет завтра. Мысль о них так сроднилась с каждым, что я писал 11 мая: «Может, теперь собирается на родину новая гроза, новое несчастие готово поразить нас. Может, оно караулит нас давно и вдруг ударит, чтоб придушить нас окончательно». Я думал о судьбе нашей эскадры, которая подвигалась в это время к японцам. Вместе с множеством людей я не столько верил в ее успех, сколько страстно желал в него верить. Естественно, являлись и сомнения, и черная туча всего прошлого начинала грозить и смущать.
Несчастие случилось, и страшное несчастие. Надо быть готовым ко всему, к самому черному несчастию. Я ставлю слово «несчастие» не потому только, что поражение есть несчастие, но потому, что мы воюем в такой несчастной атмосфере, какой у нас никогда не было. Пусть говорят, что это удары судьбы — Немезида, мстящая, безжалостная и роковая; что у нас все оказалось гнилью и что эта гниль не что иное, как порождение существующего порядка. Но в таком случае вся Россия — гниль, так как вся она существовала при таком же порядке, расширялась, колонизировала, побеждала не варваров, но и народы и войска, которые стояли выше ее развития, просвещалась, образовывала университеты, академии, ученых, техников, создавала прекрасную литературу, в которой всегда горела вифлеемская звезда гуманных и просветительных идей; в самой народной жизни, стоявшей вне привилегированных классов, совершалось идейное движение и росли характеры, полные доблести, ума и иногда величия. Скажут, что все это действительно было, но все это пригнетено, исковеркано и, если росло, то потому, что крепкий и сильный народ растет во что бы то ни стало и несмотря ни на что. Стало быть, все-таки Россия не гниль и гнилью быть не может, даже по этому воззрению. Свежие силы вырываются наружу и добиваются блага России и лежат плодотворным семенем в ее росте. Откуда же все эти поражения? История раскроет многое, что теперь неизвестно; но когда найдется беспристрастный историк, он не будет судить так легко, как мы, и назовет этот год черным, несчастным годом русского народа, когда все соединилось по каким-то причинам или капризам судьбы для того, чтоб всякие проявления гордой силы, мужества, веры, самоотвержения попали в руки людей бездарных, слабых или несчастных. Что такое несчастный человек, что такое несчастие, это всякий понимает непосредственным чувством, но объяснить это трудно, и я не возьмусь за это объяснение. Но я знаю, что несчастия не вечны и что человек побеждает и несчастие, если он достоин названия человека и не гнет послушно своей спины и не стремится пасть на колени.
Я знал, с какой энергией готовилась эскадра Рожественского, сколько положено было в это труда, силы и внимания. Сколько благородных, лучших моряков, взрослых и юношей добивались попасть на корабли. Комплекты морских офицеров были увеличены именно потому, что было столько желающих померяться с японцами, столько преданных своей родине и ее славе. Их не ужасал длинный, томительный путь. Оскорбленные неудачами флота и превосходством врага родины, они шли, чтоб доказать, что Россия сильна, могущественна и справедлива в своих действиях. Многие не скрывали трудностей от себя. Многие говорили: «Мы идем на смерть». Сам Рожественский, о судьбе которого ничего неизвестно, кроме того, что он ранен, жив ли он, нет ли, сам он не скрывал от близких, что он ведет эскадру и посвятит ей все свои силы, но что будет с нею — одному Богу известно. Я прочел в дневнике одного молодого моряка[17]) такие трогательные слова:
«Господи, довольно карать Россию, помоги ей, Господи.
Если нужно — вот мы, жертвы гнева Твоего, но смертью нашей дай, любимой и дорогой, победу и мир.
Услыши нас, Господи, услыши.
Россия! — вот слово, которое все опрокидывает. Россия… нет, даже для вечности не могу забыть тебя! Если мой дух хоть на мгновенье (мгновенье вечности — порядочный срок на земле) может задержаться здесь, дай мне, Господи, право и после смерти стоять за Россию, помогать ее бойцам, ослеплять врагов…»
Какой благородный крик сердца и веры. Слышится, как всякое слово вылетает из прекрасной души молодого человека. Но и он тревожен, и его мысль обращается к Богу с такой горячей верой и в Него и в милую родину. И, поверьте, таких было много и, вероятно, над ними теперь плещет холодная, равнодушная волна чуждого океана. «Жертвы гнева Господня». О, нет, за что на вас будет изливать свой праведный гнев Господь? Вы жертвы черного года, несчастные жертвы, достойные любви и горьких слез. Ваша преданность долгу, ваша любовь к матери своей России не забудется, как не забудет она всех храбрых, всех любящих и преданных ей. Чем тяжелее, чем ужасней ее судьба, тем дороже ей сыны ее, которые шли в бой, как бестрепетные рыцари ее великого духа. И за гробом ваше множество, как множество бестелесных духов, будет примером и поучением для живущих и никто не оскорбит вашего праха. И не погибнет Россия, как бы ни терзали ее, какие бы унижения ей ни готовили. В ней столько здоровых, бодро чувствующих и честно делающих, что они спасут ее, как мать спасают любящие и мужественные дети.
Если б кто захотел услышать слова утешения, их найти невозможно, ни в чувстве, ни в разуме. Все придавлено ужасающей драмой на море. Ничего не можешь себе объяснить, и всякие объяснения кажутся такими мало говорящими, что они раздражают встревоженное чувство. Кто бы что ни говорил, в нашем прошлом много доблести, ума и дарований.
А все это подает руку будущему, не тому, которое готовят буйственные реформаторы, желающие удивить мир среди смуты и злобы, а тому, которое нужно великому народу, в его естественном и свободном развитии. Поэтому настоящее требует немедленного собрания представителей Русской земли, не дожидаясь окончания работ Булыгинской комиссии. Начатые в других условиях, они отстали от событий, которые разразились такою грозою, и время не терпит. Нужен разум всей России, нужно все ее русское чувство, чтоб овладеть быстро мчащейся волною настоящего.
18(31) мая, №10490
DLXIX
И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце у царя и сердце у князей; и ужаснутся священники и изумятся пророки.
Иеремия, 4, 9Земский собор нужен немедленно, как сказал я вчера. Он необходим и для государя, и для России, как смертному необходим воздух. И государь, и его родина одинаково поражены несчастиями, одинаково больно их чувствуют. Только на Земском соборе государь и Россия могут понять и почувствовать друг друга в том единении, которое криком кричит о своей необходимости, и в этом крике, слышатся слезы и стон. Что ж, и теперь этот крик останется гласом вопиющего в пустыне и нет людей, которые уготовили бы путь народной правде и совести? Пусть рухнет стена, разделявшая государя и народ, навсегда и останется то, что называется ответственным правительством, действующим на виду у всех, никому не враждебное и для всех справедливое, даже поневоле справедливое, потому что всякое уклонение от справедливости поставится на счет на глазах России. Вопрос о выборах теперь совсем не так важен, как может казаться. Нет той системы их, которая не имела бы очень крупных недостатков, с которыми европейские правительства и представительства борются многими десятками лет. Все равно идеальной системы на создаст никакая комиссия, сколько она ни собирайся и ни совещайся. Усовершенствования — дело практической жизни и самого Земского собора, его спокойной деятельности. А теперь такая минута, которую упускать нельзя. Все от нее зависит, все будущее, все настоящее России. Разум Русской земли окажется на высоте своего призвания и доверия к нему государя. Но в этом Соборе крестьянство необходимо. Без крестьян это не будет Собор Русской земли. Лгут те, которые называют их невежественными, слепыми и темными и напрашиваются на их места, рекомендуя самих себя, как наиболее образованных и смелых.
Наша великая родина задыхается от несчастий и смуты, которая подняла свою голову повсюду, от края и до края, и которая готова подкладывать поленья под телегу медленно движущейся русской жизни. Вот уже больше года несчастия железной цепью все более и более затягивают Россию в петлю. Желтый враг торжествует силою оружия, внутренний — силою нашего неустройства и всяких беспорядков.
В одной газете, которая отражает известный круг общества, я читал: заключите мир с Японией, и тогда легко совладать с врагом внутренним. Иначе война на два фронта невозможна. А разве вы, так говорящие в печати и в жизни, собираетесь еще вести и внутреннюю войну? Что ж это будет за война — одной части общества против другой, крестьян против помещиков, рабочих против фабрикантов и всех вместе против государства? На эту войну вы намекаете? Внутри беспорядок, неопределенность, отсутствие твердого закона, бессилие власти, поставленной в такие условия, которые не дают ей надлежащей директивы. Внутри не то нужно оружие, что против врага внешнего. Не влагайте в русскую душу губительного меча и помните, что единственный хороший меч внутри — это закон. И это оружие даст Земский собор. Возьмите хотя те кадры, которые были при Екатерине. Возьмите выборы хотя бы земские по закону 1864 г. Теперь телеграф работает, и чем меньше будет проволочки, тем будет лучше, тем более надежных людей выберут, тем сильнее сознание, что Россия, наша общая мать, ждет мужества и помощи своих граждан и тем быстрее все соединится вместе, чтобы решить самый настоятельный вопрос о мире или войне с Японией. Вопрос о войне с врагом внутренним сам собою уляжется: против него восстанет голос всех благоразумных людей, всех любящих отечество и понимающих, что значит позор родины, которая, может быть, совсем еще не желает становиться на колени перед врагом и желает остановить тех, у которых уже колени гнутся, чтобы сделать земной поклон и ударить головою об пол…
Почем вы знаете, что думает Россия, когда ее никогда не спрашивали?
Лучше ли рассчитывать на пособничество иностранных держав, на их дипломатию, чем на пособничество своей страны, которая несла все тягости этой войны и людьми и деньгами? Неужели лучше, благороднее и благодарнее? Кто скажет, да, лучше? Неужели кто-нибудь скажет? Разве страна наша не заслужила, чтоб с ней посоветовались, чтоб она обсудила все настоящее положение прежде всего в связи с войною и ее последствиями, — миром? Да, эта связь не скоро исчезнет. Она будет напоминать о себе долгие годы на всем хозяйстве и росте страны, а потому теперь же необходим свет.
Надо покончить с этим угнетенным состоянием духа всех русских людей, с этою безнадежностью, близкою к отчаянию, с этим кошмаром военных несчастий и внутренней смуты. Они точно подают друг другу руки и друг друга приветствуют издали. Надо прочь эти руки. Пусть Япония чувствует руку России, всей России, в ее представителях. Пусть она, победительница, поймет, что если б ей пришлось посылать свои войска за Уральские горы и свой флот в Балтийское море, то никогда бы не решилась на войну, а если б решилась на нее, то погибла бы. Это соображение детски просто, но оно совершенно правдиво объясняет наши неудачи или часть их. Пусть за правительством, за дипломатией стоит вся Россия, как ее поддержка, на которую можно опереться с полным доверием.
Надо вызвать заглохшее патриотическое чувство, разумное, одушевленное, дельное. Надо вызвать не одного Минина, не одного Пожарского, которых никто не знает, но в платья которых теперь готовы нарядиться разные комиссии. Надо вызвать целый сонм людей, за которыми бы стояли города и села и чувствовали бы связь со своими избранниками. А другого средства поднять, воскресить это патриотическое чувство, кроме Земского собора, нет и нельзя его найти. Без этого же чувства страна — дикая орда, готовая рассыпаться, и уж проявляется склонность к этому разложению и даже междоусобной вражде. Чем дальше, тем будет острее и сложнее. Пора это уразуметь всем, в ком бьется русское сердце, кто дорожит своей родиной и чувствует, что опасность надвигается ближе и грознее. Всевозможные комиссии могут продолжать свою работу, как приготовительные императорские комиссии с тем, чтобы провести потом свою работу через Земский собор, не заинтересованный службою, чинами и пенсиями. Но пока сказка сказывается, необходимо немедленно заняться самым неотложным делом, немедленным созывом Земского собора. Еще вслед за падением Порт-Артура, в конце декабря, я поднимал свой слабый голос, советуя обратиться к народу, к Земскому собору, и говорю об этом опять и опять…
Плакать и горевать… О, как многие теперь плачут и горюют, какая река святых слез прольется, какие душевные драмы происходят, наедине и в присутствии свидетелей, которые сидят убитые и безмолвные, как статуи, покрытые черным. Мужья, отцы и дети, еще так недавно дышавшие надеждою и смело смотревшие вперед, теперь покоятся на дне океана[18].
Не становитесь на колени и не унывайте! Ищите Бога в своей душе, чтобы остаться человеком. Ищите Бога в русских душах, и вы его найдете. Зовите русских людей! Не может быть, что Россия кончила свой век. Не может быть, что она из ничтожества поднялась к своему зениту и теперь по наклонной плоскости летит стремглав к ничтожеству.
Да, горько и печально всем нам. Именно, как сказал пророк, «замрет сердце у царя и сердце у князей; и ужаснутся священники и изумятся пророки». Нет человека, нет талантливых людей, нет спасения. Скорей на колени! Не говорите так. Вы говорите так потому, что думаете, что весь сок разума и дарований только в министрах, администраторах, стариках Государственного совета, в служебном строе иерархии. Если так, то спасения нет. Но оно есть в свежих людях, в здоровых душах, помнящих свою душу, душу своих предков и славные страницы своей истории. Отчаяние — смерть, унижение — рабство разума. Не упускайте момент необыкновенной важности, работайте, чтоб Земский собор открылся, чтоб в Петербурге собрались лучшие люди на общий совет, на общее дело. Если б я владел громами, я потряс бы ударами всю Русь. Но последнею кровью своего старого, исстрадавшегося сердца я взываю: соберите Земский собор, созовите представителей Русской земли немедля, не откладывая, не опасаясь. Помните: смелым Бог владеет!..
19 мая (1 июня), №10491
DLXX
Да, Земский собор необходим. Об этом надо говорить уже потому, что больше говорить не о чем. Обо всем остальном переговорено давным давно. Но Земский собор — это самое необходимое, самое жизненное. Только он укрепит власть и даст ей необходимую поддержку. Только он успокоит оскорбленное русское чувство и даст проснувшемуся разуму Русской земли ту свободу мысли и дела, которой никогда не бывало. Получить небывалое никогда — это счастье уж потому, что оно ново, оно манит чем-то неведомым и прекрасным.
Я сказал, что надо собрать Земский собор немедля и смело и что смелым Бог владеет. В этом случае смелость есть та божественная искра в самом царском сане, которая светится на весь мир и которая осветит русские души и даст им надежду на исцеление.
Чудес нет, говорят. Не правда, чудеса есть и чудеса объяснимые: это взрыв народного самосознания, народного патриотизма. Без причин этих чудес не бывает. В настоящее время все причины для созвания Земского собора существуют так наглядно, что только слепые их не видят, а слишком осторожные стараются их устранить или уменьшить, да и то с оговорками. Земский собор — это народное самосознание, это воскресение всерусского чувства, которое иначе нельзя назвать, как патриотизмом. Любовь к отечеству — это та двигательная сила, которая совершает чудеса, и о чуде следует говорить, и следует говорить о Земском соборе.
Потери наши ужасны. Такого страшного поражения морских сил не было в новой истории и нам пришлось испытать это к нашему ужасу и стыду. Национальный стыд — это очень ядовитая змея, которая пускает свой яд постоянно, при всяком удобном и неудобном случае, и раны долго не заживают. Не заживают до тех пор, пока этот стыд не покроется каким-нибудь национальным подвигом. Он мешает народной смелости, мешает смелому почину, смелой национальной политике. Национальный стыд внедряется в душу, как губительный микроб, который отнимает частичку души. Откуда это упорство продолжать войну, если не из боязни этого национального стыда? Откуда эти надежды, доселе не умирающие, что война все-таки окончится нашею победою? Откуда эта храбрость, этот военный долг, заставляющий идти на верную смерть? Рожественский сомневался в победе и пошел. Надо спасти отечество, надо стереть с его чела позор поражений, надо восстановить репутацию русского флота. О, конечно, все это легко осмеять, легко даже логикою мышления доказать, что все это предрассудки, старые предрассудки, с которыми пора покончить. Человечество бедствует, сражается, проливает кровь, тратит миллиарды на военное и морское дело. Самые просвещенные страны не хотят отстать друг от друга, хотя сознают, что война — бедствие, что она не отвечает самым примитивным понятиям христианства. Пора все это бросить, пора старое переоценить по-новому — и тогда все пойдет лучше. И, несмотря на все это, никто не начинает и не думает начинать, и все продолжают считать войну экзаменом народов. Кто победил, тот прославлен, кто побежден, тот унижен. Кто победил, тот ходит гордо, тот смело говорит, смело предлагает свою мысль, смело начинает всякое дело и пред ним расступаются, как перед особою, достойною всякого почтения. Кто победил, тот берет новые области и контрибуции, поправляет свои финансы, развивает промышленность и торговлю, увеличивает средства к просвещению и все это на счет несчастного побежденного.
Говорите, сколько угодно, против такой логики жизни, а она продолжает существовать и будет существовать даже тогда, когда социал-демократия овладеет управлением, даже тогда, когда национальные особенности сотрутся совсем. Если б Европа обратилась в Соединенные Штаты, которые проповедывали поэты и теоретики, то и это не помогло бы, потому что проснулась Азия, потому что победила Япония на море и этот факт такой огромной важности, что теперь еще невозможно оценить все его влияние на историю мира. Нам предстоят военные расходы все большие и большие. А когда народ побежден, он невольно будет думать об отмщении и усиливать свои военные силы, чтоб не потерять того, что он имел.
— Горе побежденным. Vae victis.
— Долой войну!
— Мир! Мир!
Чудесно, а все-таки: горе побежденным. А все-таки мир выгоден победителю и очень невыгоден побежденному. Вольтер сказал, что la paix est la fille de la guerre. Да, дочь войны, дочь, за которой приходится побежденному дать огромное приданое, прямо разорительное для родителей.
И вот к национальному стыду побежденному приходится прибавить миллиарды контрибуции. И мы их будем платить, и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки будут платить, и это будет отражаться на наших финансах и на всей нашей экономической жизни.
Горе побежденным и горе народу, которому придется платить подати врагу на усовершенствования его армии и флота и на учреждения культурные, а у себя все урезывать, даже самое необходимое.
Я и говорю: необходим Земский собор. Необходимо, чтобы вся Земля Русская рассудила, что нам делать: воевать или заключить мир. И если воевать, то как воевать, какими средствами и какими мерами. Пусть Земля все сообразит, пусть ей все объяснят гг. министры, изложат все положение, и пусть гг. дипломаты справляются у Русской земли, как им поступать в деле мира, до каких высот платить контрибуцию и что уступать и что не уступать ни под каким видом. Чтобы Русская земля знала все, так же хорошо все знала, как теперь она хорошо не знает. Мне даже страшно перечислять все эти вопросы о мире, об уступках, о контрибуции, страшно, как несчастия, как бегущей к нам заразы, как казни. Но я уверен в том, что Земский собор даст истинных патриотов, даст людей даровитых, которые сумеют измерить силу материальную и силу духовную своей родины и которые приступят к своему делу, как к делу самому дорогому и священному.
Я только рассуждаю. Пусть и читатель рассуждает и взвешивает. Я не хочу унижения родины, не хочу национального стыда, не хочу контрибуции.
Вместо Земского собора якобы гораздо лучше собрать Государственный совет, Сенат и Синод и предоставить этому торжественному собранию решить вопрос о войне и мире. Земский собор нельзя собрать скоро, а три высшие государственные учреждения можно собрать завтра. Это очень важно, ибо послезавтра наше положение будет еще хуже. Это мнение князя Мещерского.
Конечно, Государственный совет, по нашим законам, «сословие»; если сословие, то весьма ограниченное, а если представительство, то служебное только, представительство бюрократии. Сенат тоже не может представлять страну и говорить за нее. Синоду даже невозможно вмешиваться в такие вопросы, ибо митрополиты и архиереи должны исповедывать любовь не только к ближнему, но и к врагам.
Поэтому я думаю, что эти высшие учреждения даже не возьмут на себя такого огромного вопроса, в котором они не могут быть компетентны. Остается Комитет министров, но князь Мещерский об нем не упоминает, а потому и я молчу.
Я достаточно ясно изложил свои мнения о необходимости созвания немедленно Земского собора. Я не предлагаю никакой определенной системы выборов, но считаю необходимым, чтобы в Соборе непременно участвовало крестьянство. Обойти его или представить его в виде декорации — значит обмануть народ. Он будет иметь право сказать, что господа все за него решают, как им угодно, а платит он, большая часть тяготы и жертв ложится на него.
Необходим Собор всей Русской земли, а Русская земля — совершенная бессмыслица без крестьянства, несомненный миф, мыльный пузырь, как бы там ни говорили. Эта «чернь», о которой с таким пренебрежением говорят иные просвещенные люди, заключает в себе по крайней мере не меньше деловитых и серьезных людей, чем классы просвещенные. Если из этой «черни» выделяется какая-то дрянная, бьющая и грабящая «черная сотня», то господа, говорящие об этой «черной сотне» с негодованием, вероятно, из трусости забывают упомянуть и о «красной сотне», той револьверной и динамитной сотне, которая заслуживает такого же негодования. Мы должны разуметь «народ» во всей его совокупности, и просвещенных и непросвещенных, а «черная» и «красная» сотни — это дело полиции и суда.
Отечество нуждается в крепком единении.
Вот теперешний лозунг. Вот около чего должны соединиться русские люди, забыв всякие распри или оставив их на время. Вот чем должны дышать русские люди, вот о чем они должны думать. Злые коршуны терзают Русь и пьют ее горячую кровь. Враг торжествует и готов затоптать ногами русский народ, плюнуть ему в лицо, снять с него одежду и разделить ее между собою. Он насыпал холмы над павшими в бою, он обагрил русскою кровью волны океана, он усеял дно его нашими кораблями. И это все ничего? Все это нам как с гуся вода? «Бюрократия побеждена, а не народ». Так говорят с каким-то злорадным самодовольствием и чванством одни, точно победили ее они, а не японцы. Если она побеждена, то именно японцами, а никем другим. То же повторяют иногда и угнетенные русские люди, желающие чем-нибудь утешиться. Но тут не может быть ни утешений, ни исключений. Я вовсе не желаю умалять большой ответственности, падающей на бюрократию за наши неудачи на войне. Это наше домашнее дело, в котором мы сами разберемся. Но весь мир кричит, что побеждена Россия и ее разделят, ей угрожают контрибуцией, такой же, какую взяла Германия с Франции, 5 миллиардов франков. Кто ж ее будет платить? Побежденная бюрократия, что ли? Ее будет платить Россия. И у России необходимо спросить, желает ли она платить или предпочитает отстаивать себя? Дело идет о России, а не о бюрократии. Когда отечеству грозят разорением, то это отечество — Россия.
Россия еще может сказать, что у ней есть армия, что эта армия не разбита. Германия проникла в сердце Франции, вошла в ее столицу, в Версале, близ столицы, провозгласила себя империей. Пусть попробует Япония перейти через Уральские горы, пусть она пошлет свой флот в Балтийское море, пусть возьмет Кронштадт и победоносно войдет в Петербург — и только тогда она может равняться своими победами с Германией. Пускай попробует! Она уже хвалилась, что это сделает. На улицах Токио распевалась и распевается такая песня. Пусть эта песня воодушевит ее на такой поход. Пусть японская армия проедется по Сибирской железной дороге, которую мы провели, пусть покажет свое искусство в строительстве и передвижении. Пусть сравняется с нами своими силами, ибо только тогда можно сравнивать, только тогда можно говорить, что желтое племя победило белое. И только тогда Россия может сказать, что она побеждена, только тогда, а не теперь, когда она воевала в чужой стране, в тридесятом царстве. Россия имеет еще все средства доказать, что она сильна, что она умеет поправить ошибки своих правителей и отстоять свое значение великой державы.
А мы в это время, когда Япония будет совершать такой же страннический подвиг, какой совершили русская армия и флот, мы в это время станем отстаивать не Порт-Артур и Маньчжурию, а родные поля, города и села. А мы в это время будем собирать Русь в ее представителях. Будем устраивать лучший порядок с мужеством свободных граждан. Нам останется довольно времени для этого, и найдем мы даровитых людей, найдем людей, преданных родине, которые будут спасать не собственную шкуру, а родные интересы. Теперь Россия должна говорить вместе со своим государем, она должна решить великий спор о том, напрасно жила она или нет, покрыта ли она гнилью и разложением или в ней течет здоровая русская кровь?..
Вот для чего нужен Земский собор. Он может быть собран быстро, если хотят его собрать. Есть время для прохладной работы и мечтаний о заграничных курортах, и есть время, когда управители не должны знать, что такое день и ночь и что такое отдых.
Отечество нуждается в крепком единении. Это не фраза. Огненными буквами эти слова написаны на русском небе, и только слепые их не видят. Но слепые не видят и солнца.
Англия, судя по телеграмме нашего корреспондента, быстро изменила свое мнение о России, узнав, что гибель Балтийской эскадры принята Петербургом равнодушно. Естественно политически развитому народу осуждать русское равнодушие. Что же за общество, которое преспокойно веселится в дни страшного поражения, которое решает судьбу России? Оно или совсем ничтожно по своему существу или привыкло к поражениям. На самом деле это далеко не так. Общество не верило. Телеграммы были странные, подававшие повод не особенно тревожиться. Японские телеграммы не обнародовались своевременно и были известны только немногим, да и эти немногие не хотели верить такому поражению. Проходили дни, и общество только постепенно узнало весь ужас события. Оно было поражено и вместе с тем не видело выхода. Русский человек вообще на подъем тяжел, да и совсем политически не воспитан. Об этом еще будет время поговорить. Пока можно видеть по письмам, по встречам, что общество сильно встревожено и что оно видит спасение в представительстве. Я уже говорил, что необходимо воскресить любовь к отечеству и что для этого нет другого средства, кроме созыва Земского собора. Но какой это Земский собор?
Мне пишут по поводу этих моих писем (№10491 и №10492) следующее:
«Никакой Земский собор, если он будет состоять из честных истинно русских людей, не разрешит вам вопроса о войне до тех пор, пока этим народным представителям не будет наверно известно, что Земский собор будет государственным учреждением постоянным и что его существование гарантирует законность для народа.
Посудите сами. Если вас пригласят только для того, чтобы вы в качестве одного из народных представителей высказались, продолжать России войну или нет при существующем режиме, — вы должны сказать нет потому, что нельзя же продолжать поощрение разнообразных авантюр, пренебрегающих чрезмерною затратою человеческих жизней и средств народных.
Но если вы, в роли того же представителя, будете знать, что за сохранением прав и исполнением обязанностей всех без исключения граждан — следит сам народ в лице Собора, если будете уверены, что закон уже более не звук пустой, а основа жизни государства, — то тогда вы, может быть, скажете, что надо продолжать войну и найдете себе так же много единомышленников.
В первом случае вы будете говорить как подданный, во втором — как гражданин».
Естественно, что я не разумею иначе созыв Земского собора, как учреждения постоянного, а не собранного только для решения вопроса о мире и войне, как созывали такие Соборы до Петра Великого.
Положение во всех отношениях тяжкое. Оно требует огромного напряжения и от правительства и от народа, и полнейшего посвящения народных представителей в положение страны. Никогда над родиной не разражались такие поражения. Они в состоянии с ума сводить, приводить в отчаяние, бросать в апатию, проливать потоки незримых слез, возбуждать негодование без конца. И кто скажет, что этого нет, что общество в самом деле равнодушно, что оно не понимает, в чем его спасение. Может быть, холодно рассуждают, как рассуждает мой корреспондент, но чувствуют это все.
Кто испытал большое личное горе, тот знает, что оно, поразив человека, не дает ему полного сознания всего своего ужаса тотчас же. Это сознание приходит на следующие дни и недели, когда начинается мучительная переборка задним умом, почему это случилось и как следовало бы поступить, чтобы этого не случилось. И по мере того, как открываются подробности события и обнаруживаются настоящие причины, которых вы и не подозревали, вами овладевает мучительная тоска и отчаяние, доводящее людей до самоубийства. Так и в общественном горе. Оно растет и угнетает более теперь, чем в первые минуты.
Один приятель в письме ко мне напоминает следующие слова Тэна все по поводу Земского собора: «Человеческое общество, особенно новое общество — вещь обширная и сложная. Вследствие этого трудно его узнать и понять и, потому, трудно им руководить. Отсюда следует, что образованный человек к этому более способен, чем необразованный, и специалист более, чем неспециалист».
Значит ли это, что вопрос о мире надо всецело поручить дипломатам, а не Земскому собору? Понятно, что Земский собор не может сам вести переговоров, но они должны вестись с его ведома, чтоб страна знала, что от нее требуют и чтобы не выскочили такие отцы отечества, которые разом объявят, что они все превосходно сделали, что превосходнее ничего нельзя было сделать, ибо таково положение. Земский собор может сказать, что он не разделяет мнения отцов отечества, что Россия не может идти на те уступки, которые от нее требуют, а потому она предпочитает войну унизительным условиям мира. В этом и весь вопрос, и Тэн против этого ровно ничего бы не сказал, а напротив, этого бы потребовал. Я не сомневаюсь, что есть у нас талантливые люди, способные вести переговоры и беречь русское имя, но и этим людям и всему правительству гораздо легче вести их, зная, что вся страна следит за ними с трепетным вниманием, вся страна сочувствует всякому усилию правительства и готова поддержать русскую честь жизнью своею и достоянием.
На этом сойдутся все партии, ибо партийный эгоизм не может простираться за те пределы, где грозят серьезные и неодолимые опасности отечеству.
P.S. О личном деле несколько строк, имеющих связь с Земским собором. Я сказал на этих днях, что говорил о нем после сдачи Порт-Артура. Одна газета напечатала, что «не только после сдачи Порт-Артура, но даже и после 9 января, когда редакторы петербургских газет представили князю Святополк-Мирскому свое мнение о необходимости созвать Земской собор, представитель «Нового Времени» и его руководитель заявил при этом князю Святополк-Мирскому, что в противность (???) остальным своим товарищам, он думает, что Земский собор нужно собрать не теперь, а после войны, примерно в октябре!..».
Еще 30 ноября (№10328) по поводу известного ноябрьского съезда земцев, я говорил, что «необходимо нечто большее, более независимое, более широкое и действительно представляющее собою население и его нужды. Представительство страны необходимо» и т. д. После сдачи Порт-Артура я советовал обратиться к народу (24 декабря, №10352), «хочет он продолжать войну или нет?.. У правительства для этого есть все средства, старые и новые. Государи со времен Ивана IV совещались с Русской землей и никогда в этом не раскаивались» и т. д. Что касается того, что и «в противность остальным своим товарищам» и проч., то дело было так. 8, 9,10 и 11 января, когда газеты не выходили по случаю забастовки, собирались то в редакции «Нового Времени», то в Российском телеграфном агентстве издатели, типографщики, наборщики и редакторы. Вопрос, главным образом, шел об увеличении платы наборщикам и о мерах к скорейшему выпуску газет. 10 вечером я приехал в собрание редакторов и, узнав, что они ни на чем определенном не остановились, предложил поехать или депутации от газет, или всем вместе к министру внутренних дел князю Святополк-Мирскому, изложить ему печальное положение вещей и высказать свое мнение, что это положение невозможно поправить иначе, как свободою печати и созывом Земского собора. С этим мнением тотчас все согласились. Решено ехать всем. Спросили по телефону князя, может ли он принять нас? Князь отвечал, что завтра, 11 января, в 11 часов утра. Для обсуждения формы моего предложения мы собрались в редакции «Нового Времени». Когда она была выработана и подписана нами всеми, я спросил гг. редакторов, можно ли будет мне прибавить от себя небольшую поправку, и сказал, в чем она будет состоять. Я получил на это согласие. На другой день нас собралось в кабинете министра внутренних дел человек 15–20. Я изложил свое мнение о положении России и передал мотивированную коротенькую записку в несколько строк, «для памяти», как выразился князь, принимая ее, и просил доложить государю императору наше мнение. При этом я добавил, что если Земского собора теперь же нельзя собрать, то объявить о созыве его необходимо немедленно и тотчас образовать смешанную комиссию из представителей правительства и выборных для выработки системы выборов. Открытие Собора, по моему мнению, можно было назначить на осень, когда кончаются полевые работы и когда, быть может, будет заключен мир. Я не мог тогда предполагать, что наша армия будет разбита под Мукденом и наша Балтийская эскадра уничтожена. Я надеялся на военные успехи, и дело шло исключительно о внутреннем положении, обостренном событием 9 января. В данное время, когда нам грозит бедствие позорного мира, я заговорил о немедленном созыве Земского собора и не вижу никакого противоречия, принимая во внимание события, между тем, что я говорил князю Святополк-Мирскому и что в главном нисколько не шло «в противность товарищам», и тем, что я говорю теперь. Таким образом, самая мысль о Земском соборе в этом случае принадлежит мне.
Я завидую тем русским людям, которые могут спокойно говорить. Они или скрывают свое состояние или так им ненавистна эта война, что они совершенно не беспокоятся о последствиях ее и готовы окончить ее немедленно, «не теряя ни часа, ни минуты», то есть просто по телеграфу. А телеграф спешит передать из Вены, что австрийские пангерманцы требуют немедленного наступления на Балканы и занятия Сербии. Болгарские газеты единодушно говорят, что огромные потери русской эскадры являются катастрофой не только для России, но вообще для всех славян. Перед Японией в лице японского принца Германия старается показать свои восторги. Франция боится за свои азиатские владения. Суэматсу холодно относится к союзу с Англией и говорит, что все зависит от «пользы этого союза для целого света». На весь мир Япония уже простирает свое влияние, что ж ей Россия? Одно известное лицо, долго пробывшее в Маньчжурии, говорило мне:
— Главное отличие японцев от нас в том, что они нас ненавидят, а мы их не можем ненавидеть.
Это очень меткое и справедливое замечание. Но я думаю, что с уничтожения нашей эскадры и мы станем их ненавидеть и ненависть будет расти.
— А может, они нас полюбят, как побежденных, которым они отмстили за разрушение симоносекского договора? Недаром маркиз Яматото послал цветы Рожественскому на его ложе из терний, а Того посетил его.
— А, может, мы пошлем посольство в Симоносеки договариваться об условиях мира? Говорить прямо с японцами не лучше ли, чем при помощи посредников, которые даром ничего не сделают? Платили мы дань хазарам, половцам, монголам, и вот опять монголы. История пошла назад.
Мне слышатся эти замечания, и я их заношу в этот дневник.
Есть идеальные и благородные цели государственные. Таков Тихий океан, участие русского народа в судьбах этого Средиземного моря будущего, как назвал его Герцен после подвига Невельского. Но идеальными целями могут пользоваться нечистые, корыстные руки; жаждой стяжаний и идеальные цели закрываются народными страданиями. Ушел от нас Ближний Восток, и Дальний становится Лишним, по народному имени городу Дальнего. У народа есть чутье, которого иногда не хватает у государственных людей.
Говорят, что я проповедую войну. Нет, я не войну проповедую, а проверку народных сил при помощи Земского собора. Я не знаю, за что выскажется Земский собор, но я убежден, что он придаст государю особенную силу не только в России, но и повсюду, где знают русское имя.
Правительство использовало только бюрократию, чины и чиновников, но оно не использовало общества, не искало среди него талантов и способностей; да, правду сказать, и средств у него не было для этого при настоящем режиме. Но то, что оно использовало в обществе, было хорошо, горячо, великодушно. Это — искренние пожертвования на войну, флот и раненых. Это — земские госпитали, работавшие превосходно. Все то, что шло от общества, было запечатлено бескорыстием и патриотизмом. Не спрашивали, зачем война и почему война, а давали на нее и делали. Я говорю о Земском соборе, потому что это — самосознание и признание за обществом права на государственную деятельность, на контроль за администрацией, на свободный голос о всем том, что творится. Только при Земском соборе может явиться убеждение, что мы или сильны или бессильны, что наш рост — обман или правда. Японцы готовились к войне при парламенте, при свободе печати, при обязательной честности. Говорю «обязательной» потому, что была полная возможность накрыть бесчестных на месте преступления, была боязнь быть нечестными или незнайками, которые выскочили наверх и считали себя непогрешимыми и замазывали рты своим подчиненным. Во время войны японцы молчали, даже о своих недостатках молчали, ибо нет и не может быть человеческого дела без недостатков. Они молчали о потерях своего флота. А мы, напротив, молчали до войны, не знали, что у нас делается и, главное, как делается. Вот разница. Мы не знали, есть ли у нас надлежащее вооружение или нет, есть ли у нас флот или нет его. Мы знали только названия кораблей, их вид и ничего более, знали по календарям число корпусов; знали цифры, и нам предоставлялось всему этому верить, ибо все это было официально. Обсуждать мы ничего не могли, а если начинали — нам запрещали. И вот во время войны, когда японцы молчали, мы заговорили на тысячи ладов. Японцы молчали и поражали нас. А мы разговаривали и понемножку стали обсуждать и критиковать. С болью в сердце, почти с отчаянием мы увидели, что мы не готовы, что ни такого вооружения нет в армии, какое было у японцев, ни такого флота, ни таких разрывных снарядов и т. д. и т. д. У японцев — опытные военные и моряки. У нас — всего оказалось мало. Стыдно сказать, офицеры на собственный счет покупали пулеметы. Когда это делалось, чтоб офицеры покупали на свой счет вооружение? Только в средние века разве или в века первобытной культуры, как при Иване Грозном. Японцы нас били, а мы разбирали, почему нас били, и Русская земля наполнилась криком и негодованием, и в русские души закрадывался червь сомнения: да что мы такое? Не мираж ли наша история? Мы стали вспоминать — кого же? Минина и Пожарского, благородных людей, живших триста лет тому назад, точно в эти триста лет не было у нас людей, которых можно было бы вспомнить в горькие наши минуты. Мы стали сравнивать то, что было триста лет тому назад, с тем, что есть теперь, и находим сходство. Мы стали говорить о Земском соборе, который не собирался 250 лет. Но мы хотим говорить, мы хотим обсуждать, мы хотим делать, мы хотим поверить — дрянь ли мы, достойная слез и смеха, или великий народ?
С внутренним огнем, с пламенем в груди мы должны бы приступить к работе. Иначе беда, — беда и в том случае, если мы будем продолжать войну, беда и в том случае, если мы заключим мир. Где этот огонь и пламень? Где одушевление, где любовь к отечеству? На что было англичанам каких-то буров, а они воевали с ними два года и держали весь мир в тревоге. 300 тысяч храбрых подняли империю в 300 миллионов. И англичане волновались, работали, болели, с ними делались судороги от насмешек и карикатур. А мы ничего себе? Мы спокойны? Неправда. Наружное спокойствие ничего не значит. Главное не в материальных потерях, а в том другом, что мы теряем в Азии и в Европе, где все радуются нашему бедствию, исключая славян, которые чувствуют, что теряют в нас силу. Знаем ли мы что-нибудь твердо о настоящем? Мы ничего не знаем, и я говорю, что необходимо знать, и указываю средство. «Московские Ведомости» отвечают мне, что Земский собор может собраться только через три, четыре месяца. Знаете ли, почему? Потому что всего более необходимы представители Камчатки, Сахалина, Приморской области и Уссурийского края. Поистине камчатская мысль, способная убедить разве только дворянина Павлова с его сибирскими вожделениями. Но если камчатские мысли пойдут в ход, то останется думать, что в России нет лучшей страны, чем Камчатка, и лучших мыслей, чем камчатские мысли.
24 мая (6 июня), №10496
DLXXIV
Миллиарды рублей, запрещение иметь флот на Тихом океане, уступка Сахалина, уступка Восточно-Китайской дороги и т. д., и т. д. Японцы предъявляют такие наглые требования, что разве только идиоты могут принять их.
Если эти желтолицые гении воображают, что Россия может вынести такое унижение, что она способна отдать все, что от нее требуют, способна затормозить свое развитие на сто лет, то бесспорно они учитывают русскую революцию, которая им помогает. Они полагают, что русская революция — это необыкновенно подлая и гнусная особа, которая готова продать свою родину. Я не знаю, что чувствуют эти революционеры, читая о гибели нашего флота, о страшно тяжелых условиях мира, которые нам предлагают, но думаю, что надо быть душевнобольным или прирожденным предателем своей родины, чтобы не плакать над ее несчастиями. Я не могу верить, что ненависть к режиму может похоронить всякое чувство к своей плачущей и страдающей матери, не могу верить, что чувство злорадства может овладеть русскою душою даже тогда, когда родине грозят невиданные и неслыханные унижения.
Я не могу себе представить русского революционера рядом с г. Того, мирно беседующими и считающими те тысячи миллионов рублей, которые должны уплатить Японии русские люди. Я отвергал с негодованием те слухи, которые ходили об адресе микадо при начале войны. Разве идиоты революционного режима могут радоваться несчастиям русского народа, разве «лизательницы гильотины», как называли во время французской революции тех женщин, которые с кровожадным чувством спешили наслаждаться зрелищем казней, могут не болеть несчастиями беднейшего народа, даже в том случае, если все эти господа и госпожи твердо убеждены, что именно они способны воздвигнуть на русской земле социал-демократический рай.
Это было бы предательством, как бы его ни объясняли. Говорят, что причина сдачи броненосцев адмирала Небогатова заключалась в том, что матросы одного корабля взбунтовались, побросали своих офицеров в море и выкинули белый флаг и что, видя это, другие корабли приняли этот флаг за команду сдаваться самого начальника эскадры. Конечно, это только слух между множеством других подобных слухов. Не дай Бог, чтоб это оказалось правдой. Но если б оказалось так, разве можно назвать героями этих изменников, а их надо назвать героями с точки зрения злорадствующих, ибо они способствовали поражению русского флота, а поражение русского флота якобы способствует революции. И в революциях есть герои и презренное отребье. Ведь японцы не примут к себе на службу этих изменников, несмотря на такую услугу Японии, а вышвырнут их всех из своей земли. Если б революция восторжествовала, она, вероятно, не поставила бы памятник этим изменникам. Лечь в битве с врагом внутренним или внешним — это одно, но передаться врагу — это совсем другое. Мужество везде считается добродетелью, а предательство — предательством. И те, которые стали бы философски спокойно объяснять предательство режимом суровой дисциплины, отсутствием укорененного разумным воспитанием патриотизма и чувства долга, то есть отдавать себе ясный отчет в причинах предательства, не пошли бы рука об руку с предателями.
Я думаю, что нет злорадствующих, что это чувство, если и было, то проходит под наплывом огромного несчастия и грозящих бед в будущем. Я думаю, что наступает кризис, в котором еще трудно разобраться и предвидеть, чем он разразится. Продолжать войну или нет — значит заключить мир или нет. Но всякий спросит: какой мир? Будь причины войны самые непопулярные, самые не оправдываемые, но когда дело идет о государственных потерях, об унижении русского имени, об уплате дани — заговорит у всякого сердце и защемит.
Ведь контрибуция — это дань, которую народ будет выплачивать многие годы. Ведь значит обманывать всех, говоря, что это ничего, что вот Франция заплатила же 5 миллиардов Германии и не считала это унижением. Я читал подобные фразы, но думаю, что даже Франции было это жестоко обидно и тяжело, хоть она нашла деньги у себя дома.
Мир, позорный мир! Мы Берлинский трактат считали позорным, а по этому трактату мы дали жизнь славянским народам, возвратили потерянное в Севастопольскую кампанию и увеличили свою территорию прекрасными областями. А теперь мир с уступками, с данью. Какое же ему название, если Берлинский трактат мы считали позорным?
Нет, все думается, не может быть позорного мира. Россия не допустит до этого. Петербург, Москва и несколько других городов высказываются за немедленный созыв представителей для решения вопроса о войне и мире. На этом сойдется вся Русь. На это откликнется армия.
Еще велик Бог Русской земли.
Созыв Земского собора — единственное средство не только продолжать войну, но и заключить безобидный мир. Масса писем, получаемых ежедневно нами, говорит о необходимости продолжать войну. Целая треть этих писем — крестьянские. Они лишены всякого признака того патриотизма, который называется квасным. Напротив, все они разумны, все смотрят опасности прямо в глаза, почти все говорят о Земском соборе и о готовности принести всевозможные жертвы для спасения отечества от унижения, которое больно отзывается во всех сердцах. Эти письма, подписанные иногда целыми группами крестьян, драгоценные свидетельства народного сознания, глубоко уязвленного национального достоинства и преданности своей Родине и государю. Все эти письма — яркое доказательство того, как малоосновательно распространенное мнение о невежестве и тупости народа, который якобы не дорос до высоких чувств истинного патриотизма и не может представлять себя самого на Земском соборе иначе, как через посредство людей образованных. Напротив, крестьяне сами себя могут представлять, не только те, о которых Н. А. Хомяков говорил в Москве («существуют крестьяне, носящие цилиндры и ездящие на резиновых шинах»), но и те, которые работают на господ в цилиндрах и в колясках. Присутствие их на Земском соборе необходимо. Они этого требуют в своих письмах, как права, и даже говорят о необходимости пропорционального населению представительства, то есть о большинстве своем на Соборе. Как бы то ни было, несомненно, что между депутатами от крестьянства наверно окажутся люди даровитые и умные, а может и хорошие ораторы. В самом деле, кто все эти Минины, которыми была полна Русская земля во время смуты, как не крестьяне, не торговцы, не горожане, сплошь неграмотные? Да и служилые люди, насколько они были выше по своему развитию лучшей части этих зажиточных, деятельных сословий. Откуда у них красноречие, убедительность, здравый смысл, одушевление?
Откуда то искусство, с каким тогдашние люди вели переговоры, сговаривались, боролись с враждебными партиями на сходках или грамотами? Русский народ всегда был умен и испокон веков привыкал к самоуправлению. А когда его коснулось образование и он полюбил чтение, особенно в такое нервное и тяжелое время, как наше, то он вырос быстро в сознании национальных задач и необходимости внутреннего переустройства.
Говорят, народ не понимает смысла этой войны. Но он понимает русскую беду, русское горе и отчаяние. Ему некуда деваться. Он не поедет за границу, не переведет свои капиталы в европейские банки, чтобы потом агитировать революцию или просто плевать на Россию, — черт, мол, с ней, — как это делают многие, он прирос к земле, к русской природе и стоит за нее во что бы то ни стало. Он знает, что контрибуция ляжет на него, что там ни болтай о подоходных налогах. Крестьяне целые века платят подоходный налог — и один из самых несправедливых и жестоких. Либо война, либо порядочный мир, не обидный, не сдирающий шкуру с крестьянина. А контрибуция — это сдирание шкуры с народа, это обращение его в нищенство, это вечная кабала японцам, это ужас отчаяния. Вот что значит контрибуция!
Что ж удивительного, что он не хочет мира. Он рассуждает, он знает, что он платит и что будет платить, и предпочитает войну. Лучше смерть, чем вечная бедность, чем кабала. То смутно, то совершенно ясно ему представляется это будущее, и он в ужасе бежит от него мыслью и говорит: не хочу позорного мира. Позорный мир — это позорная бедность, это нищенство.
И это независимо от всех других точек зрения, от обиды национального поражения, от сознания того, что Россия впервые побеждена и побеждена ужасно, что она принуждена просить мира и лишиться того, чем она владела. В этом отношении крестьянство совершенно солидарно с людьми высшего развития, и непосредственное его чувство может спорить с сознанием образованного человека, даже превосходить его, ибо образованный человек резонирует и может себя всячески успокаивать и фантазировать о будущем, которое принесет такие-то и такие-то плоды и ему лично, и его классу.
Наш лондонский корреспондент говорит, что из Петербурга в Лондоне получено известие, что представительство не будет иметь голоса в вопросе о мире. Это будто бы потребует много времени и противно основному началу русского государственного строя. Что это не потребовало бы много времени, доказывать нечего. Раз представительство дело решенное, есть средства его ускорить, не дожидаясь депутатов от Камчатки. А что вопрос на Земском соборе о войне или мире будто бы противоречит основному началу русского государственного строя, поверить мудрено. Земским соборам эти вопросы предлагались и они на них отвечали. Соборы эти давно не собирались, но они не могут считаться чуждыми основным началам русского государственного строя, ибо они созывались и это вполне зависело от воли государя. Настоящее положение России так выходит из ряду в истории Русского государства, так чрезвычайно, что требует и мер чрезвычайных.
Напрасно сравнивают теперешнюю кампанию с Севастопольской кампанией. Нынешняя кампания гораздо тяжелее и ответственнее. Севастопольская кампания происходила в то время, когда русское образованное и полуобразованное общество было весьма малочисленно. Газеты были ничтожны, публицистики не существовало. Железная дорога была до Москвы только. Телеграфа не существовало. В народ известия почти совсем не проникали или очень поздно, и притом все известия носили, так сказать, печать официального героизма. Народ знал о войне по наборам и по сухарным экспедициям, знал, что война идет, и интересовался ею только потому, что среди крепостных ходили слухи, что те, которые хотят идти на войну добровольно, получат свободу от помещиков, что давало повод к беспорядкам и волнениям, однако незначительным. Я помню это время очень хорошо. Оно еще сознавалось в Петербурге и Москве, но только в высшем классе и литературных кружках. Стихи Хомякова:
В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена, и проч.,переписывались, как и «Политические письма» Погодина, в которых говорилось много правды, но только для немногих. «Государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России». Министры считают себя «непогрешимыми гениями, одуренными беспрерывным каждением лести». Каждый министр «представляет собою самодержавного государя и также не имеет никакой возможности узнать правды о своей части… Всякое замечание он считает личным для себя оскорблением, неуважением власти, злоумышлением либерализма. А бездарностям, подлостям, посредственностям это и на руку… Все они составляют одну круговую поруку, дружеское, тайное масонское общество; поддерживая себя взаимно, поддерживают и всю систему, систему бумажного делопроизводства, систему взаимного обмана и общего молчания, систему тьмы, зла и разврата, в личине подчиненности и законного порядка». Испугавшись революции, «мы начали останавливать у себя образование, стеснять мысль, преследовать ум, унижать дух, убивать слово, уничтожать гласность, гасить свет и распространять тьму, покровительствовать невежеству… Люди пообмелели, страсти, самые низкие, выступили наружу, и жалкая посредственность, пошлость, бездарность взяли в свои руки по всем ведомствам бразды управления. Священный союз между царем и народом потрясен!»
В учебных заведениях все внимание обращено было на форму, «на так называемую нравственность». Из учебных заведений стали выходить «люди не воспитанные, а дрессированные, машины, лицемеры, такие исполнители, которых достаточно было на обыкновенное время, а чуть обстоятельства стали помудренее, так и не сыскалось ни в котором ведомстве, за кого взяться». (Н. Барсуков. «Жизнь и труды Погодина», т. XIII).
Этой силы выражения не достигла теперешняя радикальная критика бюрократии, но потому-то написанное в 1854 г. Погодиным явилось в печать только в 1899 г. В свое же время эта правда читалась в рукописях и немногими. Теперь мы говорим открыто и это, и многое другое. Общество стало совсем другое. Оно все читает, читает крестьянин, все судит и рассуждает и все яснее видит. Тогда немногие понимали, теперь понимает громада русского общества и народа. Военные беспримерные несчастия помогли в военном и морском прогрессе увидеть регресс, недобросовестность, неуменье, воровство, взяточничество, бездарность, наглое обманывание государя и России. Теперь другое общество, другой народ, другой рабочий класс, которого тогда совсем не было. Теперь Россия дышит и говорит вместе как бы по электрической проволоке. Теперь вся она страдает и прислушивается ко всякому известию и его обсуждает. Да севастопольская кампания была и счастливее. На плохих судах турецкий флот разбит при Синопе, были другие счастливые схватки. Истомин, Корнилов, Нахимов — вечные имена в морской и военной нашей истории. И все войска и моряки дрались на суше, как львы. И кончилась кампания победою — взятием Карса. Теперь ничего, кроме поражений, стыда и горя.
Как же не бояться позорного мира, не желать Земского собора немедленно? Я говорил, что он нужен для проверки русских сил, для воскресения любви к отечеству; он нужен как «священный союз между царем и народом», — беру выражение Погодина, — как, наконец, выражение русской души и русского разума перед целым миром, ввиду величайшей опасности для России и позорного мира. «Гражданин» и «Московские Ведомости», говорят, что он обратится в Учредительное собрание, что это будет началом революции. А власть, значит, она не предполагается вовсе? Она забастовала и признает себя окончательно бессильной? А народ? Позволит он это? Допустит он это? Что это — миф какой-нибудь — этот народ, картонная декорация, послушное орудие в руках людей, желающих разгрома России? А образованная Россия? Разве она вся желает революции? Нет в ней разума, чести, благородных преданий? Нет сознания своего долга перед отечеством, перед историей? Когда эту образованную Россию не спрашивают и даже игнорируют, не давая ей прав, а налагая только обязанности, естественно, что она говорит почти то же самое, что и крайние партии. Она лишена возможности вести политическую борьбу и может только разговаривать. Ну, а разговаривать даже надоело. Даже карты — этот отвод от разговоров — надоели, и я слышал, что Воспитательный дом, фабрикующий их, не досчитывается обычных барышей. Образованная Россия недовольна. Но она недовольна тем святым недовольством, которое имеет свои причины, о которых 50 лет тому назад говаривали то же, что теперь.
Не отчаиваться, не петь погребальные песни России, не гнусавить «со святыми упокой», не убивать дух армии и народа, а работать всеми силами, всем русским единством, помня, что сила только в этом. Вот что нам надо. Земский собор представит даровитую Россию, представит широкий круг независимых людей, среди которых найдутся и министры, заблещут таланты, явится настоящее общественное мнение, настоящий контроль над бесправием и суматохой.
Для политического воспитания народа и общества, для гарантии честного и безобидного мира, для национального сознания перед Россией и Европой, вот для чего необходим Земский собор, который вместе со своим государем есть страж чести, правосудия и достоинства России.
29 мая (11 июня), №10501
DLXXVI
«Пускай наши воинствующие патриоты призадумаются над вопросом: можно ли русским того же желать России, что желает ей Вильгельм?..» Разумеется император Вильгельм. На этот вопрос «Гражданина» можно отвечать вопросом: можно ли русским того же желать России, что желают ей Англия и Соединенные Штаты? Действительно ли император Вильгельм желает, чтобы Россия продолжала войну — это неизвестно и нигде он об этом не заявлял. Но Соединенные Штаты и Англия усердно предлагают нам мир при их посредничестве и, конечно, постараются о том, чтобы Япония как можно дороже продала России мир. Они напрягают все свои силы, чтобы убедить Россию, что ее ждет гибель в войне с таким могучим врагом, как Япония.
Может быть, не только Англия и Соединенные Штаты, но сам Господь Бог подумывает о том, не убрать ли с неба солнце и не поставить ли вместо него лик японского микадо, чтоб он светил всему миру…
Долой солнце и микадо вместо солнца! Такое превыспреннее понятие об Японии начинает овладевать всей Европою, которая старается внушить это России и загипнотизировать ее. Куда нам с суконным рылом в японский ряд. Нам осталось только уступать, платить контрибуции и совершать ретирады. При таких доброжелателях мы заключим такой мир, что он в десятом поколении будет отзываться. Я не говорю: война во что бы то ни стало. Я только говорю: соберите Земский собор и посоветуйтесь с русскою землею. Это общее желание России, общее желание печати. Это поднимет патриотическое чувство и укрепит правительство. Россия — это единственная страна, которая заинтересована в своем настоящем и будущем, и я совершенно не понимаю, почему советы Англии и Соединенных Штатов предпочитаются советам русских граждан.
Если специальный русский «Гражданин» трубит мир, то знаете для чего? Поставив вопрос: почему «Гражданин» говорит за мир со всеми радикальными органами? он отвечает на него так: «радикальные газеты желают мира из опасения, чтобы пробуждение войною патриотизма не помешало усилению их разрушительной пропаганды, а я (князь Мещерский) желаю мира, как единственного средства дать правительству побороть смуту полнотою своих сил».
Вот оно что. Разберемся, что это значит.
Он не отрицает, что война поднимет патриотизм. Патриотизма боятся радикальные партии ради своих разрушительных целей. Так это или не так, но так думает князь Мещерский. Сам он тоже боится патриотизма. Радикальные партии теряют средства для разрушения при появлении патриотизма, а князь Мещерский теряет «средства дать правительству побороть смуту полнотою своих сил». Радикалы и консерваторы сходятся как два близнеца в одном крике: «долой патриотизм!» Но радикал, боясь патриотизма, желает построить свое новое здание, для чего у него есть определенные планы; для возведения этого здания он вероятно имеет в виду и объединение русского общества своим духом. Консерватор, напротив, ничего не желает, кроме того, чтоб правительство, заключив мир, «полнотою своих сил побороло смуту», т. е. окончив внешнюю войну, начало бы внутреннюю, что ли, и все повернуло вспять? Иначе я не могу понять этого силлогизма, основанного на патриотизме. Что значит «полнота сил»? Что Россия будет оскорблена позорным миром, — в этом не может быть сомнения. Она может ненавидеть войну, может ненавидеть бездарное ее ведение, но она еще больше возненавидит позорный мир, а другого мира в настоящее время быть не может. Повторяю: что значит «полнота сил»? По князю Мещерскому, это значит «возможность побороть смуту». Мир, по его мнению, единственно для этого и нужен. Значит, в настоящее время у русского правительства нет сил побороть смуту. Значит, устами князя Мещерского говорится Японии:
«Требуйте как можно больше. Русское правительство на все согласится, ибо у него нет никаких сил побороть смуту. Оно совершенно в безвыходном положении даже у себя внутри».
По моему мнению, «полнота сил» правительства ни в чем другом не заключается, кроме как в союзе государя с народом. Если Россия желает немедленного созыва Земского собора для решения вопроса о войне и мире, то она желает только «полноты сил», которая поможет побороть смуту и управиться с Японией. Угрозы «учредительным собранием», «конвентом» — просто болтовня, не имеющая смысла. Эти пугала нарочно сочиняются для того, чтоб обессилить Россию и перед Европой, и перед самой собой. Почему ни в Германии, ни в Австрии, ни в Италии не было никаких конвентов, а в России непременно Учредительное собрание и конвент. С каких пор Россия обращается во Францию, а славянин в галла? Ведь надо же иметь некоторый здравый смысл для того, чтобы разобраться и в этой смуте. Что она, эта смута, в значительной степени порождена несчастной войной и господствующей бездарностью бюрократии, в этом не может быть сомнения. Позорный мир несомненно усилит недовольство и увеличит союзников смуты. Он поднимет негодующее чувство не только в Великороссии и Малороссии, но и в Польше. И вот тогда явится «полнота сил» для усмирения всего этого недовольства. А я продолжаю думать, что полнота сил только и единственно в Земском соборе. Пусть он выскажется за мир. Но это будет не мир по князю Мещерскому.
А если требуется мир во что бы то ни стало, то пусть вместо солнца сияет микадо.
1(14) июня, №10504
DLXXVII
«Тост в честь славного и могучего русского горя!»
Этот тост был произнесен известным откупщиком и умным человеком, В. А. Кокоревым, 26 февраля 1856 г. на обеде в честь моряков-севастопольцев в залах Московского купеческого собрания. Моряков на руках носили. «В Москве величали их так, что если бы они взяли Константинополь, трудно было бы сделать более», писал в то время митрополит Филарет. Тост свой Кокорев мотивировал так:
«Недаром русская пословица говорит более пятисот лет устами всего народа: «Вынеси ты меня, мое горе!» Оно ведь и на деле так. Разве не вынесло нас горе нарвское, московское и все прежние горя, наши славные будильники, наши возносители на ту высоту, которая может удовлетворить нас по объему нашей земли? Ни разу не изменял нам наш верный союзник — русское горе. Это наш двигатель, положенный судьбою на крест России при ее рождении. А какой он могучий, какие придает крылья, как освежает, обновляет, развивает мысль, нагревает сердца, соединяет всех к единодушию и толкает вперед!»
Во славу русского горя и теперь можно произнести тост и так же прославить «могучесть» русского горя, как славил его Кокорев. Открылись все наши недостатки, прирожденные, унаследованные и привитые, все наше неустройство, и мы теперь… теперь мы полетим на крыльях благополучия, трезвые, трудолюбивые, благородные, верующие в свои силы, работающие с европейским прилежанием над всеми отраслями знания и практической жизни.
О Господи, если б случилось такое счастье! Но не верится.
«Горе от ума» было только у отдельных лиц, как у Чацкого, а горя от глупости, безумия и бездарности, сколько хотите, испытывала вся наша страна и жестоко от этого страдала.
И в 1856 г., как и ныне, приходить в восторг от русского горя можно только за обедом, под влиянием шампанского и винной фантазии. Горе севастопольского поражения, как ни пили за него, добра принесло мало, ибо и через 50 лет приходится повторять то же самое, и эти 50 лет не избавили Россию от того же самого, чем она страдала тогда и с чем она не имела сил бороться. Имеет ли она эти силы теперь?
«Жди горя с моря, а беды от воды», говорит пословица. Горе и пришло с моря. Началось оно с моря и кончилось морем. Да только кончилось ли? Мы еще не знаем, что впереди. Что готовит нам рок, безжалостный, неумолимый, страшный?
Мне вспомнился обед на броненосце «Александр III» в августе прошлого года. Мы были там с приятелем. Встретил нас в Кронштадте со шлюпкой лейтенант К. К. Случевский, сын покойного поэта и сам поэт. Его стихи часто помещались в «Новом Времени» за подписью «Лейтенант С.» Мы осматривали броненосец, дивились его башням, пушкам, минам, порядку, всей громаде и изяществу сооружения. Он стоил, кажется, 12 миллионов, как Политехнический институт в Лесном. Командиром его был Бухвостов, старшим офицером — Племянников, младшим врачом — сын известного врача Бертенсона, по виду совсем мальчик. Вообще офицеры — все молодежь, рвавшаяся с эскадрой. «Александр III» — броненосец гвардейского экипажа, и между офицерами много известных фамилий. В конце обеда, по обычаю, тосты, пожелания счастливого пути и победы. Вот тут случилось нечто такое, чего меньше всего я мог ожидать. Командир броненосца Бухвостов стал говорить о флоте горячо и беспощадно. Он говорил, что Россия совсем не морская держава, что русские совсем никакого влечения к морю не имеют, никогда не были настоящими моряками и никогда не будут; что постройка этих громад только разорение казне и нажива строителям, и к добру она никогда не поведет. Если нам нужен флот, то только миноносный, для защиты наших берегов, а с броненосцами нам делать нечего.
— Вы смотрите, — говорил он, — и думаете, как тут все хорошо устроено. А я вам скажу, что тут совсем не все хорошо. Вы желаете нам победы. Нечего и говорить, как мы ее желаем. Но победы не будет! Я боюсь, что мы растеряем половину эскадры по пути, а если этого не случится, то нас разобьют японцы. У них и флот исправнее, и моряки они настоящие. За одно я ручаюсь: мы все умрем, но не сдадимся…
Племянников деликатно старался замять его речь. Но Бухвостов продолжал ее в том же пессимистическом духе. Молодежь, сидевшая за столом, слушала молча. Он возвысил голос, и тон его был такой решительный, что не допускал возражений. Племянников говорил потом нам: «Не знаю, что на него нашло сегодня. Он никогда так не говорил». Но, увы, эти речи Бухвостова оказались пророческими. Эскадра погибла.
«Александр III» сражался, как герой, и погиб со всем экипажем. Погибла вся эта симпатичная, мужественная молодежь, напоминавшая скорее взрослых детей, чем закаленных моряков, как хотелось бы видеть; погиб и командир, предвидевший судьбу, и старший офицер Племянников, производивший впечатление мягкого, доброго и деликатного человека; погиб и симпатичный поэт Случевский, с дороги присылавший нам свои поэтические впечатления, картины капризного и ужасного моря. Столько погибло и столько проливается слез, столько раздирающих душу драм. Спросите в Главном морском штабе, какие трагические сцены он видел, какое молчаливое горе отцов и стонущее отчаяние матерей и жен…
Воздвигните обелиск перед морским министерством и напишите на нем имена павших мучеников своего долга и имена погибших судов. Пусть живые помнят, как не надо губить русское дело. Не победы только заслуживают памятников, памятников тщеславия: их заслуживают и поражения, как вечный укор и вечное напоминание о мрачном кладбище нашего флота.
Вот рок, ужасный, неумолимый. Где вы, русские таланты, полководцы, государственные люди? Разве осиротела Русь и поникла головой?
Счастливы мертвые и горе живущим. Но я не подниму бокала за русское горе. Это проклятие. Оно наводит ужас.
3(16) июня, №10506
DLXXVIII
Если мир, то ни пяди русской территории и ни гроша контрибуции.
Вот что говорят нам в письмах, ежедневно получаемых десятками, люди всех сословий, более или менее хладнокровно рассуждающие о шансах войны и мира. Не говорю о тех, которые высказываются за войну во что бы то ни стало. Чем ближе этот мир, тем тревожнее становятся все. Сомнение начинает проникать даже в головы тех, которые еще недавно говорили в пользу мира во что бы то ни стало, не говоря уже о тех, которые твердили, что побеждена бюрократия, а народ остается непобедимым. Последние искали утешения своему оскорбленному патриотическому чувству, но это утешение как луч осеннего солнца сквозь темные массы туч, быстро его закрывающие, как пословица: «чем бы дитя ни тешилось, только бы не плакало». Ни один крестьянин этим не утешится и даже не поймет этого велеречия. Измученный и избитый человек по какой бы то ни было причине, все-таки останется измученным и избитым, и раны долго будут болеть у него. В национальном унижении есть какая-то физическая боль, которая обращается в болезнь сердца, в одышку. Что бы ни говорили против этого национального унижения, все доводы являются натянутыми полумыслями, полусловами, или фразами, что «кроме громко высказанных симпатий русский народ нигде ничего не слышит». Где же эти симпатии? В чем они проявляются, чем доказываются? Не газетными ли статьями, не обменом ли фраз на французском языке в международных гостиных? Подобные симпатии ровно ничего не доказывают в наш реальный век, как ровно ничего не доказывали они в века минувшие. Пораженные народы разорялись, платили дань, теряли приобретенные земли и, столкнутые с высокой горы, куда они добрались после вековых усилий, столкнутые к ее подножию, снова начинали на нее карабкаться, теряя более и более энергию для этих усилий, всегда неизбежных. Подниматься на гору так же естественно для всякого живого и крепкого народа, как естественно орлу подниматься к облакам.
Побеждена бюрократия! 29 апреля 1791 г. происходил в Таврическом дворце знаменитый потемкинский праздник по случаю взятия Измаила. Хоры, между прочим, пели там патриотические стихи, сочиненные Державиным: «Гром победы раздавайся». Об этом хоре вспомнил Чайковский в своей «Пиковой даме» и воскресил его музыку.
Гром победы раздавайся! Веселися, храбрый Росс! Звучной славой украшайся: Магомета мы потрес.Это было при бюрократии, 114 лет тому назад. Теперь из этих четырех стихов осталось два, да и то, по моему мнению, весьма сомнительных, если даже Магомета выкинуть и прочитать так:
Веселися, храбрый Росс: Бюрократа ты потрес.Да ты ли, храбрый Росс, его потрес? Не японец ли его потрес, японец, крепкий своей национальностью и единством? Г. дворянин, г. земец, г. интеллигент, рассудите беспристрастно, можем ли мы такие два стиха петь и есть ли в них какой-нибудь утешительный смысл для России, которая за все отвечает своим имением, своим капиталом, своим трудом.
Я сомневаюсь и в мире, то есть в порядочном мире, который стоил бы того, чтоб его желать, как успокоения. Я продолжаю думать, что никогда так не была очевидна, как теперь, потребность во взаимном доверии между правительством и народом, ибо только во взаимном согласии — сила, взаимное согласие возможно только тогда, когда представители правительства и представители народа будут вместе работать и вместе решать, мир или война и какой мир. Конечно, я в сотый раз это повторяю и это повторение могло надоесть, но ничего лучшего и более необходимого я не знаю.
Я не только не чувствую ни малейшей симпатии к г. Рузвельту, но считаю ошибкой это посредничество, ошибкой и выбор Вашингтона, где переговоры будут контролироваться г. Рузвельтом. Это новый маклер, носящий только новое имя. Бисмарк маклерствовал, когда мы были победителями, г. Рузвельт маклерствует, когда мы побежденные. Если при максимуме японских требований будет что-нибудь уступлено, то весь мир скажет, что это благодаря Рузвельту, его стараниям на пользу России, его влиянию. Он наш благодетель, заступник и покровитель! Без него Россия могла бы пропасть окончательно…
Боже сохрани от таких мыслей.
Как русский я не могу питать симпатии к японцам, но, стараясь быть беспристрастным во что бы то ни стало, я разумом больше доверяю японцам, чем г. Рузвельту и кому бы то ни было из наших европейских друзей и врагов, делающих дружеские гримасы. Я этим хочу сказать, что без посредничества, от которого наша дипломатия открещивалась в начале войны, дело пошло бы лучше и быстрее. Мир или война — разве этот вопрос надо тянуть? Не может быть сомнения в том, что Япония хочет мира. Она так же устала, как и мы. Победительнице лавры легли железным бременем на плечи и давят ее. Она знает, что победила не буров, а русских, что у России ресурсы продолжать войну далеко не истощены. Газеты дружелюбно гримасничающих врагов говорят, что Япония «удивит мир умеренностью своих требований». Может быть, г. Рузвельт знает это наверно, но знает ли он, какие требования Россия признает умеренными? Может быть, он думает, что Россия в данное время то же самое, что Испания, когда она заключала мир с Соединенными Штатами? Мы ходим в потемках, с теми же сомнениями, с отсутствием той же энергии, без той же сверкающей руководящей мысли, как и в начале войны и во время ее продолжения. И это всего печальнее.
5 (18) июня, №10508
DLXXIX
Япония удивит мир умеренностью своих требований, как она удивила его победами. Так много раз сообщалось в газетах.
Что, если в самом деле будет так? Если Япония рассудит, что лучше прочный и безобидный мир с Россией, чем мир унизительный для России, который заставит ее готовиться к реваншу и Япония наживет себе вечного врага, способного отравлять ее существование и мешать ее развитию. Что японцы покажут себя умнее тех русских дураков, выражаясь мягко, которые требуют мира во что бы то ни стало и на каких бы то ни было условиях, со всевозможными уступками и контрибуциями, в этом едва ли можно сомневаться. Русские дураки, выражаясь мягко, зашли так далеко в своих уступках и притом от имени народа, за который они ручаются, что сделались даже в Европе притчей во языцех. Дурак русских сказок, человек одаренный, талантливый, добрый, он противополагается тем умникам, которые застряли в рутине и дальше своего носа и эгоизма ничего не видят. Все чары природы ему содействуют. Но те дураки, которые, с заднею мыслью, готовы отдать все что угодно Японии и обременить свое отечество контрибуцией, злобны и бездарны, и тем злобнее, чем бездарнее. Япония показала достаточно ума, рассудительности и трезвости, чтоб не считаться с русским народом, с мужеством солдат и офицеров. Она достаточно потеряла жизней своих сынов и средств, чтобы не подумать о таком мире, который обеспечил бы ей надолго свободное существование.
Конечно, это трудная задача, не в пример труднее той задачи, которую берут на себя россияне, решая ее с ясностью не ими выдуманной таблицы умножения, отрезывая куски от русского тела и обрекая народ на долгие годы к уплате дани. Она устала и хочет мира. Устала и Россия и хочет мира. Как разграничить обоюдное положение на Дальнем Востоке? Япония не должна забывать, что Китай вовсе не такая страна, которая сейчас же готова стать под главенство Японии и сделаться послушным стадом в ее руках. Япония воинственна, Китай миролюбив. В Японии первое место военному, в Китае — купцу. Но судьбы народов трудно предсказать. Народ в 400 миллионов душ — загадка даже для самих китайских мудрецов и историков. Россия не останется бездеятельною относительно Китая, и Китай многому научился в этой войне, в этой сшибке двух народов, из которых с одним он вел постоянные войны, а с другим — мирную политику. Будут же у России государственные люди, которые создадут новую политику, не по изношенным трафаретам ленивых, лишенных творчества дипломатов, а на основании изучения потребностей русского народа и характера его восточных соседей.
Войну эту я бы сравнил с Прутским походом Петра, когда он едва не попал в плен со всей своей армией. Конечно, размеры русско-японской войны гораздо больше во всех отношениях. Но сходство все-таки есть. Как с Япониею мы встретились впервые, так и тогда встретились впервые с Турцией и она нас победила — христианское государство с нехристианскими в обоих случаях. Упоминаю об этом мимоходом. После Прутского похода прошло несколько десятилетий, и начались постоянные войны России с Турцией. Не ожидает ли нас что-нибудь подобное и на Дальнем Востоке с Японией? Не предвещает ли эта война целый ряд войн, если мир с Японией будет тяжел и позорен для России? Не грозят ли обеим державам жестокие испытания в будущем?
Уступка территории и контрибуция — это острые жала, напоенные губительным ядом. Они жалят весь народ, начиная с государя, который сказал в своей искренней, задушевной и твердой речи 6 июня: «Я вместе с вами и со всем народом моим всею душою скорбел о тех бедствиях, которые принесла России война и которые необходимо еще предвидеть».
Храни нас Бог от новых бедствий, от бедствий, «которые необходимо еще предвидеть», если эти грядущие бедствия даже тяжелый мир. По-видимому, так поняли эти слова иностранные и особенно английские газеты. В речи государя они прежде всего увидели мир во что бы то ни стало и обещают, что Россия, обратившись к западной своей границе, снова приобретет в Европе значительное положение, что «большинство держав», не исключая Англии и Японии, будут рады видеть возрождение России на Ближнем Востоке и что Россия откроет для себя все кошельки в Европе…
Что нас ждет на этих днях и в эти месяцы, я не знаю, но смею думать, что слова государя, выше мною приведенные, отнюдь не указывают на мир во что бы то ни стало. Его сердце разрывается от этих бедствий. Он мог извериться в военное счастье, но он не мог извериться в русский народ, в его духовные и материальные силы. «Я верю, что Россия выйдет обновленною из постигшего ее испытания», и сам он явится обновленным и окрепшим, искренним реформатором своей родины. Реформа укрепит Россию, и непреклонная воля государя произвести ее говорит о той мужественной вере в Россию, которая станет стеной против такого мира, который может унизить ее, низвести на степень второстепенной державы. Предвидит ли этот случай государь, когда могут предъявить невыносимые условия для мира? Не потому ли он сказал, что еще новые бедствия «необходимо предвидеть»? Во всяком случае, в нем говорила открытая душа, когда он произносил свою речь перед депутацией.
О войне и мире не было сказано ни слова во время приема, то есть не было произнесено этих слов, но они подразумевались. И у государя, и у депутации война и мир стояли в душе впереди всего. Собрание избранников земли теперь же, не дожидаясь окончания войны, но для решения вопроса о войне и мире, тоже как будто подразумевалось и как будто обходилось невольно. Это знаменательно для этого небольшого и весьма необычного собрания русских людей, которые больше чувствовали, чем говорили. Но это чувство и соединило их, чувство сознания того тяжелого положения родины, которое у всех глубоко лежало в душе и не требовало слов. Если бы слова о войне и мире были произнесены, никто бы не высказался за мир во что бы то ни стало, на каких бы то ни было условиях. Язык бы ни у кого не повернулся. Читая подробности приема депутации государем, эта мысль мне невольно приходила и хотя никто из участников, передавших подробности, не упоминал об этом, я убежден, что не ошибаюсь. 6 торжественные минуты часто умалчивается главное, потому что оно и без того понятно и ясно. Оно как бы горячая почва под ногами. А слова были веяние душевного мира над страной, необходимого для общего согласия и общего дела.
И я думаю, что мир невозможен во что бы то ни стало и европейские газеты напрасно так думают. То молчание о мире и войне, о котором я говорил, может быть и перед приемлемым миром и перед народной войной. Кто ж не чувствует, что и Россия и Япония переживают в настоящие дни чрезвычайно важный момент новой дальнейшей жизни, более сложной, более напряженной, задевающей не их одних, но весь мир, всю международную деятельность и международные отношения. Решить этот вопрос вдвоем, между двух борцов, без честных маклеров, без конгресса, надо с истинной мудростью, которая, может быть, и на самом деле удивит мир и скажет ему новое слово о Востоке.
11 (24) июня, №10514
DLXXX
«Революция в Одессе» — под этим заглавием уже несколько дней печаталось в лондонских газетах о печальных событиях, о которых сегодня появилось правительственное сообщение, взятое нами из «Правительственного Вестника».
Революция ли это? Государство не может жить без власти. Когда власть устраняется или чувствует бессилие управлять, или делает постоянные ошибки, поражая жителей противоречиями, шатанием, неуверенностью в завтрашнем дне, революционные элементы овладевают властью и возбуждают толпу. Грабеж, разрушение, пожары, пьянство до потери сознания — вот результаты этой «революции», совершенно похожей на «пугачевщину». В виде страшного Пугачева явился броненосец «Потемкин Таврический», который угрозами стрелять в город предал его во власть буйной черни и агитаторов, из числа которых 30 человек теперь плавают в Черном море на «Потемкине».
«Великолепный князь Тавриды» напомнил о себе, о военной славе эпохи Екатерины II, о мечтах владеть Константинополем. И вот через сто с небольшим лет экипаж броненосца его имени покрыл себя позором, позором измены и самого черного предательства и притом в эти тяжкие минуты жизни родины, когда ей грозит бесславный мир и когда это предательство еще более затрудняет положение России и грозит еще большими бедствиями и лишениями для народа.
Собственные дети России терзают свою мать, обманывают, режут, режут тупыми ножами, чтобы продлить ее страдания, наносят неизлечимые ржавые раны, готовы продать ее и изменить ей. Вот до чего мы дожили, до такого срама и бесчестия. Никто в русском царстве и во сне не видел тех бед, которые разразились над нами. Нет такого человека, не было такого пророка ни у нас, ни за границей, ни в Японии, которая никогда не могла ожидать, что подлая измена придет ей на помощь, что революция не побрезгает никаким оружием для того, чтоб достигнуть своих целей. Мы удивляем мир своей бездарностью, своим холопством, своим невежеством, своим презрением к науке, к труду, к народной чести и человеческому достоинству. О, пусть те святые души, которыми стояла Россия и стоит еще, не возмущаются этими словами. Пусть погибшие мученики в боях, тела которых зарыты в китайских степях и лежат на дне Тихого океана, пусть они молятся у престола Всевышнего, чтоб Он пощадил Россию и не погубил ее окончательно. Пусть слезы матерей и мужественная печаль отцов будет вечным укором тем живущим, которые не знали ни своей родины, ни своих соседей, которые чем-то гордились и чванились, во что-то верили, чему-то молились, но и гордились, и верили, и молились с каким-то самомнением бездарности, лени и злого равнодушия к отечеству, погруженные в свои дела и делишки.
Нет слов таких, которые были бы достаточны для бичующей сатиры, нет того юмора, который раздался бы достаточно громким смехом сквозь слезы и рыдания над нашим поражением внешним и внутренним. Нет таких сильных, мощных, талантливых мужей, которые бы сумели обнять своей душой бездну нашего падения и возгореть мужественным стремлением поднять бремя высокого труда на свои плечи. Где они? Куда они скрылись? Или не дают им простора, не зовут? Или они еще не рождались или бегают детьми, не понимая, что делается. Все, что слышишь, все, что видишь, все это или почти все это — резонерство, холодное, самомнящее, не заключающее в себе ничего оригинального, ничего творческого, ничего такого, о чем можно было бы сказать, что это порождено русскою душою, русским умом, русским просвещением. Как будто ничего этого и нет, как будто верилось в обман, в наваждение злого духа, в запах тления, в позлащенный разврат, в мишурный блеск суеты и празднословия. Самое христианство, о котором столько говорилось и писалось, самого этого христианства как будто не бывало. Спали с человека все покровы, и он явился каким-то захудалым, обтрепанным, покрытым язвами и всеми признаками бессилия и злобы, доходящей до измены отечеству и пошлого и подлого гоготания над всяким несчастием родины. Да и самая измена какая-то бездарная, бессмысленная, убогая в своем позоре и происхождении и зверски дикая в своих действиях. Наделать как можно больше зла больному отечеству, чтоб оно как можно больше лет не выздоровело и чтоб как можно больше мир плевал ему в лицо и радовался его унижению; затеять пугачевщину на земле и на море, начать междоусобную войну, разорить и без того разоренное, жечь, истреблять и разрушать и не обнаружить никакого творчества — какая слава и честь! Отечество стоит в глубокой печали и тоске перед всем этим безумием, перед этой хвастающейся бездарностью и срамным бессилием и негодование клокочет в его истерзанной груди, и уста, запекшиеся кровью, шепчут проклятие…
Божий гром пусть гремит и молния освежает воздух. Будет ли ожидаемое представительство этим Божьим громом, принесет ли оно обновление, вольет ли оно в истерзанную и помутившуюся русскую душу свежее дыхание весны, обольет ли оно корни русского племени могучими соками, обновит ли оно нашу померкшую, захудалую жизнь, вдохнет ли оно патриотическое чувство в русские души и даст ли оно им благородные и высокие стремления? Как бы хотел я быть пророком, что все это будет, что новая заря загорится над Русью и Божьим духом повеет над бедным русским народом. Как я желал бы верить в это собрание лучших, избранных людей Русской земли, желал бы верить, как в благодать Господню, исцеляющую от тяжкой болезни помраченный дух, который мечется в истоме, не находя себе покоя ни для мысли, ни для разумного дела.
22 июня (5 июля), №10525
DLXXXI
Если б я думал, что в России нет людей способных, энергичных и умных, я не стал бы говорить о необходимости созыва Земского собора, о необходимости представительства, под каким бы наименованием оно бы ни явилось. В сегодняшнем «Маленьком письме» по поводу бунта экипажа на «Князе Потемкине» я не выражал бы надежду на собрание представителей Русской земли, которые могут исцелить отечество от тех бед, которые оно испытывает. Одна из важнейших выгод представительства заключается именно в том, что оно открывает простор талантам и способностям, выдвигает вперед людей, которые достойны быть на виду у всей России и у государя. Я говорил об этом много раз и если спрашивал сегодня, где же эти люди, то по причинам совершенно понятным.
Говорю это по поводу письма в редакцию г. Демчинского, которое читатели найдут ниже. Он говорит, что люди есть, но не настало еще время им явиться, что происходит только «инспекторский смотр» и что этот смотр уж дал блестящие результаты. Я готов этому верить, хотя «инспекторские смотры» и даже маневры еще мало говорят о способностях полководцев. Можно выиграть битву на маневрах и быть разбитому в сражении. Примеры этому все знают. Можно произнести прекрасную речь, можно быть настоящим оратором, можно тронуть слушателей до слез и оказаться совсем не Бисмарком, не Тьером, не Жюль Фавром и Гамбеттой, в существовании которых и в России г. Демчинский верит. Я не поклонник сравнений русских талантов с иностранными. Сумарокова называли Корнелем, Хемницера — Лафонтеном, Карамзина — Тацитом и т. д. Эти сравнения говорят только о подражательности, о нации, стоящей ниже той, с которой идет сравнение. Слава Богу, мол, и у нас явились такие-то и такие-то государственные люди. На самом деле, это только надежды, только чаяние. Необходима еще практика жизни, уменье ею управлять, дать истинное и правдивое прогрессивное течение, сообразно тому, что страна требует. Я совершенно согласен с г. Демчинским, что настоящая бюрократия совершенно неудовлетворительна, что она не стоит на высоте той трудной задачи, которая яснее и яснее бьет всем в глаза и распространяет все больше и больше недовольство. Можно заплакать не от искренней только речи, но и от самых событий, которые режут по сердцу. Не надо забывать, что нужны люди твердые, умные, дальновидные. Может быть, вся та депутация, которая представлялась государю императору 6 июня, стоила бы того, чтобы ее разместили в разные министерства и департаменты и вручили ей власть. Может быть, и другие депутации к государю, предводители дворянства, от Русского союза, заключают в себе людей высокой честности, таланта и ума. К сожалению, мы не знаем своих людей и, главное, не видим особенно энергичной деятельности со стороны именно тех спокойных партий, которые можно назвать либералами, конституционалистами и национальными либералами в смысле некоторого славянофильства. Эти люди — государственники. Они хотят реформы не как переходной ступени к агитации социалистической, к пересозданию всего экономического и социального строя. Для них реформа — цель, а не средство. Между тем особенно деятельна именно революционная партия, а не эти спокойные; она работает за границей и внутри России, распространяет прокламации, пропагандирует революцию, лжет и клевещет на либералов, поднимает бунты среди рабочих и крестьян и, наконец, возбуждает бунт во флоте и не простой бунт, каковых много, а прямо междоусобную войну, бомбардирование мирных черноморских городов, чего у нас никогда не бывало. Россия в революции не потому, что она этого хочет и для этого готова, а потому, что революционная партия берет верх и над законной администрацией, не обладающей прежде всего единством действий, и над обществом, политически невоспитанным и пристающим к радикальной и революционной партии просто потому, что она ярче, что она как будто одолевает и обещает полный переворот. Уже г. Струве объявляет в своем «Освобождении» (18[31] мая), которое издается теперь в Париже, что «к власти должны быть призваны не Витте, не Шиповы, не Михаилы Стаховичи и т. п. лица, а совсем другие люди. Их не трудно назвать, но это пока преждевременно». «Пока преждевременно», но они, очевидно, уже назначены революционной партией и ждут своих мест. В «Русских Ведомостях» сегодня я прочел письмо г. Ивана Петрункевича, который участвовал в депутации у государя 6 июня вместе с князем Трубецким и др. Ему приписывается то, что он не делал, что он называет «инсинуацией и клеветой» и эта клевета явилась в «Temps» в виде телеграммы. Г. Петрункевич — человек талантливый, но не принадлежащий к партии революционной и эта клевета пущена на него просто потому, что он уже не удовлетворяет программе этих господ, составляющих «nouvelles couches», у которых есть уже свои министры, свое правительство и замечательное единство действий.
Вот что заставляет меня спрашивать: где же наши люди, сильные, деятельные, понимающие бездну нашего падения и готовые мужественно работать для спасения России?
Г. Демчинский говорит, что теперь не время творчества, а время разрушения. Я с этим никогда не соглашусь. Если теперь время разрушения, то все, значит, в порядке, все эти безобразные, бесчестные, губительные для отечества действия революционной партии — нечто естественное и необходимое. В то время, когда революционная партия действует, бросает бомбы, агитирует, партии спокойные производят «инспекторский смотр». Конечно, г. Демчинский, подобно многим, смешивает в одну массу и мирные и идейные заявления и действия революционные. У нас это действительно смешалось и перепуталось до полной темноты, отчасти сознательно, как одинаково оппозиционное, но различное по целям и средствам, отчасти бессознательно; не определились твердые границы, и «демократической республике» аплодируют такие люди, которые готовы на самом деле бежать от нее всюду, чтобы не присутствовать только при ее рождении.
Невозможно сравнивать, как делает это г. Демчинский, ветхий дом, грозящий падением и протоколом назначенный к разрушению, чтоб возвести на его место новый, с домом, который называется Россией. Может быть, это сравнение с прибавкою полицейского участка, который не дает разрешения, и остроумно, но остроумием государство не управляется. Когда вместо старого дома возводят новый, то выселяют из него жильцов, которые спокойно занимают новые квартиры, и самый старый дом с улицы ограждают высоким забором, который не грозит опасностью даже прохожим. Россия — старый дом, в котором живет 130 миллионов населения самого разнообразного, даже противоречивого во многих отношениях. Построить вместо этого старого дома совершенно новый — значит вырвать с корнем тысячелетний дуб и ждать, когда он снова вырастет среди бурь революционной борьбы и всяких потрясений. Россия выросла как дуб, как многовековый лес, дальнейшему росту которого мешают запущенность, нерадение лесничих и проч., и требуется не ломка, не разрушение, не «снос дома», а творчество спокойное, здравое, запечатленное талантом и умом. Дело не в украшениях дома и «каких угодно узорах», которые обещаются после «сломки старого дома», а в самых его устоях, в равномерности частей, в хорошем отоплении, вентиляции, удобном расположении квартир и безопасности от пожаров и разрушения. Вот о чем надо думать и действовать тем спокойным партиям государственников, которые я назвал выше. Ведь, что ни говорите, а больно всего больше то, что партии, так называемые либеральные, самые многочисленные и самые старые и тем не менее они-то и уступили крайне радикальным. Еще 50 лет тому назад они уже знали, что надо, без чего страна расти не может, без чего она может рухнуть, но работали вяло, так вяло, что партия «nouvelles couches», партия революционная перегнала их и даже так запутала, что спокойные либералы говорят то же, что и она, то есть о сносе дома.
Вот почему я спрашиваю: где люди, вымерли они, что ли, или не родились, или бегают еще детьми, не разумея того, что происходит? Инспекторские смотры тянутся долго, говорят на них бесконечно много, и не разберешь, что же делается и чего стоит дело, если оно делается. Кроме того, я должен напомнить, что выигрывают те, которые действуют согласно, а не те, которые не могут согласиться даже в главных основаниях.
23 июня (6 июля), №10526
DLXXXII
Может быть, мы переживаем действительно период безумия, а, может, и естественный период, сопровождаемый острою болезнью, чем-то вроде тифа с бредом, с повышенной температурой и с такими врачами, которые воспитались в старой медицинской школе, когда кровопускания и слабительные считались наивернейшим лекарством. Я склонен думать, что последнее объяснение более справедливо, но хороших врачей, воспитанных в новой школе, или нет, или они еще не объявились.
Новый морской министр г. Бирилев говорит, что необходимо омолодить флот. Я думаю, что у нас необходимо омолодить всю администрацию. Если старые понятия и старые средства признаны непригодными, то старыми людьми невозможно вводить новые порядки. Без людей ничего сделать невозможно, без людей в том зрелом, энергическом возрасте, когда человек может не только посадить новое дерево, но и жить при его росте. Необходимы люди, которые думали бы и имели бы право думать о продолжительной жизни, а не о скорой пенсии и отшествии к праотцам. Конечно, Земский собор должен дать таких людей, иначе он ничего не будет стоить или стоить очень мало, но и до созыва омоложение администрации принесло бы несомненную пользу. Я бы опять повторил то же самое, что говорил год назад о кабинете, о правительстве, которое действовало бы согласно, как один человек. Только такое правительство и могло бы восстановить авторитет власти и руководить выборами, а не то разбросанное и безвольное, которое управляет теперь, безвольное потому, что оно управляет в кабинетах, а не в кабинете. Это не каламбур, а самое короткое выражение для того, чтоб определить неустройство и шатание настоящей минуты, которую называют революционной. Те возражения, которые приводят против кабинета, уж потому несостоятельны, что хуже разновластия ничего не может быть: оно самым ходом событий обращается в бедствие, которое мучительно действует на всю страну и держит ее в каком-то тифозном состоянии, и она то и дело спрашивает: выздоровеет ли она или помрет? И никто ей на этот вопрос не отвечает твердо и положительно, точно совсем нет способных врачей, которые могли бы сделать правильное определение болезни и предсказать вероятный исход ее. И действительно таких врачей и быть не может при том беспорядке, который похож на самопроизвольную федерацию, кричащую на всех концах. Окраины решительно стремятся к тому, чтоб возобладать над внутренней Россией. Дисциплины у нас никогда не было, а теперь ее не существует и подавно. Администраторы действуют, как им Бог на душу положит, и поэтому не могут поручиться за завтрашний день. Вся политика, кажется, заключается в частичных уступках, без всякого соображения с общим планом, который тоже не поддается определению. Людей нового порядка общество представляет в виде раритетов, которые, как справедливо заметил у нас граф Уваров, теряют свою популярность с быстротой, напоминающей Великую французскую революцию. Несмотря на это, общество все-таки выдвинуло несколько имен; на этих именах можно остановиться с уважением, как на таких людях, которые не только совершенно искренно готовы расстаться с бюрократическими приемами, но могли бы обновить или омолодить администрацию, дав ей новое направление навстречу новым порядкам, уже достаточно предрешенным.
Москва как будто становится политическим центром и желает возвратить себе значение первопрестольной столицы, отнятое у нее Петром Великим. Вместе с тем Петербург как будто устраняется от политического движения. Он, центр бюрократии, ее заправляющей силы, как будто несет на себе всю эту критику бюрократии, которою столь обильно наше время. Бюрократия и Петербург — это как будто одно и то же. Петербург приготовляет реформы, а Москва их критикует, собирает съезды, пишет резолюции, конституции, образовывает союзы, сочиняет программы дальнейших действий. Вообще это как будто центр самого сильного политического движения. Однако, Москва ли это? Вот этот вопрос трудно решить без детальной его разработки, а для этой разработки нет достаточно данных. Мы знаем, что центр политического движения — губернское земство, сначала под главенством г. Шипова, потом под главенством г. Головина. Этот центр, конечно, был бы бессилен, если б его не поддерживала провинция. Если взглянуть на железнодорожную карту, то Москва похожа на паука, который протянул свои ноги, как радиусы, к окружности. И как промышленный центр и как политический, она зависит от провинции, провинцией питается. Какие в ней самой политические партии и какой они силы, едва ли кто может определить. Сама дума представляет ли Москву достаточно? Ее представительство по старому еще закону, и в этом отношении Петербург предупредил ее. Таится ли что-нибудь действительно свое в этой Москве? Думаю, что да, таится. Вся она не может быть представлена ни думой, ни биржевым комитетом. Она так разнообразна и так долго жила своей исторической оригинальной жизнью.
В московской думе работала комиссия над конституцией, проект которой напечатало «Русское Дело». Но эта конституция, кажется, осталась без всякого влияния и значения, ибо другая конституция, выработанная г. П. Струве и его союзом «Освобождение», получила значение на апрельском съезде земцев в Москве, если верить рекламе г. П. Струве: объявляя о выходе этой конституции отдельной книгой, г. Струве печатает в своей газете следующие строки: «Этот проект русской конституции в своих основаниях принят большинством московского земского съезда 22 и сл. апреля с. г.». Мне думается, что «основания» всякой конституции очень схожи между собою, и потому мне не верится этой рекламе, похожей на рекламу составителей учебников: «ученым комитетом министерства народного просвещения одобрено для употребления в гимназиях», или: «одобрено для фундаментальных библиотек», или «одобрено для народных училищ». Если г. П. Струве пишет конституционный учебник, и в земстве нет людей, которые собственным умом и собственным образованием могли бы составить проект конституции, то это ни в каком случае не говорит в пользу земского съезда, если в словах г. Струве есть какая-нибудь правда. Я не могу себе представить, чтобы г. Струве был более компетентным знатоком условий русской жизни, чем сами земцы, работавшие на месте и, конечно, вникавшие в потребности русской жизни. Ведь написать такой проект — не значит написать «Contrat Social» Ж. Ж. Руссо или «L’esprit des lois» Монтескье. Для подобных трудов надо быть гением, и эти гении и даровитые люди были во Франции до Национального собрания. У нас нет ничего подобного, а г. Струве учился по немецким и французским книжкам и составлял свою конституцию по ним. Это легко доказать, ибо конституция эта тоже напечатана в «Русском Деле». Конечно, брать готовое легче, ибо для этого требуется только писарь, но и это готовое следует брать из первоисточника, а не из копии. Весь разговор теперь около Государственной думы. В радикальной печати ее уже объявили неприемлемой. В исправленном Советом министров виде она еще неизвестна. А я бы ее принял, но только желал бы, чтоб она поскорее явилась. Она необходима. Пусть сами депутаты и жизнь ее совершенствуют. Она вышла не из головы Юпитера, как Минерва, и Минерву ждать нечего. Я прожил так долго с одним Государственным советом и со сведущими людьми, которых выбирали полновластные министры. А 400–500 человек, избранных населением, мне это представляется благом, началом новой жизни, нового общественного воспитания.
8 (21) июля, №10541
DLXXXIII
Его превосходительство г. Ходский — так его называет в его же газете «Наша Жизнь» некий г. Зацепин — его превосходительство г. Ходский инсинуирует, лжет, клевещет и ругается, как настоящее превосходительство известного закала, воображая, что чин защищает его лицо, как забрало. К моему удивлению, его превосходительство на этих днях ограничилось ироническим замечанием по поводу моего последнего письма, что я «опоздал с своим советом», который «отзывается комизмом», принять проект Государственной думы, когда «коллективная русская мысль оказалась в большом согласии с радикальной печатью», не приемлющею этого проекта и не советующею его принимать.
По моему мнению, русская мысль далеко еще не высказалась, да и не могла высказываться, не имея для этого настоящего государственного органа. Все эти резолюции земских, городских, педагогических, врачебных и инженерных кружков еще не составляют русской мысли. Это отрывки ее только. Кроме того, большинство этих кружков высказываются за либеральные основы, за конституцию, более или менее буржуазную, за решающий или совещательный орган свободной народной мысли, а отнюдь не за радикальные основы, которые у нас носят на себе печать большой неопределенности и не знают еще, куда девать и что делать с народом — отстранить его совсем и стать на его место, считая себя полным и вполне просвещенным представителем его, или дать ему некоторое участие в таких минимальных размерах, чтобы голос его не раздавался более жужжания мухи среди громкого говора людей. Между тем в народе растет русская мысль, и эта мысль еще никем не высказана и может быть высказана еще меньше, чем мысль образованных и полуобразованных кружков, у которых есть газеты, есть сборища, есть средства собраться, свободно говорить и составлять резолюции и с легкой насмешкой относиться к протоколам. Конечно, всякою страною заправляет меньшинство, но у нас, во-первых, это меньшинство слишком незначительно, ибо оно составляет едва ли более одного процента всего населения, тогда как в Европе оно доходит, пожалуй, до 10 процентов, во-вторых, связи этого меньшинства с народом довольно слабы, ибо народ стоит не столько на политических требованиях, сколько на экономических. Если устранить рабочий класс, тоже незначительный, то между меньшинством и народом не окажется ничего, кроме недоверия. Конечно, тягости «приказного строя» народ испытывал и испытывает гораздо сильнее, чем образованное общество в лице уездной и губернской администрации и даже — прошу извинения за откровенность — в лице многих земских «деятелей». Вспомните «земский пирог» Щедрина. Этим пирогом лакомятся земцы всех политических лагерей. Как бы то ни было, по вражде к приказному строю существует связь между интеллигенцией и народом, но с существенною оговоркою, что в приказном строе, в его поддержке и водворении участвовали и участвуют те же самые господа, которые носят разные чины и разные должности и только теперь начинают становиться в ряды нового движения, когда только ленивый не становится. Для них самих это, может быть, и естественно и они легко себе это объясняют, но народу объяснить это мудрено какими бы то ни было популярными воззваниями, в которых решительно нельзя отделять даже нынешнее земство в такую группу, которую народ назвал бы своей и к которой он чувствовал бы особое доверие.
Я, например, земец, что я мог бы сказать народу?
— Я для тебя завел школы и больницы.
— Ты завел это на мой счет. Это мне стоило до трех миллиардов. Да и школы-то плохие, и больниц мало. Может, будь у меня приход, распоряжайся я сам, я сам сделал бы лучше. И школы я сделал бы такие, какие мне нужны, и больницы были бы у меня чаще. Я очень беден, и никто мне не помог вот целые 50 лет выйти из этого положения. Если что делалось, то частично. Где были умные и добрые люди, там кое-что делалось, а где их не было — а это в большинстве случаев, — там я оставался совершенно беспомощным.
Народ вообще неподвижен, недоверчив, и он скорее понимает революционеров, которые стараются его поднять к аграрным бунтам, чем тех господ, которые думают его провести на «приказном строе», розги и другие прелести которого ему очень памятны. Недаром он хочет сам себя представлять в Государственной думе, а не через господ, как бы они ни были добры и умны. Во время французской революции народ уничтожал замки и производил насилия не только у дурных помещиков, но и у хороших, искренно заботившихся о народе. В нашу пугачевщину было то же самое.
Это к слову. Я хотел сказать о моем «комическом» положении, как человека, который согласен принять то, что проектирует правительство. Как это ни несовершенно, но это хорошее начало настоящего прогрессивного движения. Я не верю в возможность возврата к старому: оно совсем отжило, и причина этому не одна бюрократия, а тысячи других причин, еще не исследованных, даже не замечаемых, но таких, которые властно толкают Россию вперед. Я верю, что русский человек едва ли не самый даровитый и умный и что стоит только поставить его на надлежащую тропинку, он сделает из нее дорогу, вымостит ее, покроет мостами и не даст запуститься.
Теперь происходит настоящая трагедия. В сущности, две силы в ней работают, правительство и революционная агитация. Правительство работает на всех практических путях. Агитация ему мешает с пылом необузданной страсти, вызывая бунты, забастовки и проч. Это серьезная сторона борьбы.
Затем разговоры, земские, дворянские, инженерные, врачебные и проч. Одни разговоры без всякого дела. Агитация речами, агитация рассылкой печатных речей и ничего более. Дело остановилось. Даже тогда, когда переговоры о мире должны бы заставить всех подумать, насколько всевозможные беспорядки способствуют Японии в ее требованиях, агитация как будто говорит: обдирай Россию больше и больше, японец, мы тебе поможем. Что ж народ? Настала рабочая пора. Если есть кое-где беспорядки и забастовки, то это оазисы. Народ остается спокоен и работает. Он не помогает японцам. Он спокойно идет на войну и не хочет позорного мира, не хочет, чтобы на контрибуцию, то есть на его деньги, вырос его случайный, непредвиденный им враг, которому он должен платить дань бесконечное число лет, в размере 40–50 миллионов ежегодно. Народ ожидает, что его спросят, и тогда он скажет, что ему надо. Он верит, что его спросят самого или того, кому он доверит, и тогда только можно говорить о «коллективной русской мысли» и о моем комическом положении относительно радикальной печати.
Впрочем, в русской трагедии дело не может обойтись без комизма. И в жизненной трагедии и в художественных трагедиях великих писателей комический элемент непременно присутствует. Что трагичнее положения короля Лира. Но и в «Короле Лире» есть тот комический актер, который обливается слезами. Король Лир с ума сошел от самовластия и от неблагодарности свих дочерей, Гонерильи и Реганы, которым он роздал свое царство за их пышное изъявление своей любви. Цветами риторики они украсили свою притворную, алчную, корыстолюбивую любовь, свое стремление к власти и к ее роскошествам. И когда младшая дочь его Корделия не нашла в своей голове никаких пышных слов, а сердце сказало только: «Я люблю вас, государь-отец, как долг мне велит», обезумевший старец отдал и ее часть, большую часть своей власти, льстивым дочерям. Они взяли ее, замучили отца, убили сестру и сами друг друга поели. Это великий символ государства, разделенного на части, которые раздирают и разъединяют друг друга на погибель целого, и то, что Лир говорит в своем безумии — великие истины, которые здоровые люди с трудом воспринимают. Я не хочу разделения русского царства, не хочу потрясений, которые могут привести его на край бездны, привести легкомысленно, почти бессознательно, следуя течению событий, не останавливая их и не внося в них здравых идей и здравого дела.
Король Лир должен бы идти с своей младшей дочерью, которая не умеет говорить пышных слов, но умеет постоять за своего короля и нераздельность и счастье своей родины.
13 (26) июля, №10546
DLXXXIV
«Нет глубоких реформ, которые могли бы совершиться без соединения силы материальной и силы моральной. Земские реформисты — сила моральная. Сила материальная только у правительства. Надо, чтобы обе эти силы соединились доверчиво и чтобы для защиты закона и отечества они приготовили национальное объединение народа, недостаточно сознающего свои права и обязанности».
Так заключает «Temps» свою статью «Le Congrès de Moscou», посвященную реформаторским усилиям земства. «Невозможно, — говорит газета, — сравнивать московский съезд с Учредительным собранием 1789 г.», между тем это сравнение, очевидно, делают иностранные газеты («compraison banale, courante et fausse»). «Физиономия собрания определяется тремя способами: личным его составом, умственным и нравственным состоянием той избирательной среды, из которой оно вышло, способом избрания и родом полномочий. Возьмите эти три элемента. Ни один из них во Франции 1789 г. и в России 1905 г. не только не тожественен, но даже не похож. Московский конгресс заключает в своих рядах людей очень почтенных. Но, как показали прения, между ними нет той духовной солидарности, которая соединяла людей начинавшейся революции и которая под тройным влиянием, критическим и созидательным вместе, Монтескье, Вольтера и Руссо, дала тогдашнему поколению нравственное единство, сделавшееся орудием победы. Члены Учредительного собрания обладали политическим духом, который является даже в их импровизациях, они имели политические традиции, которые слышатся в их реформах, даже самых смелых. Какие предания у земцев? Какой их политический дух? Какой труд совершили они, который можно было бы хоть приблизительно сравнить с терпеливым законодательным трудом, совершенным тем французским сословием (soslovie français), которое известно под именем Генеральных штатов?»
Разница между Францией и Россией будет еще большая, если сравнить состав французского населения с русским. «За французским населением стоят десять веков национальной истории на территории менявшейся несколько, но определенной большими линиями географической необходимости». Между тем как «собиратели» земли русской имели дело с разными народами, которые доселе не сплотились еще окончательно. Да и что значат в развитии народном какие-нибудь три века!
Ограничиваюсь этой выборкой из статьи «Temps», оставляя в стороне то, что газета говорит о незаконности съезда, о недостаточных правах его считать себя представителем России, о большом расстоянии между крестьянством и земской и всякой другой интеллигенцией, о разнице их интересов. Статья «Temps» мне напоминает вопрос о нашем третьем сословии, о котором я говорил не один раз.
Вчера в одной московской газете его назвали «могучим», «могучее третье сословие». Ох, как бы нам не ошибиться так же ужасно, как ошиблись мы относительно нашей военной могучести. Думали, что у нас и полководцы, и адмиралы, и флот, и вооружение, а вышло, что у нас не оказалось ни талантов, ни образования, ни техники. Благородного самоотвержения, мужества, готовности умереть — сколько угодно, но пришлось узнать, что надо кое-что еще и притом необыкновенно важное. У земства тоже есть несомненное мужество, есть настойчивость, но того, на что указала газета «Temps», нет еще и быть этого не могло. Я прибавил бы к тому, что говорит «Temps» о французском третьем сословии, еще вот какие подробности. Еще при Людовике XIV, почти за целый век до Революции, третье сословие уж вытеснило дворянство своим развитием, любовью к труду и образованию и честолюбивыми стремлениями. Вкус, светское обращение, вежливость сделались общим достоянием, не исключая лавки торговца (слова Вольтера). Почти все министры самодержавного Людовика XIV, не исключая великого Кольбера, были из третьего сословия; много известных имен военных (Фабер, Катина, Дюкен) из того же сословия и все великие имена литературы и искусства, за исключением трех, Фенелона, Ларошфуко и г-жи де Севинье. А эти имена не французские только, а всемирные, которые знает всякий мало-мальски образованный европеец и даже русский гимназист, если он порядочно учился. Эти имена: Корнель, Паскаль, Мольер, Расин, Лафонтен, Буало, Боссюэ, Бурдалу, Лабрюйер, Пуссен, Лесюэр, Лебрен и проч. — все это третье сословие, плебеи, а не дворяне. Где у нашего третьего сословия такие имена и такое творческое прошлое? Аббат Сийес в начале Революции говорил, что «третье сословие само по себе нация, и нация полная». Оно поднялось над дворянством еще до Революции и дворянству ничего не оставалось, как примкнуть к нему. Другой современник Революции говорил: «Третье сословие — полное общество; остальное только бесполезный придаток (superfétation inutile). Не только дворянство не должно быть господами, но оно едва ли будет иметь право называться согражданами». Какое значение имело третье сословие, видно и из того, что в 1789 г. в «Etats généraux» было созвано 300 дворян, 300 духовных и 600 третьего сословия. Если предводителем крестьянского сословия сделался дворянин, граф Мирабо, то это — случайность необыкновенного дарования, которым он обладал, а не титула.
Где же это наше «могучее третье сословие»? Где та солидарность и однородность идей и требований, когда у нас еще говорят о сословиях, а не о сословии, и когда между этими сословиями нет еще солидарности и много разногласия даже по вопросам принципиальным. Исключите дворянство, много ли останется в «могучем третьем сословии»?
Правда, русская литература демократическая, несмотря на то, что она почти вся дворянская, но она чужда демагогических стремлений. Правда, интеллигенция наша выросла и увеличивает собою те начатки третьего сословия, о котором говорил Пушкин, производя его из дворянства. Но этого еще очень недостаточно, чтоб считаться «могучим», как недостаточно сниматься фотографией и записывать свои ораторские позы художником, чтобы быть политическим оратором. Если какие-нибудь общественные деятели называются Ваничками и Феденьками, Петриками и Павликами, то эти ласкательные имена говорят не о даровитости носителей этих имен, а об их безобидной наивности и чванстве. Надо помнить, что купечество еще есть купечество и ему недоступны все сферы, которые доступны дворянству. Перегородки еще существуют везде не только по образованию, но и по нравам и законам. Министра из купечества у нас еще не было, а мещан даже почтенных чуть не вчера еще губернаторы секли по такому же праву, по какому городничий высек слесаршу.
Кстати. Отчего ни в одной резолюции, ни в одной декларации, ни в одном адресе, ни в одном из многочисленных документов настоящего движения не было упомянуто об уничтожении табели о рангах? Потому ли, что участники движения носят чины даже превосходительные и за них очень стоят, ожидая повышения, или потому, что молодежь боятся лишать чинов, право на которые дает диплом? Но ведь давно доказано, что диплом далеко, далеко не всегда украшает познания, таланты и способности, и нигде в мире он не дает таких прав, как у нас. Отчего не отменить этот пережиток старого и не сдать его в архив навеки? Иначе придется допустить, что существует в этом отношении трогательное согласие между бюрократией и теми, которые борются с бюрократией. Эти чины непременно мешают даровитым людям занять те места, которых они стоят. Учреждение табели о рангах и создало бюрократию, и вот, нападая на нее, оставляют ее палладиум неприкосновенным. Мне это кажется чрезвычайно странным и совсем непонятным со стороны тех революционеров, которых можно считать тысячами, а если принять в расчет учащуюся молодежь, то десятками тысяч. Земство, правда, чинами не считается, но оно полно чинами.
Я все это пишу не в укор нашему образующемуся третьему сословию: я хочу только сказать, что «оно совсем не могучее сословие» и что влиятельная часть его все-таки дворянская. Да и вообще у нас теперь ничего могучего нет. Флот потоплен, армия разбита, бюрократия потеряла всякий кредит, правительство обессилело, общество разделилось и руководителей не имеет никого, кроме разве газет. Народ остается невежественным (на 126 млн. душ 99 млн. неграмотных), но тою твердою массой, на которую только и можно опираться и которую дразнить отнюдь не следует никакими прокламациями и воззваниями, чтобы не нажить пугачевщины.
Если все сведено с высоты «могущества» на средний уровень, то могущество только в соединении всех этих элементов, потрясенных войной и внутренней неурядицей. Соединение возможно только во взаимном доверии, а это доверие только в искреннем представительстве. Только на этой почве возможно вырасти и для того мира, о котором на днях начнутся переговоры, и для той войны, если переговоры потерпят неудачу, и для той победы над революционной агитацией, которая забрала такую силу. Как бы ни относиться к нашему настоящему, оптимистически или пессимистически, а все приходится придти к тому же заключению, к необходимости представительства.
17 (30) июля, №10550
DLXXXV
В Америке явился умный человек из России, посланный туда государем. Этот человек с первого шагу показал, что он — представитель умной и даровитой страны и она его вдохновила поступить так, как он поступил, вступая на американскую землю. С. Ю. Витте обратился с приветом к Америке, к ее президенту, к обществу, к печати. Это прямо великолепно. Я говорю, что его вдохновила Россия, ибо он очень хорошо знал, что Россия питала к Америке искренние симпатии и, явившись на Дальнем Востоке, она протягивала ей руку через Тихий океан. Это выражение Герцена, как его же выражение, подхваченное американскою печатью 50 лет тому назад, что Тихий океан — «Средиземное море будущего». С. Ю. Витте напомнил мне о статье Герцена в «Колоколе» (1 декабря 1858 г.), о которой я упоминал в прошлом году и которую воспроизвожу сегодня целиком. Она прямо имеет значение сегодня, в эти дни мирных переговоров. Между Россией и Америкой, говорит Герцен, «целый океан соленой воды, но нет целого мира застарелых предрассудков, остановившихся понятий, завистливого местничества и остановившейся цивилизации… У России в грядущем только и есть один товарищ, один попутчик — Северные Штаты… Если Россия освободится от петербургской традиции, у ней есть один союзник — Северо-Американские Штаты».
С тех пор много воды утекло. Мы нашли себе союзника во Франции, которая так разочаровала Герцена после революции 1848 г. и которая испытала в 1871 г. те же горькие чувства, какие испытываем и мы теперь. Но идея осталась.
Мы перепечатываем статью Герцена[19] из вышедших сегодня «Сочинений А. И. Герцена и переписки с Н. А. Захарьиной». Н. А. Захарьина — невеста Герцена, с которой он вел переписку с 1833 по 1838 г., когда он на ней женился. Переписка эта занимает весь 7-й том. Собственно «Сочинения» в 6 томах. Конечно, это не весь Герцен. Но можно смело сказать, что он является достаточно цельным, потому что пропуски в «Былое и Думах», в статьях из «Колокола» и проч., пропуски сделанные цензурою[20], не мешают тому, чтобы составить себе полное понятие об этом замечательном человеке и писателе огромного таланта.
В 1847 г. он уехал за границу, 35 лет от роду, уже с большим литературным именем, благодаря своим научным и беллетристическим работам, в особенности роману «Кто виноват», который Белинский рассматривал вместе с романом Гончарова «Обыкновенная история» и колебался дать предпочтение Герцену перед Гончаровым, и Гончарову перед Герценом. Оба романа увлекали критика, и если Гончаров превосходил Герцена художественным талантом, то Герцен превосходил его умом и анализом. Герцен остался за границею и умер там в 1870 г. В Лондоне он издал «Полярную Звезду» на 1855 г. (8-й том был на 1869 г.), а 1 июля 1857 г. стал выходить «Колокол». Хотя он весь ушел в политический журнализм и борьбу, но беллетрист-художник в нем не умирал даже и в политических его статьях и книгах, не говоря уже о «Былом и Думах», которые следует признать таким же произведением, как «Wahrheit und Dichtung» Гёте. Это самый замечательный его «роман», списанный с живых лиц, с их собственными именами, роман, далеко оставляющий за собою «Кто виноват?». Герцен в «Былое и Думах» не был только мемуаристом, записывавшим события своей жизни и встречи с разными лицами. Это — эпопея его жизни и жизни того общества, среди которого он вращался. Кисть художника не оставляет его никогда, и беллетристическая манера остается господствующей. Это — правдивое художественное произведение, хотя, может быть, и несовершенное, потому что Герцен, по самому свойству своего таланта, не мог быть вполне объективен. Написанные в течение многих лет «Былое и Думы» представляются однако произведением цельным с единственным героем, самим писателем, который сталкивается со множеством лиц, русских и иностранцев, иногда превосходно изображенных. Для теперешних читателей этот исторический «роман» является совершенною новостью и читается с большим интересом, знакомя с эпохою второй четверти прошлого века в ярких образах.
Человек сороковых годов и притом едва ли не самый образованный и самый даровитый из них, Герцен имел огромное влияние на русское общество. Это был первый свободный русский писатель, первый писатель, который и за границей приобрел большую известность. В этом отношении он стоял особняком среди русских писателей, работавших за границей. Независимый по своему материальному положению, прекрасно воспитанный, владевший иностранными языками, он во всяком обществе, не исключая аристократического, мог быть своим человеком. По-французски он писал с такою же легкостью, как по-русски. Знакомство и в России и за границей у него было огромное. Попав в Париж во время революции 1848 г., он пережил ее не как сторонний наблюдатель, но и как человек, которому были близки все тогдашние события. Выдающийся талант, имевший сходство с талантом Вольтера по злой иронии и остроумию и отчасти по универсальности, ставил его сейчас же как равного с людьми большого таланта и значения. При этом он оставался русским человеком и верил в оригинальное русское развитие, не преклоняясь перед Европою. В нем было что-то славянофильское, но прошедшее сквозь огонь его даровитой натуры и огромного опыта его бурной и сложной жизни, огромной наблюдательности над политической жизнью России издали, и над политической жизнью Европы вблизи. Начиная «Колокол», он говорил: «Мы считаем первым необходимым, неотлагаемым шагом освобождение слова — от цензуры, освобождение крестьян — от помещиков, освобождение податного сословия — от побоев». Эти пожелания и доселе еще не вполне удовлетворены. Политический образ Герцена, впрочем, может быть определен только всем содержанием «Колокола», т. е. не только теми статьями, которые он сам писал, но и статьями других. Целые десять лет он вел эту газету, очень богатую, как сборник фактов и мнений за этот период нашей истории, когда начались реформы и когда польское восстание, оно преимущественно, помешало им осуществиться с необходимой полнотой. Как известно, Герцен потерял свою популярность в России, когда перешел на сторону поляков и стал громить Россию. Общественное мнение было с ним, когда он говорил о мирных реформах, но оно не захотело его слушать, когда он стал на стороне вооруженного восстания. Сколько известно, в этом случае неукротимый анархист Бакунин повлиял на Герцена. Статьи «Колокола» стали резче и резче, но они не отвечали уже и новому поколению, которое пошло гораздо дальше его. «Сочинения» его теперь имеют чисто литературное значение и нельзя не приветствовать это первое издание их в России. За границей они были изданы в 1875–79 гг. в 10 томах. Статьи из «Колокола» в это издание не вошли, но оно изящнее теперешнего издания.
24 июля (6 августа), №10557
DLXXVI
Помните «дикого» человека, который в разговоре со мной предлагал Комитету министров произвести такую реформу, которая очистила бы Россию от клопов. Это свидание мое с диким человеком было ранее, чем губернатор Столыпин открыл «дикий патриотизм». Вчера «дикий человек» снова встретился со мною. Коньяку он не пил и настроен был мрачно.
— Гадайте на пальцах: мир или война? — сказал он. — Очень приятное занятие. Я думаю — мир. Так выходит не на пальцах даже.
— Значит, «позорный» мир? — заметил я.
— Ах, Боже мой, что такое «позорный» мир? — заговорил он, закуривая сигару. — Сколько гг. умников и гг. дураков доказывают, что слово «позорный» ровно ничего не значит. Сегодня скажут «позорный», а завтра скажут «выгодный». Россияне — народ сговорчивый. Отдайте Сахалин, заплатите 2 миллиарда контрибуции. В чем тут позор? Ведь жили без Сахалина и проживем и далее. Да что Сахалин? Давно ли у нас юг России, Крым, давно ли Кавказ? Ведь все это, в сущности, вчерашние приобретения, ибо что значит в истории народа 50–100 лет. Жили же мы без юга. Поэтому что за важность, если у нас возьмут и юг России, Крым, Кавказ, Закавказье? Только пространство России будет меньше и жителей меньше, а все остальное останется. Все это доказано как гг. умниками, так и гг. дураками бесповоротно, а потому глупо говорить о «позорном» мире, да еще после такой кампании. Разве какая-нибудь честь и слава в том, что весь флот погиб, разве какая-нибудь честь и слава в том, что наша армия не выиграла ни одной победы в течение полутора года, а потеряла около 200 тысяч солдат и офицеров и стоила полтора миллиарда. Никакой чести и славы в этом нет. Это даже малому ребенку, который умеет в солдатики играть, понятно. Так что ж после того так называемый позорный мир? Ровно ничего не значит…
Удивительное дело. Справлялись со шведами, с турками, с грехом пополам справлялись с Европой, а вот с монголами не можем. Кривоглазых и желтолицых не можем победить. И в древние времена они овладели нами, воспользовавшись нашею рознью и глупостью, и теперь то же самое. Наши полководцы от великого ума своего и таланта никак не могли попасть в такт желтолицым. Куропаткин все подсиживал монгола. «Покажись-ка, желтая косоглазая харя, я те задам. Но только «терпение, терпение, терпение». И так он был терпелив, что целый год держал около себя бездарных штабных и бездарных генералов. Думал терпением обучить их. А желтая харя прет себе да бьет, а мы все подсиживаем, то в одном месте, пока не отступили, то в другом, пока не отступили. Линевич о терпении не говорит, но подсиживает точно так же. Подсидит ли? Хорошо, если подсидит, а вдруг не подсидит? Уж лучше мир, не правда ли?
Япония приобретает Корею, Маньчжурию, Порт-Артур, Ляодунский полуостров. Это уж несомненно. Добрая часть нашего флота перешла уже к ней. Понятно, ей этого мало. Она возьмет и все то, что еще ей надо, и мы все это потеряем навсегда. Оно как будто обидно, а как будто и нет. Ведь все это очень далеко, так далеко, что прямо как в сказке: в тридесятом царстве, не в нашем государстве. Зато объединимся в Европе и, Бог даст, потеряем и юг, и Кавказ, и Закавказье, и все то, что завоевали Черняев и Скобелев. И гг. умники и гг. дураки это доказали. Вот французы потеряли Эльзас и Лотарингию и заплатили пять миллиардов. Отчего и нам не потерять и не заплатить того же самого? Разве мы хуже французов? Сначала было им это больно. Болтали о реванше лет двадцать. А теперь и в ус себе не дуют. Не все ли равно, кому принадлежат Эльзас и Лотарингия? Разве немец хуже француза? Разве промышленность упала, люди обеднели, виноградники исчезли, страсбургские пироги перестали делать? Ничуть не бывало. Спросите у Елисеева страсбургский пирог. Сейчас подадут и совершенно такой же, как был, когда Страсбург был французским.
Он помолчал, потом продолжал:
— Оно, конечно, как будто неприятно с патриотической точки зрения. Вон императору Вильгельму стоило только поднять палец, и Франция запросила пардону. Ну его к черту, говорит, этот мароккский вопрос. Не все ли равно? Уж коли столько потеряли, то стоит ли Марокко того, чтоб за эту дрянь кровь проливать. «Мы распространим зато всюду республику», утешаются французы. Педагоги прямо начинают выгонять из школ патриотизм и вводят интернационализм. Что за вздор отечество и французы? Отечество — вся земля, а сограждане — все человечество. Надо думать об общем отечестве всего человечества, а не о своем угле. Если французы так утешают себя, то нам и подавно сие подобает. Республику мы распространять не станем. Но водку можем распространять. Вы смеетесь?
— Нет, — говорю, — я слушаю. Вы все иронизируете.
— Я вас уверяю, что у всякой идеи есть свои резоны. Конечно, Россия потеряет свой ранг в мире. Но что ж из этого? Меньше заботы зато. Была высокопревосходительная, станет высокоблагородная. Даже если просто будет благородная — и то хорошо. Может быть, посмиреннее-то оно и лучше. Недаром Бог любит смиренных, а гордым противится. Мы слишком возгордели, нам и дали по шапке. Получив этот подзатыльник, мы занялись логикою заднего ума, который в затылке. Если пойдем дальше по этому логическому пути, то легко придем к тому положению, что никакой беды не будет, если Россия возвратится к московскому великокняжеству. Что толку в пространстве, если оно необозримо и если им управлять не умеем. Не выписывать же в самом деле немцев, когда у нас своих умников непочатый край. Может быть, будет лучше, когда все это рассыплется, флота будет совсем не нужно, армии тоже, разве для парадов придется держать малую толику, но в такой красивой форме, чтоб дамы тотчас «падали»… Окраины не будут враждовать, центральные губернии не будут содержать их на свой счет, когда и самим им иной раз есть нечего. Ведь даже этот великий Сибирский путь сооружен на деньги, взятые преимущественно с центральных губерний. Окраинам и просвещения давали больше, даже гораздо больше, а с России собственно только брали да драли.
Он переходил от иронии к раздражению и закуривал вторую сигару. Рука его со спичкой дрожала.
— Макаки проклятые! — вдруг воскликнул он. — Разве можно пережить этот срам русскому народу — быть побитому макаками! Разве не позор великому славянскому народу просить мира у Японии? Кровь бросается в голову, когда начинаешь думать об этом. Японцы — это первое превращение обезьяны в человека. Когда они радуются, они всасывают в себя воздух, как обезьяны. Я бы никогда не заключил с ними мира. Никогда! И когда Витте заключит с ними мир, я застрелюсь… Нет, я образую клуб для проповеди антияпонизма. Я отдам на это все свое состояние. Что такое антисемитизм? Вздор. Евреи — красивый народ, еврейки — прелесть. У евреев какая литература! А японцы — уроды, японки — пустое место. Они весь человеческий род изгадят. Они красоту уничтожат, уничтожат поэзию, любовь и все то, что прекрасно в классическом мире и христианском. Макаки!
Он бросил сигару и встал, ища глазами японца и сочиняя устав клуба антияпонизма.
29 июля (11 августа), №10562
DLXXXVII
Постояв, «дикий» человек сел опять.
— Ну, а вы что думаете? — спросил он.
— Я думаю, что вы выражаете мнение многих россиян. Ваша ирония прикрывает нерешительность вашу относительно войны или мира. Ваш резкий отзыв об японцах, — бессилие разобраться в этих удачах «макак» над русской армией и флотом. Остроумцы русские давно сказали, что если японцы макаки, то русские коекаки. Отчего макаки победили, а не коекаки? Мы с вами в этом вопросе не разберемся. Я думаю, что пройдет десять, двадцать лет, прежде чем будут выяснены все обстоятельства этих поражений и этой внутренней смуты. Мы с вами не знаем, как пойдет дальше история, что скажет завтрашний день. Не знаем именно потому, что мы не хотим терять веры в наши силы и не хотим признать превосходства японцев над нами. Гораздо лучше чувствуют себя те, которые стоят за мир во что бы то ни стало и думают: пусть история идет дальше и бьет своим молотом по головам и оглушает разум и силы тех, которые теряются и не знают, что делать и как делать. Они не говорят, эти гг. умники и гг. дураки, как вы их называете, «aprés nous le déluge», они надеются присутствовать pendant le déluge, во время потопа, и управлять им, когда волны поднимутся выше и выше. Они ждут своего часа, как игроки в кегли ждут, кого повалит катящийся шар по наклонной плоскости. Революция…
— Революция? Да она проехала, — прервал «дикий» человек. — Вся она в бомбах, а вовсе не в революционном движении. Сравнивают Францию 89 года и Россию. Но забывают, что во Франции не было в то время ни бомб, ни войны, но вся страна была готова к революции и выставила вон каких людей. У Мирабо не было в руках ни револьвера, ни бомбы, и за ним никто не держал этого оружия. Нам надо выстоять в этой войне. Мы потеряли все, что могли потерять. Больше терять нам нечего. Но армия не потеряна и не разбита, а пока она не разбита, все эти Сахалины, Камчатки и т. д. просто маневры. Вы говорите, что иронией я прикрываю свою нерешительность, бранью на японцев — свое бессилие. Нет, я собираю те мнения, которые я слышу и которые презираю, и ненавижу японцев. У себя я тоскую по сильным людям, по действительным талантам. За границу за ними, как Меньшиков, я не поехал бы, но у себя в России я нашел бы их во что бы то ни стало. Если их нет, тогда — революция, и революция бездарная, революция бомб, грубой силы, забастовок и пугачевщицы, революция толпы, которую сметет реакция, а не свобода. «Дикий патриотизм обывателя», как сказал саратовский губернатор, значит гораздо больше бомб и забастовок. Угроза губернатора «обывателям» — пустые речи, а не действительная сила в подобных случаях. «Обыватель» явится в Государственной думе, и я думаю, что обывателя и крестьянина не проведешь. Крестьянин попадет туда потому, что он крестьянин и вместе с «обывателем», пожалуй, составит нечто однородное и крепкое и надо правительству обнаружить полнейшую бездарность и неспособность, чтобы не воспользоваться этою силою. Я потому и говорю, что революция проехала.
— Смотрите, не ошибитесь.
— Кто убежден в том, что он русский человек и знает твердо, чего он желает, тот не ошибается, хотя и может погибнуть. Но гибель гибели рознь. Можно погибнуть сдаваясь и можно погибнуть сражаясь. Я пойду сражаться, и таких, как я, найдется много.
Он вдался в подробности, этот «дикий» человек, которых я приводить не стану, но значение которых нельзя отрицать. Мы опять вернулись к японцам.
— Вы остаетесь при своем мнении, что это — макаки? — спросил я смеясь.
— Остаюсь. Обученные, ловкие, терпеливые, но макаки. Они явились в то время, когда в европейском мире никто не хочет воевать, когда проповедь против войны сделалась ходячей монетой, а любовь к отечеству — обузой для господства эгоизма. Если мы их не остановим, они явятся силою, которая прежде всего будет гибельна для нас и на наших плечах вырастет.
Я ему рассказал, что меня посетил француз, пробывший в Японии пять лет и только что оттуда приехавший. Это не дипломат, не журналист, а торговый агент, знающий Японию не по городам только, а по селам, знакомый с японской статистикой, которая у них поставлена прекрасно, с их банковским делом, с их промышленностью и торговлею.
— Японцы похожи на андалузцев, — говорил он. — Такие же горячие, страстные, так же любят говорить и почти каждый японец оратор.
— Это японцы-то андалузцы? — прервал меня дикий человек, засмеявшись.
— Я вам повторяю чужие слова. Страна вся в горах и в долинах, и производительность ее бедная. Она может вывозить только солдат, уголь, медь и еще кое-что. Вывоз ее меньше ввоза. Она все должна купить. У нее нет шерсти, нет хлопка, нет кож, нет железа. Она питается рисом и рыбой. Мясо дают только матросам. Буйволы пашут землю, быки держатся на мясо преимущественно для иностранцев. Овец привозят из Китая. Богатых людей очень мало. В таких городах, как Нагасаки, Токио, есть хорошие дома, на улицах публика хорошо одета, но в деревнях нищенство. Обыкновенный банковый процент в городах — 12, а в деревнях — 30–40 процентов. Деньги вообще очень дороги. Вся производительность страны не превосходит годового русского бюджета.
Если 6 Россия объявила, что она не станет ни за что платить контрибуции, Япония не могла бы так удачно заключить последние займы. И эти займы взяты банками в надежде на русскую контрибуцию. Если Япония ее получит, она действительно сделается большою силою. Вы потеряете весь Дальний Восток, потому что Япония расплатится с долгами и сумеет вооружиться прекрасно. Армия у нее отличная. Жизнь считается ни за что. Семьи убитых счастливы, ибо правительство выдает семье убитого единовременный подарок. Сначала оно давало его деньгами, а теперь платит государственной рентой. Раненые тоже получают единовременные подарки, сообразно тому, какая рана. Семьи убитых и раненых офицеров получают больше, чем солдатские. Но жалованье офицеров не больше 20 р. в месяц, а потому офицерские жены редко выходят на улицу, так как не могут хорошо одеться. При той бедности, которая существует в Японии, подарки семьям убитых и раненым производят прекрасное впечатление в стране. Солдат идет сражаться, не боясь того, что семья его будет нищею, если его убьют, а раненый не видит несчастия в ране. Француз присутствовал в больнице, когда один «знатный иностранец» ее осматривал. Подойдя к раненому, он спросил его, в каком сражении он ранен. «К сожалению, я не ранен, — с истинною грустью отвечал солдат, — а болен. Если б я был ранен, я был бы счастлив, потому что получил бы подарок».
— Вот и доказательство, что это макаки. Как это все, что вы рассказываете, мелко и бездушно. И как я прав, что именно эти «прекрасные» солдаты создадут на наш счет боевую державу, если мы им покоримся. В переговорах с нами они ведут себя, как вели себя с китайцами. После Цусимского боя вы и все говорили о необходимости созвать Земский собор, чтоб решить вопрос о войне и мире. И без «обывателя» не должно бы решать этого дела. Оно слишком ответственно…
— Я не изменил своего мнения. Государственная дума во время переговоров — это вся Россия, единая и сильная перед опасностью. Счастливую войну может окончить и одно правительство; но как разрешить несчастную — это вопрос не о настоящем только, но и о будущем, когда кончается одна эпоха и начинается новая. Участие Государственной думы не только может восстановить авторитет правительства, но и спасет обаяние русской державы в мировой политике. Явятся непременно новые силы. Они теперь или равнодушны или разъединены в борьбе за то же величие родины, которое таится в душе каждого русского, каковы бы ни были его политические идеалы. Начинать новую жизнь унижением России не только перед военным врагом, который держит себя как твердая скала, но и перед целым миром, и без того не верящим в наше возрождение, — опасная игра в постепенное разложение организма, который жил крепкою объединительною силою русского народа. Дать миру это печальное зрелище, не найти в себе достаточного одушевления, высокого подъема сил — значит потерять мужество. А мужество потерять — все потерять.
30 июля (12 августа), №10563
DLXXXVIII
Теперь все мысли в Портсмуте и в Петергофе, в кабинете представителя России и в кабинете русского государя. И не только мысли русских, но и мысли всей Азии, Европы и Америки. Решается вопрос такой важности, какого, может быть, еще не было в новой всемирной истории. Не забывайте, что на всем земном шаре полтора миллиарда жителей и что более половины из них в Азии, в этой древнейшей колыбели человечества. Что Америка идет вместе с Японией, чтобы господствовать в Азии, в этом могут сомневаться только слепые и глухие. Японские острова с Формозою и Филиппинские, принадлежащие Америке, — это базы для распространения владычества. Если Россия потеряет Дальний Восток, она потеряет богатейшие страны для своего будущего. Кто говорит, что Россия должна ограничиться внутренним устройством и оставить всякое попечение об Азии, отказаться от миллиардов, употребленных на творчество в этой Азии — творчество это было, — и на войну, тот признает полное бессилие России, полную бездарность ее народа не только для того, чтоб колонизировать и устраивать приобретенные страны, но и для того, чтоб их сохранить.
Условия мира, предъявленные Японией, да еще в виде «требований», несомненно условия страшные. Ни один русский человек не может их назвать иначе, по крайней мере, про себя. Какой восторженный визг подняли иностранные газеты на всех языках, за немногими исключениями, доказывая, что японские условия умеренные, что Россия должна согласиться и чуть ли не броситься на колени перед микадо и, простерши к нему руки, восклицать:
«Ваше величество, великий монарх, божественный, непобедимый, спаси нас и помилуй! Соблаговоли преклонить свое священное ухо к нашим мольбам, соблаговоли раскрыть свои уста и утешь нас своим божественным глаголом милосердия!»
Дальше этого говорить невозможно. Рука не может написать тех чувств, которые волнуют сердце, того негодования, которое кипит в груди. Унизительнее тех условий, которые предложили японцы, трудно себе представить. Неудивительно, что женщина, вдовствующая императрица Китая, сказала, что эти условия не приемлемы. Ей вчуже были противны эти японские требования. Еще менее удивительно, что наши политические эмигранты в Америке просили Витте не уступать ни клочка территории и не платить ни копейки контрибуции. Если японцы получат даже половину того, что потребовали, то и то получат чрезвычайно много — целый мир богатства и силы. И как бы мы, современники, униженные и посрамленные, ни старались смягчить условия этого мира всевозможными софизмами, которые нами самими в глубине сердца признаются фальшивейшим самообманом, русская правдивая история все-таки признает этот мир позорным.
Но что делать? Россия поехала в Америку с искренним желанием устроить мир. Туда поехал от нас человек, всегда желавший мира и смотревший с ненавистью как на эту войну, так и на прошлую войну с Китаем.
С. Ю. Витте — прирожденный государственный человек, как есть прирожденные поэты. С самого своего появления на почве Америки он повел себя с замечательным тактом и умом. Не Бог весть какая благодать явиться для переговоров со стороны побежденной и униженной. Еще вчера, так сказать — год в истории очень ничтожная величина — Витте смотрел на японцев сверху вниз не потому только, что он высокого роста, а японцы маленького, а потому, что он был одним из представителей великой державы, считавшейся в целом мире грозной и сильной. В Америке рост его не уменьшился, как не увеличился рост японцев, но победители поднялись по лестнице до той площадки, где находится надпись «великая держава», а побежденные спустились по этой лестнице и стали снизу вверх смотреть, как великаны, на плечи которых стали карлы и сжали великанов железными тисками и петлей.
В этом положении С. Ю. Витте не может чувствовать себя превосходно. Когда он вышел с парохода и приветствовал бодро американский народ, на сердце у него кошки скребли. Но он выдержал пытку с присущей ему твердостью. Он прошел все испытания церемониала, не забывая, что он представитель великого народа и чувствуя эту роль так, как, может быть, ему не приходилось чувствовать ее как никогда в своей жизни, даже в счастливые минуты своей государственной деятельности. Никогда, быть может, он не чувствовал себя столь сильно русским человеком, как именно теперь, в эти торжественные минуты, которые поставили его лицом к лицу целого мира. Неудивительно, что он сразу приобрел популярность в стране, которая по самому складу своей жизни гоняется за талантами и умственной силой.
Русская публика никогда не видела С. Ю. Витте на такой открытой сцене. Перед ним диктующая победительная сила. За этой силой японская армия, которая завоевывает Сахалин, грозит Владивостоку, устьям Амура, Камчатке. Она вся в движении, вся в угрозе, полная решимости наносить удары. Армия генерала Линевича неподвижно стоит: она только выжидает… Газеты всего мира помогают Японии, распространяя известия о слабости нашей армии, о невозможности России продолжать войну. Даже некоторые русские газеты и те милые соотечественники, которые готовы повторять слова Жореса, что патриотизм это — chauvinisme imbecile et bas (глупый и низменный шовинизм), помогают Японии сознательно или бессознательно.
И в этой обстановке Витте требовал полной гласности переговоров, потому что он чувствовал за собой великий русский народ и всех честных и беспристрастных людей в Америке и Европе, которые не хотят унижения этого народа и верят в миролюбие русского государя. Он не боялся своей искренности, не боялся уронить себя каким-нибудь нечаянным словом — так он полно обнимал весь вопрос, так он ярко видел возможность мира, не унижая России и требуя со стороны Японии невозможных уступок. Но, по-видимому, она не сдается и хочет именно унижения России, хочет, чтоб она помнила полученные раны до скончания века.
Что будет — это нам скажут ближайшие дни. Но С. Ю. Витте прав, не уступая и в вопросе ограничения наших морских сил на Дальнем Востоке и относительно передачи судов, спасшихся в международных гаванях. То и другое чрезвычайно оскорбительно. Нужен ли нам флот на Дальнем Востоке или нет — это дело наше. Может быть, при новой наступающей жизни, когда представительство страны будет играть роль в решении важных вопросов, Россия не захочет иметь там флота. Но согласиться на ограничение флота — значит согласиться на вечное подчинение Японии в наших делах Дальнего Востока. Ограничение — значит запрещение. Передача «Цесаревича» и других судов, как бы ни были они неважны, можно сравнить вот с чем. Разбойники обобрали с человека все: взяли часы, деньги, драгоценные вещи, платье. Человек остался в одной рубашке.
— Снимай рубашку, — кричат ему.
— Как же мне голому быть?
— Снимай, тебе говорят.
Рубашка ничего не стоит сравнительно с тем, что взято. Но уступить ее стыдно, и человек готов броситься на разбойника и душить его…
Эта рубашка — «Цесаревич» и те суда, которые спаслись от разгрома.
4(17) августа, №10568
DLXXXIX
Москва сегодня иллюминовалась. В Петербурге об этом никто не подумал. В Сенат собралось всего шесть сенаторов, по числу дней в августе, а корреспонденты иностранных газет ожидали чего-то торжественного и с удивлением увидели какую-то формальность, для которой не потребовалось даже присутствия министра юстиции. Город бюрократии и канцелярии остался на высоте своего величия в деле знаменательной реформы, провозглашенной сегодня.
Зажглась заря нового дня, когда голос русского народа будет слышен не только во всей России, но и во всем мире. Русский народ выстрадал этот призыв к законодательной работе множеством лет своего роста и своей работы в поте лица, в напряжении всех сил физических и нравственных. Русская мысль работала непрерывно, работала под тяжелым гнетом всяких невзгод над тем, чтоб воссияла правда взаимных отношений между государем и народом, между большими и малыми, богатыми и бедными. Она работала и в простом народе, который и под игом крепостного права продолжал рассуждать и служить государству с верою в лучшую участь, она работала тем более в тех людях, которые сияли умом, образованием и талантом. Ничего мистического я не вижу в том, что этот день возрождения настал. Никакие несчастия, никакие японцы не могли сыграть всемогущей роли, которую им приписывают. Если они это сделали, то что же значат наши умственные силы, вся эта долгая напряженная работа, которая звала к правде и свету? Не было бы ее — ничего бы не было, как из ничего — не выходит ничего.
Есть твердый фундамент, есть здание на нем, построенное веками и теперь есть то, что называлось увенчанием здания. Пусть это увенчание не столь блестяще, как хотелось бы, но оно обещает дружную работу, не принудительную, не постылую, а свободную, открывающую горизонты, показывающую дали, дорогу в обетованную землю общечеловеческого счастия, какое только возможно на земле. И пусть не думают, что мы для этого еще не созрели, не готовы, что все это опасно, что это грозит бедами. Нет большей беды, как рабство, нет большего унижения, как угнетение даров Божьих, как различие в самом понятии о человеке, об одном, как достойном всяких почестей и благ, и о другом, как ничего не достойном. Я так много видел на своем веку, я присутствовал целое полстолетие при росте России. Я знал такую радость, о которой смешно вспомнить — радость курения на улицах. Я был при освобождении крестьян, при введении нового суда и земства, при образовании гимназий, куда пошли дети всех сословий, смешиваясь и братаясь друг с другом. Я пережил эту длинную революцию, революцию пятидесяти лет, я ее видел и слышал, в ее чудесных моментах одушевления и радости, и в ее горях и ужасах. И начиная с курения и отмены откупов, я слышал опасения. Курение усилит пожары, откуп обездолит казну, освобождение крестьян поднимет бунты, новые суды внесут разврат и всякую потаковщину самым низменным стремлениям, смешение сословий в учебных заведениях привьет благородным классам грубость и будто бы незнаемые ими пороки. Теперь время, правда, сложное и самое несчастное из всех времен, пережитых мной. Но оно отнюдь не мистическое. Оно просто предопределенное самой историей и ростом России. Не было бы японцев, все равно было бы это призвание народных сил к рулю и пару русского корабля. Оно было бы только радостнее, только свободнее. Оно выстрадано, оно не шло, а бежало и оно пришло в благодатный сегодняшний день и оставило за собою огромный путь, к которому возвращаться невозможно.
Реформу, дарованную государем, иностранные газеты называют конституцией. Мы можем называть ее тем же именем. Государь обещает «дальнейшее усовершенствование» своей прекрасной реформы, а царское слово — верное слово. На земном шаре более ста конституций, более или менее похожих, которые переживали свои периоды усовершенствования и будут еще совершенствоваться. Россия внесет в общую сумму их свое мировоззрение, свои особенности, свою мысль. Недаром же мы жили и недаром работал русский ум.
На одну особенность русской конституции можно указать уже и теперь. Крестьяне пользуются правом двойного голоса. Во-первых, они одни выбирают депутата из своей среды и затем участвуют в выборе депутатов других классов. Этого нет ни в одной конституции.
Кроме общей конституции — позвольте мне это слово — нам, вероятно, понадобятся и местные для наших окраин и для наших, так сказать, колоний. В Англии с колониями 20 конституций, в Соединенных Штатах 49. Наши губернии с 3 млн. жителей — целые небольшие государства, как Сербия, Болгария, Дания, и их необходимо устроить в общей связи с центральной Думой. Наши окраины будут не довольны, что не вошли в Государственную думу. Но это только на время, вероятно очень короткое. Они, конечно, получат свое представительство там, где будет коренная Россия, около которой соединится вся империя. Надо, чтобы она вся зажила общей жизнью, сохраняя свои особенности, стирать которые меньше всего способна Россия. Царство Польское, этот вечный наш враг и друг, заговорит по-русски так же свободно в Государственной думе, как говорит оно теперь на родном языке. Оно должно выступить, как самый сильный после России член славянской семьи, как народ, судьбы которого тоже вступают в новую жизнь. Россия должна быть самой сильной славянской державой в мире, и поляки призваны теперь разделять славянские мысли и чувства России.
Очередь за свободой печати.
7 (20) августа, №10571
DXC
Что ж, господа, мир или война? Борьба в Портсмуте, Токио и Петербурге идет сильная. Все серьезно разбирают свои силы, гадают о настоящем и будущем и бросают жребий. Японцы находятся в лучших условиях, чем мы, и приобрели столько, что можно было бы остановиться. Но им надо денег. Денег надо и нам. И они достаточно разорились на войну, и мы разорились достаточно. В этом отношении мы могли бы искренно пожать друг другу руки и постепенно подружиться. Мы потеряли много. Все то, что мы потеряли, получила Япония. И вот кому-то пришла нелепая идея продать нам северную часть Сахалина за миллиард 200 млн. рублей, а то и дороже, а, может быть, и дешевле, и это не контрибуция, а покупка.
Скажите, каких детей нашли эти изобретатели покупки Сахалина в Европе и в России. Европа над этой покупкой смеется, в России на нее негодуют, как на нечто более унизительное, чем контрибуция. Уж если контрибуция, то нечего скрывать, что это контрибуция. Россия никогда не платила контрибуции, но, видно, так уж Богу угодно обновить ее жизнь контрибуцией.
Так и надо говорить: мы платим контрибуцию и уступаем Японии лучшую часть Сахалина. Тут по крайней мере никто обманут не будет, ни с кем не поступят как с детьми, которых взрослые люди хотят провести подделкой самой грубой. На почве такой подделки заключать мир значит заранее осудить Россию, как державу, которой сделано снисхождение самое обидное. Кто Богу не грешен? Кто не грешен России? Спросить бы всех живущих, от мала до велика. За грехи приходится отвечать, конечно, не лукавством, а прямо и искренно. А разве есть что-нибудь мало-мальски благородное, даже просто умное в этой балалаечной подделке, под ту трагическую мелодию, которая раздается теперь во всех русских сердцах и которую понимают все беспристрастные европейцы, готовые сердечно встретить русского царя с русским народом, которому он дает реформу, способную вырастить этот народ действительно в великий народ, который даст и европейскому просвещению часть своей даровитой души. Зачем же это ненужное унижение, зачем эта грубая, нелепая подделка? Ее разгадает всякий ребенок и всякий взрослый ее презрительно осудит. Вместо: ни пяди своей территории, никакой контрибуции — и свою территорию и контрибуцию, но под соусом самым противным. Конечно, и эту гадость можно проглотить, но та унизительная гримаса, с какой это будет проглочено, останется, как не стираемое пятно, на России.
Уж если покупать, то отчего не купить Порт-Артура, Дальнего и Квантуна? Они завоеваны Японией точно так же, как Сахалин. На них денег потрачено Россией гораздо больше, не в пример больше, чем на Сахалин. Сахалин дешевле, и частичку его Япония готова продать. На тебе, Боже, чего нам не гоже. И всего-то покупка эта стоит один миллиард двести миллионов. Сумма маленькая. Из 5 процентов это только 60 миллионов в год. В 20 лет Россия процентами заплатит еще миллиард двести миллионов рублей. Если она так богата, то, может быть, японцы согласятся продать и Порт-Артур, и все прочее, не исключая поднятых ими наших судов.
Это был бы новый метод для заключения мира, на основании которого могли бы помириться и Франция и Германия. Франция купила бы у Германии Эльзас и Лотарингию, и слава в вышних Богу. Но Германия ей не продаст, а Япония продает и назначает цену. По всему миру ежедневно повторяется, что Япония великодушна, ибо она не называет этого контрибуцией, хотя это и несомненная контрибуция. Нет, уж если нет никакого выхода, то уж лучше прямо сказать: уступаем лучшую часть Сахалина и платим контрибуцию. А прибегать к противному соусу — это унизительно для нас и забавно и смешно для японцев и Европы. Лучше трагедия уступок, чем недостойный и фальшивый фарс.
13(26) августа, №10577
DXCI
Итак, мир. Это самый невыгодный мир из всех миров и договоров, когда-либо заключенных Россией.
Когда С. Ю. Витте отправлялся в Америку, он говорил, что 95 шансов в пользу того, что мир не будет заключен. Японцы слишком были счастливы, а мы не могли похвалиться ни единой победой. В течение 21 дня, когда продолжались переговоры, генерал Линевич посылал телеграммы в Петербург и в Портсмут, но не посылал своей армии против японцев. Японцы в это время завоевали Сахалин и поддерживали тем своих уполномоченных, а наша армия ничем не поддерживала своих уполномоченных. Во всех отношениях японцы имели преимущества огромные.
Несмотря на все это, мир заключен. Плохой мир лучше доброй ссоры. Так, вероятно, надо сказать и сегодня с болью в сердце. Радоваться решительно нечему, иллюминовать улицы и вывешивать флаги нет ни малейшей возможности, хотя во всяком мире есть несомненно хорошая сторона, что люди перестанут лить свою кровь, калечить друг друга и думать только о том, как бы побольше нанести вреда друг другу.
У С. Ю. Витте были определенные инструкции на счет уступок. Когда они были использованы, он остановился и получил новые инструкции из Петербурга, которые и привели к миру.
Мы проиграли войну. Мы не выдержали того экзамена, который обыкновенно-всегда выдерживали, напрягая все силы. Это очень печальная страница в нашей истории и останется таковою вечно. Японцы взяли все, что требовали и, конечно, приобретут, под разными соусами, и те миллиарды, получить которые им было необходимо. Я не знаю, что стоит южная часть Сахалина, — 20 коп. или 2 миллиарда. Что стоит Порт-Артур и Дальний? Что стоит военный престиж России, ее влияние на дела Европы и Азии? Что стоит создание, благодаря нас, великой державы в Азии? Что стоит расстройство наших финансов? Все эти потери нельзя вычислить. Они поистине неисчислимы, как неисчислимы выгоды, полученные Японией. Мне странно читать в агентской телеграмме официального Санктпетербургского телеграфного агентства: «Японцы приняли русский ультиматум». Мне думается, что слово ультиматум тут совершенно не у места. Следовало поставить скромно: «русские условия». Если они приняли их и отказались от контрибуции, то по очень простой причине: Ояма телеграфировал в Токио, что он не может ручаться за победу. Мне это известно из хорошего источника, и я думаю, что даже и без такой телеграммы Япония не могла быть уверена в победе. Мы не имели Седана на суше и никогда не могли бы его иметь, если б продолжали войну, но на море мы имели полнейший Седан.
Япония, в сущности, уступила только в вопросах о судах, скрывшихся в гаванях Великого океана, что очень не важно для нее, и в вопросе о нашем флоте на Дальнем Востоке, который, т. е. флот, все равно мы не заведем ранее 20 лет. А к тому времени Япония будет иметь такой флот, с которым мериться будет не под силу не только нам, но, может быть, и Америке. И нам приходится утешаться известным изречением: все к лучшему в этом лучшем из миров…
Государственная дума теперь должна занять все наши мысли. Если мы не выдержали экзамена на войне, то будет еще горшая беда, если мы не выдержим экзамена в мире. Если на войне не оказалось ни способностей, ни талантов, если единственное слово, которым началось наше сухопутное шествие на войну, было «терпением», обратившееся в терпение поражений на суше и на море, то будет ужасно, если в мирной деятельности мы также ничего не найдем и также экзамена не выдержим. А этот экзамен тоже очень трудный, и провалиться на нем, как провалились мы на войне — значит погибнуть. Будем думать, что, освободившись от слова «терпение», которое мучило нас до самого сегодняшнего дня, мы нетерпеливо примемся за мирный труд и мирную борьбу и выставим в Государственной думе людей большей энергии, таланта и разума. В этом вся надежда на то, что наши потомки многое нам простят. Выборы должны быть свободны от всяких стеснений, и свобода печати необходима для этого, как воздух для дыхания.
17(30) августа, №10581
DXCII
Восхищаться г. Рузвельтом у нас едва ли много охотников найдется. Если С. Ю. Витте благодарил его в выражениях более горячих, чем Комура, то это дело простой вежливости и той последовательности, с какою Витте вел все дело переговоров. Рузвельт обращался во время переговоров и непосредственно в Петербург и через своего посла, и в Токио и все время вмешивался в переговоры и следил за ними изо дня в день. Представьте себе положение русского уполномоченного перед победителями, которые смело представляют ему счеты, не беспокоясь о том, правильно они составлены или нет. Победителя не судят, и «все возьму» сказал булат. Вся Европа за японцев, не исключая Франции. Вся Европа только и говорила: «Заключайте мир. Если вы рассчитываете победить японцев, то все равно вам надо денег, а денег мы вам не дадим, так и знайте». В Европе не было государства, которое не подавало таких советов и притом настойчиво. Сам император Вильгельм в своем таинственном разговоре с нашим государем говорил то же самое, если верить газетам. Японцам же говорили: «Не уступайте. Россия заплатит все и все уступит». Из России голоса: «уступить Сахалин и платить контрибуцию. Нечего разговаривать». Это говорили русские газеты и имели за собой часть общественного мнения. В правящих сферах «бюрократии» говорили подобное же, но тихонько, между собою. Надо уступать, делать нечего. Нам нужен мир. Из армии приходили голоса об ее крепости и силе, о желании сразиться. Говорили о телеграммах Куропаткина и Линевича, в которых утверждалось, что армия теперь сильнее, чем когда-нибудь, и горит желанием победить. Я говорил вчера, что Линевич телеграфировал будто бы Витте, чтоб он не заключал мир. Витте оставалось бы телеграфировать генералу Линевичу так: «Прошу вас, разбейте японцев». Он ему так не телеграфировал, а если телеграфировал, то Линевич не послушался бы его. Он ждал 21 день и не рискнул напасть на японцев. Вы скажете, что японцы тоже не решались нападать. Но японцам незачем было рисковать. Они выиграли превосходную ставку и рисковать с их стороны было бы крайне глупо. Они занялись легкой вещью — завоевать Сахалин и взяли его без всякого труда, как беззащитную величину. Со стороны генерала Линевича, напротив, риск был бы, как говорится, благородным делом. Пан или пропал.
Таким образом, наш уполномоченный находился во вражеском стане и мог говорить не о прошедшем, в котором не было ни одной победы, не о настоящем, которое представляло спокойствие в Маньчжурской армии и крайнее беспокойство на западных окраинах, где революционное движение принимало грозный вид. Это движение в наших мирных переговорах сыграло известную роль. Если бы его не было или если бы оно было остановлено или остановилось само собой в виду тяжелого положения России, положение нашего уполномоченного было бы все-таки лучше. Японцы пользовались этим несомненно. За них были не только победы, но и внутренний беспорядок, раздувавшийся иностранной печатью вдесятеро, если не больше. «Россия погибает от революции, а вы еще торгуетесь» — так написано было на всех лицах, с которыми вел переговоры С. Ю. Витте. Против него была целая враждебная армия, и даже друзья снисходительно сочувственно могли ему говорить то же самое. Я не знаю, когда был русский уполномоченный в худших условиях. Перед ним лежала бумага, на которой были начертаны инструкции. Но инструкции — мертвые буквы. Это пределы, из которых нельзя было выходить, но надобны большой ум, энергия и талант, чтобы влиять на врагов, чтоб, говоря только о будущем, поколебать их в их требованиях, чтобы доказать им, что Россия еще в силах не подписывать тех счетов, которые ей представлены, что она еще способна к борьбе, за исход которой японцы отнюдь поручиться не могут. Он смело говорил и доказывал, что контрибуцию Россия ни за что не заплатит и что Россия предпочтет войну.
Я думаю, что два человека, Рузвельт и Витте — это большая глава в этой окончившейся войне. Рузвельт желал мира, но он отстаивал необходимость контрибуции, находя ее правильной и заслуженной. Его симпатии были, конечно, более на стороне Японии, и переписка его с Витте опять доказывала, что наш уполномоченный твердо держался своего положения и нимало не поддался влиянию своего соперника. Стремясь к одной цели, к цели мира, Рузвельт и Витте, в сущности, были соперниками. Президент сильной страны и государственный человек разбитой державы соперничали умом и энергией. Мир увидел, во-первых, умного и способного русского человека, который быстро схватил слабые стороны японских уполномоченных и прекрасно утилизировал двойственное положение «честного маклера», который не был вполне свободным человеком, беспристрастным судьей, а принужден был взвешивать на своих весах выгоды Америки и Японии, и вежливую дружбу, о которой говорят потентаты, к России. Витте старался доказать, что Япония вовсе не такая величина, которая и после своих беспримерных побед может диктовать условия мира и кричать на весь мир: «горе побежденным». Япония не кончила войну, несмотря на победы. Она сама стоит еще на рубеже и не может сказать, что она владелица и повелительница. Напрасно мир воображает, что будет присутствовать на зрелище уничтоженной России. Таким образом было поселено сомнение и в Америке и в Европе в непобедимость Японии. Это сомнение несомненно вошло и в голову президента Рузвельта, и он стал действовать в Петербурге и Токио. Я думаю поэтому, что европейские газеты совершенно искренно говорят о «дипломатической победе» Витте, потому что финансовые и политические кружки Европы и Америки вполне рассчитывали на миллиардную операцию, в виде контрибуции, которая упрочила бы японские финансы. Мир этот все-таки печальный мир, и если он принимается русским обществом, то только как необходимость и притом временная. Вчера один из американских журналистов сказал мне: «Япония не удержит этой части Сахалина. Вы ее возвратите себе».
Что ни говорите, умные и способные люди нам всего необходимее. Они нужны и в мире и на войне, и без них ни золото, ни булат не могут считать себя непобедимыми. Конечно, это азбука, но у нас и азбука состарилась и требует пересмотра и обновления.
Говорят, что японцы плакали от огорчения, как телеграфировал вчера наш корреспондент, когда узнали, что мир заключен, и считают его постыдным. Некоторые японские газеты называют своих уполномоченных государственными изменниками и советуют им «харакири». Другие настаивают на контрибуции, ибо без нее мир не может считаться прочным. В утешение моим японским собратьям я скажу, во-первых, что когда державы мирятся, то обыкновенно ни та, ни другая сторона недовольны. Победительница слишком мало получила, а побежденная слишком много уступила. Если японцы рассудят, то они получили очень много за свои победы, так много, что нам тяжко об этом повторять. Во-вторых, так же естественно» что прочного мира никто и никогда еще не мог сочинить. Всемирная история не представляет такой диковины. Государства вырастают и рушатся, побеждают и терпят поражения, но мир есть только верстовой столб, указывающий на станцию, где необходимо покормить или переменить лошадей, или взять воду и угля для паровоза. Я не верю в прочность и этого мира. Это только станция в истории наших отношений с Японией, и эта история только началась. Отдохнем и поедем опять непременно. Со спокойной совестью или с горечью, мы можем пожать друг другу руки, как люди, которые провели вместе 18 месяцев бурной жизни, достаточно хорошо узнали друг друга и затем сказать:
— До свидания.
18(31) августа, №10582
DXCIII
Два месяца я прожил в Италии. Два месяца я не читал ни одной русской газеты, не исключая и «Нового Времени», не только не читал, но и не видал; все мои сведения о России ограничиваясь телеграммами итальянских газет, да редкими телеграммами из редакции «Нового Времени». Это было добровольное устранение от текущей русской жизни, но я думаю, что на такой отдых я имел право, так как почти два года не выезжал из Петербурга и работал без отдыха. Этому устранению помогала Италия, с ее природой и искусством, — несомненно лучшая страна в мире, где осень лучше нашего лета и где каждый город оригинален, интересен, полон поэзии, с художественным и историческим прошлым, которое легко берет всего человека и заставляет забывать действительность. Мне так часто приходилось повторять в Италии, как бедна Россия природой, как ужасен Петербург, как ужасно и ничтожно все наше прошлое.
В Вене, через которую я возвращался из Неаполя и Рима, я принужден был застрять вследствие всеобщей забастовки. Она меня поразила. Много раз я высказывался о бессилии правительства управлять таким сложным государством, но такого сюрприза, признаюсь, не ожидал.
И вот я начинаю читать немецкие газеты. День ото дня все хуже. Забастовки обнимают всю жизнь. Бастуют все, даже доктора и аптекари. Цены на жизненные припасы растут, но никому еще не приходит в голову забастовать есть, пить и любить. Я думаю, что пока не будет этой последней забастовки, то еще жить можно и праздновать страху нечего. Я жду, что забастовка устанет, что если человек еще желает есть, пить и любить, то и все остальное «образуется». В забастовке важно одному кому-нибудь не послушаться, одному преодолеть страх, эту обратную сторону воли, и дело пойдет на лад. Наблюдать жизнь по газетам вообще вещь очень недостаточная, а наблюдать русскую жизнь в иностранном городе и по иностранным газетам — совсем нельзя. Ничего понять нельзя. Кто кого дерет, сам черт не разберет. Правительства нет или оно совершенно потеряло голову; общества нет или оно головы не имело. Это ясно и это знакомо. Но есть что-то совершенно неясное во всем этом движении. Только чувствуется, что есть Таинственный Незнакомец, которого никто не знает, но который как будто распоряжается. Незнакомец этот — Революция. Революция начинается с того момента, когда перестают слушаться правительство. Она выступила в образе еще неясном. Ни лицо ее, ни глаза, ни руки, ни рост еще не определились явственно. Она кричит и шумит, как ветер, как буря, кричит и шумит, как стихия. Бедная, многострадальная русская жизнь так же стихийна, как эта Революция и так же трудно определить ее физиономию, как и физиономию Революции, то есть трудно определить деятельное содержание их, направление и силу, в особенности издали.
Появление высочайшего указа 17 октября было так же неожиданно, как всеобщая забастовка, но эта неожиданность была очень приятная, государь даровал конституцию. Конституция эта не только либеральная, но даже радикальная, по крайней мере, в своих обещаниях. Этим обещаниям я верил и верю от всей души. Я думал в Вене, что теперь конец волнениям, что революции нанесен большой удар, от которого ей будет трудно оправиться, так как конституция должна объединить массу русских образованных людей, которые ждали ее столько лет и были к ней приготовлены знанием конституционной жизни Европы. Первое впечатление венских газет было такое же. Кое-где слышалось опасение, не будет ли эта конституция с всеобщей подачей голосов сигналом для славян Австрийской монархии к искреннему сочувствию России, которая и в бедах своих и в своих поражениях все еще не совсем потеряла свой престиж. А теперь, при конституции, при всех свободах, она может смотреть прямо и честно в лицо всей Европе и сказать славянам: «Я — свободная страна. Я вступила на ту дорогу, где всякому племени, всякой народности есть полная возможность развиваться, не подчинясь немцам и германизации. Я закладываю величие всему славянскому племени, я закладываю основы славянской федерации. Близок тот день, когда славянство заговорит на своих родных языках, когда оно станет жить своей славянской душою и своим славянским разумом, когда осуществятся лучшие, законнейшие и благороднейшие его желания, столько веков угнетаемые чуждым народом. Разбитая и униженная варваром, остановленная в своем движении на Дальний Восток, я возрождаюсь у себя дома и Ближнем Востоке и зову своих братий к свободе и независимости, никому не угрожая, не стремясь к расширению своих границ, забывая завоевательную политику. Я возрождаюсь политической свободой, серьезными и смелыми экономическими реформами»…
Но эта речь вдруг прервана каким-то хаосом, какими-то дикими расправами, чуть не междоусобием. Революция точно испугалась конституции. Наборщики отказываются набирать высочайший указ, газеты не выходят, у правительства отнята возможность обнародовать высочайший указ и у народа — возможность с ним познакомиться, тогда как революционные прокламации печатаются где-то на ротативных машинах и продаются на Невском. Все это я читаю в венских газетах и удивляюсь с негодованием. «Поздно, поздно!» — вторят газеты через своих корреспондентов из Петербурга, которые дают свои разговоры с русскими людьми. Русское правительство довело страну до анархии, до полного разложения. Оно все собиралось и ничего не делало. Россия готова рассыпаться на свои составные части и стать снова жалким московским государством, которое может жить только при деспотизме и он тем скорее водворится, чем меньше будет пространство, занимаемое русскою отраслью славянского племени. Горе вам, варвары, горе вам, грубые, жалкие сарматы и скифы. Не возродиться вам, как не взойти солнцу с запада!
Я этого не понимал. Я меньше всего понимал это «поздно!» Никогда не может быть поздно для свободы, для развития, для победы добра над злом. Солнце сияет и за тучами; мрачные, серые, холодные дни могут следовать друг за другом, но солнце не умерло, не похолодело, оно продолжает гореть за этими тучами и прогонит их и оплодотворит землю. Так и свобода сияет, так и бессмертная народная душа живет и никогда не поздно ей зажить новой жизнью.
Не мы одни на земле. Мы умираем и умрем. У нас есть дети, которые будут жить и которым передадутся все блага свободной жизни. Не этою минутою живет русский человек. Минута мало значит. Есть следующий час, следующий день, и он возьмет свое и станет жить новым дыханием, новой атмосферой. Зачем вы говорите «поздно»? Зачем холодом и дикими вспышками омрачаете радостные дни? В чью руку вы играете, что вы готовите для родины? В какую бездну революции вы готовы ее низвергнуть, ее и без того исстрадавшуюся, измученную, обедневшую, полную горя и утрат от этой ужасной войны.
Так думалось в ужасном нетерпении выехать из Вены и добраться до Петербурга. Я чувствовал себя, как в одиночном заключении, бегал на телеграф, подавал депеши.
— Это в Петербург? — спрашивал меня телеграфный чиновник.
— Да, в Петербург.
— Но депеша едва ли дойдет. Вы напрасно потратите деньги.
— Почему не дойдет?
— В Петербурге революция.
— Никакой революции в Петербурге нет, — говорю я резким тоном.
Чиновник смотрит на меня с укором и начинает безмолвно считать слова.
Телеграмма идет 16 часов, несмотря на то, что она спешная. Я решаюсь ехать через Копенгаген и Стокгольм и еду в Берлин. Оттуда телеграфирую в Вержболово начальнику станции. Он отвечает, что движение началось. Слава Богу.
И я в Вержболове. Поезд наш полон. С нами едут те 32 человека, которые поехали на Стокгольм, потом в Або, где им дали за дорогую цену жалкое судно, на котором они 29 часов, между жизнью и смертью, качались на волнах, лежа на дровах или в душной маленькой каюте. Финская жестокость, бесцельная, грубая и глупая. Но в такие тяжелые времена незачем спрашивать о гуманности. Она улетает на небо, к Господу Богу, а у людей остаются только политические страсти. И вот борьба с ними представляет огромные трудности и требует особенного ума, выдержки, хладнокровия и таланта со стороны правителей.
С нами в поезде едет адмирал Небогатов. Все смотрят на этого маленького старичка. Он совершил большое путешествие и напомнил нам собою все ужасы Цусимского боя.
В Вержболове я в первый раз прочел «Новое Время» и в нем беседу графа С. Ю. Витте с земцами.
29 октября (11 ноября), №10645
DXCIV
Выйдем ли мы из этой анархии благополучно?
Непременно выйдем, если правительство будет поменьше говорить и побольше делать. А то оно очевидно увлекается общим потоком к изложению своих мыслей. Но правительство — не печать. Каждое слово его должно быть обдумано и сильно до такой степени, чтобы критика находила как можно меньше возможности его дискредитировать. В особенности это необходимо теперь, когда Государственная дума еще не собралась и когда правительство принуждено действовать без ее поддержки, без прений, без своей партии в парламенте. То же самое я должен сказать о «правительственных сообщениях», написанных так, что трудно догадаться, что это говорит правительство, верящее в свою силу, в свою искренность и законность. Напротив, эти «правительственные сообщения» говорят каким-то до того осторожным языком, с такими оговорками, что невольно напоминают знаменитую фразу Салтыкова: «С одной стороны нельзя не сознаться, а с другой стороны должно признаться».
Осторожность, конечно, вещь почтенная в человеке, который боится простудиться, оступиться, нажить насморк, а потому сверяет свои выходы на улицу и свои прогулки с термометром, барометром, доктором и другими обстоятельствами. Очень может быть, что и правительство должно поступать с подобною же осторожностью, но есть и огромная разница между осторожным человеком и осторожным правительством. Тот заботится только о своей собственной особе, до которой России нет никакого дела, а правительство обязано заботиться о великой стране, поверженной в анархию; оно обязано верить в свое призвание, обязано, иначе оно не правительство, а приятная компания. В государственный ум, энергию и выдающийся талант графа Витте я всегда верил и верю, а потому эти разговоры, которые то и дело опровергаются, эти «правительственные сообщения», написанные ощупью, кажутся мне в высшей степени странными. Когда я прочел в «Новом Времени» в Вержболове речь графа Витте к земцам, я не верил своим глазам и целую дорогу старался убедить себя, что тут что-нибудь не так. Я не мог допустить, чтобы он мог сказать, что «правительство бессильно внести успокоение в жизнь населения, ибо оно не пользуется доверием народа». Откуда это можно было узнать? Кто спрашивал у народа, доверяет ли он правительству или нет? Он даже этого вопроса не понял бы и удивился бы, зачем ему предлагается такой вопрос. Даже в парламенте, когда он голосованием выражает свое недоверие к правительству, дело обходится, собственно говоря, без народа, а приговор постановляется политическими партиями, представляющими якобы народ. Но у нас еще парламента нет, а единственная действующая политическая партия и, надо отдать ей справедливость, действующая смело и пускающая в оборот все средства, — это партия революционная. Она не щадит своих сил ни нравственных, ни матерьяльных, не жалеет своего здоровья, не заботится об удобствах своей жизни и не справляется о том, доверяет ли ей народ или нет. Она старается навязать, деликатно выражаясь, свои воззрения народу и уверить его, что он может сделать все, что захочет, а хотеть он должен то, чего хочет партия, выражающая ему свою любовь и готовность служить ему. Она вся в движении, в работе. У ней глаза горят, лицо пылает, льется горячая, искренняя, прямо от сердца речь. Она не думает об опасностях, которые ей предстоят, не рассчитывает математически осторожно свои шаги: она рассчитывает только ошибки своего противника, его слабость, его лицемерие, его неуверенность в себе и в своих агентах. И потому она борется с успехом, и потому она ставит свои непримиримые программы так резко, без всяких сделок и компромиссов. Всякое отступление считается позором. То ли было в правительстве? Где там было искать ума, таланта, энергии, преданности долгу, любви к родине? Были счастливые исключения, а общее правило…
Ах, да что б этом говорить. Лучше все это забыть и верить, что началась действительно новая жизнь, действительно новая Россия. Пусть же и правительство будет новым, пусть оно не просит, не умоляет о доверии к нему, а заставит себе доверять и слушаться. Между тем «правительственные сообщения» говорят о доверии, полуугрожая, полуодобряя, и доходят до удивительных по наивности афоризмов, как, например, в сегодняшнем: «правительство не может допустить мысли, чтобы русский народ или какая-либо его значительная часть сознательно предпочитали беспорядки порядку, внутреннее междоусобие мирному правомерному развитию». Это так верно, что, кажется, и говорить таких вещей нечего. Я не понимаю также, зачем эти жалобы: «враждебные отношения крайних политических партий и безучастие умеренных, которое проявилось при обращении правительства к активной их поддержке, создают положение вещей, неблагоприятное для введения реформы». Как журналист, я еще могу активно поддерживать правительство, печатая соответствующие статьи. Но как я могу поддерживать правительство, будучи частным человеком? Какие для этого у меня средства? По-моему, решительно никаких. Разве написать адрес правительству вроде тех адресов, которые писались князю Святополку-Мирскому и которые он клал в карман свой или в архив для своего потомства? Но согласитесь, что это было бы наивно. Участвовать в митингах или их собирать? Я не думаю, что это верное средство, да и для этого надо иметь ораторский талант и особенную энергию. А «умеренные партии» тоже в очень умеренной степени обладают всем этим и слишком заняты ежедневным трудом и заботами о своих делах и своей семье.
Я не хочу этим сказать, что равнодушие умеренных очень хорошо. Напротив, это очень нехорошо. Но у нас не было политической школы, и умеренные не умеют и не знают, как приняться за дело, как и где высказать свои убеждения. У себя дома они, может быть, горят негодованием, ругаются, волнуются, возмущаются стачками, и в то же время подчиняются насилию, не имея никакой организации. Буржуазия на Западе воспитана политически и знает по опыту, где раки зимуют и к чему ведут забастовки и революции. У нас еще буржуазия недостаточно напугана и, главное, не умеет еще определять и отстоять свои убеждения в том хаосе, который наступил и который прежде всего поразил и парализовал правительство. Обращаясь к обществу, правительство само должно быть твердо и всесильно и не подавать ни малейшего повода к сомнению в этом. Между тем, это сомнение может явиться, ибо правительственное сообщение говорит, что «при отсутствии в самом населении ярко проявленного в этом направлении настроения (уважение жизни, собственности и личных прав других и повиновение законности и порядку) никакие лучшие намерения правительства не могут возместить этот недостаток, и гражданская свобода, дарованная в принципе, может остаться вне всякого житейского применения».
Как же это так? Если правительство само сомневается в своих силах привесть в исполнение свои «лучшие намерения», то откуда же явится у населения чувство свободы, законности и порядка. Если население так долго не имело этой свободы, то каким образом оно поймет, что сама свобода рождается только из послушания законам. Да и где эти законы, на которые могло бы опираться население? Ведь они еще в «лучших намерениях правительства», а не на самом деле, не в жизни, они еще «вне всякого житейского применения». Не жестоко ли со стороны правительства, которое проговаривается о своем бессилии привести в действие лучшие свои намерения, не жестоко ли с его стороны так выражаться. Повторяю: оно обязано быть сильным, властным, верующим в себя и в народ. Обязано!..
Вообще, грешный человек, я считаю подобные «правительственные сообщения» довольно бесполезными, как и обращение Святейшего Синода к «чадам православной греко-российской церкви». Уж если писать к этим чадам, то пусть это будет святое вдохновение, пусть слова и мысли жгут сердца людей, вызывают слезы умиления и покаяния, настроение бодрости, возвышенных дум и любви к отечеству. Если говорить к чадам, то говорить, как Петр Пустынник, проповедовать, как Златоуст, как Савонарола, этот флорентийский монах, сожженный на костре за свою проповедь современниками и прославленный потомством. Все холодное, рассудочное, компилятивное, как бы ни было оно стройно написано, едва ли может отозваться в сердцах тех людей, к которым оно обращено, иначе, как глас вопиющего в пустыни. Вообще на страстные возбуждения можно действовать только страстным обращением, пророческим глаголом, пылающей верою и пылающим светильником любви. Об этом прежде всего надо помнить в такие смутные эпохи, как наши.
Я, однако, увлекся, кажется, в сторону и забыл сказать, что я начал говорить о речи графа Витте по апокрифическому тексту «Нового Времени». Подлинный текст напечатан был в «Русских Ведомостях», но этот текст есть не текст, а только сухое, официальное изложение речи. Я того мнения, что апокриф лучше, красивее, живее и больше напоминает председателя Совета министров, чем якобы верное изложение «Русских Ведомостей». Граф Витте мог сказать и об «утлой лодочке» Государственной думы, в которую он готов сесть, и о необыкновенной трудности своего положения среди грозы и бури русского моря. Это глубоко искренне и верно. Он не брезгает этой «утлой лодочкой», не брезгает не потому, что когда-то Цезарь сказал лодочнику: «Ты везешь Цезаря и его счастье!», а потому, что люди, против которых теперь приходится бороться, разъезжали в очень «утлых лодочках» по России, приготовляя революционное движение. Что за борец, который ждет броненосца, чтобы на него сесть. Борец тот, кто не боится моря, кто «силы духа своего перед лицом его поверил», как говорит поэт. К тому же броненосец может не доплыть до пристани так же, как и утлая лодочка. Земцы советуют графу Витте совсем не собирать Государственной думы. Это гг. Головин, Кокошкин и Львов. Им необходимо Учредительное собрание. Они хотят расположиться совсем комфортабельно на этом броненосце, чтобы не подвергаться никаким случайностям на «утлой лодочке». Но броненосец так же способен погрузиться в море, как утлая лодочка, даже скорее. Мы видели в эту войну, как гуляли по морю миноносцы, эти лодочки, и как мгновенно погибал броненосец со всем своим экипажем. Государственная дума, будь она созвана немедленно, дала бы России и правительству крепкую опору на этом взбудораженном океане. Напрасно земцы говорят, что Государственная дума «не может успокоить страну». Я не понимаю, почему Учредительное собрание обладает способностью успокоения и почему гг. Головин, Кокошкин и Львов такие пророки, что их авторитет равен авторитету других пророков, присутствовавших при Преображении, Моисея и Илии? Вообще пророчество дело сомнительное, и я с полным правом могу назвать еще нескольких пророков, умных и талантливых, которые скажут, что единственное спасение совсем не в Государственной думе и не в Учредительном собрании, а в демократической федеральной республике, которая может собрать не только Россию, но все славянство и часть Азии. Если правительство будет слушать пророков вместо того, чтоб возбудить в себе пророческий дух, которому бы поверили, то мы не скоро попадем в мирную пристань. Конечно, и в этом можно найти утешение: Россия делает опыт анархического государства, без власти и без законов, как вещей совершенно ненужных для мирного жития. Анархизм признает, что законные права — самая вредная нелепость, и завоевывает себе в Европе много симпатий. Его перестают вышучивать, начинают анализировать серьезно разные системы его. России остается только быть смелой и попробовать осуществить его на деле. Почва очень подходящая. У нас ни истории, ни культуры, ни образования, а всеобщая трусость перед теми, кто палку взял. Мы уж пробуем анархизм. Прошедшая забастовка дает право думать, что стоит ее только повторить и анархизм воцарится. Никто никого не слушает и у всех страстное желание не только самоуправляться, но и управлять. В стране, где чиновники составляют союзы, где почта, телеграф, железные дороги, аптеки, педагоги и дети бастуют безнаказанно за неимением законов, для анархизма гораздо более почвы, чем для творчества земских пророков, у которых ровно ничего нет, кроме такого броненосца, как Учредительное собрание со всеобщей подачей голосов, существующей даже в Соединенных Штатах каких-нибудь 60 лет из 116 лет исторического существования этой республики. Анархизм — новое учение, а те учения, которыми набиты головы земцев, стары, как сапоги Иоанна Безземельного. Что выйдет из Учредительного собрания, никто не может сказать. Может быть, республика, может быть, анархия. Но добрая свобода может выйти и от Государственной думы с ее законодательными полномочиями. Не лучше ли попробовать соединиться около нее и начать работу, вместо того, чтоб настаивать на Учредительном собрании и тянуть дело без конца, с риском еще более усложнить и без того сложное положение дел.
Впрочем, все к лучшему в этом лучшем из миров.
30 октября (12 ноября), №10646
DXCV
Надо ли думать, что общество, привыкшее целые столетия к опеке власти, готово продолжать ползать на брюхе перед властью революции, которая спешит его подчинить своим повелениям, или надо думать, что общество готово ходить прямо, ни перед кем не ползая на брюхе и повинуясь только законам?
Ставлю эти вопросы скромно моим читателям, ставлю их в это жуткое время революции, которая показывает только цветочки, а ягодки еще впереди.
«Всеобщая политическая забастовка», предписанная «Советом Рабочих Депутатов», не удалась. Можно даже сказать, что она потерпела поражение тем более чувствительное, что почти не было ни выстрелов, ни холодного оружия. Конечно, эта забастовка навредила все-таки достаточно народу и обществу, запугивая, останавливая кое-где движение на железных дорогах, увеличивая народную голодовку, закрывая аптеки и проч. и проч. Но послушания уже не было. Магазины торговали, конки ездили, Николаевская дорога и Царскосельская перевозили пассажиров, хоть и неправильно, электричество горело. Министерство путей сообщения старалось не прекращать движения на железных дорогах, и в известной степени ему это удалось. Москва совсем не послушалась, и тамошний стачечный комитет даже объявил «провокаторами» тех «граждан», которые приходили объявлять забастовку. Газеты продолжали выходить в Москве, тогда как в Петербурге наборщики бросили занятия по первому приказу, вместо того, чтоб собрать сходку и обсудить этот приказ пролетарского правительства — так ораторы называют его на митингах. Я думаю, что если Москва, которая вообще сыграла большую роль в освободительном движении, будет продолжать вести дело самостоятельно, не справляясь с Петербургом, то в близком будущем она совсем оставит за собой Петербург и низведет его на степень американского Вашингтона, а сама приобретет такое же значение в Русской империи, какое приобрел Нью-Йорк в Америке. По моему мнению, теперь очень многое зависит от Москвы и народа, который ей близок. В Петербурге правительства нет, ибо правительство, которое дважды допустило «всеобщую политическую забастовку» и не имело средств ее остановить, — какое же это правительство?
Замечательно, что Совет рабочих депутатов начал себя вести, как настоящий деспот. Запретив все газеты, кроме официальных, «Правительственный Вестник», «Русский Инвалид» и «Ведомости Градоначальства», он сам стал издавать свою официальную газету «Известия Совета Рабочих Депутатов». Г. Минский, редактор «Новой Жизни», ходатайствовал перед Советом о том, чтоб его газете позволили выходить, так как она вполне разделяет убеждения пролетарского правительства. Совет признал, что это было бы «желательно», но так как тогда трудно удержать выход «Нового Времени», «Света» и других газет, то он ходатайство г. Минского отклонил. Совет опубликовал об этом и это делает честь его откровенности, но несомненно, что он поступил совершенно по-свински, запретив все газеты. Очевидно, он боится свободной печати и желает действовать как самое деспотическое правительство, терроризируя наборщиков и журналистов. Правительство решилось остановить официальный орган своего могущественного соперника, проникло в типографию, где он печатался, и арестовало листы. Но нумер все равно через день вышел. Нумера продавались на улицах по 20 коп. Надо сказать, что этот официальный орган пролетарского правительства — очень откровенный и, конечно, нисколько не похож на скромный и застенчивый «Правительственный Вестник». Он не думает в чем-нибудь оправдываться или оправдывать свое правительство, чем так наполнен скромный и застенчивый «Правительственный Вестник», где начиная с графа Витте и кончая адмиралом Бирилевым, все министры пишут оправдательные статьи, как школьники, боящиеся наказания. Орган Совета рабочих депутатов рубит с плеча, ругается, хвастается, клянется во что бы то ни стало окончить победоносно борьбу с правительством и грозит ему решительным сражением. С литературной стороны этот орган довольно бездарен, а стихи, которые он печатает, совсем безграмотны. Но орган смелый и действует нападая, а не оправдываясь и виляя. Он знает, что оправдываться никогда не следует в борьбе, ибо противник всегда сумеет употребить в свою пользу такие документы. Не отступать, не оправдываться — такова всегда была тактика революционных борцов. Они всегда правы, что бы ни делали, хотя бы преступления, что бы ни говорили, хотя бы величайшие глупости. Глупость прославляется точно так же, как преступление.
Я говорил много раз, что русская революция непременно будет сопровождаться пугачевщиной. Она уже есть и начала разгораться. Я слышал, что в Пензенской губернии в народе болтают, что где-то стоит царь Никита с 12 тысячами войска. По деревням разъезжают генералы, конечно, переодетые революционеры. Сыграть роль российского генерала несравненно легче, чем сыграть роль Гамлета на сцене. Самозванство — излюбленное русское чадо. По всему этому, я от всей души желаю русской революции провалиться и рад, что вторая «всеобщая политическая забастовка» не удалась, но все-таки прекращение ее последовало по указу Совета рабочих депутатов. Если последует третья, то народ примется избивать забастовщиков. Вред забастовок хорошо резюмируется первым политическим клубом, и необходимо в этом направлении работать при помощи газет и брошюр.
Говорят уже о надвигающейся почтово-телеграфной забастовке. Почтовые и телеграфные чиновники давно жалуются на свое слишком скромное содержание, и вот они грозят забастовкой не по экономическим только, но и по политическим мотивам. Готово ли правительство встретить эту угрозу? Нигде в мире ничего подобного нет, но беда в том, что у нас и манифесты пишутся так же наскоро, как журнальные статьи, и дают повод толковать их так или иначе даже людям совершенно добросовестным. Драгоценные права свободы, дарованные государем, не сопровождались никакими комментариями, никакими объяснениями. Созыв Государственной думы откладывается ad Calendas Graecas, тогда как этот созыв необходим немедленно и его замедляет и правительство и общественные классы своими требованиями. Без Государственной думы жить нельзя.
Со стороны правительства большая ошибка в том, что оно все обещало и дало фактически свободу печати, совести, сходок и проч., но забыло дать законы. Старый порядок манифестом разрушен, а новому как будто самому предоставляется устроиться, как ему угодно. Гремят витии, провозглашаются автономии провинций, социальная республика, происходят мятежи в войсках и населении, бьются на улицах, горят усадьбы, льется кровь, закладывается ненависть между народностями и классами населения, разгорается, одним словом, революция и останавливает ее только народ взрывами своего гнева, буйства и зверства, а правительство… в отпуску.
Я вот какого мнения:
Правительство графа Витте должно бы издать ясную и точную конституцию, обставя ее законными гарантиями. Тогда оно само могло бы явиться властным, опираясь на нее. Теперь же выходит так, что правительство дало все средства революции не только для пропаганды, но и для действий и ровно ничего не дало ни обществу, ни народу. Мало того, оно лишило общество и народ и того, чем они пользовались при старом режиме: известной безопасностью дома и на улицах, возможностью спокойно работать, пользоваться железными дорогами во всякое время, почтою и телеграфом, электрическим освещением, водопроводами и проч. Теперь у нас ничего этого нет. Рядом с законным правительством распоряжается самозваное, и его слушают больше, чем законное, которое как будто предпочитает разговоры делу и как будто хочет подвергнуть общество экзамену: достойно ли оно свободы? Может быть, оно совсем недостойно? Тогда отчего же не взять того, что обещано? Пусть общество как можно больше напугается пугачевщиной, насилиями забастовок, разорением, грозою распадения государства и тогда оно ляжет на брюхо и возопиет к правительству графа Витте: «Спаси нас и помилуй!» И оно тогда неповоротливо станет действовать по-старому. А пока экзамен, и общество дрожит, как мальчишка, которого не столько учили, сколько секли, приговаривая: «не рассуждай, дурак».
Это с одной стороны. Это — мудрость правительства. А с другой стороны общество может вопросить: да, может быть, и само-то правительство так неопытно, так недальновидно, так мало понимает Россию и свободу, так невежественно вообще в науке управления, что не знает, что делать, и собралось в Совет министров только для того, чтобы подучиться. Когда оно выучится — неизвестно. Но будет учиться боками России, революцией и пугачевщиной, и эта наука уж очень дорого стоит России. Имеет ли правительство ясные понятия о том, что наука управления в конституционном государстве — наука очень трудная и, быть может, не под силу уже старым и стареющим чиновникам, умеющим управлять только самодержавно? Не придется ли опять обратиться за море, к варягам, чтобы они прислали нам министров, которые умели бы править…
Я писал это сегодня до 5 часов утра. В третьем часу пополудни человек разбудил меня и сказал мне, что у нас «в типографии неблагополучно».
Когда он мне рассказал, что моей типографией овладели революционеры, набрали там №7 официальной газеты пролетарского правительства и, отпечатав его в 30 т. экз., спокойно ушли, я сказал: «Молодцы!» Я недаром хвалил в прошлом письме их энергию и самопожертвование и старался поставить их в пример правительству графа Витте.
Я против насилия во всяком случае. И в данном случае я против насилия этой группы решительных людей. Свобода печати и неограниченное право разъяснения и убеждения словом и пером — вот поприще, где справедливость должна победить. Но подстрекатели и предводители рабочих думают взять насилием. Раз они вступили на путь насилия, раз они взяли то же оружие, которое могут взять и их противники, они этим путем, думая восторжествовать, могут погибнуть. Употребляя насилие, они естественно должны мириться с насилием встречным, а область правды и справедливости остается у высшего разума, куда не проникает их бессильная, хотя и смелая мысль.
Случай в моей типографии, в сущности, совершенно ничтожный и напоминает комедию Островского «Горячее сердце», где купец «в пьяном восторге» скупает костюмы разбойников, наряжается сам и наряжает своих знакомых в эти костюмы и делает разбойничью засаду. Это не трагедия, а водевиль, и все эти протоколы и допросы «после факта» имеют яркую комическую окраску и были бы очень смешны на сцене. Но от смешного до трагического один шаг. Я даже думаю, что меньше, ибо комедия очень легко обращается в трагедию. Поэтому и этот ничтожный случай поучителен, ибо он доказывает то же отсутствие правительства, ту же его бездеятельность.
Если завтра эти «молодцы» арестуют графа Витте и посадят его в казематы Петропавловской крепости вместе с собственными его министрами, я нимало не изумлюсь. У него есть собственные министры, как у газет — собственные корреспонденты. Арестовать его и его собственных министров совсем не трудно, и если революционеры к этому еще не прибегли, то единственно потому, что не находят это нужным.
Нас испортил романтизм, и мы воображаем, что перевороты, смены одного правительства другим, совершаются при помощи особенных тонкостей и сложных интриг. На самом деле все это совершается очень просто. Припомним хоть наш XVIII век, когда подобные события совершались очень несложно и очень просто небольшими группами решительных людей.
Так-то, господа министры. Необходимо помнить, что человечество так живет, что важные перевороты совершаются внезапно и гениальные открытия делаются так неожиданно, так случайно, что еще вчера никто о них не думал.
8(21) ноября, №10650
DXCVI
Пугачев пришел. Он гуляет по России свободно. Одни называют его царем Никитой, другие — царем Захаром, который, «весь в орденах, жалует землями, и у него несметное войско», третьи величают его революцией, четвертые — черной сотней, пятые — красной сотней, шестые — аграрным бунтом, каждый по-своему. Как у лернейской гидры было много голов, так и у Пугачева много голов и каждая голова носит особое название. Для лернейской гидры нашелся Геркулес. Но Геркулес был сыном Юпитера и Алкмены, жены царя Амфитриона. Ребенком он задушил змей, взрослым он совершил множество подвигов, убил немейского льва, лернейскую гидру, царя Диомеда, который питал лошадей человеческим мясом, овладел золотыми яблоками Гесперид, вычистил конюшни царя Авгия, победил амазонок и взял в плен их царицу и проч. Божественная и царская кровь текла по его жилам, и он побеждал и силою, и умом, и ловкостью.
Где у нас Геркулес? Я об нем не слыхал, и вы не слыхали. Нет его в правительстве, которое составлено из людей пожилых или стариков, теряющих или потерявших свои силы, тогда как нужны молодые и свежие силы. Никакого подобия ему не видать и на московском земском съезде, который, по-видимому, представляет наилучшую часть России, сливки если не образованной, то, по крайней мере, интеллигентной России. «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь» — это до сих пор верно. На съезде были горячие ораторы, пылкие темпераменты, были и благоразумные люди, но не было государственного человека, не было человека, который победоносно говорил бы и увлек бы Россию, а не съезд, который страстно аплодировал революционным выходкам и холодно встретил разумную речь Караулова, который за политическое преступление просидел 24 года в заключении. Съезд не внял и речи князя Е. Трубецкого, который предлагал заменить слово «завоевание» (манифеста 17 октября) словом «достояние» или «приобретение». Эта благородная деликатность не понравилась, а она совершенно отвечала тому характеру, которым отличался покойный его брат, князь С. Н. Трубецкой. Известная речь этого безвременно почившего человека государю была явлением почти беспримерным. Со времен декабристов никто так свободно, просто и благородно не говорил с государем. Это была та изящная простота правды, та благородная независимость, ни для кого не оскорбительная, но сильная и непреклонная, которая завоевывает сердца. В смутные времена вызывающим, оскорбительным речам следует противопоставлять именно такие речи, как речь покойного. Они только могут соединять людей свободы и порядка, которые не желают революции и неизменных ее спутников, грабежей и убийств. Его брат, одушевленный тем же деликатным чувством, обратился к съезду. Но съезд предпочитал аплодировать страстным воззваниям, хотя бы они были произнесены на ломаном русском языке. Ему нужен горячий темперамент, истерический крик, революционные приемы, а не разум, не спокойствие убеждений. Удивиться можно было бы, что съезд не принял «учредительного собрания», но принял прямую, тайную и проч. систему выборов, если б не было ясно, что эта система выборов сама собой приведет к Учредительному собранию и его последствиям. Замечательно, что эту систему отвергал Драгоманов, известный публицист-хохломан и эмигрант, человек превосходно образованный, с которым едва ли кто из членов съезда мог сравниться по своей приготовленности к политической деятельности и ясности своих политических взглядов. Он считал эту четырехколенную выборную систему «наиболее справедливой по идее, но на практике, при выборах депутатов от известных, часто пространственных округов, она обращается в представительство чисто механического, часто зависящего от ловкости избирательных комитетов, а то и от административных давлений большинства. Вследствие этого в большей части западноевропейских государств, где существует эта, по-видимому, столь демократическая система, собственно демос, а особенно крестьяне, представлен в парламентах гораздо меньше, чем даже при классовой системе выборов». Что ж, принимая эту систему, делает союз? Против кого он работает? Что прячется под этой «справедливой по идее» системой?
Драгоманов не кто-нибудь. Он едва ли не первый выставил федералистическую систему для России и разобрал в своей книге[21] отношения Польши к Украине и России. Он первый определил те автономные области, из которых должна состоять Россия, и о политической свободе повторял слова Прудона: qui dit: la liberté dit fedération, ou ne dit pas rien. Он считал автономию Польши возможной только одновременно с автономией других областей империи. Читая отчеты о московском съезде, я видел, что с книгой Драгоманова никто не знаком, а на съезде говорили страстно об этой автономии. Вероятно, только один г. Врублевский знаком с этой умной и интересной книгой. Отдавая ей справедливость, я не хочу сказать, что вполне с нею согласен. Я хочу только сказать, что кто говорит об автономии Польши, для того обязательно знать эту книгу. Мне было смешно читать слова князя П. Долгорукова, который чуть не клялся, что в Польше нет ни одного сепаратиста, точно он прибегал к опросу всего населения. Такими положениями никого не убедишь. Надо самому быть русским националистом, чтобы почувствовать польское сердце. Политическая необходимость не значит отказ от своей независимости и от своей истории.
Но я увлекаюсь в сторону. А Пугачев ходит по России и действует. В Севастополе бунт матросов. Пугачев объявляет войну не правительству только, а всей России, войну ее свободе и независимости, войну ее благосостоянию. А на съезде г. Петрункевич занимается тем, что «политические убийства» он понимает, а «политические грабежи» не понимает. «Воля ваша, я этого не понимаю». Еще бы! Эти господа думают, что у революции перчатки на руках, что она ходит во фраке, спорит по целым дням, то с министрами, то с представителями земств и городов, что она ищет правового порядка, как джентльмен, не теряющийся в высокопоставленных кабинетах и гостиных. Но она, властная, честолюбивая, повелительная, не разбирающая средств, не жалеющая крови и права собственности, она находит себе союзников в черной массе, в босяках, в разгулявшемся буйном солдате, она дает приказ, никем не писанный, но всеми слышимый, как звон колокола, бьющего в набат. Она посылает низы к верху и верхи к низу, посылает, как восточный деспот послал раба к ядовитому дереву — он принес яд владыке и умер сам. Она любит жизнь со всей страстью молодости и разгула и хочет жить, хочет ее завоевать, хотя бы ценой своей жизни, своими страданиями. Она каким-то верхним чувством, как чутьем лягавой собаки, узнает своих приверженцев и ловит их на словах, на намеках, на недоговоренных речах и, не давая одуматься, тащит за собой — и люди идут. Это Дон Жуан между женщинами, обольстительный, страстный, за которого умирают, потому что он дает страсть и пыл. О, вы еще не испытали, что такое революция русская. Она еще в начале, она еще только когти показывает, но надо помнить, что это лернейская гидра, и Геркулес, который может ее победить, это вся Россия, все общество, весь русский народ. А вся Россия, что она делает? Она едва говорит, ее не слышно, не слышно ее свободного, мужественного голоса, — все вразброд, кто куда, кто прячется, кто трусит, кто бежит за границу или посылает туда капиталы, кто рассчитывает на власть, а власть говорит, говорит, говорит, но доселе не договорила, где она, что она, с кем она, не летает ли она за облаками?..
Бабушка, спустись вниз, а то, пожалуй, совсем улетишь…
13(26) ноября, №10655
DXCVII
Граф Витте сделал ошибку, послав телеграмму г. Петрункевичу, с воззванием к его патриотическому чувству. Это такая же ошибка, как его телеграмма к рабочим с обращением «Братцы!». Рабочие, или вернее их публицисты, отвечали министру с грубоватым, но колким остроумием. И с телеграммой к г. Петрункевичу случилось нечто… тоже остроумное. Г. Петрункевич дал телеграмму г. Соболевскому, редактору «Русских Ведомостей», и взял с него слово не печатать ее, а тот напечатал. Г. Соболевский — человек совершенно порядочный, и такое нарушение слова мне кажется несовместимым с его репутацией. Но и г. Петрункевич — тоже совершенно порядочный человек и не станет говорить неправду. Брут — честный человек, как говорит Антоний.
Прения, возбужденные по этому поводу г. Милюковым, вертелись главным образом около решения задачи: почему граф Витте обратился к патриотизму г. Петрункевича, а не к патриотизму съезда? Ораторы как будто были обижены этим предпочтением одного члена съезда всему съезду. А этот предпочтенный не удержался от выражения своего приятного чувства редактору газеты. Они насмешливо пошушукались, и г. Соболевский, давая слово, очевидно, так же не понял г. Петрункевича, как г. Петрункевич, получая слово, не понял г. Соболевского.
— Граф Витте заискивает? — сказал Соболевский.
— О, давно уж он в этом упражняется, — отвечал г. Петрункевич.
— Надо подождать… Пусть еще помучается и походит около вас, — сказал г. Соболевский.
— Но, вы, пожалуйста, не печатайте телеграммы, — сказал г. Петрункевич, отдавая телеграмму г. Соболевскому.
— За кого вы меня принимаете? — сказал г. Соболевский, отправляя телеграмму в типографию.
Это мое предположение, что два рыцаря так говорили. На самом деле, они, вероятно, клялись на мечах не выдавать слабость графа Витте, но случилось недоразумение…
Под влиянием прений, г. Петрункевич не нашел ничего лучшего, как запросить по телеграфу графа Витте, как понимать его телеграмму: относится ли она к съезду или только к нему, г. Петрункевичу? Странный вопрос и весьма запоздалый. Если г. Петрункевича мучили сомнения, надо было телеграмму не давать г. Соболевскому, а спросить у графа Витте. Не знаю, что ответит граф Витте: пожелает ли он «исправить» свою ошибку и польстить съезду своим утверждением, что, конечно, он не делал никакой тайны из телеграммы и адресат мог поступить как хочет, или он захочет сказать всю правду, т. е. что телеграмма назначалась адресату, а вовсе не съезду, что это был просто министерский флирт. По-моему, надо сказать правду, нимало не стесняясь, ибо в противном случае съезд все равно не поверит, а граф Витте публично скажет неправду. «Мы его поймали и обнаружили», — скажет съезд…
А что такое этот съезд? «Съезд — не учреждение, а правительство не находится в безнадежном положении, чтоб принимать все его указания»! Это сказал г. Милюков, не выразивший желания отправлять к премьеру делегацию и оставшийся по этому в меньшинстве съезда.
Что «съезд — не учреждение» — это бесспорно. Съезд — самозванец. Я употребляю это слово не в обидном смысле. У России было множество самозванцев, и нельзя сказать, чтоб они не двигали общество вперед, не способствовали его самосознанию. Самозванство — большая сила в государстве самодержавном, где от воли одного лица так много зависело, что и всякое другое лицо, выступив, как власть, хотя без малейшего на это права, являлось революционером, врагом законной власти и знаменовало собою переход к другому порядку вещей или подавало к тому надежды. Оно возбуждало в стране «политическое движение» и даже «освободительное» движение, иногда очень яркое, как, например, при Лжедмитрии I или Пугачеве. Даже самозванец Гоголя, И. А. Хлестаков, принес немало пользы русскому «освободительному» движению, представив зрелище надувания такого замечательного государственного человека, каким был Ан. Ант. Сквозник-Дмухановский. Другой государственный человек, князь Святополк-Мирский, не столь популярный, но столь же двойственный по фамилии, как и Антон Антонович, был надут петербургским самозванным съездом точно так же, как Сквозник-Дмухановский Хлестаковым и так же бессильно жаловался и скорбел. Московский съезд играет совершенно такую же роль. Это — коллективный самозванец, признанный частью населения как власть, и полупризнанный правительством, которое входит с ним в переговоры и даже боится всемогущего «революционера». «Я революционер, и все сидящие здесь революционеры», — гордо сказал г. Петрункевич — «И я революционер, — воскликнул г. де-Роберти — я всегда был революционером». Неужели? Господи, как страшно! Всегда был революционером, а никто этого не знал. Но я бы спросил:
— Отчего, гг. революционеры, вы не принимали никакого участия в липецком или воронежском съезде революционеров в конце царствования императора Александра II? Может быть, вы или вам подобные дали бы тем съездам совершенно иное, более спокойное и более авторитетное значение? Может быть, вы своим влиянием, своим общественным положением, связями с бюрократией, родством, богатством дали бы тогдашнему революционному движению иное направление, иной смысл. Может быть, мы тогда уже получили бы конституцию. Отчего? Не созрели вы, что ли? Некоторые из вас, конечно, были детьми, но многие были в то время в полной поре мужества. Но я обращаюсь не столько к личностям, сколько к той среде вашей, которая давила тогдашнее революционное движение.
Впрочем, зачем это? Признаю, что это лишнее. Революционеры так революционеры. Название это получило совсем иное значение: это — не право в крепость и в одиночное заключение, как это было недавно, когда «революционеры» съезда молчали. Называть себя революционерами теперь можно так же спокойно и гордо, как вчера называть себя тайными советниками. В самом деле, кто не революционер, тот реакционер. Назвать себя либералом в настоящее время — на это надо мужество, а назвать себя революционером — значит иметь право на место губернатора и министра. Но вот на что я хотел бы обратить внимание гг. «революционеров» съезда. Среди нас, благодаря высочайшей амнистии, находятся «настоящие» революционеры, сидевшие в крепостях, в ссылке, на каторге, в каторжном одиночном заключении в течение длинных, страшных лет. Перед ними следовало бы вам, господа «революционеры», быть поскромнее и не хвастаться этим титулом. Если этот титул почетный, то он по праву принадлежит только этим пострадавшим и действительно смелым, а не вам. И для народа, для спокойной части населения хвастаться вам тоже не следовало бы, ибо слова «революционер» и «революция» у нас далеко еще не получили своего правильного, политического значения не только в массах, но и в самом обществе.
Итак, будучи самозванным, московский съезд не имеет никакого права рассчитывать, что его резолюции обязательны для правительства. Они так же необязательны, как и постановления крестьянского съезда, как постановления митингов, как статьи журналистов, тоже, милостию Феба, самозванцев.
Какое право у съезда считать за собою больше прав на послушание со стороны общества и народа и со стороны правительства, чем у митингов, Совета рабочих депутатов и журналистов? Мы можем собраться и постановить тоже резолюции, и наши резолюции отнюдь не будут хуже и менее искренни или менее исполнимы резолюций съезда уже потому, что все эти съезженские резолюции давным-давно высказывались в разных органах журналистами, которые и воспитали членов съезда и теперь дают им опору.
«Члены съезда — граждане России, дети ее», — восклицает с пафосом на съезде г. Петрункевич. Совершенно верно, но это плохое доказательство своих прав. И Пугачев — сын России, и журналисты — дети ее, как социал-демократы и социал-революционеры, так и конституционалисты-демократы или аристократы. У всех есть свои идеи, свои стремления и цели, свои резолюции, но все это разбросано, не собрано в одно государственное тело, не увенчано короной народного выбора и доверия.
Если б правительство графа Витте стало исполнять резолюции разных съездов «немедленно, до созыва Государственной думы», как этого требует съезд, то это было бы тоже самозванное правительство, правительство авантюры, для которого Россия — только арена для «замыслов каких-то непонятных»…
О резолюциях съезда скажу завтра.
15(28) ноября, №10657
DXCVIII
Если я сравнил князя Святополк-Мирского с Сквозником-Дмухановским, а московский съезд — с Хлестаковым, то тут, кроме лестного, ничего нет. Городничий — очень умный человек, и Хлестаков — умный человек. Городничий ругал его от злобы, а критика считала его легкомысленным по недоразумению. Принять роль ревизора, важного лица из Петербурга, и исполнить ее блистательно, разве это глупость? Влюбить в себя городничиху и дочку, очаровать всех и всем внушить страх и уважение — разве для этого не нужно ума? Сделаться разом министром финансов и собрать подати с чиновников и купцов — разве это глупо? Охарактеризовать несколькими чертами всю петербургскую бюрократию, изобразить, как ищутся министры и как его отыскивали 30 тысяч курьеров — да это даже гениально. Самая фамилия Хлестакова происходит от глагола «хлестать». Он отхлестал бюрократию навек и уехал. Поверьте, что если б московский съезд сделал столько, сколько сделал Хлестаков, я бы ему от всей души аплодировал. Хлестаков сразу стал властью, хотя сначала так трусил перед городничим, что заговорил, что не позволит себя высечь. Московский съезд очень хорошо знал, что правительство его не высечет и тем не менее он ни на один день не умел сделаться властью.
Он заседал «в дыме пожаров», насилий, грабежей; гибли состояния, бежали владельцы, горели усадьбы, уничтожался скот; социал-революционеры и социал-демократы, по их собственному признанию, возбуждали крестьянскую революцию и «конфисковали» все, что можно было унести и увезти. Бунтовали матросы, бездействовала власть, директоры гимназий становились на колени перед гимназистами, учителя терпели побои, родители брали детей и уезжали за границу или хватали себя за голову, охали и кляли правительство. Вообще стояла и стоит невообразимая смута, точно мы живем в царствование Василия Ивановича Шуйского, когда одно правительство было в Москве, а другое — в Тушине и когда в России жгли, грабили, убивали, овладевали поместьями, вешали помещиков, насиловали их жен и дочерей и каждому предоставлялось защищаться, как умеет. А съезд любовался собою, своим красноречием, наслаждался рукоплесканиями и объявлял, что в декабре он приедет на гастроли в Петербург, как Станиславский с пьесой Горького. Побрякушкам он жертвовал своей мыслью, своим русским чувством. Очень возможно, что среди его членов есть талантливые люди, есть люди с задатками государственного ума, но их уносило революционное течение или отбрасывало. Когда раздавалось разумное слово, Союз кричал: «Довольно! Довольно! Молчать!» Он объявлял себя революционером, а «настоящая», революция действующая говорила ему полупрезрительно: «Послужи у меня на запятках!»
Почему же он не сделался властью, т. е. авторитетом, к которому с жаждою законной свободы, правового порядка, прислушивалась бы вся страна? Да потому, что он вел себя, как «шумный» революционер и после 17 октября, потому что во время всех этих ужасов он проходил мимо их,
Как разрумяненный трагический актер, Махающий мечом картонным.Где правительство? Их два: одно — правительство графа Витте, другое — Совета рабочих депутатов. Почему никто не слушается правительства графа Витте, т. е. Совета министров (об этом после), и так усердно слушаются Совета депутатов, который диктаторствует с замечательной энергией вот уже больше месяца. Совет рабочих депутатов — не самозванец, ибо он — выборный, он — приказчик рабочих, если не народа, тогда как Съезд состоит из самоизбранных, из российской вольницы, горожан и господ, которые даже не Союз, а Съезд, т. е. нечто случайное, съезжающееся и разъезжающееся и друг за друга не отвечающее. Если б я хотел его обидеть, я бы сказал, что он напоминает Семибоярщину Смутного времени, когда она льнула к Польше. Съезд бескорыстнее ее и честнее во всех отношениях, но все-таки для него участь Польши сделалась чем-то преимущественным, тогда как этот вопрос нельзя решать без Государственной думы.
Но, может быть, Съезд — именно Минин и Пожарский. Он — представитель земщины и собирается в Москве. Но признала ли его Москва? Нет. Признали ли его земства? Нет. Соединилась ли около него Россия, представляет ли он ее желания и цели? Очевидно, нет, если так победоносно правит Россией Совет рабочих депутатов, против которого Съезд не пикнул. Стачками он останавливает жизнь, он заставляет трепетать не только правительство графа Витте, но и всех российских жителей городов, особенно столичных. Деревня идет своим путем, стачки мало ее касаются, исключая железнодорожной, которая вредит и деревне. В почте и телеграфе деревня не нуждается, в электричестве тоже, воду у деревни нельзя отнять. Деревня волнуется и бунтует совсем независимо от Съезда. На деревню он не имеет ни малейшего влияния, и деревня не поймет, почему Съезду так нужна автономия Польши и что такое автономия, не королева ли это Польши? У меня крестьяне именно так спрашивают:
— Не польская ли королева Антономия и откуда она родом? Полька она или немка?[22]
Почему никто не слушается правительства графа Витте? Ведь оно не самозванное? Конечно. Но оно, во-первых, состоит из «собственных» министров графа Витте. В нем нет ни одного представителя земства, ни одного представителя торгово-промышленного класса, никого, так сказать, с воли, все чиновники. Во-вторых, это правительство бездействует или пишет бумаги во всем своем олимпийском величии, пишет, как писало и прежде, и переговариваясь то с одной, то с другой, то с третьей партией, чуть ли не с попом Талоном даже, в котором Плеве увидел свет. Законное правительство совершенно бюрократическое по своим убеждениям и приемам. В душе оно, может быть, не верит в представительство и ничего путного от него не ожидает. Поэтому оно медлит созывом Государственной думы и якобы соображает вместе с «революционерами» Съезда, как избрать Думу, под каким соусом? Финляндия назначила уже выборы в сейм, выборы же сейма займут всю страну и прекратят всякие волнения. Но Финляндия любит свое представительство, свой сейм. Она торопится, а правительство графа Витте гадает, с какой партией ему идти, как угодить всем, и левым, и правым, и середине, и реакции. Не закричать ли всем разом: «Спаси нас и помилуй»? Но разом все кричат только разное.
Затем остается еще вопрос, что скажет Совет рабочих депутатов? Он — несомненная и внушительная сила. В руках у него жестокий кнут — забастовка. Вдруг он объявит забастовку в пользу республики. Забастовка — не опрос всего народа: желает ли он республику? Не Земский Собор. Забастовка — именно кнут. Удар этого кнута раздается как удар вечевого колокола, и «множество», страшное «множество» ждет этого удара и складывает руки в молчании. Оно отдыхает и шепчет: «с сегодняшнего дня наша работа очень повысилась в цене». Или: «с сегодняшнего дня мы не работаем, потому что нам сказано ждать республики». Анархизм, в своем учении, по-моему, стоящий гораздо выше социал-демократии, говорит: «Пассивное сопротивление — наисильнейшее оружие, которое человек когда-либо употреблял против угнетения. Восстание легко подавить, но никогда армия не может и не захочет направить свое оружие против мирных людей, даже не собирающихся на улицах, а остающихся дома и отстаивающих свое право». (Tucker. Instead of a book).
И мы, и граф Витте, и все гг. Петрункевичи знаем, что это правда, страшная правда. Совет рабочих депутатов узнал об этом гораздо прежде нас. В этом — его сила и власть, и против этой силы и власти надо иметь равносильный авторитет, авторитет народного собрания, или гения, великана, а у нас этого и в помине нет. Старое государство одряхлело и едва дышит и не знает, не то вставать, не то ложиться спать, чтоб не проснуться. Оно даже не знает цену власти, потому что оно знало только цену приказа и беспрекословного повиновения.
Что такое власть? Обращаюсь опять к анархизму, потому что у нас анархия и анархизм должен нас учить.
Один из даровитых анархистов-теоретиков говорит:
«Власть — прекрасная вещь, ибо с одной горстью власти успевают сделать больше, чем с полным мешком права. Вы жаждете свободы! Глупцы! Приобретите власть, тогда свобода придет сама по себе».
И эту «горсть власти» чудесно понимали революционеры и анархисты, не стесняясь провозглашающие, что «государство может быть уничтожено только наглым произволом», а для этого необходимо овладеть хоть горстью власти. Понимает это прекрасно и Совет рабочих депутатов, а вот не только московский Съезд, но и граф Витте этого не понимает. Можно думать, что граф Витте убежден, что потому происходит весь этот кавардак в России, что у него мало власти, а вовсе не потому, что он не умеет владеть властью, не умеет конвертировать старое государство в новое, ибо это несравненно труднее, чем конвертировать старую процентную бумагу в новую. Народ — не банкиры, не биржа — он узнал об этом с удивлением. Он жалуется, что у него нет власти и не хочет понять, что ее у него и не будет до созыва Государственной думы. Он воображает, что когда его сделают главнокомандующим всех морских и сухопутных сил, тогда он спасет Россию. Нет, не спасет. Я верю, что Россия спасется только сама, только силою своего разума и единства русского племени, если в ней сохранился крепкий, государственный образ русского человека. И в эпоху смуты не Минин и Пожарский ее спасли, а сам народ, вынесший этих людей на гребне своего одушевления и любви к родине.
А если нет?
Когда Франция находилась в таком же положении, Европа против нее двинулась со своими войсками. Франция не только отразила Европу, но покорила ее, прошла по ней с криками свободы и громом пушек. Имя великого полководца Наполеона прогремело, как Божий гром, и монархи и народы ему поклонились до земли. Спит ли наш великий полководец в пеленках или служит поручиком, негодуя на все то, что он видит и слышит, и шепотом собирает свою дружину и горит великими планами и мужеством?
Не знаю. Но я чувствую русскую беду и знаю ее.
18 ноября (1 декабря), №10660
DXCIX
Если б чье-нибудь авторитетное слово могло остановить бегущих из России и переводящих свои капиталы за границу; если б чье-нибудь авторитетное слово могло возвратить бодрость всем тем, которых испугала революция почти до потери сознания, это было бы первым шагом к тому состоянию, которое помогло бы борьбе с двигающимся переворотом. Но такого авторитетного голоса нет. Мы слышим только слабеющий голос правительства, которое не знает, что делать или делает не то, что следует. При отсутствии Государственной думы правительство графа Витте самодержавно. Оно ни с кем не считается или считается только с теми, с кем хочет. Оно складывает накрест руки, как Наполеон I, не имея ничего наполеоновского, ничего авторитетного и сильного. При всякой забастовке оно как будто говорит:
— А ведь я все забастовки предупредило, потому что забастовало первое. Я имею первую премию за забастовку. Grand prix мне присудил русский народ.
Большой ли почет для умирающего сановника, если на смертном одре ему привесят орден Андрея Первозванного, осыпанный бриллиантами, — не знаю. Но наследники его могут продать бриллианты. То grand prix, которое получает умирающее правительство, по приговору русского народа — гроша медного не стоит, но эта премия за бездействие правительства графа Витте — раскаленное железо, оставляющее глубокие и незалечимые раны на народном теле.
Печать достаточно унижала и унижает это правительство, но печать бессильна что-нибудь сделать. Правительство может и не читать газеты, может их даже и не видеть, чтобы не расстраивать свои нервы, и без того, конечно, потрясенные. Я не думаю, что эти нервы у него твердокаменные, что оно может спокойно смотреть на всю эту смуту, на эту грозу, которая может разыграться ураганом и смести и истолочь в революционной ступе самих членов этого правительства.
Они несомненно это чувствуют. Ведь это — русские люди, не хотят же они в самом деле гибели своего отечества. Граф Витте и его «собственные» министры, как и министры ему не принадлежащие, не могут не видеть и не чувствовать, что дело совсем плохо. Они наверное знают многое, чего мы не знаем и знать не можем, и это многое только усугубляет их чувство и давит на их мозг, как металлический обруч, который постепенно и неудержимо стягивается вокруг головы. Их не может радовать то, что радует революцию. Они не кричат: «Да здравствует великая русская революция! Да здравствует матросский бунт! Да здравствуют герои, восставшие против правительства, эти борцы за свободу русского народа! Собирайте деньги на памятник этим борцам, и пусть этот памятник гордо поднимается к небу, как Наполеонов столп!» Ничего подобного даже в тайниках правительственной души нельзя подозревать. Но что же есть в этой душе? Вот загадка, которую никто отгадать не может. Разве ничтожество имя этой загадке? Как это допустить, когда во главе правительства стоит человек, много лет обнаруживавший большую силу энергии, впечатлительность, ум и талант? Или это был мираж, оптический обман, объясняемый тем, что за Витте стоял самодержавный царь и он чувствовал себя безответственным. Хорошо ли он сделал или худо, все равно не он отвечает. Общественное мнение только шептало. Теперь оно кричит. Революцию душили и морили в железных клетках или заготовляли впрок, в неведомых отдаленных погребах. Теперь она гордо поднимает голову и повелевает. Составилось для графа Витте положение совершенно новое, для него самого неожиданное, и вот он стоит у разбитого корыта, на берегу бушующего моря, с удочкой в руках и, закидывая ее в море, ждет, не попадется ли на крючок золотая рыбка и не скажет ли ему:
— Что тебе надобно, старче?
Все эти добровольные и вызванные депутации к нему — все это ловля рыбы. Это — караси из тинистого пруда, это — щуки, лещи, сазаны, юркие плотицы и донные пескари, но золотая рыбка не является. Где она, никто не знает. А я даже и того не знаю, где я живу. В самодержавном царстве или в конституционной империи? Это, кажется, секрет графа Витте, или он и сам этого не знает…
Так вот необходимо приступить к нему с властным требованием, чтобы он сказал, кто он и что он, и что он может сделать и чего не может? Почему он все предоставил случаю, когда вся Россия в пламени пожаров и вражде, когда рушится все, рабочий, крестьянин, помещик, торговля, промышленность, финансы? Спросите не в деликатной беседе подчиненного к начальнику, или милостивого государя к его сиятельству, не в просительной формуле, украшенной цветами лести и преданности, не в выражениях биржевых телеграмм, томно выражающих первому министру «доверие», а в форме открытого, честного и твердого заявления спросите. Граф Витте — властная натура, и он умеет оценить истинную властность, если она властно о себе заявляет. Ни Минина, ни князя Пожарского нет. Но есть власть, обязанная ответственностью, или она совсем не власть, а только недоразумение…
Почему молчит Петербург? Почему молчит Москва? Разве самозванный съезд, депутатов которого граф Витте принимает и вызывает к себе, имеет какие-нибудь преимущества перед столицами империй? Почему это обе столицы, изнывая от нетерпения и жажды спокойствия, не прибегнут к этому простому средству? Нам говорят почти то же самое, что говорил Куропаткин: «терпение, терпение, терпение». Мы верили и как мы ошиблись! Кровавыми слезами оплакивает несчастная и униженная Русь свое доверие. Она столько терпела, столько страдала, так разорилась на этом «терпении», что подписала позорный мир, как благо. «Терпение» обещает нам новые страдания и ужасные потери. Пусть же граф Витте, наконец, скажет: что он делает и что он намерен делать? Если б я что-нибудь значил в Москве, я поднял бы горячую агитацию для того, чтобы собрать целый сонм московских граждан и направил бы их к графу Витте. Властный сонм к властному министру, полномочных граждан к министру, которого император России облек большою властью и возложил на него большую ответственность.
Что же вы молчите, господа? Не пороги обивать ваше дело, не просить и кланяться, не бегать по передним. Вы имеете право говорить от имени столиц. В один день вы можете собрать сотню тысяч подписей. Вы имеете право сказать, что терпению настал конец, что терпение есть символ безволия и малодушества и что вы хотите, наконец, знать, с кем вы должны жить, кто обеспечивает ваше спокойствие, ваше состояние, ваш труд, может быть, самую жизнь вашу, жизнь ваших жен и детей и жизнь целых поколений. Вы не рабы, чтоб валяться в пыли и ждать благосклонного внимания к вашим правам и нуждам. Вы не рабы Союза союзов, Совета рабочей партии, которые делают вас и это правительство рабами случая, наглости и революции. Уже Совет рабочих депутатов грозит вам крушением на железных дорогах. Он печатает открыто об этом, он грозит вашей жизни и собственности! Где это бывало, в какой стране, в какой революции, в какой свободе?
Кто виноват, что мы живем без законов, что нами управляет анархическая партия? Об этом надо спросить твердо и требовать ясного и открытого ответа. Во всем мире дело идет так: сначала основной закон, за ним — учреждения, его определяющие, и, наконец, практика. А у нас как? Граф Витте начал с конца, с практики, потом начал писать учреждения для свобод и когда-то дойдет он до основного закона, конституции, никто не знает. Надо спросить его. Он не имеет ни малейшего права не ответить, а вы имеете права беззащитных граждан, предоставленных всяким случайностям, грабежу, пожарам, бомбам, крушениям на железных дорогах. Он — властный человек и оценит властность.
Не спите же, торопитесь, не поддавайтесь страху и отчаянию ни перед чем, ни перед властью, перед которой мы были «презренные рабы», как давно сказал нам поэт, ни перед революцией, чтоб и она не считала нас своими презренными рабами. Кто потерял мужество, тот все потерял.
21 ноября (4 декабря), №10663
DC
Помогают ли социал-демократы и социал-революционеры аграрным беспорядкам?
Этот вопрос поднимаю не я, но сами социал-демократы и социал-революционеры. Я сказал в прошлом письме, что «социалисты-революционеры и социал-демократы, по их собственному признанию, возбуждали крестьянскую революцию» и «конфисковали все, что можно было унести и увезти». Вот что говорит по этому поводу «Сын Отечества»: «Что касается социал-демократов, то г. Суворин напрасно ссылается на «их признания», ибо им, если бы и хотелось, вряд ли есть в чем «признаваться» по отношению к «конфискациям» и «возбуждению крестьянской революции». Что касается нас, то, во-первых, мы никогда не говорили, что наша деятельность ограничивалась мирной агитацией. А, во-вторых, социал-демократы действительно не побрезговали как-то мимоходом бросить нам обвинение в «преклонении перед стихийностью» и даже возбуждении аграрного террора. Но ведь это было слишком очевидной… неосторожностью, что ли, ибо обвинение это — для всех заведомо неверное, и поддерживать его вряд ли кто решится».
Я могу утверждать, что социал-демократы, по крайней мере, «Новой Жизни», имеют полное право, вопреки утверждению «Сына Отечества», «признаваться» в «конфискациях» и «возбуждении крестьянской революции». Я рекомендую «Сыну Отечества» взять №11 «Новой Жизни» и прочесть там статью «Аграрное движение в Саратовской губернии». Это именно та статья, в которой посылается социалистам-революционерам «обвинение в преклонении перед стихийностью» и, стало быть, «Сыну Отечества» статья эта известна, но не дочитана. Самое «обвинение» этой газетой неверно передано. Говоря, что «крестьянское движение стоит несомненно вне руководства какой-либо политической партии», «Новая Жизнь» совсем не упоминает о «Сыне Отечества». Она только сообщает, что «лишь в немногих пунктах роль такого руководителя приписывает себе, как известно, так называемая партия социалистов-революционеров. Но руководство это весьма сомнительного характера». Несмотря на это сомнение в руководительстве аграрными беспорядками, приписываемом себе партией социалистов-революционеров, несмотря на то, что газета никого не называла, «Сын Отечества» принял слова «Новой Жизни» на свой счет, как «обвинение»…
Перехожу к недочитанной «Сыном Отечества» статье «Новой Жизни». Там описывается ярко «конфискация» крестьянами чужого имущества и «возбуждение крестьянской революции». Устраивала все это «Аграрная группа саратовского комитета РС-Д партии» в округе, центром которого было село Саратовского уезда Николаевский Городок. Это село и его окрестности должны быть записаны в историю, ибо тут впервые были применены самые превосходные приемы революции, «безусловно светлая полоса» (выражение историка этого события) аграрных беспорядков, доказавшая, что «крестьянство способно усваивать и проводить в жизнь тактику социал-демократическую!» Крестьяне, под предводительством социал-демократов, «отобрали» у старшины ключи и кассу, у пристава — оружие, у частных лиц и в лавках — оружие и припасы, в казенных лавках «конфисковали» кассу, на почте «конфисковали» кассу, оружие и телефонный аппарат, «конфисковали» кассу Мариинского земледельческого училища; у помещика Петрова «разобрали» 8000 пудов хлеба и «конфисковали» 2000 рублей; те же «конфискации» и «разобрания» производились и у других помещиков, причем им выдавалась за подписью «крестьянского социал-демократического комитета» «особая расписка для предъявления Учредительному Собранию».
Несомненно, что эта расписка в конфискованном, разобранном и захваченном — такой документ, выше которого ничего себе представить нельзя.
«Ту же сознательность и организованность, которые крестьяне проявили при разборке хлеба, они проявили и при захвате земель», — продолжает историк «Новой Жизни». Эта революция «конфискации», «разборки» и «захвата» «оказалась значительно впереди событий, значительно впереди революции общероссийской». Из этих слов видно, что социал-демократы стоят впереди всех, даже впереди социал-революционеров «Сына Отечества». Естественно, что эта «мирная» революция, под предводительством социал-демократов, сделала бы чрезвычайно много плодотворного и полезного, но, увы, «нагрянули войска с пушками, пулеметами». Руководители движения послали в Саратов, в тамошний комитет РСДРП запрос, что им делать? «Ликвидируйте дело, войскам не сопротивляйтесь и бегите», — отвечал комитет. Все бежали, «правительственные агенты энергично принялись за восстановление старого порядка». Арестованы семь учеников земледельческого училища и посажены в тюрьму. «Так мстят им местные представители администрации за то, что они попытались внести известный порядок, организованность в местное крестьянское движение».
Социал-демократы убегают, а учеников запирают в тюрьмы, а крестьян, может быть, расстреливают. И удравшие благодетели крестьянства, «ликвидировав дело» (очень интересно было узнать, что это за ликвидация!), оставляют несчастных учеников в тюрьмах и крестьян их судьбе и ответственности перед судом. А в награду за это беглецы живописуют свои подвиги в газете и похваливают крестьян за то, что они «не сделали ни одного предосудительного поступка», что, вероятно, значит, что они послушно шли за социал-демократами, которые увлекали их в свою «социал-демократическую тактику».
Я готов сказать, что эта мирная революция, эти «конфискации», под именем которых является грабеж, все-таки лучше грабежа дикого, кровавого, пьяного, грабежа с пожарами и истреблением имущества, но я все-таки думаю, что храни нас Бог и от этих конфискаций, которые рекомендуются анархистами для устройства рая на земле, историками «Новой Жизни» и г. Пешехоновым в «Русском Богатстве» (№10, ст. 145). Он говорит: «Раз стихийное движение началось, остановить его нельзя (??), и вся задача интеллигенции должна заключаться в том, чтобы внести в него сознательность и организующую силу. И я думаю, что по отношению к деревне сейчас представляется наиболее целесообразным такой лозунг: «Не грабьте, не жгите, не разоряйте… Берите во временное владение».
Если б стихийные движения нельзя было остановить, то земной шар давно бы обезлюдел. Но человек выучился останавливать и стихийную силу природы и управлять ею. Он имеет полную возможность остановить и стихийное движение крестьянства, не рекомендуя даже ему «взять во временное владение» то, что ему не принадлежит. Если правительство не сумеет это остановить своей «организующей силой», — оно даже имени правительства не заслужит.
До настоящего времени уничтожено и разграблено 276 усадеб. Это ужасное, безбожное варварство! Если права «Новая Жизнь», что социал-революционеры приписывают себе руководство аграрным движением, то это кровавое пятно на их имя.
23 ноября (6 декабря), №10665
DCI
— Если бы 9 января нашлось 5–6 человек, действительно смелых, которые овладели бы типографиею, издали бы манифест и объявили себя правительством, то фактически власть могла бы перейти к этому новому правительству.
Это говорил я князю Святополку-Мирскому, когда он принимал петербургских журналистов 12 января. Прошло несколько месяцев и Россия не повинуется Законному правительству и повинуется правительству самозванному или, правильнее, правительству, избранному союзами. Оно могло бы назваться Союзным русским правительством. Его учреждения существуют по всей России, во всех уголках. Оно не теряет своей связи ни при каких забастовках, ни политических, ни при почтово-телеграфных. В то время, когда Законное правительство остается без железных дорог, почты и телеграфов, Союзное правительство всем этим пользуется. В то время, когда Законное правительство не знает, что делается в России, Союзное правительство все знает, и все распоряжения свои публикует. Когда Законное правительство рассылает секретные циркуляры или печатает секретные документы, Союзное правительство опубликовывает их в своих революционных органах. Прочтя эти секретные документы, я недоумеваю, почему они секретные? В них заключаются очень интересные сведения из отчета государственного контроля с собственноручными пометками государя императора и довольно интересные мнения о железных дорогах из рапорта заведующего перевозкой войск. В Кушке комендант якобы приговорил к смертной казни инженера Соколова. Революционные органы печатают телеграммы служащих на разных станциях, в которых требуют отмены смертной казни и министра путей сообщения Союзного правительства, г. Орехова просят принять меры. По городу вчера распространилось известие, что будет объявлена забастовка железных дорог. Сегодня Законное правительство объявляет, что оно ничего об этом приговоре к казни не знает, так как телеграф для него не действует, но ввиду телеграфных просьб, к нему обращенных, оно все узнает и велит перерасследовать дело. В телеграммах не просьбы, а требования. Но Законное правительство конфузится и говорит о просьбах.
Что это, мистификация гг. революционеров, пользующихся почтово-телеграфной забастовкой для наведения страха на общество, или правда? Если это мистификация, то она должна явиться перед судом, и пусть суд скажет: есть ли жизнь государства — театральное представление, где трагедия и комедия являются для развлечения, или жизнь государства есть нечто более серьезное? Но пойдем дальше.
Градоначальник генерал Дедюлин публикует длинное повествование о митинге, который собирал г. Хрусталев-Носарь. По-видимому, это министр внутренних дел Союзного правительства. Человек очень решительный и темперамента горячего. Он свой митинг повел было в атаку, но прибыли войска и разогнали его. Он объясняется с генералом Дедюлиным не как «товарищ» с «товарищем», а как министр с градоначальником. Правда, так же длинно, как длинно было составлено известие генерала Дедюлина, но зато тон превосходный по своей властности. Он, например, говорит генералу Дедюлину:
— Сейчас, в данную минуту, у вас физических сил больше, но завтра мы будем сильнее. Сегодня вы можете нас арестовать, завтра сами не избегнете скамьи подсудимых, как насильники и угнетатели народа.
И г. Хрусталев-Носарь, весьма возможно, что прав. И когда генерала Дедюлина он посадит на скамью подсудимых, он не станет с ним объясняться на целом газетном столбце, как теперь. Он просто велит напечатать в своем «Правительственном Вестнике»:
«Гражданин Дедюлин приговорен в тюрьму или на каторгу, как насильник и угнетатель народа».
И больше ничего. Прочтите у Валлона, в его книгах о судебных процессах во время террора, приговоры и судебные прения. Это одна прелесть по своей краткости и выразительности. Никаких юридических тонкостей. Кратко, повелительно и грозно. «Угнетатель народа», «заподозренный», «враг свободы», «роялист» — и баста.
— И вам все это нравится? — скажете вы. — Вы говорите об этом, как о вещи весьма обыкновенной.
Нет, мне это очень не нравится, но я стою вне правительства и вне революции, я наблюдаю действия Законного правительства и незаконного, я слежу за их борьбою и рассказываю свои впечатления. Я смотрю, где живые люди; я их ясно вижу у правительства незаконного, и они в тумане мне виднеются у правительства законного. Я спрашиваю, где живое общество? Оно мне ясно около незаконного правительства и оно же мне кажется мертвым у правительства законного. Я, может быть, слеп? Как вам угодно.
Мы получили драгоценное благо — политическую свободу. Целые поколения добивались ее. Среди борьбы общество вырастало. И вот свобода пришла в крови, насилиях, в зареве пожаров, в грабежах, в забастовках. Мне даже во сне это не снилось. Я думал, что общество в огромной массе будет удовлетворено и начнется радостная, спокойная, шумная, говорливая, но порядковая жизнь. После ужасной войны и ужасного мира, как это было бы превосходно, как начала бы жить Россия, с которой сняли цепи и сказали ей: «вам говорили:
Имели вы до сей поры Бичи, темницы, топоры — Довольно с вас рабов безумных —все это отошло, как предание. Вы свободный народ, вот вам представительство и все те свободы, которыми пользуется Европа».
И что же? Началось столпотворение вавилонское. Кто виноват? Я не знаю. Вероятно, виновато прошлое и люди прошлого, виновато общество, я, вы, социал-демократы, социал-революционеры, «революционеры» Съезда, и, конечно, виновато правительство, у которого никогда не было конституционной практики и оно пошло под знаменем свободы с завязанными глазами и вообразило, что его обязанность заключается не в том, чтоб устроить новый порядок в России, а в том, чтоб быть Солоном или Ликургом. Оно не спит ночей, оно истощает свои физические и умственные силы, оно дебатирует всякий вопрос многосторонне и многодумно, оно пишет, оно разговаривает, читает несметное количество телеграмм и оно должно было бы вздохнуть свободно, когда лишилось и почты и телеграмм. Слава Богу, можно свободно подумать и принять меры для восстановления порядка. Но сказало ли оно «Слава Богу», я не знаю. На его месте я бы сказал, ибо не знать отдыха, не спать ночей — значит иметь туманную голову, когда у правительства должны быть зоркие очи и светлая голова; толочься на месте и углубляться, подобно Солону и Ликургу, в бездну законодательства и ждать, пока все успокоится под замышляемым законодательством, это ужасно и пагубно. Ведь Россия страдает, ведь то, что в ней происходит, хуже японской войны. И какое законодательство вы нам дадите? Ведь вы дали свободы на практике или, как уверяет г. Носарь-Хрусталев или Хрусталев-Носарь, у вас их взяли рабочие. Мы говорили, писали, союзы образовывали, стачки устраивали прямо умопомрачительные, бунтовали, грабили, жгли — все это совершенно свободно. От грабежей отказываются революционеры, но бунты прославляют. Это борьба за свободу. Когда вся страна встанет бунтом — лучше этого ничего не может быть. Это преддверие рая. И вот будет Солон законодательствовать. Ликург явится с законом спартанским. Да мы не хотим, мы этих законов не признаем и никогда признавать не будем. Вы пошли назад, вы отступаете от манифеста 17 октября. Я писал свободно, я не думал вот уже целый месяц о том, цензурно я пишу или нецензурно. А потом опять думать!? Нет, вы идете назад. Граждане, вооружайтесь! Г. Орехов, прикажите общую забастовку! Закройте газеты, заводы, железные дороги, потушите электричество, уморите голодом и жаждою всех нас, трусов, безвольных, бессильных, равнодушных. Все в ваших руках, милый человек!
Нужен порядок, нужна власть, авторитет, иначе свобода обратится в произвол, в призрак, в террор с той или другой стороны, со стороны ли законного или незаконного правительства — это все равно, ибо оба они уже спорят между собою и дерутся и оба говорят от имени народа. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Берите свои сбережения из сберегательных касс и банков! Правительство обанкротилось!» «Вооружайтесь, граждане, бейте это презренное и преступное правительство!» Вы, знаете, что я этих слов не сочиняю. Они произносятся открыто и громко вот уже целый месяц.
А Россия? Где она? Что она делает? О чем помышляет? Она не только на двух стульях сидит, она ни на чем не сидит, ибо ей сидеть не на чем: она прячется под несколькими стульями, то сядет под стул революции, то под стул конституции, то под стул самодержавия, то под стул, на котором неизвестно даже кто сидит и что этот сидящий думает. Абракадабра! Черт в ступе, ведьма на помеле, Мефистофель, забавляющийся со своим псом и громко хохочущий, бесы кружатся и неизвестно что делают —
Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж отдают?Ничего разобрать нельзя.
Где вы, спокойное и разумное общество, вы, собственники, вы, домовладельцы, купцы, фабриканты, рантьеры, буржуазия, вы, друзья порядка и политической свободы, где вы? Вы пишете в редакции газет письма, почему они не доставляют вам газет, когда почта и телеграф бастуют? «Мы вам деньги заплатили!» Знаем, но не лучше ли было бы, не полезнее ли для всех, если б вы спросили у правительства, которое собирает с России миллиарды, у которого сотни тысяч чиновников, вы бы лучше у него спросили, почему оно само сидит без почты, без телеграмм, без железных дорог? Этот вопрос гораздо важней. Почему грабят и жгут ваши усадьбы, отнимают вашу землю? Почему вы закрываете ваши фабрики и заводы? Почему кредит у России падает? Почему грозят ей банкротством?
Вы сидите у моря и ждете погоды? Вы заложили свои имения, продали русские бумаги и купили иностранные, вы бежите или собираетесь бежать из родины, которую терзает революция? Но ведь много и таких, которые ничего не продают и не покупают, которые испытывают на себе всю тяжесть настоящего безвременья, глубоко чувствуют, что бездна открывается перед ними, и все-таки молчат. А я бы вам сказал такую правду…
Ах, да кому нужна правда и где она, у кого? У графа Витте, у Петрункевича, у Хрусталева-Носаря, у Орехова, у социал-демократов, у социал-революционеров, у крестьян, которые грабят и жгут, у крестьян, которые работают и ужасаются? У кого?
24 ноября (7 декабря), №10666
DCII
Гг. социалисты-революционеры, приводя цитаты из моего последнего «Маленького письма», где я говорю о хаосе настоящего положения, советуют «отойти в сторону, не пытаясь играть руководящей идейно-политической роли, всем тем, для кого современность — сплошная абракадабра». Это по моему адресу. Но я подожду, когда социалисты-революционеры примут бразды правления. Теперь же хочу пояснить одно их недоразумение. Мне казалось, что в прошлом письме я ясно назвал стулья, под которыми сидит или прячется Россия. Это стулья революции (социал-демократы, социал-революционеры и революционеры Съезда), конституция, самодержавие и абракадабра. Орган социал-революционеров очевидно не понял, что это за стул «абракадабра», о котором я сказал, что «ничего не понимаю». Так как могут и мои читатели не понять меня, как не понял «Сын Отечества», я принужден сказать, что этот стул абракадабра принадлежит правительству графа Витте. Оно именно — правительство абракадабры. Это слово пишется 11 раз, каждый раз уменьшая на одну букву, так что все вместе составляет равнобедренный треугольник. Вы читаете сверху: абракадабра, сбоку: абракадабра, потом по рядам: абракадабр, абракадаб, абракада, бракад и т. д. По другим рядам: ааааа… ббб6… рррр… Ничего понять нельзя, но как будто что-то значит. Во времена оны слово это, написанное на дощечке или на бумаге и носимое на груди, предписывалось врачами от лихорадки. Говорят, что слово это происходит от какого-то греческого слова, которое означало Бог. Так как по-гречески у нас не только никто ничего не знает, но и знать всякому запрещено, чтоб не смущать министров народного просвещения, которые обыкновенно ничего не знают, то мы оставим его в покое. Для нас достаточно одного этого слова, которое для нас с вами ничего не значит. Но написанное латинскими буквами в форме треугольника оно и теперь останавливает на себе внимание читателя, как нечто значительное.
Все мы знаем достоверно, что правительство графа Витте прописано для исцеления России от революционной лихорадки, как в оные времена прописывалась абракадабра. Это талисман, нечто волшебное, но совершенно непонятное. Как это средство действует, никто не знает. Да и действует ли оно как-нибудь, тоже никто не знает. Но, вероятно, во времена оны оно действовало, иначе врачи не прописывали бы этого таинственного рецепта. Если же этот рецепт действовал против лихорадки вообще, то он может действовать таинственными, незримыми путями и против революционной лихорадки. И — кто знает — может быть, правительство абракадабры ее вылечит. Ведь не все средства действуют быстро. Может быть, абракадабра — средство медленное, но самое верное, а, может быть, оно только истощает организм, и приближает его к Богу, как постника и страстотерпца.
Я, во всяком случае искренно желаю выздоровления России, хотя бы и при помощи абракадабры. Я тогда в нее уверую. Я — не пророк и не лекарь, и хотя читатели пишут мне, что я будто могу своим влиянием даже помочь России избавиться от революционной лихорадки, но я решительно это отрицаю. У меня никакого талисмана нет, да в талисманы я не верю. Если б я заболел лихорадкой, я предпочел бы хину, как она ни горька и ни противна, но не повесил бы себе на шею таинственный талисман, состоящий из слов, смысл которых для меня совершенно непонятен.
Засим я понимаю почтенных революционеров, которые желают, чтоб «Новое Время» отошло бы в сторону, хотя я очень расположен к тому, чтоб вести совершенно корректную полемику со всеми теми, кто не ругается. Ругаться я уж не могу и ругательства на меня не действуют, не возбуждают, и я прохожу мимо их, как прохожу мимо бойкота, которым удостаивает меня и мою газету некоторые господа. Я могу об этом скорбеть, ибо я работаю совершенно искренно, высказываю свою мысль прямо и хочу служить только моей родине и никому более. Манифест 17 октября удовлетворяет меня. Он снял замок со слова и мысли. Я верю слову государя, как царскому, благородному и непреклонному слову. Я не боюсь возвращения назад, хотя отлично знаю, что свобода никогда не насаждается без борьбы, жертв, увлечений и ошибок. Я знаю, что в революционное время всякая ошибка может обратиться в роковую, непоправимую, как со стороны революции, так и со стороны правительства. Революция едет тем быстрее, чем правительство больше делает ошибок. А оно их делает постоянно, и каждая ошибка двигает революцию победоносно. Тут нельзя сказать: «вороти назад» или «держи около», потому что ни воротиться нельзя, ни держать около невозможно. Революция пробежала дальше, и только оставила за собою пыль. Самый манифест 17 октября был в том отношении ошибкой, что он составлен наскоро, впопыхах. Но в нем драгоценные царские обещания и та свобода, которая фактически настала.
Правительство не умело взять в свои руки экипаж освободительного движения, и он понесся сам собой. У правительства не оказалось ни силы, ни искусства. Оно вообразило, что вся Россия — московский съезд, что там только родник русской жизни, ее злато и серебро. Оно провозилось со съездом так долго, что экипаж революции успел ускакать. Правительство слишком тяжеловесно и неповоротливо, а потому наша революция идет быстрее, чем Великая французская. Там проходили месяцы и годы, а у нас дни и недели. Имея много сходства в своих причинах, следствиях и деталях с Великой французской революцией, наша обладает большими средствами. Не говорю о печати, которая тогда не имела ни того значения, ни той распространенности, как теперь. Тогда печатный станок едва мог напечатать 600 экз. в час. Теперь он печатает 20 000. Тогда ежедневных газет совсем не было, как не было ни телеграфов, ни железных дорог. В этом отношении не может быть и сравнений. Так ускакала вперед печать. Она приобрела такие же совершенные орудия для мгновенной передачи своих мыслей в миллионах экземпляров, как новые скорострельные и дальнобойные орудия, как пулеметы и 12-дюймовые пушки. Миллионы пуль посылаются в намеченное пространство и делают свое дело. Во время французской революции была гильотина, но не было стачки, которая теперь играет такую могущественную роль. Это, пожалуй, получше гильотины. Это гильотина бескровная, без зрелища, без палача, который поднимал за волосы голову казненного и показывал ее народу. Теперь показывается откуда-то кулак, и по этому знаку все работники складывают руки. Этот террор поистине ужасен, в особенности в обществе, которое не привыкло к борьбе. Гильотина резала головы «избранным» жертвам, «аристократам», «роялистам», «контрреволюционерам», заподозренным (suspects) в сочувствии не только старому порядку, но и конституционной монархии. Гильотина проливала кровь и возбуждала, кроме чувства страха перед ее кровавой властью, отвращение и негодование к казням. Политическая забастовка — мирная приостановка жизни, но она губит все государство, всех заставляет страдать, и богатых, и бедных. Она в один день приносит государству миллионные убытки. Она заставляет слагать оружие даже храбрых, а трусов обращает прямо в рабов революции. Она ясно говорит всем, что сила правительства ничтожна, что если правительство — сила, то «этой силы нечего бояться», говорит известный анархист князь Кропоткин. «Правительства только кажутся страшными; уже через пару часов после первого напора возмутившегося народа они побеждены. Государственные машины остановились. Чиновники в замешательстве и не знают, что им делать; войско потеряло доверие к своим предводителям… Крестьяне прогоняют крупных землевладельцев, а их имения объявляют общественными; они уничтожат закладные и объявят всех свободными от долгов… В городах народ овладеет всем накопленным там богатством, отстранит фабрикантов и возьмет производство в свои руки. Большая часть людей представляет собою революцию с революционным правительством во главе. Одни представляют себе это правительство выборным, другие проповедуют революционную диктатуру. Но мы, анархисты, знаем, что мысль эта — больной плод правительственного фанатизма, и что всякая диктатура есть смерть революции. Мы сами сделаем все нужное, не ожидая приказания правительства. Как только государство начнет разлагаться, начнут образовываться свободные союзы. Необходимо возвещать цель революции словом и делом, пока она не станет вполне популярной… Следует возбудить дух возмущения и дикую смелость, без которой никакая революция невозможна»…
Но я останавливаюсь, ибо вы можете подумать, что я списываю не с «Paroles d'un revolté» Кропоткина, а с действительности. Действительность мы с вами знаем, знаем, что ни правительство прежнего режима, ни правительство абракадабры не умело предупредить революционную лихорадку и смело взялось ее лечить таинственным талисманом, состоящим из букв, между которыми «а» повторяется пять раз, по числу пяти собственных министров графа Витте.
Орган социалистов-революционеров говорит о республике следующее: «современная историческая наука (?) совершенно выяснила и поставила вне спора, что незадолго до провозглашения первой французской республики во Франции не было республиканцев. Напротив, казалось общепризнанным, что республиканская форма правления совершенно неприменима к такой стране, как Франция. И это упорно твердили те самые люди, которые потом осуществляли республику и были наиболее ярыми фанатиками республики. Да, жизнь оказалась сильнее предвзятых теорий».
Не «современная историческая наука» доказала это, а сами современники Великой французской революции признавались в этом. Но об этом после. Достаточно сказать, что мы бежим и бежим, — и вопрос только в том, сломим ли мы себе шею или нет?
26 ноября (9 декабря), №10668
DCIII
Г. Хрусталев-Носарь, председатель Совета рабочих депутатов, арестован прокурорским надзором. Мне очень жаль этого способного и энергичного человека; арестованный — почти то же, что умерший: на место арестованного явится другой. Когда мне сказали об этом вчера вечером, я не верил. Я все ждал, что г. Хрусталев арестует графа Витте, его министров, градоначальника и т. д. Мне казалось, что для сего наступил благоприятный момент, — именно почтово-телеграфная забастовка, оторвавшая Петербург от России и Европы. Правительство, во главе которого стоял г. Хрусталев, имело полную возможность произвести необходимые аресты и отправить своих генерал-адъютантов и флигель-адъютантов в провинции для занятия мест губернаторов и генерал-губернаторов. Дня в три-четыре всю эту операцию можно было окончить так благополучно, что правительство графа Витте и не знало бы, что у него новые губернаторы и когда пришли бы его арестовать, он мог бы только выговорить: «Неужели?», как выговорил это слово адмирал Того на признание адмирала Небогатова, что японские снаряды очень легко пробивали русскую броню. Русская правительственная броня так изрешечена, что из уст графа Витте и не могло ничего вылететь, кроме такого коротенького слова, выражающего в этом случае не то иронию, не то преданность своей судьбе.
Я слышал сегодня, будто Совет рабочих депутатов уже был недоволен г. Хрусталевым и даже будто намечал ему преемника. Не знаю, справедливо ли это? О правительственных лицах так много сплетничают, что правды трудно добиться. Говорят и печатают ежедневно, что граф Витте выходит в отставку и что граф Игнатьев садится на его кресло, и по этому поводу пространно занимаются биографией сего последнего. Весьма возможно, что в обоих наших правительствах, как древле в правительстве царя Василия Шуйского и в правительстве Тушинского вора, что-то неладное творится; но Совет рабочих депутатов не унывает, продолжает действовать энергично и печатает свои распоряжения чисто спартанским языком, кратко, ясно и понятно, чего отнюдь нельзя сказать о правительстве графа Витте, которое предпочитает длинный и скучный язык меланхолической девы.
В газетах Союзного правительства я прочел сегодня следующую резолюцию Совета рабочих депутатов, от 27 ноября:
«26 ноября царским правительством взят в плен председатель Совета рабочих депутатов, товарищ Хрусталев.
Совет рабочих депутатов избирает нового председателя и продолжает готовиться к вооруженному восстанию».
Из резолюции Совета р. д. мы узнаем, что г. Хрусталев не арестован, а «взят в плен». Это почетно и, пожалуй, утешительно, ибо есть надежда на обмен пленных, например, графа Витте или его презумптивного наследника, графа Игнатьева, на г. Хрусталева. Но все же нельзя не сказать, что Совет р. д. дал маху — я этому рад — упустив удивительно благоприятную минуту для ареста царского правительства — употребляю официальный титул, даваемый законному правительству Советом р. д. «Лови момент любви»! Не упускай минуты счастия, когда оно просится к тебе. Это надо помнить и в революции, ибо и она есть любовь и страсть, напряжение силы и нервов, и в ней есть наслаждение борьбою, властью, горячими помыслами и фантазией, уносящей в неведомые края человеческого счастья.
Революция дает необыкновенный подъем человеку и приобретает множество самых преданных фанатиков, готовых жертвовать своей жизнью. Борьба с нею потому и трудна, что на ее стороне много пыла, отваги, искреннего красноречия и горячих увлечений. Чем сильнее враг, тем она решительнее и мужественнее, и всякая победа ее привлекает к ней множество поклонников. Кто этого не знает, кто не знает, что она привлекательна, как красивая и страстная женщина, широко расставляющая свои объятия и жадно целующая воспаленными устами, тот не бывал молод. Между любовниками ее, разумеется, есть всякие люди. Она не может быть разборчива уже потому, что взоры ее обращены на массы, которые ей необходимо взять. Многие ее любовники могут сказать ей словами Пушкина:
Взрощенный в дикой простоте, Любви не ведая страданий, Я нравлюсь юной красоте Бесстыдным бешенством желаний.Это «бесстыдное бешенство желаний» и губит революцию, как «умеренность и аккуратность» губит правительства. Революция не соразмеряет своих сил, хвастается — все политические партии хвастливы, — говорит слишком много и слишком страстно, а правительства, сначала испуганные и трусливые, дающие революции несколько ходов вперед, потом берутся за ум и начинают наверстывать потерянное страстными прыжками, попадают в ямы и засады, и дело кончается — кто кого одолеет… Истории революции необыкновенно поучительны в этом отношении и заключают в себе множество эпизодов, полных трагизма, самоотвержения, любви и ненависти. Никогда народный характер и выдающиеся личности так ярко не выступают, как именно во времена революций. Тут душа на распашку, тут всем страстям полный выход, и чувство так устает и изламывается, что обращается в то слащавое и лицемерно-слезливое и паточное чувство, которое называется сентиментальностью.
Совет р. д. действует прямо. Он призвал население к тому, чтоб оно брало свои сбережения из сберегательных касс. Его органы напечатали это, и население бросилось к кассам и десятки миллионов рублей были взяты. Я рассуждаю так: если богачи поспешили продать свои бумаги, заложить свои имения и утекали за границу, то Совет р. д. мог воспользоваться этим доблестным примером и крикнуть: «спасайся, кто может».
Но, по моему мнению, еще вопрос: доблестно ли это и даже практично ли это? Ведь Совет рабочих депутатов — не главный штаб японской армии, живущий в Петербурге, и для него не может быть все равно, разложится ли государство, обанкротится ли оно или нет.
Стремясь к разорению государства, чтобы победить старое правительство, новое, еще не севшее в кресла графа Витте, может очутиться в положении нищего вместе со всем государством. Но я распространяться не стану. Правительство поступило унизительно бестактно, когда, прочитав в прошлом году в газете «Times» сомнение насчет существования в Государственном банке золотого фонда, обратилось к иностранным журналистам с приглашением посетить эти подвалы, сойти
В подвал мой тайный, к верным сундукам.Это доказывало только, что уже тогда правительству не верили, если оно прибегло к такому нелепому средству и, естественно, что поверили воззванию Совета р. д., хотя я бы ему не поверил, не потому только, что не верю в его победу, но главным образом потому, что не желаю ни сам разоряться, ни разорять государство. Скорей могут ничего не получить в складах золота, чем не получить своих сбережений из сберегательных касс, какое бы правительство ни было. Поэтому те, которые слушаются Совета р. д., поступают очень нерасчетливо, как трусы.
Я не одобряю и объявления Совета рабочих депутатов о том, что он «готовит вооруженное восстание». Это прямо вызов к военной силе правительства, вызов к крови и поражению.
Что бы ни печатали революционные газеты о бунтах армии, она в массе своей не только верна своему долгу и своему государю, но и несомненно победит всякое «вооруженное восстание» и победит, убежденная в том, что, во-первых, пролетариат — еще далеко не народ, во-вторых, что победа пролетариата — это гибель и распадение России. «Самые радикальные требования нашей минимальной программы: республика, 8-часовой рабочий день, милиция, воспринимаются пролетарской массой так, точно она с ними родилась». («Начало», №12).
Да, конечно, эта невежественная и полуневежественная масса всему поверит, что льстит ей и что обещают «товарищи». Испорченная городского жизнью, она полезет на стену. Но народ, деревня?
Или это все черносотенники? А буржуазия, дворянство, армия, прогрессивная и спокойная интеллигенция? И это все в кучу — черносотенники! Но мы еще поглядим. У русских людей просыпается разум. Для них открывается будущность нового государства, которое не отдастся в руки предводителей пролетариата.
При той открытой постановке программы революционеров, которую мы читаем ежедневно, партии нереволюционные должны напрячь все силы, чтобы победить и сбить спесь у «товарищей».
Говорят, Государственная дума соберется только в марте. Если это правда, то вредная правда. Государственную думу собирать в марте можно только для того, чтоб исполнилось точно мое пророчество 1903 г. о «весне». Я бы не собрал ее в марте даже по предрассудку, помня мартовские иды и 1 и 11 числа марта, запечатленные в нашей истории кровью. Я бы собрал ее в январе и отнюдь не позже февраля. Всякий день отсрочки — выигрыш для революции. Она это знает и говорит о Государственной думе с пеной у рта.
28 ноября (11 декабря), №10670
DCIV
На этих днях один очень талантливый юрист и литератор сказал мне, когда мы с ним заговорили о правительстве:
— Оно занимается тем, что точит законы и правила на токарном станке. А в настоящее время ему следовало бы быть просто плотником. Срубить порядочную избу и только, а дом предоставить строить Государственной думе, которую следует собрать немедленно.
Плотником Пушкин назвал Петра Великого, этого типичнейшего русского революционера на троне. Он был плотником не потому, что умело действовал топором, но и потому, что он действовал быстро, писал законы на клочке бумаги, отдавал приказы, подавал пример и дело у него горело.
Эк, чего захотели! Представьте, я его вовсе не хочу, как не хочу фальшивых ломак под Петра. Я хочу Государственную думу немедленно.
Немедленный созыв Государственной думы — вот о чем должны кричать земства, дворянство, города, крестьянство. Кричать ежедневно, представлять государю об этой необходимости, просить его, чтобы он повелел правительству графа Витте немедленно приступить к выборам.
Я знаю, что Государственная дума не гарантирует от революции, но она все-таки что-нибудь, она может обратиться к министру со всяким запросом и получить от него немедленный ответ. Теперь обратиться не к кому, ибо существует несколько правительств, друг другу враждебных, и каждое стремится только к тому, чтоб собрать свое войско.
Я знаю, что Великая французская революция прошла вся при народном представительстве, при ожесточенной и кровавой борьбе партий, при печати, сначала свободной, а потом, во время террора, при печати, которая, ползая на четвереньках, слизывала кровь с гильотины и пела хвалебные гимны палачам. Потому я и говорю, что Государственная дума не гарантирует, что революция кончилась, но она гарантирует политическую свободу, единство правительства и ответственность каждого перед законом.
Страна в волнении. Страна без правительства. В стране царствует раздор. Какие-то самозванцы призывают население к вооруженному восстанию, обещают в самом непродолжительном времени, что «власть перейдет в руки пролетариата и хозяевами Петербурга будет пролетариат». Страна не знает, что делать, к кому обратиться, где искать власти. Власть, будучи бессильною водворить какой-нибудь порядок, медлит выборами, сама не зная, на чем остановиться, ибо она никогда не изучала системы выборов, не знает ни Европы, ни России, а потому гадает на пальцах — сходятся или расходятся? Общество тоже ничего не знает, ничего не делает, не соединяется, охает и ахает, бросается к банкам продавать бумаги, к сберегательным кассам вынимать сбережения и дома ищет места, где бы их спрятать от нашествия хулиганов; оно говорит «слава Богу», когда не объявлена какая-нибудь стачка, лишающая свободного передвижения, воды, хлеба, света. По улицам ездят патрули день и ночь, как в осажденном городе. Прохожие ночью боятся встретиться с прохожим, чтоб он не обобрал, не пырнул ножом. В Москве, говорят, гораздо хуже. Петербург — образцовый город теперь. В провинции — безвластие полное, и если сегодня «город спокоен», то это еще ровно ничего не обещает на завтра. Хоть гадай на картах — куда пристать, к конституции или революции, к червонной даме или к бубновой. Революция — это черви, конституция — бубны. Трефы и пики — это поворот назад, это — реакция и силы, ее образующие. Это — полколоды.
Революционеры кричат:
«Перспективы, которые открываются перед нами, имеют всемирно-исторический характер. Наша революция, во главе которой идет пролетариат, разрубает узел мировой реакции!» («Начало»).
А если наша революция — совсем не Александр Македонский, который разрубал Гордиев узел, а тот учитель истории, который только вдохновлялся историей Александра Македонского, а сам совершал единственный подвиг — ломал стулья? Что, если разрушением, призывами к вооруженному восстанию, аграрными и военными бунтами мы так напугаем Европу, что «узел мировой реакции» затянется стальными канатами и он, как пьевра, выпустит ядовитые жала и высосет все жизненные соки из русского народа? Вы хотите царствовать над грубым невежеством и обещаете ему республику, 8-часовой день и милицию и хвастаетесь, что эта масса воспринимает ваши идеалы, «точно она с ними родилась». Да она родится и растет совсем голая и воспринимает всякую одежду и верит, что эта — настоящая одежда, верит по своей крайней политической неопытности и полному отсутствию всякого просвещения, которого ей не давали, и теперь этой массе надо, по крайней мере, 50 лет, чтоб научиться грамоте и узнать, что без упорного труда ничего не дается.
Совет рабочих депутатов не допустил в свою среду представителя анархизма. Воображаю, как обрадовалось правительство графа Витте, как оно было довольно, увидев такую политическую зрелость в правительстве, которое с ним конкурирует. «Руку, товарищи!» Но ведь анархизм в своем учении стоит выше всякой социал-демократии и социал-революционеров. Анархисты-убийцы совсем не представляют собою анархизма, как убийцы — социал-демократы не представляют собой социал-демократию. Последняя кричит политическим убийцам, что они — святые, но оговаривается, что убийство не входит в их программу. Анархизм делает то же самое. «Вооруженное восстание» так же входит в программу анархизма, как и в программу социал-демократии и социал-революционеров. Г. Колюбакин и, кажется, граф Гейден на московском Съезде объявили, что они готовы стать на баррикады, а они — конституционалисты и не пойдут к крестьянам убеждать их, чтоб они пользовались «захватным правом» и «изымали помещиков из обращения».
Превосходные, многообещающие выражения.
Во время революции партии с их чистым учением не уживаются в своих границах, а, напротив, постоянно их переходят, как застрельщики, как «летучие отряды», как темпераменты, в которых кровь бушует, сердце не знает удержу и мускулы содрогаются, пуская смертоносный удар. Вы обещаете республику, 8-часовой (рабочий) день и милицию, а анархизм обещает отсутствие всякого правительства, всяких классов, всякого войска и всякой войны, обещает 5-часовой рабочий день, существование независимых общин, основанных на договоре, и всякие другие блага. Почему анархизм хуже вашего учения? В числе анархистов стоит и граф Л. Н. Толстой и, если он попросится в Совет р. д., примут ли его? Конечно, не примут. Он отвергает все условия существующего строя, но он не согласится ни на политическую забастовку, ни на вооруженное восстание. Он — против крови, убийств и против реакции. Он — один из немногих анархистов, проповедывающих постепенное совершенствование.
Меня спрашивают в письмах, как это я мог похвалить г. Хрусталева-Носаря, назвав «этого еврея» (?) способным и энергичным, когда он «из кожи лез, чтоб разорить и пустить по миру Россию». Отвечаю. Потому что я не вижу на противной стороне людей, которые «из кожи бы лезли» для того, чтобы спасти Россию. Не вижу. Я не вижу, чтоб молодежь, чтоб средний возраст призывался к работе. Я вижу спокойных людей, тихо рассуждающих, плохо и неуверенно действующих, точно они сами себе еще не решили, революционеры они или нет. Когда я узнаю, что у революции есть какие-то «летучие отряды», есть «ораторы», есть несокрушимая энергия и бесстрашие, когда я узнаю, что в какую-то Кушку, за тридевять земель, приехали агитаторы, мне становится стыдно за общество, которое бежит и трусит, и за правительство, которое пребывает неизвестно где и неизвестно зачем.
Но мне все это не мешает сказать, что и Совет рабочих депутатов мелко плавает и что он так же идет с закрытыми глазами, как и «царское правительство». Как оно, и он не знает, где победа, где конец страданиям, где действительная, радостная, великодушная свобода, где свободный и здоровый труд. Как оно, так и Совет рабочих депутатов полагается только на оружие, на «генеральное сражение», на «решительный бой», о которых он говорит в своих резолюциях. Он точно желает реакции, точно зовет ее или так сам убежден в победе, что зовет на «генеральное сражение» и думает, что войска перейдут на его сторону и тогда он покажет, что значит его рука и воля. Он уверен, что общество, рабочие и народ за него в глубине своего сердца, но еще колеблются, а потому он громко зовет их к кровопролитной, к братоубийственной бойне, к уличной резне, к пулеметам, к безбожью, к презрению заповеди, которая учит любить ближнего, как самого себя. Кровью хотят они залить друг другу горло, кровью граждан и «товарищей», чтоб праздновать победу на грудах развалин и трупов! Нахлебавшись человеческой крови, они станут проповедывать и любовь к ближнему, указывая на трупы, как на необходимое и приятное жертвоприношение Богу Свободы. Он любит запах крови, он любит фимиам смерти, как иудейский Бог его любил!
Итак, вооружайтесь, граждане, вооружайтесь «товарищи»! Идите друг против друга. Прячьте своих детей, лгите им, что идете добывать свободу, прячьте матерей с их младенцами, прижавшимися к тощей груди, а все остальное в бой, и мужчины, и женщины и подростки, все в бой! Напоим мать нашу, святую землю нашей родины, кровью нашей, и пусть жертвенный дым поднимется к престолу Всевышнего и ангельский хор запоет «Осанна в вышних!»
Таковы лозунги битвы. Вперед! Выбирайте вождей, стройте батальоны и горе побежденным.
29 ноября (12 декабря), №10671
DCV
Победит только сильный. Вот моя тема. Кто сильней, тот и победит. Кто сильный?
Из беседы графа Витте с корреспондентом английской газеты мы все теперь знаем, что революция непобедима без содействия общества. Но ведь единственное содействие общества возможно только при Государственной думе. Во всем мире это так. Авторитет народного представительства поддерживает правительственную власть и дает ей даже исключительные права в известные кризисы. Другого содействия она дать не может, хоть бы она была семи пядей во лбу.
Но этой силы нет. Говорят: необходимо сначала успокоить общество, а потом собрать Думу. Но вот что делается. Старых законов не слушают, потому что они будто бы отменены. Новых законов не слушают, потому что они будто бы незаконны, ибо не прошли через Государственную думу. «Я не хочу слушаться и не слушаюсь» — сделалось лозунгом. Все профессии образовались в союзы и явилось новое правительство, которое отдает приказания и печатает «манифесты». На суды возлагается громадная работа и ответственность, которые едва ли можно исполнить при человеческих силах, заседая 24 часа в сутки непрерывно.
Будь судьи мучениками своего долга, будь они апостолами правды, будь они беспристрастны, как Господь Бог, все же не им разобраться в этом «освободительном движении». Разберется в нем, конечно, время, которое разбиралось во все времена, но человеческие общества не могут так долго ждать и пробуют разобраться сами.
Бее знают, что сила у сильного, кто бы он ни был. Властвует тот, у кого власть, как богат тот, у кого богатство, знатен тот, кто сумел сделаться знатным. И вот против законной власти восстает другая власть. Какая она, это все равно. Важно только то, что она — власть и что ее слушаются. Она олицетворяется в группах людей и в союзах. Союзы — явление сравнительно новое, но сильное. В какие-нибудь два-три месяца образовывается целое правительство и вступает в борьбу с правительством давним, опытным, полным традиций, по-видимому, связанным между собою неразрывными узами. И это давнее правительство побеждено при первой схватке политической забастовкой. Оно дает конституционные свободы. Тогда противник прямо объявляет, кто он. Он — революция. И революция социал-демократическая. Ближайшая цель ее — республика, следовательно, низвержение старого правительства, которому бесцеремонно говорят: уходи, сделай милость, до греха. Разве ты слеп, что твое дело проиграно? Но оно не уходит, а ждет, чтоб общество стало на его сторону, настрадавшись и напугавшись до смерти.
Это ясно из того самого разговора графа Витте с сотрудником «Daily Telegraph», о чем писали гг. Скальковский и Меньшиков. Сколько мне известно, этот сотрудник — г. Диллон, человек талантливый, опытный и энергичный журналист, давно и хорошо знающий Россию. Я сообщаю эту подробность, как необходимую для правильного суждения о беседе двух этих людей. Граф Витте говорил не с кем-нибудь, не с случайным корреспондентом, не с иностранцем, который приехал в Петербург переговорить с русским министром-президентом и для которого все ново в России. Он бывал на земских съездах, он знаком с людьми выдающимися, начиная с графа Л. Н. Толстого и кончая известными земцами и дворянами.
Это — не два незнакомца, а скорее два авгура, едва ли не одинаково знающие Россию. Г. Диллон, кроме того, знает Англию, как англичанин. Он — представитель свободной страны, купающейся в водах конституции чуть ли не целое тысячелетие и видевшей виды посложнее тех, которые видела Франция. Только в этой стране мог Дарвин додуматься до своей знаменитой борьбы за существование, потому что вся истории Англии — сплошная политическая и экономическая борьба. С таким человеком, как г. Диллон, графу Витте говорить не только приятно, но и поучительно, и беседа их, конечно, происходила не в тех рамках, в каких передано телеграфом, но и в этих рамках она останется в истории очень интересным документом.
Я должен сказать, что не разделяю вполне мнений, высказанных моими товарищами по газете об этой беседе. Я думаю, что это — в некотором роде пробный шар, а не то чтоб вполне искреннее признание графа Витте. Я не могу поверить, чтобы такой властный человек, как он, мог в самом деле думать, что революция непобедима без содействия общества. Он ведь и не сказал, в чем должно было заключаться это содействие. Он поставил загадку, загадку не только для общества, но и для себя самого.
Граф Витте все финансовые реформы в течение десяти лет провел без всякого содействия общества, даже можно сказать — вопреки большому кругу общества, например, тому же самому земству, состоящему из помещиков. Он работал смело, иногда жестоко, с пылом юноши и беспощадностью реформатора, уверенного в том, что он делает благо для своей родины. Он сладил с такой реформой, как казенная винная монополия, и построил такую дорогу, как Сибирская, которая сблизила Россию с Японией для схватки. Он взялся за Портсмутский мир с такою же смелостью и этот вопрос решил, и все это без всякого содействия общества, даже вопреки ему, вопреки народному самолюбию, этой огромной исторической силе. Как же он может серьезно говорить, что без общества нельзя победить революции?
Нет, он думал о победе, не мог не думать. Он сам говорит, что ожидал, что случилось, но думал, что это будет только вспышкой. Это его выражение не совсем ясно. Скорей он не знал о силах революции, а не о бессилии общества, давно ему знакомом. В этом случае он оказался не выше своих современников. Он не предполагал, что общество пойдет за социалистами-революционерами и социал-демократами, он не предполагал, что союзная форма для действий революции будет так успешна. Он думал, что общество обрадуется конституции так, что революционные партии притихнут и дадут возможность провести конституционную реформу так же или почти так же спокойно, как винную, как золотую, где оппозиция злобно шушукала и до смехотворного показала себя бессильной. Но, господа, ведь это та самая оппозиция, которая провозгласила себя революционером на земско-городском съезде. Ведь это — horribile dictu — не только те самые сословия, но даже почти те самые лица и фамилии, которые были так смешны или трагически бессильны во время финансовых реформ С. Ю. Витте. В несколько лет они выросли в революционеров, в сильных самозванцев и заставили говорить [о себе] всю Россию и Европу.
Пока он ждал прибытия своей общественной армии, «союзная» армия открыла огонь. Против графа Витте пошли люди, которые не желали никакой республики, но только конституции. Я думаю, что разговоры об Учредительном собрании, о четырехчленной системе выборов, о наделе землею и об автономии Царства Польского были совсем не искренни. Это скорей — coups de thêatre, скорее эффекты и революционные плащи, чем убеждения. Крестьянские погромы живо уничтожили все эти знамена, все эти выкрики о готовности идти на баррикады, и такой решительный человек, как г. Родичев, заговорил речами совсем не революционера, а просто убежденного конституционалиста и монархиста. Но не одни погромы это сделали. Сделала искренняя революционная партия, социал-демократы и социал-революционеры. Граф Витте не ожидал и этого явления. Он не мог предполагать, что эта партия найдет столько приверженцев сознательных и в особенности бессознательных. А ведь революции делаются сильными именно при помощи бессознательной толпы, которая вдруг начинает верить во что-нибудь такое, что ей покажется ярким поворотом к лучшему и светлому будущему. Она точно нашла новую религию, нового Христа, не церковного, а настоящего, каким он рисуется в христианском социализме. Толпа поверила во что-то, в пришествие новой силы, бескорыстной, великой и справедливой. И что еще надо сказать: самое просвещенное и зажиточное общество посторонилось и почувствовало как бы некоторое угрызение совести, что ли, или некоторое предчувствие силы. Ведь она, эта сила, ссылалась на «мучеников свободы», она свидетельствовала о них, как о «завоевателях» того самого манифеста 17 октября, полного выполнения которого хотели конституционалисты, провозгласившие себя, вслед за г. Петрункевичем, революционерами. Русский человек добросердечен и быстро кается, даже готов наговорить на себя, чтоб только не прослыть отсталым. И вот, все это и пошло в революцию, или, правильнее, одни были в ней, другие в нее вступили, а третьи, большинство, подходили к ней с любопытством и боязнью, делали шаг вперед и потом пятились боязливо. Идти ли за графом Витте и против революции, или предоставить ему самому посчитаться с ней, а самим посмотреть и присмотреться, где будет сила. Идут за сильным, а он вполне еще не определился.
Граф Витте, кроме того, еще не ожидал, что большая часть печати окажется на стороне революции и что свободная печать будет такая пылкая и такая воинственная, что твои японцы. Вот, вкратце, положение графа Витте. Оно трагическое поистине, если он хорошо оценивает данную минуту. А я думаю, по разговору его с г. Диллоном, что он понимает свое положение прекрасно, но не высказывает его вполне, а только пускает пробный шар, на котором есть полоса некоторой сентиментальности, например, в словах его, что он способен действовать только «нравственными мерами», а не репрессией. Сентиментальность входит иногда в состав сильных натур не как слабость, а как окраска затаенной черты характера или затаенной мысли.
Однако, надо же что-нибудь делать? Надо. Что? Надо идти с какой-нибудь партией твердо и прямо к намеченной цели, не сворачивая никуда, и идти быстро, не пускаясь в правительственную публицистику.
А цель эта у графа Витте одна — исполнение манифеста 17 октября. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что граф Витте желает осуществления этого манифеста. Он «достиг высшей власти», как говорит Борис Годунов у Пушкина. Провести в жизнь конституционную реформу — это его слава. На это можно всю жизнь положить, все силы напрячь, все средства употребить. Этой реформы искренно и бесповоротно желает государь, а за государем стоит народ. Но как ее провести, с кем? Вот вопрос. Решил ли его для себя граф Витте, я не знаю. Его пробный шар хорошо ли взлетел или взорвался? Нашел ли он себе союзников и, главное, в себе силы, или не нашел?
Русское общество в массе своей, в большинстве, привыкло идти за сильным и пойдет за сильным. Вот в чем дело. От общества нельзя требовать невозможного и неопределенного. Оно всегда шло за сильным — был ли это Иван Грозный, Самозванец, Минин с Пожарским, Петр Великий, Кутузов, был ли это Александр И, сильный своей реформой.
Побеждает только сильный мужеством, искренностью, беспредельной любовью к отечеству.
Бывают эпохи сумасшествия, эпохи религиозного возбуждения и эпохи политического возбуждения. Среди видимого беспорядка чувствуется однообразный, но возбуждающий звон струны по всей России. Им наполнен воздух, как заразительным вдохновением и душевным беспокойством. Малое делается великим и великое падает ниц. Приниженное поднимает голову, возвышенное прячется и становится жалким.
Момент трагический не для одного графа Витте, не для его честолюбия и славы. Это было бы не важно. Был граф Витте и нет его. Кроме политической смерти, есть смерть обыкновенная, для всех обязательная. Но в трагическом этом моменте находится Россия, ее судьбы. Она не должна и не может умереть, не может делаться жертвою этого трагического момента.
А что же мы видим?
Правительство «союзное» объявляет политическую забастовку, овладевает телеграфом, не передает не только депеш графа Витте, но и депеш государя, закрывает железные дороги, магазины, тушит электричество, делает открыто заговоры, приглашает к вооруженному восстанию и «окончательной битве», точно хочет оправдать слова графа Витте о необыкновенных способностях и энергии революционной партии. «Пролетарии всех стран соединяйтесь! Пролетарская диктатура готова взять в свои руки правление. Правительство пало. Ему не одолеть великой и победоносной русской революции!» Вот крики, которые не только раздаются, но собирают свою армию.
Собственники, соединяйтесь, хотя не всех стран, а одной Великороссии. Не верьте, что революция неодолима!
Так, что ли, восклицать?
Но я не умею писать прокламаций.
Общество пойдет только за сильным. Минин был вдохновенным. Мининых были сотни. Где они теперь? Где мужество, где соединение всех, где сила вдохновенного действия?
8(21) декабря, №10680
DCVI
Петербург оставался спокоен. Петербург работал» торговал и делал дело и отгонял революционную полицию» приходившую «закрывать»» «снимать» и вывешивать красные флаги» отгонял» как отгоняют докучных мух. «Проваливайте» проваливайте» господа!» И господа полицейские революции проваливали» без всякого содействия полиции правительственной. Инстинктом столичного города» города Петра Великого» который начал создание новой России» петербургское население почуяло врага государства» врага России и закричало на него. Этого властного крика враг не ожидал и смутился. Он пробовал кое-где стрелять» собирал кучки своей армии» но все это было бессильно перед забастовкой всего населения — дать отпор революции самым простым способом» непослушанием. Рабочие» одурманенные ладаном лести, стали отмахиваться от этого кадильного дыма и прозревать. На некоторых заводах меньшинство напрасно прибегало к камням и буйству, большинство становилось на работу и требовало только от начальства защиты от камней, которые разбивали окна и напускали холоду в помещения. Начальство, по обыкновению, трусило и набиралось храбрости только благодаря настойчивости большинства, которое хотело работать и требовало спокойствия.
Русское здравомыслие брало верх. Фразистые обещания «пролетарской диктатуры», грабежа государственного казначейства, арсеналов и подвалов золота в Государственном банке, обязательная присяга новому правительству, с евреями во главе, солдатская автономия, — все это, очевидно, показалось простому русскому человеку до такой степени наглым, обидным и предательским, что в рабочем заговорило благородное русское чувство и подсказало ему, что его ведут на гибель государству, на полное его разложение и муку. В течение одного года рабочие потеряли в одном Петербурге больше 5 миллионов рублей заработной платы, и этих денег ничем не воротишь. Красноречие ораторов, конечно, воодушевляет на новые подвиги и новые потери, но здравомыслие говорит, что труд необходим и что без него человек ничего не достигнет. Целый год забастовочной жизни убедил многих и многих, что так действовать невозможно. Если экономическая забастовка давала еще результаты, то политическая ровно ничего, кроме голода и журавля в небе, который и не думает спускаться вниз. Он продолжает летать, меланхолически восклицая: «кутырл…»
Где же она, революция? Где та нация в революции, которая, подобно расплавленному металлу, кипит и постоянно возрождается? Такой нации нет. Все, чего она хотела, свободной жизни, свободы слова и вероисповеданий, Государственной думы с правами контроля над администрацией и с правом законодательства, — все это дано государем или обещано нерушимым царским словом. В Государственной думе будут крестьяне и рабочие, и голос их будет слышен постоянно во всем русском царстве. С такими правами можно жить и работать спокойно. С такими правами можно вывести Россию из ее тяжкого состояния и направить общий труд населения и общий разум на благо нашему отечеству, столь измученному, исстрадавшемуся и потрясенному. Неужели у русских людей каменное сердце, что они желают хаоса и разрушения, проявления варварства во всей его дикости и злобе? Неужели боги эти революционеры, обещающие из хаоса создать новую жизнь мановением своей руки? И неужели, наконец, все еще мало того разрушения и той злобы, того преступного перед отечеством легкомыслия, которые уже натворили так много бед, что поднимаются окраины и грозят отторгнуться от России? И этот русский человек, создавший такую великую державу, теперь, на пороге к свободе, не одумается и не скажет: «Довольно! Я хочу жить и работать! Я не хочу быть подвластным каким-то безыменным самозванцам, которые мутят родную Русь и роют ей могилу! Довольно! Я так хочу и, чего я хочу, то сделаю».
И если б этот крик пошел по всей Руси, если бы он отдался во всяком русском сердце и оно затрепетало бы любовью к родине, той великой любовью, которая не ищет наград и отличий, но которая пылает бескорыстием и мужеством, — русский человек сделал бы чудеса, как во времена Минина и Пожарского. Воскресни же эта любовь в русской груди, загорись же она ярким пламенем, и пусть это пламя сожжет дьявольскую злобу разрушения и воскреснет великая, свободная здоровая Русь!
11 (24) декабря, №10683
DCVII
Кто мог ожидать, что революция разыграется в Москве, в этом сердце России? Обиженная и разжалованная Петром Великим, великая собирательница Руси отошла на второй план, стала «почетной» столицей, как бывают «почетные» члены в обществах. Русские цари и царицы продолжали в ней короноваться, поэзия продолжала ее славить, большие баре и сановники в отставке в ней продолжали жить, торговля и промышленность продолжали свивать себе в ней прочное гнездо и объединять Русь, гонимый раскол в ней хранил древнее благочестие с своим допетровским укладом и богател. Екатерина И вспомнила о ней и собрала в ней свою Законодательную комиссию, депутатов от всей России для сочинения новых законов, нечто вроде Учредительного собрания, которое, однако, скоро было распущено по обстоятельствам доселе еще не совсем ясным, но несомненно неприятным Петербургу. Двенадцатый год — апогей ее славы, когда она сгорела и Наполеон с армией бежал из нее. В ней потом встречаем Чацкого с либеральной проповедью, с Английским клубом, где раздавались речи о конституции, обильно поливаемые шампанским. Но она росла не Английским клубом, а своею торговлею, купечеством, капиталами, складами товаров. Рост этот усиливается с железными дорогами. Барство и чиновничество отходило на задний план и среднее сословие вырастало. Дворянство, лишенное крепостного права, беднело и становилось в служебные отношения к московскому купечеству и фабриканту. Нигде у нас рост третьего сословия так не сказывается, как именно в Москве. Нигде не было такого преобладания его и его силы, хотя эта сила только полупризнавалась с официальной стороны. Москву ласкали, оказывали ей благоволение, и она это ценила, но и сознавала, что она обязана себе своим ростом. Она росла прямо из народа; картуз нигде так не господствовал, как в ней. Это — не мужик, а кандидат в среднее сословие, в мелкую буржуазию, в буржуазию картузную, которая вырастая обращалась в буржуазию шляпную, а последняя роднилась с дворянством, воспитывала детей своих в гимназиях и университетах, посылала их для коммерческого образования за границу, держала гувернеров и гувернанток для языков и обращения. Тип «самодуров» не исчезал, но смягчался, сохраняя свои родовые русские черты деспотизма и удали, скопидомства и разгула, битья зеркал, разливанного моря шампанского и «чего моя нога хочет» и широкой благотворительности, создания больниц, пожертвований на школы, низшие, средние и высшие, картинных галерей, музеев, библиотек и проч. Вместо прежних имен барского времени, Голицыных, Шереметевых, Строгановых и проч. является целый ряд богатой буржуазии, которая делится своим богатством с обществом или жертвует ему свои драгоценные коллекции. Упоминаю имена, которые приходят на память, — Третьяковы, Морозовы, Боткины, Алексеевы, Хлудовы, Солдатёнков, Солодовников (посмертное завещание).
Это далеко не все. Но все это развитие буржуазии совершалось очень патриархальным порядком, который вырождался под влиянием экономических западных идей. Дешевый труд очень помогал промышленности в ее быстром росте, и вот уж несколько лет, как началась борьба рабочего с капиталом, борьба тоже почти на патриархальных началах. Ее никто хорошо не понимал, ни сама буржуазия, ни рабочие и менее всего администрация. Последняя не умела ни идти вместе с буржуазией и исправить все старые пути, ни помочь рабочим в их основательных требованиях. Администрация становилась то в покровительственные отношения к буржуазии, вызывая с ее стороны недовольство, потому что это покровительство зачастую отзывалось высокомерием, то в покровительственные отношения к рабочему движению, которое понималось очень узко и самонадеянностью людей власти старого порядка. Власть считала себя чем-то незыблемым и до такой степени всемогущим и стоящим на такой недосягаемой высоте, что жизнь являлась ей с птичьего полета, из высоких хором, хорошо устроенных и вполне обеспеченных от всякой серьезной опасности. Кто среди буржуазии понимал опасности рабочего движения и необходимость переустройства труда слишком дешевого и патриархального, тот делал что мог в одиночку, в одиночку боролся, в одиночку представлял администрации свои опасения. Между тем революция пользовалась этим межеумочным состоянием и распространяла свои листки среди рабочих прямо с умопомрачительным успехом.
Навстречу им ровно ничего не делалось, кроме какой-то игры администрации в рабочий вопрос, игры, похожей на игру в орлянку или в чет и нечет. В то время, когда революционное движение росло среди рабочих и той интеллигенции, которая работала и жила своим трудом, считая гроши, буржуазия также настраивалась революционно вместе с поместным дворянством. Война открывала язвы шире и шире. Патриотическое настроение, патриотические жертвы вместе с молебнами о даровании победы и панихидами по убитым, вместе со слезами и стонами пропадали в каком-то безумном пространстве бездарности и слепоты, которое все безвозвратно поглощало, как колоссальный насос, ничего не давая, даже надежды. В этом пространстве стояли только слова: «Терпение, терпение и терпение», точно терпение бесконечно и нет нигде отчаяния. Но отчаяние стояло впереди и грозило…
В конце концов все стало революционным. Всякий русский обратился в революционера и с наслаждением выговаривал это слово. Московский земский и городской Съезд прямо объявил себя революционером, пригласив к себе в компанию Польшу. Высказывая свои конституционные требования, он, однако, нимало не думал о том, что около него собирается вооруженное восстание, и так называемый крестьянский съезд противопоставлял конституционным требованиям в той же самой Москве требования социал-демократические и диктатуру пролетариата. Представители земства, дворянства и городской буржуазии, провозглашая себя за революцию, не предвидели, что она уже началась и идет путем насилия, разрушения усадеб, захватным правом, что подымается Польша, Прибалтийский край, Литва, Кавказ, что вся Россия в брожении и что рабочий пролетариат объединился в союзах, открыто спорит с правительством о власти, декретирует забастовки и презрительно трактует всех «революционеров» московского Съезда. Пока московский Съезд пространно ораторствовал о бесспорных теоретических истинах, думая, что ими он всех примирит и всех удовлетворит, пока он облекал свои резолюции в литературную форму, посылал делегацию к графу Витте, а граф Витте резолюции рассматривал, — в это время в Москве готовилось вооруженное восстание и созрел план овладеть ею, провозгласить низвержение правительства, поднять другие города таким же революционным путем, откинуть в сторону Петербург, уединить его с бессильным Севером, отложившейся Финляндией, восставшим Прибалтийским краем, Литвой и Польшей и, сделав его безвредным для себя, как безвредна была для Москвы невская пустыня, куда бежал Петр Великий из Москвы.
Он действительно бежал из нее, бежал от ее революции, от ее раскольничьих и стрелецких бунтов, от ее старого крепкого уклада, от ее соборных преданий и православия, от ее Кремля и святынь. Несмотря на свою богатырскую силу, он чувствовал инстинктом гения, что там поставят границы его самодержавию и его воле. Берега пустынной Невы обещали ему раздолье и простор, ему нужен был свой город, своя армия, новые варяги, которые шли к нему из Европы, везли свои товары, свой труд и новые понятия. Только отсюда он мог создать свою империю, совершенно отказавшись от всего московского и тяжелой рукой подавляя все гневные выходки и заговоры старой столицы, которая шепотом негодовала на царское беспутство и шутовство над религией и нравами.
Но время возвращало Москве ее старую силу. Все пути вели к ней, и с востока, и с юга, и с запада. Как паук, она раскинула свою сеть на всю Россию, богатея и продолжая свою старую роль объединения, уже одна, без содействия великих князей и царей. Она выросла из народа, она создала русский язык, создала православие, торговлю и промышленность. 6 ней написана русская история Карамзиным и Соловьевым, в ней родился великий русский поэт, в ней памятники русской славы — Минин и Пожарский, Пушкин, Александр II Освободитель, народные герои. Даже пожар 1812 года способствовал ее украшенью и возвеличил ее на весь мир, как великую представительницу народного, независимого духа. Недаром до сих пор ее называют большой деревней, и она еще продолжает походить только на себя самое, несмотря на новые дома в декадентском стиле. И недаром в ней же собирались съезды конституционно-революционные, социал-демократические и социал-революционные. 6 какой мере Съезд сошел с рельсов, увлекаясь красноречием, видно из того, что голос Гучкова в защиту единства России и против автономии Польши встречен был с раздражением и смехом. Если б кто-нибудь на Съезде обладал даром предвидения и сказал бы этому почтенному собранию прогрессивных голов, что в тот самый срок, почти в тот самый день, на который Съезд назначил новое свое заседание, в Москве вспыхнет вооруженная революция, никто бы этому не поверил. Социал-демократическая и революционная партия считалась такой слабой, что многие члены Съезда готовы были бы ей покровительствовать, считая ее чем-то вроде пугала в огороде правительства. Отрицать силу революционной партии — это очень старый прием, может быть, пригодный в спокойные времена, когда все молчит, притворяясь благоденствующим и благонамеренным, но очень опасный и очень легкомысленный прием, когда идет глубокое движение. А вооруженная революция была готова и выбрала Москву, как сердце России, как старый город, из которого пошло московское государство и который воспитал и сильную буржуазию и сильный рабочий класс, который совсем не мог похвалиться благосостоянием…
Замысел революции был однако слишком смел и нерасчетлив, даже если, как говорят, в него входил план поднять одновременно восстание в Петербурге, с тем, чтоб не дать ему возможности и думать о Москве, а думать только о своем спасении и держать все войска у себя. Слишком смел и нерасчетлив этот план был потому, что московское чувство стало русским чувством; значение Петербурга, как столицы империи, вошло в плоть и кровь и москвичей. Москва без Петербурга и Петербург без Москвы жить не могут полной жизнью. Победа революции в Москве была бы или началом разгрома всей России, или началом восстания всей Москвы против революционного движения.
Москва не могла бы отдаться новому правительству без сопротивления. Она восстала бы, как вставала против Самозванца, против фаворитов царя Алексея Михайловича, против церковной никоновской реформы, против двоевластия во время Софии и против Наполеона. Она не могла бы не восстать теперь, когда огромное большинство ее населения совершенно чуждо революции и в ней ничего не видит, кроме разорения. Я не могу без ужаса думать, что сделалось бы с Москвою во время нашествия этой новоявленной силы. Что сделалось бы с Россией, об этом и говорить нечего.
14 (27) декабря, №10686
DCVIII
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — кричат революционеры.
А я кричу: «Слушайте, пролетарии — к вам идет русское дворянство, в ваши ряды, в ваше жилье, в ночлежные дома и в вашу нищету. Пройдет несколько лет, и ваши ряды наполнятся русским дворянством».
Так как «Новое Время» не читается пролетариатом, то я и не соблазняю его таким воззванием, а так как дворянство его почитывает, то я предлагаю ему эти строки для размышления и заранее извиняюсь за некоторую их резкость.
Я не прочел ни одного известия о том, чтобы дворянин защищал свою усадьбу, свою собственность, чтоб он лег костьми, защищая наследственную собственность и могилы своих предков. Я думаю, что защищать свой дом — это долг всякого человека. Защищая свой дом, я защищаю территорию своей родины, хоть малейшую ее часть, хотя несколько десятин, хотя сто сажен, на которых есть следы культуры, мной или моими предками сделанные. Защищая свой дом от разгрома озверевшей толпы, не внушаю ли я известного почтения даже ей? Эти христиане поступают хуже зверей, ибо зверь тащит то, что ему надо для утоления своего голода, а мужик рубит фортепиано, истребляет мебель, картины, ковры, сжигает дом, отрезывает языки у лошадей, ранит коров в вымя, убивает овец и бросает их в реку. Зверь насыщает свой голод, мужик хочет насытить свою злобу. Если я слово ему скажу или выкажу перед ним свое мужество, свою нравственную силу, не проснется ли в нем человек? А когда я бегу перед ним, не думает ли он о трусливом зайце? Когда является генерал-адъютант к нему, он встречает его с хлебом-солью и становится на колени и просит прощения. Рабство это или раскаяние? Я знаю, все это объясняется тем, что его держали в зверином образе.
Эти грабежи, однако, ничем оправдать нельзя. Можно пожалеть в грабителе человека, Божье создание, наделенное бессмертною душою, но нельзя оправдать самый грабеж, самое преступление. Нельзя оправдать и той трусости, с которой дворянство бежит из своих деревень, ничего не предпринимая против грабежа и не пытаясь его остановить.
Нет мужества — вот что ужасно. Трусость самая явная является в своем жалком рубище, но воображает, что она все еще в бархате и золоте, победительным тоном защищает себя и ссылается на тысячи общих причин. Точно нет личности, нет характера, нет своего «я», а только «мы» и это «мы» — бесформенное и безнадежное. Толпа испуганных овец, толпа испуганных рабов — вот что такое это «мы» и начальство вместе с ним. И Россия погибает от трусости, от рабского чувства перед всякой палкой, перед всякой угрозой. Висит ли на палке двуглавый орел, висит ли на ней красный платок, кусок ксандринки и красного шелка, или ничего не висит, но смело поднята палка вверх — и начинают у всех дрожать колени — одни бегут, другие прячутся, третьи бросаются на колени, четвертые пишут доклады.
Позор и стыд! Где прошлая доблесть дворянства» его мужество, его самопожертвование? Оно отказалось от крепостного права. Охотно верится, что большинство отказалось добровольно, великодушно. Но, получив выкуп за землю, оно прожило его беспутно и легкомысленно. Начались просьбы о подачках, унизительные, жалкие просьбы. Основали банк для дворянства — его обокрали те самые дворяне, которые им заведывали, одни крали, другие не видели. Как редкие исключения слышались голоса о свободных учреждениях, в которых Россия нуждалась. Но эти голоса были таковы, что стоило крикнуть — и все смолкало. Между отцами и детьми настал раскол. Дети ссылались и погибали в тюрьмах. Их не учили, но мучили. Отцы молчали. Когда настало это «освободительное движение», можно было бы отдать справедливость дворянству, что оно заговорило первое, если б оно не сделало это во время войны. Однако, пусть это хорошо. Но сопровождался ли этот голос таким действием, о котором можно было бы сказать: «мое слово — мое дело». Оно стало говорить для того, чтоб примкнуть к революционному движению и выказать себя как можно радикальнее или как можно консервативнее. Никакой ясной, здравомысленной, бодрой и исполнимой программы не было. Это была какая-то смесь конституции с социализмом и даже с социал-демократией, смесь недомыслия и трусости перед революцией. Трудно разобраться, чем собственно отличается революционная программа от дворянской или земской. 6 то время, когда образовывались союзы рабочих, крестьян, железнодорожников, почтово-телеграфных чиновников, приказчиков, портных и проч., в то время, когда многие из этих союзов действовали и заставляли считаться с собой правительство, дворянство изнывало в красноречии, снимало с себя фотографические карточки в ораторских позах и заслушивалось рукоплесканий. Доходило до социал-демократических доктрин, до уступок всей земли, разумеется, на выкуп, т. е. доходило до самоубийства. Но если так, отчего не кричать: «Да здравствует социал-демократия! Да здравствует революция!» Возьмем деньги и проедим, пропьем и прокутим. Русская душа нараспашку. Не посрамим русскую землю. Вот где мы храбры, где нам море по колена и откуда прямой путь в пролетариат. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Из России идет дворянство.
Вся высшая администрация, военная и гражданская, столичная и провинциальная, — ведь это все дворянство. Губернаторы, предводители, земские управы — все это почти сплошь дворянство. И где же личности, где деятели, где таланты, где мужество, где горячая инициатива, способная соединить вокруг себя, собрать, действовать? Несколько имен мелькало, но и из них половина комиков и межеумков, которые ровно ничего не понимали и не знали ни того, что делают, ни того, куда идут. А ведь дворянство создавало культурную жизнь, насаждало оазисы среди степей и непроезжих дорог, знало цену просвещения и мужества. В прошлом можно указать на мужество и смелость даже женщин-дворянок, которые не уступали князю Якову Долгорукову. Теперь как будто все это исчезло, как будто все слилось во что-то серое, и остается один выход — стать под красное знамя социал-демократии.
Но что ж могло бы сделать дворянство своим мужеством? Очень многое. Оно могло бы остановить аграрные беспорядки» оно могло бы разбудить правительство в его бездействии» разбудить его властно» разбудить, когда дело не дошло еще до вооруженного восстания. Ведь дворянства целый миллион. Ведь оно знало, что делается, что приготовляется, оно видело трусость губернаторов, ничтожность всякого другого начальства, нужды крестьян, их настроение, оно барахталось среди революционеров и повторяло их идеи и шло у них на веревочке и проч. Оно могло бы забросать правительство графа Витте петициями, представлениями, депутациями о выборах, о созвании Государственной думы, о положении страны. А то он, бедный первый министр, все ждал, когда же, наконец, начнется общее восстание в России и когда опустеют сберегательные кассы, банки, государственное казначейство. Естественно, когда вы говорили ему: «дайте автономию Польше, снимите еврейскую границу, заплатите из государственного казначейства за погром евреям (и такая резолюция была на Съезде), введите во всех школах преподавание на местных языках и все это немедленно, как было это у попа Гапона сказано, в петиции рабочих к государю», — то граф Витте высокомерно мог относиться к таким требованиям и объявить всему миру через знакомого англичанина, что общество ему не помогает и что, если он победит революцию, то победит один, как победил Помпей восстание гладиаторов, и выедет на коне в третий Рим, как победитель, и рабы будут за ним влачить свои цепи, а женщины усыпать его путь иммортелями.
Рассказывают, что бывший генерал-губернатор московский Дурново на телеграфный вопрос правительства «что это за крестьянский съезд он разрешил», три дня не отвечал, а на вторичный вопрос отвечал письмом так: «Я разрешил этот съезд, чтобы дать ему высказаться и потом арестовать его членов».
Если вы, начальник, увидите человека, который поднимает топор над другим человеком, дайте ему, Христа ради, убить, чтоб потом арестовать и сослать убийцу на каторгу.
Представьте себе, если бы восстание началось при г. Дурново. Он дал бы ему «высказаться» и на запрос петербургского правительства, что делается в Москве, отвечал бы: «сижу в кутузке. Кормят недурно».
Вот настоящие правители, вот русская наука управления. Сперва мы дадим вам вооружаться, образовать боевые дружины, позволим призывать к вооруженному восстанию целый месяц, позволим образовать рядом с собой новое правительство союзов, которое печатает открыто отчеты о своих заседаниях, издает «манифесты», овладевает телеграфом и железными дорогами, этою драгоценною собственностью русского народа, и, когда все это потрясет Россию, подорвет ее кредит и даст убеждение гладиаторам революции, что стоит восстать только с оружием в руках, чтоб спихнуть одним ударом правительство и посадить его в Петропавловскую крепость — оно начинает стрелять из пушек в «всепобедимую» якобы революцию.
Видели вы все это или нет? Только слепые могли этого не видеть. Если бы не армия, которая осталась верна своему государю и Отечеству и которая глубоким, прирожденным чувством русского человека понимает, что Россия выше всякого правительства и защищать ее целость есть общий долг сынов ее, — если б не эта армия, то поджаривай нас на сковороде и делай из нас что хочешь. Под всяким знаменем мы пойдем. И если б социал-демократия не имела права этого думать по поступкам правительства — она никогда не подняла бы восстание.
16 (29) декабря, №10688
DCIX
Может, практически я не прав, упрекая дворянство в трусости. Я помещаю ниже возражение мне. Но в идее я прав, прав сто раз. Ни у кого нет мужества — в этом вся беда, тогда как у революционеров именно это мужество есть и им только они сильны. Почему у нас нет мужества? Потому что мы не убеждены в том, что его надо иметь. Мы все думаем, что кто-то все за нас сделает, мы все надеемся, что так будет. В народе говорят, что Николай Угодник на Россию рассердился за то, что она взяла другого святого, Серафима. Очень возможно, что оно и так, ибо Николай Угодник всегда помогал управлять Россией. А теперь перестал помогать, и вот русских не только не уважают, но гонят.
Гонят отовсюду. Гонят из Финляндии, гонят из Польши, гонят из Литвы, наверно, будут гнать с Кавказа и из других мест империи. Попечитель Виленского округа просит 20 тыс. руб. изгнанникам из Литвы. Министр народного просвещения в принципе удовлетворил эту просьбу, и изгнанники получат пособие. Как теперь все просто стало. Русских гонят в шею, выражаясь деликатно, а министр находит, что тут ничего особенного нет. Просто прогнали, значит, надо уходить. Конечно, это решалось всем Советом министров, так как один не вправе распоряжаться такими суммами. Стало быть, все правительство графа Витте находит, что этот порядок вещей самый естественный. А если из Петербурга станут гнать русских вместе с правительством графа Витте, — куда тогда уходить? Не следует ли об этом подумать теперь же? Есть ли где в России такие места, где можно было бы приютиться русским, живущим в местностях завоеванных? Ведь то место, где построен Петербург, — тоже завоевано и нельзя сказать, чтоб очень давно. Почему же не ожидать того, что и отсюда русских погонят? Теперь везде ходит Баба-Яга, подергивает ноздрями, нюхает и говорит: «Здесь русским духом пахнет», и как только скажет, сейчас же Бабу-Ягу начинают слушаться, берут метлы и гонят русских, и русские бегут, подобрав детей под мышку, а добро, какое есть, взвалив на шею. Да, слава Тебе еще Господи, если только по шеям дадут, а то еще искалечат и убьют, устроив крушение поезда или пустят навстречу изгнанникам паровоз со скоростью 80 верст в час, и он ударит по вагонам, наполненным бедными изгнанниками, и все изломает и истребит и будут валяться по земле окровавленные головы, ноги, руки мужчин, женщин и детей…
Вопрос усложняется еще тем, что и из Москвы русских гонят. Из самой Москвы. Многие семьи москвичей приехали в Петербург, думая найти здесь приют. Но так как Петербург — Ингерманландия, то естественно, что пребывание и в столице русского царства русским людям не обеспечено. Бывало ли когда-нибудь что-нибудь подобное? Когда разве татары завоевали Русь, это было, даже во время Наполеонова нашествия этого не бывало. Тогда тоже бежали, но тогда не было никаких революционеров и забастовщиков, которые останавливали движение. А теперь русские люди соединились с инородцами и гонят русских же людей отовсюду, даже из таких мест, как Москва, где и Иван Великий, и Василий Блаженный, и Иверская Божия Матерь. Но у социал-демократии правило: «со срамом и бранью гнать все сильное, Бога, государей, государство, церковь, буржуазию». Это написано в ее катехизисе.
Прекращается внутренняя и вывозная торговля. Многие пароходы заручаются разрешением стачечных комитетов для выхода из балтийских портов. Английские паспорта визируются стачечными комитетами. Иностранные державы шлют в балтийские воды свои пароходы, чтоб отвести на родину своих соотечественников. А нас кто и куда повезет? Для французского посла, чтоб взять его, идет в Кронштадт крейсер. Хорошо иностранцам — у них очевидно есть родина, есть правительство, которое о них заботится. А вот у нас и родину отнимают и доселе никому неизвестно, кто ее отнимает и кто гонит русских. Просто какая-то Баба-Яга в ступе и с помелом.
В Петербурге заседал совет автономистов, т. е. представителей всех народностей, которые желают объединиться в походе против великороссов. Великороссов в этот съезд не пригласили, очевидно, считали их врагами. Великороссии объявлена война, а она, сходя с ума, сама гонит своих, разрушая усадьбы, останавливает движение, почты, телеграф, работы, а газеты надсаживаются крича: «так это и надо!»
Может, и в самом деле так и надо. Кора Русской земли лопнула от пара, который напустили черти, жившие под корою, и оттуда полезла невидимая сила.
Отчего бы графу Витте, который так много читает и пишет и говорит якобы «блестящие речи» для иностранных корреспондентов, чтобы они разносили по Европе его славу, таланты и уменье управлять, разносили, конечно, совершенно бескорыстно, отчего бы ему не приказать г. Татищеву, редактору «Правительственного Вестника», написать «руководящую статью» о том, где уготовано место для русских изгнанников и чем им «руководиться», когда их гонят в шею с территорий, принадлежащих России или, по крайней мере, числящихся в составе Русской империи. Дело идет не о том, чтоб снять черту еврейской оседлости, а о том, чтоб определить черту русской оседлости. Вот до чего дожили! И я понимаю еврея, который говорит: «а, вы ожидали погрома в Бердичеве? Так вот же вам — он в Москве».
Да, очень нужно указание этой черты русской оседлости в «Правительственном Вестнике». Но, может быть, граф Витте хочет уходить? Ему хорошо: он сядет в вагон и уедет в Берлин. Германский император примет его с распростертыми объятиями, тем скорее, что у графа Витте гораздо больше немецкой души, чем русской. Конечно, он в этом нисколько не виноват, да немецкая душа может быть гораздо лучше русской — Лютер, Кант, Шиллер, Гете, — но и мы нисколько не виноваты в том, что в нас нет немецкой души, что мы, может быть, страдаем именно от того, что у нас только русская грешная душа, вечно мечтающая, вечно стремящаяся неизвестно куда, вечно доверчивая и вечно унылая, готовая лететь во всякий момент в райские селения, которые ей уготованы тоже неизвестно где. Когда ни нам, ни правительству ничего неизвестно, то что может быть лучше?!
Одна газета ежедневно приглашает графа Витте уходить. Теперь «приглашение» в моде. Министры приглашают, губернаторы приглашают, приглашают чиновников, железнодорожников, рабочих, революционеров. Точно приглашение на свадьбу или похороны. Приказаний нет, есть только приглашения. Иногда говорят: «пригласить в решительной форме», иногда без формы, в партикулярном виде. Столь же модно слово «арест». Арестуют комитеты, бомбы, газеты, пулеметы, типографии. Оказывается, что бомбами наполнены целые дома. Никто не видал. А если видели, то говорили: «Погодите, подлецы, мы эти бомбы арестуем, когда придет приглашение арестовать». Оно пришло — и арестовали. Боже, как все это просто!
Упомянутая газета приглашает графа Витте удалиться, кажется, без формы. Думается, что она ошибается, ибо без графа Витте Россия сейчас же погибнет. Не пройдет и недели, как она развалится, ибо граф Витте, из всех китов, о которых говорится в сказках и на которых стоит русская земля, самый большой кит. Я говорю не о Кит Китыче, который выучил свою жену узнавать, что его нога хочет, но о ките фантастическом, сказочном. Хорошо сознавая своею великое значение, граф Витте не уйдет, ибо не желает гибели России. Я готов голову отдать на отсечение, что он этого не желает. Поэтому «приглашения» он не послушает.
Мне иногда кажется — теперь все кажется, ибо реальное исчезает — мне кажется, что граф Витте сам себя не понимает. Он думает, что он гений. Ему об этом твердили так часто иностранные газеты, что он поверил и стал поступать совсем не как гений, а как самый обыкновенный бюрократ, влюбившийся в себя. Но, прежде всего, что такое гений? Когда я был юн, то знал одну помещицу, которая называла своего сына яний крылатый. Помещица именно хотела сказать, что сын ее гений.
Мне хочется сказать о том, что такое гений. Но я скажу об этом завтра, потому что сегодня мне кажется, что все дураки, не мной только кончая и не мной начиная. Я, как набитый дурак, воображал, что Россия — сильное государство, что в ней есть любовь к отечеству, есть сознание своей силы, есть стремление к широкому и глубокому просвещению, есть уважение к своим великим людям и к своим великим делам, есть народная гордость и честь, есть христианское чувство жалости и любви к ближнему. Ничего этого нет и не было. Было только недоразумение, мечта и обман…
Что такое гений?
17 (30) декабря, №10689
DCX
Курьезнейшие мы люди. Проиграли войну, заключили «блистательный мир», а взамен потерянного получили конституцию. Кажется бы, и слава Богу. Целое столетие хотели конституции, и все ее не было, а победы и без конституции бывали. Что за редкость — победа?! Конституция же действительно редкость. Но какая же конституция без революции? Устроили и революцию, да притом еще оригинальную, как нигде, при помощи забастовок. Это так подняло нас во мнении всего мира, что мы вдруг прославились и забыты были и Мукден и Цусима, в особенности Цусима до такой степени забыта, что нашелся храбрый моряк, г. Семенов, который доказывает, что Цусиму-то собственно устроил г. Кладо своими статьями в «Новом Времени». Без этих статей никакой Цусимы и не было бы и г. Семенов прославлял бы вместо поражения русского флота победу его при Цусиме. Но я обязан сделать поправку. Адмирал Бирилев показывал мне в прошлом году свой доклад, из которого ясно, что до статей г. Кладо было решено отправить эскадру г. Небогатова. Так что поражение при Цусиме устроено г. Бирилевым и г. Кладо вместе. А г. Рожественский непременно победил бы г. Того. Я ему так желал этой победы, что теперь жестоко раскаиваюсь, как это я не догадался, помещая статьи г. Кладо, что приготовляю поражение нашего флота. Извинение может быть мне только в том, что это единственный случай во всемирной истории, что статьи газеты, явившиеся за полгода до поражения русских эскадр, верный успех победы обратили в поражение. Единственным во всемирной истории все-таки быть приятно.
Я думаю, Европа станет на сторону г. Семенова, но я боюсь, что г. Рожественский не станет на сторону своего подчиненного и скажет ему так: — Конечно, это бывает, что выстрелом из пистолета можно повалить Исаакиевский собор, но бывает редко…
В своем роде тоже единственные люди во всемирной истории, вроде Наполеона.
18 (30 декабря, №10690
DCXI
Вы читали «правительственное сообщение»? Может быть, вы уж этих документов не читаете, потому что они «слова, слова, слова» и притом пустые. Но я читаю именно потому, что эти пустые слова характеризуют переживаемое нами время.
«Среди явлений, сопровождающих настоящую смуту, Совет министров не мог не обратить внимания на образ действий некоторых лиц, состоящих на государственной службе, и на отношение их к происходящим событиям, нарушающие основные начала служебной дисциплины».
Сразу не поймешь, к чему относится слово «нарушающие», так этот период неуклюже построен. Если хотите, «сообщение» документ важный, а если разобрать его, то ничего не останется, кроме недоразумения. Уже самое начало:
«Совет министров не мог не обратить внимания».
Какая вежливость! Он не обратил бы внимания на анархию среди самого правительства, где «скрытые враги государственного порядка», где противодействия правительству, «враждебные ему стремления», «преступное небрежение долгом присяги», но «не может не обратить», потому что происходит смута, когда требуется «честно послужить Родине». 6 другое время это было не важно и Родина писалась с маленькой буквы, а теперь и ей оказывается почтение. Кто не знал, что анархия в правительстве существует давным-давно, что законы постоянно нарушались, что нажива сделалась предметом культа, что всякий произвол господствовал, что протекция сажала ничтожных на ответственные места, и эти ничтожества развращали общество своим примером, что гибли целые отрасли государственного дела просто потому, что они вверялись людям, перед которыми пикнуть никто не смел, но все зато грабили и воровали за их спинами тем свободнее, а для безопасности приносили их любовницам дары и авансы. Кто не знал, что губернаторские места были синекурой, что министры обменивались протекциями и человеку даровитому всего труднее было «выйти в люди». И это сверху донизу. Какое же тут уважение к закону, верность присяге? Почему же бюрократия разом потеряла всякое «доверие» в обществе, как не потому, что она перешла всякие границы терпения. И вот теперь высшая бюрократия обращается к своим подчиненным ослушникам с назиданием совершенно азбучным, до того азбучным, что без соблюдения его невозможно не только государственное, но самое простое житейское дело, самое маленькое. И это обращение написано каким-то трестящим слогом, претендующим на Карамзина, точно описывается какое-то возвышенное явление в области нравственности и высоких стремлений.
По-видимому, что проще было бы — начать прямо с дела, а не со слова. Ведь говорится о людях прямо преступных, которые нарушают присягу, которые содействуют смуте, продают Родину, тем легче, что у них ключи от этой крепости. Кто не знает, что все эти так называемые политические стачки делались не только при «сочувствии» и попустительстве, но даже при прямом содействии лиц, состоящих на государственной службе, что эта служба являлась иногда разбойничьим притоном, где происходили заговоры и ковались мечи для разорения Отечества. Не говорю уже о трусости, о подлизывании, о лобзании ручек у революции, о тайном желании ей всяческого успеха, о радикальничестве самом беспринципном и холопском лиц даже высокопоставленных. Этот губернатор, который идет по городу с красным флагом, другой, который снимает свою шляпенку и машет ею, приветствуя рабочую «марсельезу», а когда горожане Уфы начали ему за это выговаривать, он извинялся и говорил: «я думал, революционеров много». И сколько таких слуг у правительства и «исполнителей Государевой Воли», как выражается «сообщение»…
С дела надо было начать, а не со слова. Надо было прямо уволить этих «некоторых лиц, состоящих на государственной службе», и предать их суду. Ведь они должны быть известны правительству, если оно об них говорит. А оно и говорит чудно. «Подобные лица должны оставить свои должности и уступить их другим, желающим посвятить силы свои служению Государству». Скажите, пожалуйста, какие нежности! Да с какой стати я уступлю свою должность, если я «подобный» тем, которых «сообщение» разумеет? Нашли дурака! Я должен «уступить»? Какие понятия о службе! Точно дело идет об уступке кавалером места даме приятной во всех отношениях или просто приятной даме. И будучи «подобным», почему я могу узнать тех «других», которые «желают посвятить силы свои служению государству». Да, может быть, они еще хуже меня, если бы я даже решился счесть себя «подобным» вполне добросовестно. Прочтя такое «правительственное сообщение», «подобный» тем, «которые нарушают основные начала служебной дисциплины» и являются «скрытыми врагами государственного порядка», может только добродушно посмеяться и тону, и смыслу этого документа.
Не говорите, что это мелочи. Вся жизнь состоит из мелочей, а правительственное слово должно быть ярко, разумно и сильно своей определенностью. От своих подчиненных оно должно требовать, а за измену предают суду, а не преподают назидания. Ведь дело идет об измене. Ведь эти «основные начала дисциплины», это «преступное небрежение долгом присяги», эти «скрытые враги государственного порядка», что это такое? Правда, «сообщение» юлит. Оно выражается: «Небрежение долгом присяги». «Небрежение?» Какая бюрократическая мягкость! Не сказано «нарушение», а «небрежение» только. Как много в этом слове бюрократического коварства и лазеек для того, чтобы выйти сухим из воды. Но разумный и честный человек поймет это, как следует.
Мне хочется спросить в заключение, что это за «правительство», которое печатает эти сообщения? Есть ли это Совет министров, который «не мог не обратить внимания?» Но в таком случае зачем окончание: «Министры и Главноуправляющие (большими буквами, как и Родина) примут в соответствии с сим надлежащие меры?» Разве весь Совет министров, в полном составе, «в соответствии с сим» не может принять соответствующие меры? Почему каждый министр будет увольнять? Например, министр народного просвещения граф И. И. Толстой сказал беседовавшему с ним репортеру, что он разделяет людей на три разряда: «на почтенных, полупочтенных и непочтенных». По-моему, такое деление со стороны министра отзывается пошлым водевилем. Значит ли это: почтительные, полупочтительные и непочтительные люди, или же просто ничего не значит, а есть только пошлость. Граф Витте мог бы спросить у граф И. И. Толстого, что это значит, и напечатать в «Правительственном Вестнике». А то ведь вдруг он станет увольнять по этому рецепту, признавая себя непогрешимым и в высокой степени остроумным.
Принимает ли участие в этих «правительственных сообщениях», например, Правительствующий Сенат? А ведь он мог бы объяснить «правительству», что такие сообщения, пожалуй, компрометируют правительство. Он мог бы объяснить, чему подвергаются слуги государства, принявшие присягу и «преступно» ее нарушающие, поступающие, как «скрытые враги». Иначе ведь это опять произвол, опять «чего моя нога хочет» — почтенных, полупочтенных или непочтенных? А ведь возможно, что честно и верно служат только непочтенные, а вовсе не почтенные и полупочтенные.
19 декабря 1905 (1 января 1906), №10691
DCXII
Писатель мне незнакомый, в письме ко мне подписавшийся Старым Публицистом, между прочим говорит:
«Вот уже несколько месяцев подряд вы страстно жаждете Государственной думы, призываете к скорейшему осуществлению ее на началах, предназначенных государем в манифесте 17 октября, но самое главное умалчиваете, как будто не хотите поделиться вашими думами, желанием. Вы точно намеренно не договариваете последнего слова (курс, везде в подл.), чрезвычайно важного в настоящую минуту. Каких же благ можно ждать от Думы? Будет ли она стремиться бескровным путем осуществить идеал, которым живут и дышат все честно мыслящие люди, — социализм (братство, свобода, равенство), труд приятный, неизнурительный, удовлетворение (строго индивидуальное) всех потребностей интеллектуальных и утонченно-физиологических; может ли эта мирная работа приблизить царство разума и истины и даст ли она сразу понять эксплуататорам хищникам чужого труда всю гнусность их существования? Не наполнятся ли ряды этой Думы теми же любителями «порядка», создающими потом и кровью ближних «святую собственность», так охраняемую даже платонически некоторыми «публицистами» и другими «деятелями»? Укажите, немедленно укажите путь, по которому, по вашему мнению и совести, пойдет эта Дума, так вами желанная».
Вопросы очень мудреные; на них можно ответить только одним словом:
— Не знаю.
Да, я ничего не знаю, что выйдет из Думы, как она будет составлена и приблизит ли она нас к царству социализма, т. е. по словам Старого Публициста к «царству разума и истины». Я уверен также, что «честно мыслящие люди» не одни те, которые стоят за социализм и не признают «святую» собственность. Если только одни социалисты честно мыслят, то другого решения для Государственной думы и нет, как быть социалистической. Только тогда она честная, только тогда она «разумная, истинная, желанная».
Но я смею думать, что всякий тот честно мыслит, кто открыто исповедует свои убеждения и открыто за них борется. В этом весь смысл народного представительства и народной воли в законодательстве, когда люди разных слоев населения, разных убеждений друг друга анализируют, дополняют или исправляют во имя тех истин и справедливости, которые должны приближать людей к царству разума и истины. Все партии должны в этом участвовать, и во всех партиях есть честно мыслящие люди, а разум и истина никогда не даются с размаха.
В Думе будут народные послы. Будут избирать их люди просвещенные, люди ученые, техники, специалисты по разным отраслям жизни, люди полуобразованные, люди только грамотные и совсем неграмотные, богатые и достаточные, бедные и даже очень бедные. В первый раз России предлагается задача послать своих депутатов, — предпочитаю русское слово, — своих послов, чтоб рассуждать о русских делах и вырабатывать русские законы. Бывают послы хорошие и плохие, счастливые и несчастные. Каких послов пошлет Россия — угадать не могу. Но я по совести доволен и тем, что она их пошлет, и думаю, что она серьезно подумает о том, кого послать в такое тяжелое, даже страшное время, как наше. Я никак не могу и не мог одобрить слишком поздний призыв Государственной думы. Она откладывается с месяца на месяц: с января на март, а теперь даже на апрель. Ее как будто хотят сделать преимущественно весеннею Государственной думой, просто для красного словца. Эти откладывания созыва Государственной думы никакой пользы не могут принести, а вред уже приносят, и очень большой вред. Вред этот заключается в возрастании революционных страстей, которые не находят себе естественного выхода и, я бы сказал, естественного приложения в парламентской борьбе и выходят на улицу и начинают вооруженное восстание со всеми его последствиями, с жертвами с той и другой стороны, с печалью в семьях, с затаенным мщением и злобой, со всем посевом, который делает пролитая кровь. Помните в Апокалипсисе картину вражды: «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтоб пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих». Ангел, стоящий на солнце, не есть ли это символ той бесстрастной истины, того отдаленного идеала, за который происходит столько борьбы, горя, несчастий, слез и крови.
Не хотел бы я обращения Государственной думы в Учредительное собрание, деятельность которого определяют уже теперь в таких красках, которые меня, по крайней мере, нимало не привлекают.
«Учредительная власть есть высшая, возможная в государстве власть: ее ведению подлежит определение всех основ государственной жизни и, в частности, решение вопроса о том, должно ли государство быть монархией или республикой.
Народная воля требует коренной реорганизация государственного строя с верха до самого низа.
Учредительное собрание, выражающее волю народа, не ограничится тем, что решит обязать власть на будущее время давать отчет народному представительству. Весьма возможно, даже весьма вероятно, что оно подвергнет рассмотрению ее деятельность в прошлом и найдет, что она была преступной. Еврейские погромы в Кишиневе, в Гомеле, Житомире не могут быть оправданы.
Наконец, все поведение властей после манифеста 17 октября, все аресты, все речи (Дубасова, например) о самодержавии, все подстрекательства к убийствам, все убийства, все объявления страны на военном положении и на положении чрезвычайной охраны, наконец, как венец всей этой деятельности, разрушение (?) Москвы — все это является вдвойне и втройне преступным, противореча и всем прежним законам, и манифесту 17 октября.
Учредительное собрание может потребовать предания суду всех преступников, совершивших преступления в последние годы; более того, оно должно потребовать его.
Необходимо, чтобы Учредительное собрание совмещало в себе вместе с властью учредительною и власть законодательную, исполнительную и судебную».
И так далее. Но начать непременно с возвеличения евреев. Без этого нельзя. Я это выписываю из статьи, появившейся на днях в одной газете и написанной с искренностью человека, который верит в революцию, как в верховную необходимость, как в единственную силу, которая может пересоздать Россию. Учредительное собрание, таким образом, не только создаст новый порядок, но создаст его после жестокой расправы со всем прошлым, после мести за все беспорядки, погромы, репрессии, усмирения бунтов и т. д. Это революционный террор, это повторение Великой французской революции, управление при помощи революционных страстей тою страной, которая и так дышит на ладан, будучи измучена и внешней войной и внутренней. Учредительное собрание хотят сделать прежде всего судилищем людей, эшафотом для «вдвойне и втройне преступных», инквизиторской диктатурой меньшинства над холопствующим и трусливым большинством какого-нибудь русского Конвента.
Это не то, что клин клином вышибай, а скорей вгоняй железные клинья в живое тело или врубай в него новые идеи, потому что иначе они не привьются. Я убежден в одном, что никакая реакция не в силах нас повернуть к прошлому и что если при таких муках рождается новый порядок вещей, то вина в том, что наше возрождение окутано национальным стыдом, срамом поражения великого народа, срамом Портсмутского мира. От этого срама Россия как будто возненавидела себя самое и в судорогах старается сорвать чуждую, прилипшую к ее телу кожу, кожу позора и унижения, и рвет ее с гневом, отрывая куски собственного тела и не жалея своего сердца.
В этих судорогах можно молить только об одном, чтобы Бог укротил душу России и осенил разумом управителей ее. Он, кажется, у них исчез.
24 декабря 1905 (6 января 1906) №10696
DCXIII
Мы накануне Нового года. Будем поздравлять друг друга, пить шампанское и выражать надежду, что 1906 год поведет Россию на поправку.
Московский погром революции оживил спокойные элементы общества, но ведь он вовсе не влил в них новой крови, нового понимания жизни и не внушил новых обязанностей. Погром устрашил революцию и во всей России на нее подействовал, подорвав слишком смелые ее надежды, но я не думаю, что начнется благорастворение воздухов.
С месяц назад я говорил, что правительство так беззаботно себя вело, что Совет рабочих депутатов может арестовать графа Витте и очень спокойно посадить его в Петропавловскую крепость вместе с его «собственными» министрами. Спустя некоторое время г. Хрусталев-Носарь был арестован, и в газетах было сказано, что он намеревался арестовать графа Витте. Я ли ему подсказал эту блистательную идею, или он сам дошел до этого, как Ляпкин-Тяпкин, или это известие «лишено всякого основания», неизвестно. Но этот арест был поворотным пунктом в действиях правительства. Оно «осмелилось». Диктатура пролетариата с хвостом хулиганства, таким же разноцветным, как хвост павлина, безмолвно признававшаяся правительством графа Витте и обществом, начала тревожить и разорять. Известно, что под влиянием этой диктатуры была устроена первая политическая забастовка, которая, по словам всех радикальных газет, «вырвала манифест 17 октября». Это придало диктатуре блеск и самой забастовке сияние. Она как бы «увенчала здание» и узаконила «освободительное движение».
Говорят, что накануне 17 октября правительственные лица совершенно растерялись, не зная что делать и на что решиться. Я в эти дни не был в Петербурге, а по рассказам не могу себе представить, чтобы положение было так безнадежно, что администрации оставалось только плакать. Администраторы-плаксы — это несомненно новый тип администраторов чувствительных. Если б нашелся администратор, который воздержался бы от слез, а принял бы энергические меры для уничтожения забастовки, то манифест 17 октября мог бы выйти 17 ноября и не в таком куцем виде, а с разработанною законностью свобод и с объявлением выборов в Государственную думу. Дело могло бы пойти лучше. Конечно, можно ошибаться и в этом случае, но одно несомненно, что правительство никогда не должно теряться и должно «умирать стоя», как сказал император Веспасиан. Правители обязаны встречать смело и открыто все опасности, и если они хотят жить, то должны презирать смерть и возбуждать в обществе желание и бодрость жизни. Революция — война, и кто струсил или потерялся, тот погиб или создал себе опасное положение. Жить можно только успехами, а не падениями.
Блистательный успех первой стачки, воодушевивший революцию на необыкновенную дерзость, в такой же степени понизил авторитет правительства. О нем перестали слышать. Началась пугачевщина. Правительство графа Витте не нашло ничего лучшего, как послать генерал-адъютантов в качестве увещевателей. В одном месте увещевают, а в другом, рядом, идет грабеж, истребление и пожары. Из уезда в уезд, из губернии в губернию двигается пугачевщина. «Союзное правительство», как я назвал Совет рабочих депутатов и другие союзы, заседало открыто, печатало свои протоколы и приговоры, собирало деньги на оружие, поддерживало стачки и объявило вторую политическую забастовку во славу Польши, где было объявлено военное положение. Правительство спустя несколько дней после того, как забастовка сама начала разлагаться, уступило требованию «Союзного правительства» и сняло военное положение, а спустя некоторое время опять возобновило его, точно дело шло о пьесе, о которой антрепренер извещает на афише: «В первый раз по возобновлении». Все это время московский съезд составлял свои резолюции и даже дал своей резолюцией об автономии Польши повод «Союзному» правительству объявить вторую стачку. В это же время раздавались воззвания к вооруженному восстанию, раздавались на всех митингах, на всех стогнах и развозились почтою по всей широкой Руси. Она, бедная, думала вместе с правительством графа Витте, что это «освободительное движение».
Эти два слова сыграли огромную роль. Одних они интимидировали, других поощряли. Все хорошее в этом движении и все дурное пошло под этой вывеской: мирные манифестации, митинги, горячие речи, образование политических партий, серьезная подготовка к Государственной думе, — с одной стороны, и с другой — грабежи, пожары, отложение провинций, убийства, раздача оружия, явное презрение к правительству законному и явное повиновение правительству незаконному. Даже петербургский градоначальник рекомендовал городовым «освободительное движение». Во имя «освободительного движения» хулиганы грабили прохожих, оскорбляли девушек и женщин и приставали ко всем с требованием денег. Отделилась Финляндия, поднимались Польша, Литва, Прибалтийский край, где действовала латышская республика, на Кавказе шла междоусобная война и граф Воронцов-Дашков раздавал оружие социал-демократам; произошли морские бунты в Кронштадте и Севастополе и распространялась общая неуверенность в завтрашнем дне. Рента падала. На Сибирской дороге была полная анархия. И все это шло под знаменем «освободительного движения», а оно — под знаменем манифеста 17 октября. Все старались «освободиться» от чего-нибудь: от власти администрации, власти цензуры, власти капитала, от дисциплины, учебных занятий, от исполнения законов общих и специальных и даже от власти России, от ее державных прав. И все торопились объединиться в союзы, как солдаты объединяются в полки, эскадроны и батареи. У всякого было что-нибудь свое, от чего хотелось освободиться, и у всех были и общие причины, общее иго, так сказать, которое все старались сбросить. Поэтому происходило общее революционное движение, общий открытый заговор против старого порядка и против всей истории, и умеренные убеждения и действия решительно тонули в крайних. Надо всем развевалось «освободительное знамя» и образовывалось какое-то негласное и гласное «товарищество». И в это-то именно время правительство решительно отсутствовало. Laissez faire, laissez passer! Граф Витте, резко и справедливо осуждавший безвластие князя Святополка-Мирского, сам делал то же самое, т. е. ничего не делал такого, чтобы взять это движение в свои руки и регулировать его. Естественно, что Совет рабочих депутатов образовался в правительство, поднял палку и дошел до «манифестов», чтобы граждане спешили брать свои вклады из сберегательных касс и банков, а благодарные и благородные граждане толпами бросались исполнять этот «манифест». Законное правительство прочло несколько невнятных наставлений насчет своей состоятельности и выдавало десятки миллионов. «Требуйте золотом!» — кричало незаконное правительство. Граждане требовали золотом, и золото отливало из касс.
— И смех и горе. Ай, да правительство! — говорили беспечальные граждане. — Что оно, подсиживает, что ли?
— Какое? Сам граф Витте говорит, что все эти беспорядки и бестолочь стоили России дороже, чем война с Японией. Так подсиживать могут только или безумцы, или люди не только совершенно бездарные, но и совершенно незнакомые с наукою управления.
Одно допущение железнодорожных забастовок чего стоит торговле, промышленности и всему населению. Три раза в течение двух месяцев правительство допускало их, вероятно, как «освободительное движение». Помилуйте, служащие получают так мало: правительство должно идти к ним навстречу. А надо сказать, что сборы с железных дорог равняются 700 млн. в год, т. е. двум миллионам руб. в день. У правительства, таким образом, каждый день есть два млн. руб. для необходимых расходов. Ресурс чрезвычайно важный. Без дорог — казначейство может очутиться без денег. А дороги не только бастовали, но завоевывались. Революционеры являлись на станции и, овладев имуществом, отправляли поезда и брали деньги себе. Таким образом революция завоевывала себе не только власть, но и правительственные доходы, финансы государства. Последний «манифест» его, объявивший «великую русскую революцию», явился в тот критический момент для законного правительства, когда «союзное» пошло против него с оружием в руках, направив свою армию в Москву и начав завоевание железнодорожных станций, преимущественно узловых. Люди хорошо осведомленные мне говорили, что если принять в соображение пассивное сочувствие революции, то общество делилось почти на два равных лагеря. Можете себе это представить!
И дело дошло до этого логически, ибо правительство все продолжало неторопливо составлять «временные» законы, желая ими загнать «освободительное движение» на свой двор, как загоняют пастухи коров и овец. Рожденное освободительным движением, правительство графа Витте стояло в углу, само угнетенное тою же причиною, которая его породила. Оно точно так же, как революция, отрицало прошлое, но революция пользовалась этим всеобщим отрицанием и во имя его и с помощью его усиливала свои кадры, тогда как правительство продолжало управлять, как в самое ординарное, самое спокойное время, совещаясь, споря о системах выборов и не зная, на чью сторону становиться. Когда оно погружалось в мелочи, спорило о выеденном яйце, — революция раскидывала свою сеть по целой России, разоряла ее забастовками и беспорядками. Оно даже не знало, каких губернаторов надо уволить, тех ли, которые старались поддержать порядок, самый обыкновенный полицейский порядок, какой, однако, существует во всей правопорядочной Европе, или тех, которые ходили с красными флагами и пели рабочую марсельезу, а в лучших случаях просто посвистывали. Ведь оно же — правительство «освободительного движения» и, стало быть, должно радоваться всем этим демонстрациям и протестам против старого порядка! Иногда казалось, что граф Витте хочет, чтоб его полюбила революция, конституция и самодержавие, чтоб все его полюбили, чтоб все ему были благодарны, как человеку, который рад стараться всем угодить, исключая России.
Вовсе граф Витте не замышлял того, чтоб все распустить, чтоб общество на деле уверилось, как ужасно жить в беспорядке, и когда оно уверится, тогда начать вводить порядок при помощи войск. Этого допустить нельзя даже как предположение, потому что это было бы не только безумно, но и преступно. Это равнялось бы преступлению Нерона, который сжег Рим, желая проверить описание разрушения Трои в «Илиаде». Разорить Россию, лишить ее кредита, уничтожить всякий порядок, развратить провинциальные власти своим попуститительством, — и все это для того, чтоб Россия восчувствовала, каков этот пожар, как ужасно безвластие даже во времена «освободительного движения» — ведь этому преступлению имени нельзя придумать.
Нет, все совершилось под знаменем «освободительного движения», материалы для истории которого многочисленны и любопытны, и само оно понималось всяким, как кто хотел. Само правительство шло под этим знаменем, как хотело, и не могло не идти под ним, ибо оно — дитя его, неразумное дитя, воспитанное прошлым, совершенно неопытное и нерешительное, как тот гимназист, который искренно желает учиться, но не может отстать от товарищей. Революция есть «товарищ» правительства, и оно относилось к ней, как к «товарищу» до тех самых пор, когда логика событий разделила этих «товарищей» и они пошли друг на друга войною. В Москве и окрестностях была именно война. «Товарищи» послали друг против друга войска, и не государственный разум, не многостороннее дарование, не чутье и предвидение мудрого правителя справляются с революцией, с «товарищем», — справляется армия, только армия.
29 декабря 1905 (11 января 1906), №10701
1906
DCXIV
С новым годом, господа, и, пожалуйста, с новым счастьем. Решительно невозможно жить со старым счастьем. Какое это счастье? Ни с какой стороны. Хоть немножко не то что счастья, но покоя, возможности работать, свободы передвижения по железным дорогам, исправности почты и телеграфа, независимости воды и света от стачечных комитетов, вообще всех тех свобод, которые не упомянуты в манифесте 17 октября, но без которых решительно жить нельзя. Люди ищут всегда того, чего не имеют, и часто теряют то, что имеют. Если б я писал этот знаменитый манифест, я непременно упомянул бы, кроме пяти обещанных свобод, еще и те, которые мы имели. Тогда союзам, предписывавшим забастовки, нельзя было бы ссылаться на манифест 17 октября, который будто бы повелел образовать всевозможные союзы с целью сменить правительство и истязать население забастовками. Думаю поэтому, что его необходимо издать в исправленном виде, или прибавить толкование Сената в том смысле, что пять новых свобод нимало не исключают тех свобод, которыми жители пользовались до 17 октября 1905 года, а потому запрещать эти свободы никто не вправе. И тут же необходимо подробно перечислить все старые свободы, чтоб уже не было никакого сомнения.
Несравненным подарком на новый год было бы правительственное сообщение такого рода:
«Железнодорожные, почтовые и телеграфные забастовки воспрещаются под страхом смертной казни».
Или не так жестоко:
«Железнодорожные, почтовые и телеграфные забастовки отныне не могут быть произведены. Правительство берет на себя обязанность немедленно прекращать их самыми решительными мерами. За неисполнение этого оно отдается все под суд присяжных по статье, подвергающей виновных министров ссылке в отдаленные места Сибири».
Если правительство не примет таких постоянных мер, которые бы обеспечивали население от своеволия служащих на железных дорогах, почте, телеграфе, то никакая Государственная дума, даже самая радикальная, не избавит население от этого гнета и пассивного буйства. Вы представьте себе, что дорог построено на пять миллиардов. Это народные деньги и народный труд в течение полувека. И вдруг образуется союз из служащих, из людей данного момента, которые всю страну лишают ее собственности и высокомерно обращаются не только с правительством, но даже со всем народом. От какой-то песчинки инженеров, по большей части поляков, и рабочих зависят бесчисленные потери целой страны, лишение прав состояния целого народа. Это не представители народа, никто их не выбирал, никто не давал им самодержавных или учредительских прав, и сами они, без этих дорог, такие же незначительные единицы, как я и вы, и вдруг — это самодержавная власть, стоящая не только выше правительства, но и выше царя. Ведь это же умопомрачение и идиотство со стороны тех, которые без всякого протеста признавали эту власть. И три раза в течение двух месяцев правительство расписывалось в своем бессилии заставить этих людей исполнять свою обязанность и министры вели продолжительные и унизительные переговоры с президентом этого союза. И только тогда, когда революционный союз, не скрывавший ни одного своего шага, стал завоевывать станции, правительство проснулось из летаргии и послало войско. Повторяю, первая забастовка повергла в прах правительство, и отняла у него всякую власть, и создала почти банкротство государства и это банкротство легло на народ. А когда народ стал расправляться на некоторых станциях с забастовщиками и грозить им убийствами, официозное Телеграфное агентство подчеркивало эти явления как бы говоря: «это не правительство, а сам народ. Правительство признает союз».
Да, если это повторится хотя в малом виде, то правительство обязано сложить с себя власть и отдать ее тем, кто его сильнее и кто заставил его уже несколько раз плясать по своей дудке жалкую пляску шута.
Виноват, простите, на новый год этого говорить не следовало. Встретим его бодро, помянем добром жертвы наших врагов и друзей, помянем искренно, как погибших бойцов и станем смотреть вперед без страха и боязни.
1906 год — великий год. Это год Государственной думы. Это, может быть, один из самых великих годов нашей истории. Закладывается новая Россия, новая империя. Вопреки многим неверующим, я убежден, что Дума соберется полная, а не куцая, не двести человек, а все шестьсот. Стоит одной партии энергично приняться за дело, как все другие сделают то же самое. Это — великий всенародный праздник, на который всякий сочтет пойти своим радостным долгом. Вся империя встретится, все народы ее должны побрататься. Не оружие войны они принесут с собою, а оружие своего духа, своей оригинальности, своей борьбы за право человека и гражданина. Такого дня не бывало еще, и он придет во всем своем сиянии и значении и прославит этот год на вечные времена.
Или мы русские, или нет. Такой вопрос решается. Или мы уничтожены японцами и революцией, или мы возродились внутренней, незримой, божественной силой нашего племени.
Кто в глубине своего сердца скажет: «мы пали»? Кто подумает, что наша история кончилась позором и унижением, что мы все сделали, что могли, и что нам осталось только перед целым миром пасть по прах и оставить после себя воспоминание рабов, которые кроме рабства ничего не заслужили, рабов, достойных презрения и смеха? 6 ком мысль представителя Русской земли, народного посла, не разбудит высоких стремлений души на том поприще нового мужества, новой доблести, которое открывается Государственной думой и которых мы не знали доселе? Весь мир будет смотреть на этих послов, на Россию, на ее государя, который откроет эту великую Думу и примет от нее новое, всенародное коронование, как воистину великодушный государь, благородным сердцем желающий счастья своему народу. Все человечество примет духовное участие в нашем празднике народного законодательного труда. Я верю, что это будет праздник свободы, равенства и братства, праздник такой радости, которая будет вызывать слезы восторга и любви.
И разве ты, великая, многострадальная, милая родина, не заслужила его, ты не работала, не мыслила, не боролась, не проявляла своего дивного духа в былинах, песнях, в художественных созданиях своих гениев, в подвигах военной славы, в подвигах добра и любви? Разве ты не искала своего милосердного Бога, кроткого и любящего всю тварь земную и благословляющего всякий труд? Всё ты это делала, наша общая мать, все ты дала, ты дала и великие дарования, и дух смирения и бодрости, и любовь к свободе, ты дала всё своему народу, который поселился на твоих равнинах, то закованных в ледяную сталь, то согретых ярким солнцем. Он принял из недр земли родной богатырскую силу мускулов и причастился Духа Божия, который носится над нашей Родиной и повелевает русскому народу быть человеком в высоком значении этого слова.
И он сделается человеком.
Он прогонит зверя, который ест его сердце и пугает его душу, прогонит просвещением, свободой и Христовой любовью. Он откажется от этих ужасов, разгромов, грабежей и братоубийства, он сознает всю их мерзость, он очистит душу свою помыслами добра и правды, он украсит свою родину благодарным трудом и высокими подвигами и возвеличит ее в целом мире.
Он сделается человеком.
1(14) января, №10704
DCXV
У г. Мережковского, известного писателя, пропала шапка.
Она пропала у него во время обыска в квартире писателя Б. Иванова. В квартире этой находились, кроме г. Мережковского и его жены (З. Н. Гиппиус), писатели: гг. Щеголев, Габрилович, Сологуб, Бердяев и г-жа Венгерова. Обыск продолжался 5 часов. Найдены три нумера революционной газеты и один револьвер с разрешением от градоначальника.
Кто знает лично этих писателей и писательниц, или понаслышке, тот никогда бы не сказал, что они способны заниматься бомбами и динамитом. Они могут быть убеждений оригинальных, даже крайних, но от «вооруженного восстания» очень далеки. Самая страшная персона из них З. Н. Гиппиус, которая, по свидетельству мужа ее, г. Мережковского, называется ее врагами «белой диаволицей». Черти и дьяволы — это специальная область исследований г. Мережковского. И если он отвергает это обвинение, то ему можно поверить. В самом деле, сколько мне известно, «белая диаволица» так же страшна, как «белая голубица». Вся эта компания вела тот литературно-политический разговор, который обычен литературным компаниям. И анекдот о Павле I, и два вагона динамита, где-то захваченного полицией, и антихрист, и поэты-декаденты, и греческий Вакх и, сверх всего этого, даже не искрометное вино, спутник Вакха, а калинкинское пиво. И вдруг штыки, много штыков и полиция. «Каждого из нас, говорит г. Мережковский, по очереди проводили в запертую комнату, где заседало судилище, и не раздевая, но с таким видом, что могут и раздеть тотчас, если понадобится, обыскивали. Для дам была любезно приготовлена супруга швейцара, особа чувствительная, которая чуть не плакала от срама и горя».
«В первый раз в жизни я испытал телесное ощущение обыска», говорит г. Мережковский. «Смею уверить, ваше сиятельство, прелюбопытно. Если вы не умрете, не испытав этого ощущения, то никогда не поймете многого в русской «реальной политике».
Замечание очень верное даже для самого Мережковского: описывая ужасы петровского времени, застенки и пытки, он не испытал сам даже обыска, когда «шарят, залезают во все карманы, и прорехи, и щели, и складки платья», а потому не мог описать с художественной правдой застенки и пытки. Опиши он их теперь, у него нашлись бы более яркие и более правдивые краски. Этот «опыт» для него, как писателя, наверное стоит гораздо больше исчезнувшей шапки.
Но куда же эта шапка девалась? — спрашивает он в открытом письме к графу С. Ю. Витте, напечатанном в «Народном Хозяйстве».
В самом деле, куда она девалась? Пропало еще две шапки, и было кем-то выпито пиво, но г. Мережковский беспокоится только о своей шапке. Она — центральный пункт всей этой русской истории. Куда девалась шапка?
Куда девались два миллиарда, которых стоила война с Японией?
Куда девались Порт-Артур, Дальний и пол-Сахалина?
Куда девались пятьдесят млн. руб., которые должны были получить рабочие за свою работу на фабриках в 1905 г., если б не бастовали?
Куда девался миллиард рублей, который потеряла русская промышленность вследствие забастовок?
Куда девались те миллионы и десятки миллионов рублей, которые потеряла казна вследствие забастовок и неурядиц?
Куда девались тысячи подожженных усадьб и замков, с их сокровищами культуры?
Куда девалась у правительства голова?
Все это несравненно важнее шапки г. Мережковского, но все-таки куда девалась и эта шапка?
Вопрос совсем не праздный. Г. Мережковский, конечно, согласился бы заплатить и дороже за «ощущение» обыска. Но шапка его. Он имеет на нее неоспоримое право, и она должна быть отыскана, как крупный бриллиант, как ожерелье королевы, ибо тут дело в том, что она пропала во время обыска.
Описывая этот случай, г. Мережковский, по обычаю, углубляется слишком глубоко и, может быть, трактует этот сюжет слишком трагически и слишком распространительно. Но уж таково свойство его таланта, который постоянно то хочет достигнуть до Бога, то спуститься в преисподнюю, к сатане. Я беру этот вопрос в его простой, житейской форме, всякому доступной и близкой. Обыск сам по себе есть только полицейский акт, существующий во всех государствах в тех или других неприятных формах. Несомненно, он очень неприятен и очень оскорбителен для лиц невинных и несправедливо заподозренных. Но если политические обстоятельства требуют обыска даже у «белой голубицы» и у трезвенного поклонника Вакха, то сделайте ваше одолжение, обыскивайте. Но шапка должна быть налицо, если в ней не «зашит донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея». Поэтому, г. Мережковский, возвратившийся домой в дамской шляпке, имеет право спросить: «Куда девалась моя шапка, ваше сиятельство»?
Если б у правительства спрашивали так же смело, куда девалась хоть часть того, что пропало и пропадало, пропадало миллионами и миллиардами, то было бы очень хорошо, очень независимо и очень практично.
Вся опасность для г. Мережковского в этом публичном запросе заключалась в том, что шапка его может сделаться знаменитее, чем та голова, которую она покрывала, и во всяком случае прибавит нечто к его знаменитости. Но он рискнул и этим и превосходно сделал. Это первый случай в истории нашей культуры, где шапка играет такую большую роль, и отныне она вещь музейная. Тем необходимее ее отыскать. Говорят, был такой коллекционер, который отыскивал топор Петра Великого, тот самый топор, которым победитель Карла XII прорубил окно в Европу. Топор этот «умственный», а шапка г. Мережковского — вещь реальная и отыскать ее можно. Может быть, и она что-нибудь скажет об Европе, если описать ее похождения с искусством художника.
3 (16) января, №10706
DCXVI
Известный анархист Бакунин говорит: «Мы должны образовать не армию революции, а нечто вроде революционного главного штаба. Для этого должны быть преданные, деятельные и талантливые люди, которые прежде всего должны без всякого честолюбия и тщеславия любить народ и обладать способностью согласовать революционные мысли с народными инстинктами. Для этого не требуется особенно большое количество людей. Для интернациональной организации всей Европы достаточна сотня крепко объединенных и добросовестных революционеров. Двести-триста революционеров достаточны для организации самой большой страны».
Спустя несколько лет после 1 марта 1881 г. я говорил с одним из выдающихся русских революционеров, принимавшим весьма деятельное участие в тогдашнем движении. Я спросил у него, велик ли был состав их революционной «дружины» и каким образом они могли думать, что их движению не будет положен конец, и что, напротив, они рассчитывали произвести революцию после убиения императора Александра II.
— Как же нам было не думать, когда нас, главарей, было всего тридцать человек, т. е. каждый из этих тридцати человек знал каждого из тридцати. Второстепенных агентов было тоже сравнительно немного. И вот мы поставили на ноги жандармерию, полицию явную и тайную, поставили на ноги всю администрацию, и вся эта огромная машина не могла с нами справиться. Как же нам было не думать, что мы непобедимая сила, когда правительство решительно не в состоянии было с нами справиться, а общество молчаливо и пассивно, правда, но было за нас. Так тянулось несколько лет. Мы знали каждый шаг правительства, чиновничество по халатности или по сочувствию все нам или нашим знакомым выдавало, а правители ничего не знали и ничего не умели предупредить при своей неподвижности и неуверенности в своих людях.
У нас воображают, что революционеров бесчисленное количество. На самом деле это неправда. Много недовольства порядком вещей, много пассивного «неделания», если не сочувствия, — это так. Но всегда немного таких людей, которые способны жертвовать собою и которые отличаются талантом, находчивостью и упорством для достижения известных целей. Членов «революционного главного штаба», выражаясь словами Бакунина, всегда мало. Деятельных, способных людей вести борьбу так же мало в революции, как и в правительстве, и если б правительство не обладало большими материальными средствами в своем войске, то можно было бы сказать, что борьба идет между равными силами.
Какая разница между Францией и Россией в их первых революциях! Там после Ришелье, Кольберов, Боссюэ, Паскалей явился ряд энциклопедистов, beauxesprits, «философов», как их называли: Монтескье, Вольтеры, Дидро, Даламберы, Кондильяки, — и наследниками их явились Кондорсе, Мирабо, Дантон, Робеспьер и др. Где у нас эта преемственность практических, ученых и идейных деятелей, где наши люди теперь? Их нет, да и предшественники где? Мы слышим и видим только людей среднего таланта, лишенных всякой оригинальности. И конституционные, и социал-демократические, и социал-революционные идеи — все это заимствовано из заграницы до мельчайших подробностей. Самая революция блещет не русскими, а еврейскими именами. Да и в правительстве… впрочем, это до другого раза…
Я не помню такого министра внутренних дел, который, вступая в должность, не повторил бы фразу о «законности» очень внушительно, забывая, что законы стары и заржавели, что общество переросло их и воспользуется первым же поводом, чтобы их не слушаться. А революционеры давно провозгласили, что законы — чепуха. «Закон не имеет больше никакой культурной задачи. Его единственная задача состоит только в защите эксплуатации. Вместо прогрессивного развития он создает неподвижность, он стремится к тому, чтоб увековечить обычаи, полезные для господствующего меньшинства… Мы знаем прекрасно, что все правительства без исключения имеют своей целью удержать посредством насилия привилегии имущих классов, аристократии, духовенства и буржуазии. Достаточно только разобрать все эти законы, видеть их ежедневное действие, чтобы убедиться в том, что ни один из них не стоит того, чтоб его сохраняли». Это слова князя Кропоткина. Таким образом, революция стремится разрушить законное государство во что бы то ни стало и наместо его создать новое с помощью диктатуры пролетариата. Знаменитый историк Моммзен в своей «Римской истории» говорит: «Если правительство не может управлять, оно перестает быть законным, и кто имеет силу его свергнуть, имеет также на это и право». Поэтому выходит, что, если б революционеры свергли правительство, то они могли бы упираться и на свое право свергнуть правительство: если оно не умеет управлять, то его никому не надо и революция получает право распоряжаться страной. Вот эту дилемму необходимо иметь в виду правительству и всеми разумными мерами стремиться к утверждению своего авторитета. Не будет авторитета — будет революция беспощадная, которой и конца трудно предвидеть.
Управлять надо умом, гением, а не буквою законов. Буква законов — это пуховая подушка для рутинных правителей, для кишащей посредственности и бездарности. На ней удобно лежать и приказывать, покуривая, посвистывая, играя в винт.
Власть приобретается чем-то сверхзаконным, каким-то трудно объяснимым даром владеть душою населения. Оттого так мало мудрых правителей. Это все равно, как два актера, буквально повторяющие те же самые слова Гамлета, но один из них действует на вас, берет вашу душу, овладевает вашим настроением, вашим умом, а к другому вы остаетесь совершенно равнодушны и иногда даже враждебны: так он бездарен! Вам кажется, что ему бы пасти коров на поле, а не повторять прекрасные слова принца Гамлета. Так и слова закона. Для одного правителя даже плохие законы одухотворены и широки в своем смысле, потому что его голова способна далеко видеть, чувствовать и понимать. Для другого правителя даже хорошие законы плоски и узки, потому что сам он — пустой мешок.
Искусство управления — несомненно очень трудная наука и в особенности в революционное время, которое отменяет законы и действует страстью. Страсть есть повышенное состояние человеческого и общественного организма, совершенно выходящее из нормального порядка вещей. Подъем сил с одной стороны может быть побежден только еще большим подъемом сил с другой. Подъем общественной силы невозможен без выдающихся управителей, блистающих быстрым умом, энергией, настойчивостью, свежею впечатлительностью. И для революции необходимы такие правители и для правительства. К счастью для правительства, у революции тоже нет ничего выдающегося, но у ней «общество» живее и связь революционного настроения крепче. Поражение восставших в Москве — удар революции. Это — ее Лаоян, тянувшийся столько же дней, как и куропаткинский. Она опустила голову, но сочувствия у нее еще много, а у правительства мало тех людей, которые необходимы. Ну, можно ли такую жемчужину, как Кавказ, оставлять такому человеку, как граф Воронцов-Дашков, и такому его помощнику, как г. Крым-Гирей. Да они вдвоем и департаментом не сумели бы управить, если б он взбунтовался. Оба «добрейшие» и у обоих двойные фамилии, как у графа Лорис-Меликова и князя Святополка-Мирского. Двойные фамилии у нас фатальны, как двойные партии: социал-демократы, социал-революционеры. У Гоголя городничий двойной — Сквозник-Дмухановский. Если б Англия посылала таких наместников в свои колонии, то они давно бы отложились. А правительство у нас все терпит, все «авось» да «небось». А граф Витте, вероятно, говорит: «Это не мое дело — там наместник». Он часто так говорит, и совершенно напрасно. У него достаточно должно быть угрызений и от того запоздания похода власти, которое столько бед наделало России. А еще он сказал, что «я знаю, как спасти Россию». Мне не верится тому, что он это сказал, потому что он должен знать, что дело совсем не в том, чтобы «спасать», а в том, чтобы «управлять». Когда человек думает, что он «спасает», т. е. облечен какой-то особенной миссией, то он рассчитывает только на себя и считает себя каким-то Мессией, который до всего должен дотронуться своей собственной животворящей рукой. Это очень большое заблуждение. Необходима система управления, необходимы люди. Надо очистить администрацию от бездарностей, от старческого бессилия, надо создать новую атмосферу живых людей и ею гипнотизировать население, чтобы оно верило власти и шло охотно к ней на помощь, как идут столь многие к революции, бросаясь к ней в объятия то с отчаянием, то с радостью.
Государь благодарит саратовского губернатора г. Столыпина за «примерную распорядительность, выразившуюся в посылке по личной инициативе отряда войск для подавления беспорядков в пределах Новоузенского уезда». Государь благодарит губернатора за то, что тот исполнил свой долг и проявил личную инициативу. Значит, это если не исключение из общего правила, то редкий случай. Но разве возможно умиротворение отечества, если управление провинциями находится в таких руках, что государь находит необходимым выразить свою благодарность хорошему губернатору, способному на «личную инициативу». Что же это за губернаторы, которые не способны на личную инициативу? А о растерянности их мы столько раз читали. Без живых и способных людей невозможно управлять. Революция может еще обходиться без них, потому что весь этот беспорядок, эти мятежи, эта бездарность и бессилие власти идут на ее пользу. Все отрицательное ей на руку, и она им питается. Чем у правительства будет больше положительного, тем революция будет слабее, если не объявится у нее какой-нибудь гений. Нельзя управляться людьми, бессильно брюзжащими то на революцию, то на новую атмосферу жизни, наполненную парами и электричеством, тогда как нужно не брюзжанье, а страстная борьба со всею полнотою физических и умственных сил. Правительство обязано не щадить плохих правителей и посылать их домой, на печку. Пусть греются дровами, а не телом России, не ее горячей кровью. Они, эти плохие правители, не стоят капли этой священной крови, и если они сами этого не понимают, то их надо просто убрать на печку.
11(24) января, №10714
DCXVII
Опять очень пространная исповедь графа Витте. Любезное Телеграфное агентство передало ее целиком. В этой исповеди нет ни слова о спасении России и о том, что первый наш министр знает, как ее спасти. Я имею основание утверждать, что граф Витте никому не говорил этой фразы: «Я знаю, как спасти Россию». Я имею также основание думать, что никто не знает, как ее спасти. Она или спасется сама, или побежит по наклонной плоскости к разложению.
Что ж нам поведал граф Витте?
Во-первых, он думает, что не было такого человека, на которого так бы нападали, как на него. Это уже сказано было им отчасти и прежде. Но несомненно было много государственных людей в Европе, на которых нападали больше, чем на Сергея Юльевича.
Перечислять их нечего, но можно назвать одного — Бисмарка, человека почти гениального, устроителя Германской империи. Если собрать все карикатуры на него и всю брань, то получатся томы. В России на государственных людей начали нападать очень недавно, благодаря свободе печати. До этого они были в значительной степени гарантированы, по крайней мере, в течение всего времени, когда они находились у власти. Но и здесь можно сказать о графе Д. А. Толстом, на которого нападали косвенно и прямо даже при цензуре, а спустя несколько лет после его смерти предали ярым проклятиям, и это продолжается и доныне. При жизни Плеве никто не смел поднять против него голос. Зато после смерти его предавали и доселе еще предают проклятиям больше, чем графа Д. А. Толстого. Убийцу его называют героем и печатают ему акафисты. Может быть, это еще хуже, чем нападать на человека при жизни. Когда нападают при жизни, может быть, и критика, и ненависть изнемогут от усилий и смерть примирит с ним. Поэтому нападки при жизни не так тяжелы и на них можно отвечать с легким сердцем и с легким юмором, как это делает в своей беседе с г. Диллоном С. Ю-ч. «Я положительно имею право думать, что в моем лице вы видите перед собою выдающегося человека», — сказал он, распространившись о нападках. Так как они, по его словам, не производят на него ни малейшего впечатления, чему нельзя не порадоваться, то распространяться о них вовсе не следовало. В политике это qualité négligeable[23]. Но когда С. Ю-ч говорит, что его руководящий принцип заключается в том, чтоб «поступать во всем согласно своему образу действий», — то это уже политика. Образ мыслей есть главное, а за образом следует действие. На этот счет мы не можем сказать, чтоб особенно хорошо были осведомлены, так как управление страною происходит при закрытых дверях. Это тайный процесс, куда ни публика, ни печать не допускаются, и смею уверить почтенного графа, что в этом одна из причин всех нападок на него. Я предпочел бы писать о нем после сражения в Государственной думе, после борьбы его и его партии с враждебными им партиями, чем после беседы с английским журналистом. Эта беседа очень мало дает положительного или во всяком случае менее, чем отрицательного. Она в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Кстати, не есть ли фраза графа Витте: «у государственного деятеля есть два уха (для принятия похвал и порицаний), из которых одно он должен держать открытым, а другое закрытым», — не есть ли эта фраза плохой перевод изречения: «в одно ухо влетает, а из другого вылетает». Как будто это одно и то же. Уши государственного, да и всякого деятеля, литературного, журнального, ученого, так устроены самим Господом Богом, что приятное и восхвалительное удерживается ими с большим напряжением, чем порицательное. Если на сто порицаний есть пять похвал, то эти пять превозмогают и побеждают девяносто пять порицаний. Англичанин Диллон чрезвычайно усерден в похвалах графу Витте. Он хвалил его из Портсмута и хвалит теперь. И это хорошо, ибо давно сказано, что нет пророка в своем отечестве. Г. Диллон — это трубный глас, возвещающий о пришествии избранника. Я был бы очень рад, если б это совершилось по Евангелию от апостола Диллона, ибо просто становится противно и даже отвратительно жить. Все совершающееся до того безобразно, нелепо, сумбурно, до того лишено идеи и благородства во всем государственном организме, во всех слоях управления и населения, что испытываешь прямо отчаяние. Те люди, о пришествии которых граф Витте говорит, где-то на постоялом дворе, в такой глуши, до которой не доходят ни почта, ни телеграф, ни жалобы, ни стоны. Иногда думаешь, что они глухонемые или их держат в какой-нибудь пещере новые капитаны Копейкины, с отчаяния и обиды собравшие шайки разбойников и сделавшиеся их атаманами. Легенда о капитане Копейкине как будто воскресает в образе революционеров и разрастается в большое и грозное явление.
«Ни на йоту больше, ни на йоту меньше». Это изречение гр. Витте должно остаться историческим, как «l’Etat-c’est moi» или «nous dansons sur le volcan». Ни на йоту более, ни на йоту менее, чем сколько положено манифестом 17 октября. Не говоря о том, что по аптекарским рецептам государственное строительство не строится и отвешивание есть вещь сомнительная, обращу внимание на то, что вот я, например, грешный человек, не желающий революции, я не знаю определительно того порядка вещей, который дает этот манифест. И весь этот сумбур, оголтелое состояние русского общества объясняется именно тем, что оно не знает, что ему дается, и склоняется в пользу революции, в которой видит как бы тот огненный столп, который светил евреям в нощи и защищал их от фараоновых полчищ, которые как бы хотели поглотить убегающего Моисея и его народ. Я, например, не знаю, какая будет конституция. Будет ли это парламентаризм с министрами от большинства или другая форма ее с министрами, которые не зависят от большинства Государственной думы, как, например, это в Пруссии и в республике Соединенных Штатов. Я знаю из манифеста, что ни один закон не может пройти без утверждения Государственной думы. Но не знаю, может ли пройти какой-нибудь закон без утверждения государя императора. Я не знаю также, что будет делать Государственная дума, когда она соберется, т. е. на каких устоях она будет сидеть. Дадут ли ей сейчас же дело и притом какое? В печати и даже сегодня раздаются голоса, что она сейчас же обратится в судилище и привлечет перед свои очи всех тех, кого пожелает. Эти запугивания и бестактны и безрассудны и дальше они идут, чем шло дело во время французской революции, когда революционные трибуналы были созданы только при Конвенте, а мы еще не дошли и до национального собрания. Очевидно, у нас много летучих политиков. Я всегда был того мнения, что синица в руках лучше журавля в небе. Необходимо нечто ясное и определенное как дважды два, или как четырежды пять — двадцать, выражаясь словами С. Ю-ча. Ничего не может быть хуже, как дважды два — стеариновая свечка, а она, кажется, горит.
Обо всем этом, очень важном, граф Витте ничего не сказал, хотя говорил много и литературно, а сказать это необходимо и как можно скорее. Самое важное и единственное в его речи — это указание на возможное поправление наших финансов, или, как он выразился, на «присущую русским финансам эластичность». Эластичность — слово не совсем привлекательное, но по Фомке и шапка. Что делать? Выше своей спины не прыгнешь.
15(28) января, №10718
DCXVIII
И революцию создали евреи — так, по крайней мере, сами они утверждают и, мне кажется, не без основания, — и правительство идет за помощью к евреям. Русских людей точно совсем нет, точно у них нет ни образования, ни практических знаний, ни понимания нужд своего народа. На это отвечают: сколько поколений уже русские люди совсем не учатся, а только «добывают свободу». Евреи как-то находят и время для того, чтобы учиться, и время для того, чтобы понукать ленивых русских людей «добывать свободу». Им поэтому честь и место. Это не я говорю, а я еще в начале прошлого года по поводу забастовок университетской молодежи говорил, что недалек тот день, когда русские будут чистить сапоги евреям просто потому, что евреи учатся, а русские находят, что это совсем не нужно. Кажется, это время уже настало.
Но к делу, которое заключается именно в том, что евреи предпочитаются и правительством. Говорят, что проект булыгинской Государственной думы составлял г. Гурлянд, еврей, и еврей выступил с самым важным проектом закона — об обязательном отчуждении помещичьей земли в пользу крестьян. Это — г. Кауфман.
В министерстве землеустройства и земледелия он служит, кажется, чиновником особых поручений. Он — еврей не крещеный. Это, может быть, и лучше. Значит, настоящий еврей со всеми достоинствами и недостатками этого племени. Он уже фигурировал на московском съезде вместе с другим евреем, г. Герценштейном, именно по земельному вопросу. Г. Герценштейн у Полякова познакомился с земельным вопросом, продавая и закладывая помещичьи земли. Его соотечественники из «Революционной России», издававшейся за границей еврейским Бундом[24], разбирали его весьма строго, ибо они стояли за то, чтоб земли просто отнять, не выдавая помещикам ничего, тогда как г. Герценштейн этого не допускал. Г. Кауфман написал книгу о переселении, которую хвалит А. С. Ермолов, бывший министр земледелия. Земцы, т. е. дворянство, очевидно совершенно бессильны сделать что-нибудь сами. Так это выходит, и их даже не спрашивают. А если не спрашивают, значит признано, что их и спрашивать нечего. Теперь не времена декабристов и сороковых годов с их реформами, когда только русские люди работали и только русские и обруселые немецкие фамилии произносились и в области общественной деятельности, и в области литературы и публицистики. Теперь русские люди оттесняются евреями. Русский человек не так подвижен и, главное, лишен той настойчивости и навязчивости, какими обладает еврей и какие дают ему крылья подняться на верхи. Г. Кауфману приписывают проект наделения крестьян землею, представленный в Совет министров г. Кутлером. И приписывается совершенно справедливо.
Г. Кауфман представлял проект на московском съезде и г. же Кауфман излагал тот же проект и отстаивал его в собраниях у кадетов, где заседали и ученые, гг. Милюков и Струве, и землевладельцы, гг. Петрункевич, Родичев, князья Петр и Павел Долгорукие, потомки Рюрика, дай Бог ему царство небесное. Г. Кауфман — в трех местах, и в земстве, и в партии конституционалистов-демократов, и в Совете министров. На заседаниях партии он заявлял, между прочим, что кадеты по многим вопросам будут голосовать вместе с социал-демократами. Я о самом проекте г. Кауфмана говорить не намереваюсь, потому что у нас было о нем сказано человеком, более меня знакомым с этим предметом. Меня заинтересовал этот труд г. Кауфмана, весьма небольшой по объему, именно тою стороною, что он исполнен евреем, а не русским. Я ровно ничего не имею против г. Кауфмана и готов признать за ним все таланты, все усердие, все знания. Но было бы странно, если б синагога пригласила православного священника и поручила бы ему составить проект устройства еврейской общины. Если бы кому-нибудь, русскому или еврею, в голову пришла эта мысль, то раввины были бы сто раз правы, закричав против русского священника. Пусть он знает по-еврейски — есть такие священники, — пусть он изучал еврейский быт и с симпатией относится к бедной части еврейского населения, всё равно — против него восстали бы не только раввины, но и все евреи, все до единого и никто не имел бы разумного основания их осуждать за это. Есть такие национальные, коренные вопросы, по которым должны работать только русские. Землевладение, именно такой вопрос, который бессмысленно поручать еврею. Но наша бюрократическая машина тем и прелестна: не работает целые полвека в пользу крестьян, не только не учит их и не просвещает, но даже тормозит просвещение, и общее и прикладное, но когда приспичит, сейчас же, недолго думая, составляет проектец и начинает создавать жизнь по своему образу и подобию. Взял за бока чиновника, приказал ему, он взял кусок бумаги, вдунул в него дыхание своей собственной жизни и дело кончено. Государственный совет прочитает, одобрит или не одобрит — все равно, ибо министр имел возможность, помимо Государственного совета, сделать проект законом. А закон можно вводить пушками, не говоря уже о разорении, трусе и потоке, которые могут придти сами собой.
Если бы понадобилась кантата для открытия даже такого русского учреждения, как Государственная дума, то пусть сочинит ее и еврейский композитор. Это будет обидно русскому самолюбию, но еврей может быть хорошим композитором. Художество — всемирное дело. Оно оценивается успехом, критикою и обществом, оно есть творчество свободное и ни для кого не обязательное, но законодательство — совсем другое дело при наших обычаях и государственной практике. Поэтому чтоб еврей мог сочинять законы о землевладении — это бессмыслица, бессмыслица уж потому, что у евреев нет своей земли целые тысячи лет, и самая форма землевладения есть форма утонченная, совсем не в нравах еврейства, которое всегда предпочитало собственность движимую. С нею еврей и передвигается, как гражданин вселенной, менее всего заинтересованный в чьей бы то ни было земле. Несмотря на эту отчужденность от земли, от землевладения, несмотря на то, что русских чиновников гораздо больше, еврея выносят на самый верх русского законодательства и говорят ему:
— Твори!
И он творит. Он польщен, что он, еврей, может считать себя если не Моисеем в Русской земле, то Иосифом. Подобно Иосифу, он предскажет семь голодных годов и семь тучных и научит, как обогатить Россию и спасти. Очевидно, только еврей и спасет Россию, как еврей же спас Египет и фараона. Если не Совет министров, то г. Кутлер в этом убежден, иначе он не стал бы искать еврея.
Это — прямо презрение к русскому человеку, к землевладельцу и земледельцу.
19 января (1 февраля), №10722
DCXIX
Проболев несколько дней, я не мог своевременно прочесть письма г. Кауфмана в «Слове» и ответить на него. Он говорит, что не он один составлял проект об обязательном отчуждении помещичьих земель. «Я был лишь одним из нескольких (?) лиц, которые были привлечены к участию в предварительном обсуждении и редакции проекта, причем наши работы шли по заранее данному нам, выработанному во всех деталях, плану». Кроме того, он сообщает, что на московском съезде он говорил не об обязательном отчуждении, а о переселенческом вопросе. Но мне хорошо известно, что сей последний вопрос тесно связан с первым.
Очевидно, сам г. Кауфман сознает свое неловкое положение, как еврея, в таком важном вопросе, как земельный, иначе зачем ему было вносить такую ничтожную поправку? Я имею право считать ее ничтожной, потому что хорошо знаком с тем сотрудничеством, которое он имел. Сотрудничество это ограничивалось сообщением некоторых материалов. Что касается сотрудничества самого министра землеустройства, г. Кутлера, то о нем, конечно, нечего и распространяться. Г. Кутлер служил вице-директором при директоре окладных сборов Слободчикове, и потом после него директором. Эти окладные сборы, как известно, немилосердно выбивались из мужиков и ради выбития которых министры финансов не щадили всевозможных поощрений. Начиная с Вышнеградского, давали 5000 р. награды тем губернаторам, которые представляли весь сбор с губернии без недоимки, и 3000 р. тем, которые представляли его две трети, и ни копейки тем, которые собирали только половину. Примите в соображение бывшее тогда ничтожное по должности, требующей приемов и представительства, губернаторское жалованье и эти 5000 р., равняющиеся чуть не всему жалованью (кажется, в то время губернаторы получали 6000 или 7000 рублей[25]), и измерьте по естественной жажде этой награды то рвение, которое пылало у губернаторов и по их предписаниям у исправников, земских начальников и прочих агентов окладных сборов. Мужик трещал по всем швам, как плохо сшитый мешок, наполняемый булыжником поощрительных мер для процветания финансов. Директор и вице-директор окладных сборов, конечно, были заинтересованы в успешности этой операции. Слободчиков сказал однажды провинциальному управляющему казенной палаты:
— Вы потрясите хорошенько мужика — у него деньги посыпятся из-за голенищ.
— Оно так, ваше превосходительство, — ответил управляющий, — только голенищев-то у наших мужиков нет: они ходят в лаптях.
Г. Кутлер, конечно, знал мужика по этим эпизодам, но с сельским хозяйством он совершенно незнаком и не скрывает этого. По поручению министра финансов С. Ю. Витте, он составлял известные записки об ограничении земских бюджетов и об отобрании у земства продовольственной части. В качестве министра он, конечно, не станет писать уже ни «записок», ни «проектов», а потому я и говорю, что его участие в проекте г. Кауфмана самое незначительное, вроде редакторской корректуры. Г. Кауфман проходит ту же школу, что и г. Кутлер, т. е. пока только получает заказы на «проекты» и «записки». Есть всегда указательный перст, который приказывает написать записку или проект. Конечно, был он и в данном случае, на что указывает и сам г. Кауфман, говоря о «заранее данном плане». Я кое-что об этом знаю, но нахожу излишним говорить о «секрете полишинеля». При той беготне за манифестами, которые намечались, составлялись, откладывались, снова возникали и снова откладывались, естественно, что был план отобрания земель. Но проект все-таки писал г. Кауфман, и это всего лучше доказывается тем, что он защищал его на съезде конституционно-демократической партии. Не мог же он защищать не свой проект, а коллективный, составленный чиновниками. Сколько мне известно, конституционно-демократическая партия, или кадеты, состоит в оппозиции правительству и работает по собственной программе, отличающейся значительно от правительственной программы графа Витте, и на съезде кадетов проект так и назывался проектом г. Кауфмана.
Написан он как статистическая работа, причем все разнообразные бытовые, почвенные, торговые и другие условия, например, близость к рынкам, железных дорогам, оставлены в стороне. А этих условий при неравенстве наделов, при разнообразии почв, климата и проч., великое множество. Вообще проект г. Кауфмана так непрочно построен, что вовсе не диво, что все члены комиссии от разных министерств, которые его разбирали, высказались против. Г. Кутлер остался в единственном числе, если не считать его чиновников и в особенности г. Кауфмана. Но возможно, что г. Кутлер поставит вопрос: я или проект? И вдруг окажется, что, кроме г. Кутлера, никого нет, что некому спасать Россию. Хорошо еще, что он только спасатель, а не спаситель. А спасатель — оперетка.
Вы по наивности можете спросить: неужели собственные министры графа Витте и он сам так-таки и решили, что спасение только в Израиле? Неужели русское образованное общество, дворянство, земство и само русское чиновничество такая непроглядная пустыня, что самый важный вопрос приходится поручить еврею? Не при фараонах же в самом деле и Пентефриях мы живем, чтоб искать Иосифа для объяснения тех снов, которые снятся управителям России, как отражение ее тяжкого состояния? Накануне собрания Государственной думы судьба землевладения отдается еврею и его покровителю, г. Кутлеру. Да что это за гении? Где их права на такое предпочтение, где те труды, которые давали бы им такое страшно исключительное право? Два чиновника, отличенные начальством, и ничего больше. Г. Кауфман отличен еще бывшим министром земледелия А. С. Ермоловым, неизвестно, впрочем, почему. Г. Кауфман ездил в Сибирь, что-то там видел, а еще больше не видал, собирал сведения «из вторых рук», по собственному его сознанию, но ставил выводы наотмашь, как только может самоуверенный чиновник. Деревни он совсем не знает. Ныне и А. С. Ермолов идет против этого проекта, стало быть признает, что его любимец взялся не за свое дело, но зато г. Кутлер стоит за проект, как бы за собственное свое произведение. Какое однако расстояние между этим социалистическим проектом и записками г. Кутлера о необходимости прижать земскую деятельность! Наши министры не ходят, а шагают, как гиганты… на гигантских шагах.
Случай этот превосходно показывает, как у нас делаются реформы. Первый встречный чиновник является решителем судеб и «моему ндраву не препятствуй». Это одинаково и у купцов и у министров. Купцы бьют зеркала и платят за разбитое. Министры бьют Россию и ничего не платят, а, напротив, получают за разбитое ими. Сегодня вы думаете, что вашей собственности ничто не угрожает. Завтра у вас вдруг ничего не остается. Под вас подкапываются, тайно работая в канцеляриях, и только биржа все знает и всем пользуется, только игроки на этом денежном и бумажном рынке, где министрами и царями евреи, увеличивают свои капиталы. Ни экономические, ни политические забастовки (крестьяне, кстати, называют их очень удачно запустовками, пустовать) нимало не касаются биржи. Ее никто не трогал. Революция ее ласкала. Она не посылала своих агентов разгонять сию священную коллегию, но посылала их разгонять даже Сенат. Никаких секретов для биржи нет. Даже намерения правительства ей известны: она присутствует, как необходимая акушерка, при рождении всех правительственных мыслей и мероприятий. Земельная собственность, давно уж находящаяся не в авантаже, должна отдуваться за всех, и у правительства не хватило такта и искренности, чтобы поставить земельный вопрос прямо и открыто перед всей Россией, разработать его соединенными силами, такими путями, чтобы ничто не было тайной, чтобы всякая подробность была известна, чтобы весь русский мир знал, сознавал и чувствовал всю важность задачи. Почему этого не сделано? Почему нужна какая-то подпольная работа, приготовление к сюрпризу, к разорению землевладельцев, к экспроприации, нужен какой-то революционный удар, тайно приготовленный при участии еврея и, может быть, евреев, ибо никому, как им, достанутся остальные, не вошедшие в раздел, помещичьи земли по дешевой цене? Какому Пентефрию нужны эти тайные подходы и для чего?
Землевладельцы не должны допускать, чтобы кто-нибудь из министров мог распоряжаться их собственностью, как своим носовым платком, если только у этих господ есть чувство благородной независимости и стойкости за свои права. Если этого нет, то и разговаривать нечего.
25 января (7 февраля), №10728
DCXX
Я давно не смеялся так искренно, как на днях, читая отчет о приеме графом Витте екатеринодарских мещан, во главе с г. Подчищаевым. Отчет оказался «не соответственным действительности», как дня два спустя после его напечатания в газете заявило о том официозное СПб. агентство. Я даже думаю, что самая фамилия Подчищаева выдуманная, ибо она напоминает действующих лиц в старинных комедиях. Мещане явились из Екатеринодара, главного города Кубанской области, для того, чтобы заявить свое недоверие правительству графа Витте относительно земельного вопроса, объявив, что этот вопрос должен быть решен Государственной думой. Граф Витте с ними более или менее согласился. Вопрос, таким образом, по-видимому, был исчерпан. Но г. Подчищаев, предоставив Государственной думе решить этот вопрос, счел нужным сказать и о том, каким образом он должен быть решен. Надо отобрать монастырские, казенные и частновладельческие земли и передать их народу даром, потому что народ «покупать их не хочет». «Государство» может заплатить за них или не заплатить — это не их, екатеринодарцев, дело. Нет денег на покупку у казны — пусть найдет. «Иначе беспорядки не прекратятся». Г. Подчищаев повторил эту фразу несколько раз, стараясь внушить первому министру всю ее остроту и безнадежность. Напрасно граф Витте рассказал своим любезным гостям анекдот о Ротшильде. Пришел к нему анархист и говорит: раздели свои капиталы поровну всем. — Извольте, г. анархист. Я давно об этом думал и так как я думаю при помощи вычислений, то я нашел, что разделив мои капиталы между всеми, каждому придется по два франка. Получите свои два франка, г. анархист. Анархист подумал: врет, старый жид, наверно. У него гораздо больше, и если его хорошенько встряхнуть, то, пожалуй, придется на брата и по двести франков. Но так как на два франка все-таки можно выпить, а делить свои капиталы Ротшильд никогда не станет, то возьму и два франка. Он взял два франка и их пропил на красном вине.
Так ли рассказал граф Витте этот анекдот или иначе, не знаю. Но мне кажется, что дело происходило именно так и анекдот остается плохим анекдотом, как для Ротшильда, так и для анархиста. Затем граф Витте якобы сказал, что английский король «зависит от жидовских банкиров», а революционеры хотят, чтобы Россией «правили поляки, армяне и жиды». Чтобы поверить тому, что граф Витте мог сказать о зависимости английского короля от жидовских банкиров, надо быть, по крайней мере, идиотом. Бывший министр финансов, столь часто пользовавшийся услугами «жидовских банкиров», без которых едва ли возможны какие-нибудь государственные займы, не мог даже подумать о том, что ему приписано. Одно это обстоятельство — лишает отчет всякой достоверности. Но все-таки он комичен. Комичен потому, что мещане говорили с твердостью первых министров, а первый министр говорил с мягкостью отца, дети которого решительно заявили ему, что учиться они соизволят только в автономных гимназиях, причем директора и инспектора они должны выбирать, и ставить отметки должны гимназисты учителям, а не наоборот. Отцу это очень ново и странно, но ничего не поделаешь. Когда один из почтенных екатеринодарских делегатов объявил, что землю можно отобрать от казаков, первый министр, не выходя из своей отеческой роли, сказал:
— А казак возьмет да и зарежет вас.
Это гораздо правдивее анекдота о Ротшильде. Казак действительно зарежет всякого, кто вздумает отобрать у него землю. И если г. Кутлер с своим чиновником евреем вздумал отбирать землю у помещиков, то единственно потому, что находится в уверенности, что помещики не казаки. Они — люди просвещенные и, вероятно, сами себя зарежут для общей пользы и благоденствия. Удивительное наше время в этом отношении. Режут так много, в особенности поблизости Екатеринодара, на Кавказе, что кажется, кто сам себя не зарежет, того зарежут, а кто прав и кто виноват — рассудит Бог, ибо русские «скорые» суды охотно откладывают дела до второго пришествия, а правители почивают на лаврах своего нравственного и физического бессилия, размышляя не о том, где истина, а о том, кто сильнее.
Это между прочим, ибо тема эта широкая, а я еще не досказал своей сказки. Мне кажется, «отчет» не достоверен и потому, что на угрозы г. Подчищаева, что аграрные беспорядки не прекратятся, если не последуют совету гг. екатеринодарцев, граф Витте отвечал бы ему приблизительно так:
— А я вас уверяю, что они прекратятся. Я, представитель правительства, вам это говорю, и вы должны помнить, что правительство существует и знает лучше вас положение дел и свои средства для умиротворения страны. Что касается вашего желания, чтоб официально объявлено было о том, что крестьяне будут наделены землей, то вы сами себе противоречите: если этот вопрос должна решить Дума, то у правительства даже и права нет предрешать каким бы то ни было образом этот вопрос до Думы. Поэтому, никакого официального объявления не будет, а беспорядки все-таки прекратятся.
Он мог бы прибавить, пожалуй: «с Божьей помощью», если не хотел брать на себя большой ответственности.
Само собой разумеется, он сказал бы несравненно лучше меня, сильнее и внушительнее. Но я только намекаю на главную мысль, вспоминая один классический пример. Когда, после бородинской битвы, Вольцоген, посланный Барклаем, стал докладывать Кутузову, что «войска в полном расстройстве», Кутузов закричал на него в страшном гневе:
— Неправда, неправда. Я, главнокомандующий, лучше знаю, чем Барклай. Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Завтра мы атакуем неприятеля.
Конечно, Бородинское сражение, выигрыш которого мы приписываем себе, а французы себе, не то, что екатеринодарские мещане с их угрожениями. Но если принять в соображение все то, что происходило и происходит теперь на русской земле, где грабежи, пожары и разорение людей, которые виновны только в том, что владеют наследственно землею, или в том, что купили ее, веря в законы Российской империи, купили на свои сбережения, не будучи дворянами и не участвуя ни сами, ни через своих предков в покойном крепостном праве, — если все это принять во внимание, то, пожалуй, это еще почище Бородинского сражения. Там был Наполеон, которого народ называл Антихристом и находил в его имени «звериное число» 666, а теперь чуть ли не сам Антихрист объявился, и «звериная» расправа с усадьбами далеко превысила число 666.
Слова Кутузова — вдохновенные слова. Барклай был благородный и правдивый человек, но его правда в этом случае была сухою прозою, протоколом. А момент был чрезвычайно важный. Надо было поднять дух армии, внушить ей веру в свои силы и победу. И русская душа Кутузова встрепенулась, как «пробудившийся орел», и вещее слово его радостной молнией пронеслось по армии.
Когда отечество в тяжелом положении, ответственные лица в правительстве должны находить в своей душе непобедимую бодрость, чтобы она внушалась другим и влияла на них. Слово много значит, потому что оно разносится по всей России.
30 января (12 февраля), №10733
DCXXI
Граф А. Уваров удивляется тому, что некоторые чиновники Крестьянского земельного банка или, по крайней мере, его саратовского отделения «открыто расстраивают сделки, усердно убеждают крестьян не торопиться вовсе покупать землю до созыва Государственной думы, которая-де заставит теперешних владельцев отдать землю крестьянам или даром, или по очень низкой оценке» и далее: «Банковские чиновники подробно объясняют крестьянам, что если помещики посмеют продать теперь свои участки другим лицам, то новые владельцы землей пользоваться не будут, ибо и эти участки непременно Думою будут отобраны и отданы крестьянам».
В сущности, тут удивляться нечему. У правительства, очевидно, своя политика, и притом политика очень древняя. Первообраз ее дал еще Иосиф Иаковлевич, невинный любовник Пентефриевой жены и знаменитый снотолкователь фараона. Воспользоваться обстоятельствами и, скупив выгодно известное имущество, использовать его потом для государственных целей. У правительства денег нет или их очень мало, а потому естественно оно поступает, как купец. Оно пользуется паникою, наведенную на землевладельцев аграрными беспорядками, и предупреждает их еще, чтобы они торопились, ибо потом будет еще хуже. Его чиновники действуют в том же направлении в провинции. Помещики заваливают банки предложением своих земель, а правительство даже не торопится их приобретать. Погодите, мол, милостивые государи, я еще подожду и еще уроню цену. Уже и теперь земля, стоившая год назад 150 руб., продается чуть не за половину этой цены и покупателей нет. Когда рынок полон предложением какого-нибудь товара, цена на него падает. А землевладельцы не имеют, по-видимому, никакой политики. Они отнеслись к аграрному вопросу с необыкновенным легкомыслием и заявляли себя таким радикализмом на московском съезде, что кричали: «Мы — революционеры!» Радикальничая, они почти не выходили из программы общих мест и аграрным вопросом занимались меньше, чем вопросом об автономии Польши. Их увлекала высокая политика «освобождения», а что у них было под носом, того они не замечали. Французское национальное собрание, вырабатывая свое Déclaration des droits de l’homme, во 2-м параграфе постановило эти права так: la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’opression. В последнем, XVII параграфе, сказано: «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité». Наши представители землевладельческого сословия и не думали поставить в своих правах «священное и ненарушимое» право собственности. Их за это облили ушатом грязи революционеры, а они сами себя объявляли революционерами. Когда заходила речь об аграрном вопросе, то многие заявляли, что готовы отдать свою землю, но, разумеется, при этом думали о хорошей цене и не предвидели еще ни беспорядков, ни довольно пассивного отношения к ним правительства, ни той паники, в заглавие которой можно поставить: «вся земельная Россия продается». В манифесте 17 октября тоже ни слова нет о гарантиях собственности. Об этом никто не подумал. Говорят, что об этом упоминается в наших законах, что по этим законам «право это священно», но и, по законам французской монархии оно считалось «священным», однако представители страны не забыли это подтвердить, приступая к новому, конституционному порядку вещей. У нас этого не нужно, видите ли, у нас законы святы. Такая деликатность! Крепкие задние умом, землевладельцы теперь не знают, что делать. Они присылают в Петербург депутации, которые ходят по министрам, как калики перехожие, поют убогого Лазаря, а старший, богатый брат, Бюрократ, обеспеченный 20-м числом, казенною квартирою, отоплением и освещением, едва на них смотрит, едва удостаивает их разговора и чуть не говорит им «братцы». Кто ж виноват? Когда вырабатывалась Декларация прав человека в 1789 г., поднят был вопрос об обязанностях (déclaration des devoirs), но отложен. И Конвент снова поднял этот вопрос и включил в конституцию III года и 9 параграфов обязанностей каждого гражданина. VIII параграф этих обязанностей опять говорит о собственности: «C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social». Эти обязанности относились и к правительству и все они основывались на правиле: не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы тебе делали. У нас все еще патриархально и все сидит по-старому. Кто смел, тот два съел, а кто не смел, тот ничего не съел. Говорят, что дворянство должно было бы взять аграрный вопрос в свои руки, что оно опоздало, что оно пропустило важный момент. В конце концов, ему чуть не навязали господа, обеспеченные 20 числом, еврейскую работу об отобрании земель. Уж очень она казалась соблазнительной и простой. Народ будет благословлять правительство, а правительство будет благословлять народ, и оба будут лить друг на друга слезы радости и удовольствия и купаться в этой блаженной воде. Дело казалось столь же простым и прекрасным, как пресловутая «зубатовщина», которая вся основана была на том, чтобы дать фабрикантам в зубы. Извините за выражение. Рабочих больше, чем фабрикантов, а потому зевать нечего. Довольно им мирволили. Пора и честь знать.
И всё это грубо, приказательно, не сговариваясь со сторонами, не совещаясь с ними, не стремясь выработать законный порядок, точно видя в этом унижение своего авторитета. Та же зубатовщина и в этом проекте отобрания земель по канцелярскому проекту. Разница только в том, что там дело шло о фабриках и заводах, а здесь о земле, но способ выработки проекта и средства для его проведения и отношение к собственности — та же грубость, та же приказательность, то же невнимание к человеческому достоинству культурного сословия. Чего спрашивать и советоваться, когда наши отцы и деды и проч., и проч., и проч. Хочу — люблю, хочу — бью. Но если можно отбирать землю, то можно отбирать фабрики и заводы, дома и капиталы. Стоит только сделать первый шаг, а шаг этот несомненно социал-демократической чеканки.
Я могу указать на очень интересное сочинение князя Кропоткина, известного анархиста и талантливого писателя, «La conquete du pain». Там хорошо разъяснены «права» народа на чужие имущества, движимые и недвижимые, и разъяснено, как легко и удобно народу и вообще неимущим овладеть домами и разместиться в них со всеми удобствами, поделив между собою все, прогнав правительство. Сочинение, написанное на французском языке и, таким образом, обращавшееся к иностранной публике, ссылается на русского мужика, как образцового делителя имущества. Именно князь Кропоткин рассказывает своему читателю, как наши общинники делят землю на полоски и живут между собою мирно. Так можно поделить между собою и дома и в домах избрать себе квартиры. Но убежденного анархиста князя Кропоткина можно понимать. Последовательно и смело развивает он свои идеи «землеустройства» и вообще «благоустройства», заимствуя примеры из прошлой истории и практики современной жизни. Так, он ссылается на отели, которые устроены для состоятельных людей. 6 них и люди малосостоятельные пользуются наравне с богатыми и хорошим обедом, и читальней, и концертами, и танцевальными залами. Овладев домами, народ, при благосклонном участии гг. анархистов, социал-демократов и т. п., может устроиться так же прекрасно, как устраиваются богатые люди в отелях. Что невозможно одному человеку, то возможно общине. Какая экономия получится, например, на кухарках, поварах, дровах и проч. от одного того, что будет существовать одна кухня на десять домов. Вообще очень назидательная картина получается от насильственной экспроприации и конфискации земель, фабрик, заводов, домов и всякого другого имущества. А правительство все равно нужно. Без чиновника нельзя обойтись, и он и в социал-демократии еще необходимее, чем теперь.
Если «зубатовщина» в рабочем вопросе привела к явлениям революционным, то зубатовщина в земельном вопросе приведет к тому же, то есть к усилению революции и к прочному насаждению у нас социал-демократии. Пусть правительство графа Витте в этом не сомневается.
2(15) февраля, №10736
DCXXII
Я совершенно не согласен со статьей М. О. Меньшикова «Дополнительный надел», но помещаю ее, ибо вопрос этот первостепенной важности. Пишу наскоро и потому за то, что недоговорил или переговорил, прошу извинить меня.
Я не верю, что вместе с жаворонками начнутся опять аграрные беспорядки. Судя по письмам, которые я имею, этих беспорядков, в том, по крайней мере, виде, в каком их пророчат, не будет. Это всё запугивания, основанные на том, что случилось. Крестьянин — вовсе не разбойник, который решился грабить во что бы то ни стало и несмотря ни на что. В душе он — добрый и разумный человек, но надо уметь им управлять.
Весна — время работы. В этом году к тому же выборы в Государственную думу, которая среди народа очень популярна. Он на нее решительно рассчитывает. Граф Витте слышал от екатеринодарских мещан, что народ желает решения этого вопроса от Думы, а не от правительства. Г. Меньшиков, напротив, грозит государственным людям этим вопросом с первыми жаворонками и убеждает их решать его хотя и не совсем, но сейчас, бюрократическим порядком. Потом парламент переделает и доделает. С этим вопросом нельзя шутить именно так. Сначала немножко, а потом побольше, точно дело идет о какой-нибудь маленькой Бельгии. Наши государственные люди совсем не сельские хозяева, а граф Витте едва ли отличит колос ржи от колоса овса. С крестьянской Россией он совершенно незнаком и, кроме дачи, около Сочи, никакой земли не имеет. Г. Кутлер, министр землеустройства, сам говорил одной депутации, что он «только еще знакомится» с сельской Россией и только по бумагам, и этому поверит даже Фома неверный, если узнает, что чистокровный еврей, тоже не сельский хозяин, разрезывает Россию, как лист бумаги. Министр финансов тоже едва ли с нею знаком. Можно судить об этом по его удивительному циркуляру, подписанному его товарищем г. Путиловым. Мы сегодня перепечатываем его из «Киевлянина». Это документ огромной важности по тому канцелярскому взгляду на землевладение, которое в нем обнаруживается. Это как бы прокламация социал-демократического комитета, написанная только вяло и по-канцелярски. Я не вижу большой разницы между этим циркуляром и теми прокламациями, которые приглашали жителей брать деньги из сберегательных касс. То же запугивание и то же обесценение ценностей.
Может быть, наши землевладельцы ничего другого и не заслуживают, но мне думается, что государственный человек никогда не должен забывать, что он такое. Он не должен сходить с вершин серьезного отношения к важным вопросам и обязан трактовать их, как важные, всесторонне, имея в виду будущее. Презрительное отношение к целому культурному классу, который без помощи евреев провел все великие реформы Александра II, дело нехорошее и крайне опасное. Мне думается, что г. Меньшиков очень ошибается, говоря, что старые помещики, «родные мужику», вымерли, а теперь все какие-то «истинно русские люди», делающие карьеру в канцеляриях. Если это так, то как же можно этим «истинно русским людям», заседающим в канцеляриях, этим государственным людям, совсем незнакомым с сельской Россией, поручать такое дело? А ведь выходит именно так. Откуда наши министры, как не из этих «истинно русских людей», которые делают карьеру? Это не помещики, «все же благодушные, все же родные помещики», а именно «истинно русские люди», вроде г. Кутлера, г. Кауфмана и др. Почему эти господа лучше депутатов Государственной думы! Потому что ждать невозможно, потому что жаворонок приближается из теплых стран в Россию? Но что же это за правительство, которое ничего не видело, ничего не знало, ничего не предупредило и которое начинает работать неумелыми руками под угрозой бунта. Ведь во главе его стоит граф Витте, который десять лет вел финансовую политику России и поощрял пятитысячными прибавками к жалованью губернаторов, чтобы они собирали с мужичка не только все до копеечки, но до последней коровы. Ведь это не новичок, не иньорант, это умница и делец. Как же он-то ничего не видел, а если видел, то почему молчал?
Разбойник приставляет нож к горлу и грозит: «жизнь или кошелек», и правительство спешит опоражнивать чужие кошельки, сохраняя свои собственные. Не хорошо как будто…
Я думаю, что землевладельческий класс совсем не таков, как рисует его г. Меньшиков. Оставим в стороне наследственные дворянские поместья. Между землевладельцами есть много крестьян, много людей всевозможных профессий, любящих сельское хозяйство и деревню, которые купили землю на свои сбережения. Я уже об этом говорил. Почему их надо разорять? «Самое крохотное вознаграждение все же лучше, чем минус дохода», — говорит г. Меньшиков. Ну, это как кому. А если я этого не желаю, если я считаю это возмутительным произволом? Если я скажу государственным людям, работающим под ножом «Прокопа Ляпунова», под «анафемой народной»:
Если вы не умеете управлять, уходите. Не может быть, что Россия так глупа и ничтожна, что не может обойтись без вас и ваших скороспелых проектов. Положим, вы великие люди. Но ведь даже Петр Великий умер, а не то что Петр Длинный, Петр Большой, как говорит поэт в своей эпиграмме. И Россия не погибла. Я не понимаю угроз, что будто весною придется завоевывать всю Россию, как не понимаю вечной жизни на земле какого-нибудь смертного. Все помрем, а Россия жить будет. Я понимаю ночь на 4 августа французского дворянства, когда оно в страстном и благородном порыве отказалось от всех привилегий. Но насилие ужасно.
Г. X. на свои сто тысяч накупил биржевых бумаг и спокойно режет купоны, играет на бирже, находит у банкиров онкольные счета, играет, наживает на понижении русских бумаг и алчно смотрит в глаза банкиру и ждет от него совета, как благостыни. Он ничего не делает. Он рантьер или биржевик. Он может выиграть в одну биржу двадцать-тридцать тысяч рублей, тогда как г. У., купивший на свои сто т. руб. земли, о таком доходе никогда не мечтал. Он едва сводит концы с концами, но любит землю. Он построил в деревне школу, он нанимает учителя, построил больницу, богадельню, развел фруктовый сад, устроил мельницу, он дает работу крестьянам, помогает как может и вдруг ему говорят:
— Уходи, сделай милость. Иначе тебя все равно прогонят, а я, правительство, тебя защищать не могу.
— Да что же ты можешь делать, если ты не можешь защитить мою собственность. За что же вы получаете жалованье, за что я плачу подати! Почему же ты защищаешь г. X., который купил процентные бумаги? Почему ты ему покровительствуешь? Почему мне «крохотное вознаграждение», а ему полное раздолье? Ведь ни одному министру и в голову не придет вырвать у меня из рук сторублевую акцию, а сто десятин можно? Потому ли, что и государственные люди и министры имеют процентные бумаги и приглашают к себе для советов банкиров? Потому ли, что они, зная все тайны, успели заранее сбыть свои земли, или выгодно заложить их при своем влиянии в Земельный банк, или продать их, пока я ничего не знал и не подозревал, что на нас идет экспроприация и мне дадут «крошечное вознаграждение» из милости? Почему такая разница? Почему меня заставляют продать землю под «ножом Прокопия Ляпунова», как выражается Ляпунов в драме Кукольника, заставляя отравителя-доктора пить яд, — а держателю процентных бумаг кланяются и предлагают купить выгодную бумагу еще?
Согласитесь, что это очень несправедливо. Г. У. не совершил никакого преступления, как и г. X., но г. У. все-таки внес в землю некоторую культуру, построил школу, больницу для крестьян, не гнался за наживой, а ему дают всенародно пинка и хладнокровно вместе с семьей лишают имущества.
Г. Меньшиков негодует на домовладельцев и помещиков. Одни теснят квартиронанимателей, другие крестьян. Прекрасно. 6 таком случае мы прямо идем в социал-демократию. Кстати, у графа Витте есть дом. У меня два. Пожалуйте сюда. Пожалуйте и деньги. Давайте делить. Анекдот о Ротшильде, которым граф Витте хотел убедить г. Подчищаева, совсем детский анекдот. Давайте все делить: землю, дома, фабрики, заводы, деньги. Я с большим удовольствием пойду на это, знаю, что пойдет и М. О. Меньшиков, но, думаю, только не по приказу графа Витте, а по общему согласию Русской Земли. Граф Витте давно занимается экспроприацией. Он сделал конверсию, девальвацию, винную монополию, или винополию, как говорит народ. Он тоже пойдет на этот дележ и пойдет искренно и не по такому якобы «высокому» соображению: царь и народ, и прочь «средостение» образованного землевладельческого класса… Останется «средостение» вечной бюрократии, которая непременно будет стоять между царем и народом, несмотря на социал-демократическую Думу.
Давайте делить наши состояния. Социал-демократия, так социал-демократия. Чего церемониться? Вместо Христа еврейство поставило Карла Маркса, и ему поклоняются русские люди вообще, особенно радикальных воззрений, и министры в особенности, ибо они ведут нас к «умиротворению». Давайте национализацию земли, вообще социализацию, и я ровно ничего не скажу. Я не скажу даже, что предпочитал бы христианский социализм, в котором грешны такие люди, как Фихте, Оуэн, Карлейль, Рескин, социал-демократии еврея Маркса, который давит своим материальным расчетом христианскую душу и высший разум Христа. Зачем коварствовать, зачем искать окольные дороги и разорять одних землевладельцев, оставляя капиталы, дома, фабрики и заводы, как «священную собственность». «Правительственный Вестник» мог бы постыдиться указывать на основные законы «священной собственности», когда она подрывается в корне министерскими циркулярами и канцелярскими проектами, сработанными тайно от всей России. Пойдем прямо туда, куда влечет нас судьба, и — аминь и Богу слава.
3 (16) февраля, №10737
DCXXIII
За все тридцатилетнее существование издаваемого мною «Нового Времени» я не написал ни одной строки о Финляндии. Мне казалось, что Финляндия — это какая-то скромная рыжая девица, очень застенчивая, которая живет на граните, около озера и желает только, чтобы ее никто не трогал. И я ее не трогал и совсем ею не интересовался, ни ее историей, ни бытом, ни литературой. Раз в жизни я доехал до Выборга, больше тридцати лет назад, но и то провожая одну даму, и сейчас же вернулся, не видав Выборга, ибо дело было ночью. Я думал притом, что Финляндия в России» что есть Финляндский полк и есть гвардейские офицеры-финляндцы, которых я знал в моей юности и фамилии которых кончались на «штремы» и «геры». Да еще читал я, тоже в юности, в переводе Я. К. Грота «Фритиофа». Но и «Фритиоф» не возбуждал во мне ни мысли, ни фантазии. Мне он представлялся каким-то не то каменным, не то ледяным. А Финн в «Руслане и Людмиле» с его пастушкою, которая сделалась ведьмою, казался мне просто идиотом не только в поэме Пушкина, но даже в опере Глинки. Если б не было Наины, да еще любовницы царевича Алексея, сына Петра Великого, чухонки Евфросиньи, я мог бы подумать, что в Финляндии совсем нет женщин. По крайней мере, замечательных женщин в Финляндии кажется совсем нет, тогда как они были во всякой стране, в Польше, Чехии, Грузии — называю только страны, не пользующиеся теперь независимостью. Это нехорошо, если у страны не было замечательных женщин. Женщины — это сердце страны, одно из прав на общечеловечество. И такою далекою казалась мне Финляндия, такою холодною и неприютною, что я предпочитал сделать две тысячи верст на юг, чем сто верст на север. Уроженец Воронежской губернии, я совсем не стремился к северу: меня всегда тянуло на юг, к Черному морю и далее к Царьграду.
Вы скажете: «Однако, признания! Есть чем хвастаться». Да я и не хвастаюсь, а каюсь, и притом каюсь бесполезно, ибо теперь я вовсе не способен ни изучать Финляндию, ни даже интересоваться ею. Я не мог отыскать в своем сердце чувства негодования, когда финны стали бойкотировать русских с такою же настойчивостью, с какой пушкинский Финн любил свою Наину. Мне очень было жаль Н. И. Бобрикова, которого я несколько знал и уважал за его русский характер. Но затем все эти Мехелины мне казались прямо пигмеями, и я не могу сказать, почему. Какое-то безотчетное чувство владело и владеет мною, и я не могу от него отделаться. Я понимаю, что это нехорошо, но я понимаю, что и курить вредно, а я не могу бросить. Когда финляндцы одурачили князя Оболенского, я пожалел только одураченного, да и то как-то юмористически. Мне жаль было живых цветов и цветов красноречия, которые финляндские дамы и мужчины подносили этому русскому князю. Потом, откуда-то, какой-то внутренний голос мне говорил: а может, и хорошо, что его одурачили. В истории бывают такие роковые случаи, что одного или нескольких человек одурачат, а миллиону людей становится лучше. Но и на этом я не останавливался с должным вниманием, ибо, повторяю, вся Финляндия со всеми ее отношениями к России казалась мне чем-то не серьезным, не важным, чем-то посторонним, каким-то маленьким и темным чуланом в огромном русском доме.
Конечно, я жестоко заблуждался. Конечно, конечно. Финляндский вопрос важен. Что и говорить. Я и думал это, ибо помещал постоянно статьи о Финляндии, хотя большею частию оставался равнодушен к ним. Даже статья г. Меньшикова, обратившая на себя общее внимание, прошла мимо моего внимания.
И когда «Русское Государство» прочло нотацию «Новому Времени» по поводу этой и других статей, я только подумал: если кто-нибудь станет издавать газету «Русский Император», то какая из этих газет будет авторитетнее? И я остаюсь при мнении, что русское государство и русский император останутся сами по себе, совершенно независимые и неоднородные с газетами, прикрывающимися такими высокими именами.
Я не могу себе вообразить, что финляндцы когда-нибудь будут управлять Россией. Я легко воображаю себе в этой роли поляков и евреев, но финляндцев никогда, и если они гонят теперь от себя не только русских чиновников, но даже коробейников и не гонят только Н. Н. Герарда, то я вижу в этом несомненный признак их неспособности управлять чем-нибудь кроме Финляндии. Мне даже кажется, что и Финляндией они не управляют, а ею управляют, кажется, шведы, люди очевидно более талантливые и сильные, чем сами уроженцы этой гранитной и озерной страны.
Н. Н. Герарда я знал, когда он был моложе лет на 30 или около того. Он был совершенною противоположностью брату своему, покойному Владимиру Николаевичу известному адвокату. Как В. Н. был жив, подвижен, весел, говорлив, так Н. Н. был тих, скромен, задумчив и молчалив. Ни ростом, ни лицом они даже не напоминали друг друга. Высокий, с тонкими губами, тщательно выбритый и тщательно одетый, весь корректный, так сказать, Н. Н. походил в веселой и шумной кампании, в которой я его встречал, на пастора, который сочинял в уме проповедь и раздумывал о том впечатлении, которое она произведет на прихожан, если они не поскучают придти его послушать.
Когда я услышал об его назначении в Финляндию, я сказал:
— Вот настоящий генерал-губернатор Финляндии. И фамилия как будто шведская, и пасторский вид, и корректность благовоспитанного пастора, и молчаливость мудрости, — все говорило в нем, что лучшего пастора финского стада нельзя выдумать.
И я не ошибся. Из предыдущего читатели видели, что я не солидарен со статьями «Нового Времени» о Финляндии, а потому не солидарен и с нападками на Н. Н. Герарда. Но нечего говорить, что я глубоко уважаю искренние чувства своих сотрудников и думаю, что борьба русского патриотизма и финского — дело необходимое и полезное. Я только не чувствую в себе способности говорить о Финляндии.
Я совершенно и бесповоротно убежден в том, что Н. Н. никогда не позволит себе взять в руки хворостину и гнать ею из Финляндии русских коробейников. Если же на это решится какой-нибудь губернатор-чухна, то Н. Н. подумает: «мне жаль коробейников. Но я скажу финляндцам речь». И он скажет речь, и чухонский губернатор, ни слова не понимая по-французски, на котором речь будет сказана — французский язык, как известно, официальный язык нашей бюрократии, — прослезится и умилосердится.
Что делать, господа. Полно приказывать. Теперь надо просить и утешаться тем, что эта форма «временная», как все теперь «временное», самые законы носят название «временных правил». Но эта форма просьбы должна перейти в вежливость и в политическую благовоспитанность, которая утвердит свою волю правом, и русская политика получит ту твердость, которой ей никогда не хватало. Я в этом не сомневаюсь, а потому «гляжу вперед я без боязни» и «не жаль мне прошлого ничуть».
Н. Н. Герард никогда не забудет, что в Финляндии потому только ему место, что он имеет честь принадлежать к русской нации и представлять собою лицо русского императора. Поэтому брать в руки хворостину и гнать из Финляндии русских, подобно тому, как мужик «предлинной хворостиной гнал гусей в город продавать», ему ни с какой стороны не пристало. Конечно, мужик имел право сказать гусям, которые хвастались, что они Рим спасли, именно то, что он им сказал. Но русские люди — не гуси, а Н. Н. Герард — не мужик, который при помощи гусаков и гусынь вывел и вскормил целую стаю гусей. Он вскормил только себя самого и на русских хлебах. Поэтому Н. Н. Герард не имеет права продавать русских коробейников ни за свое жалованье, ни за свой пост, ни за что другое.
8(21) февраля, №10742
DCXXIV
В конце октября на берлинской станции Фридрихштрассе я встретился с В. И. Тимирязевым. «Политическая» забастовка кончилась, и революционное правительство Петербурга повелело открыть движение. Я ехал в Петербург, а г. Тимирязев кого-то провожал и сам на другой день должен был выехать в Петербург. Мы обменялись искренними надеждами на графа Витте, который все устроит и все успокоит. В начале ноября я снова виделся с Василием Ивановичем, который был в это время уже министром. Я немножко негодовал на непонятную для меня бездеятельность графа Витте, а В. И. Тимирязев старался выяснить мне трудное положение первого министра и защищал его. Министерского поста он не искал, принял его, потому что ему граф Витте предложил его, и совсем не был им обольщен. С тех пор я его не видал. Как он министерствовал в торговле и промышленности, какой политики держался он в кабинете, я об этом знал только по слухам. Выход его в отставку был для меня, как и для всех, неожиданностью, и я очень об этом пожалел.
В. И. Тимирязев был единственным конституционным министром в кабинете графа Витте. Он больше десяти лет пробыл в Берлине, хорошо знал министров, вождей парламентских партий, не исключая и рабочей партии, присутствовал на заседаниях рейхстага, знал парламентскую практику и политическую борьбу партий и средства партийной борьбы. Он жил в Берлине представителем серьезных русских интересов, имеющих связь с финансами, торговлей и промышленностью. Одним словом, это был министр хорошо вооруженный. Тянуло ли его влево, я не знаю, но думаю, что нет.
Помещая заметку о выходе его в отставку, я был вполне убежден в полной ее правдивости. Убежден в этом и теперь, после объявления «Русского Государства», где между прочим сказано, что будто граф Витте не писал ему письма. «Русское Государство» просто врет, и я думаю, что оно врет «по усердию», врет так же смело за графа Витте, как будет врать в свое время и против него. Я безусловно верю тому, что граф Витте не давал попу Талону тридцать тысяч рублей, но если бы сам В. И. Тимирязев сказал мне, что он не получал письма от графа Витте, я бы и ему не поверил, ибо оно совершенно соответствует характеру графа С. Юльевича и его отношениям к «собственным» министрам.
Поэтому, я думаю, что граф Витте прекрасно бы сделал, если бы воспретил употреблять фразу «несоответственно действительности». Стоит появиться какому-либо сообщению о словах и действиях министра-президента, как сейчас же «несоответственно действительности». А как было в действительности, — остается неизвестным. Когда под указами пишется «быть по сему», то мы знаем содержание указа; а в данном случае «быть по сему» министра-президента пишется и печатается на белой бумаге. «Быть по сему», а неизвестно, по чему «по сему». Такие опровержения по меньшей мере бесполезны, как для опровергающего, так и для публики. Но они могут быть и вредными.
Граф Витте человек искренний. Это одно из его достоинств. Он искренен, когда говорит, когда, говоря, слушает себя и одобряет, и увлекается. Он совсем не из тех государственных людей, которые обдумывают каждое свое слово. Да и возможно ли это? Во всяком случае, это невозможно при той сутолоке, в которой он живет, при тех условиях, среди которых он говорит и действует. Это один из тех людей, которые все делают сами или стремятся делать сами. Им все кажется, что даже конверта с письмом другие не распечатают, как следует, а это следует сделать самому. Вследствие этого мысль у них бегает от одного предмета к другому и недостаточно сосредоточивается. Ей прямо некогда. От нее требуют ответов постоянно, и она принуждена сплошь и рядом давать полуответы или сверхответы. Сверхответы это все равно, что сверхчеловек. Ubermensch, Uberantwort. Нечто сверхъестественное и несоответственное. Слово не воробей; вылетит — его не поймаешь. А у министра слово — очень часто приказание или направление его политики. А когда прочтешь это слово, пригвожденное к бумаге типографской машиной, и найдешь, что оно не соответствует или обстоятельствам, или своему положению, как лица высокопоставленного, из уст которого должны выходить только слова премудрые, достойные быть напечатанными крупным шрифтом и золотом, когда прочтешь, что сказанное вовсе не премудро, даже как будто и совершенно лишнее, то сейчас же является «несоответственно действительности». Оно, если хотите, и правда: действительности это не соответствует, ибо действительность требовала бы совсем других слов. Таким образом, эти опровержения, которые являлись сначала в «СПбургском Агентстве», а теперь являются в «Русском Государстве», только курьезны, ибо, ничего не опровергая, подтверждают только то, что граф Витте сказал что-то такое, чего говорить не следовало, или сделал что-то такое, чего делать не следовало. Но это нисколько не противоречит его искренности: будучи искренним в пять часов вечера, он остается искренним и на другой день, в 11 часов утра. Но впечатления другие, и утренняя искренность иногда совсем отрицает искренность вечернюю. И мне кажется, что это очень естественно, и вот почему.
Наполеон говорил, что у него в голове всякие дела расположены по ящикам, как в шкафу, и он переходит от одного ящика к другому, закрывая тот, который не нужен, и открывая другой, который нужен. Захочет спать, закрывает все ящики и сейчас же засыпает.
«Quand je veux interrompre une affaire je ferme son tiroir et j’ouvre celui d' une autre… Veux je dormir, je ferme tous les tiroirs et me voila au sommeil».
Такою счастливою головою обладают только натуры исключительные, гениальные, с мозгом развитым с какой-то поразительной гармонией и глубиной.
Будучи умным и даровитым человеком, граф Витте совсем не гений. Ящики его мозгового плана путаются так, что у него является непреодолимое желание объявить действия и слова, из них выходящие, «несоответственными действительности». Что может быть проще этого? Потом, примите в соображение, что граф Витте и не мог быть гениальным и никто на его месте не мог бы быть гениальным. Гения выносят волны событий, как вынесли они Цезаря, Лютера, Петра Великого, Наполеона. Разве можно сравнить русскую волну событий с тою, которая вынесла Наполеона, т. е. русскую революцию с Великой французской революцией. Это могут думать только гимназисты и барышни, печатающие протесты в пользу или против учителей, да разве еще союз союзов, которому открыли все двери и сказали: «царствуй!» Русская революция имеет один колоссальный недостаток, который губит ее. Она не патриотична. В ней никакого патриотического подъема, никакого одушевления. Она вся строится на общем недовольстве и на идее перестроить весь мир. Да, не иначе, как весь мир. Еще сорок лет назад она мечтала об этом и снова теперь о том же мечтает. Ее застрельщики и передовые деятельные дружины недаром кричат: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Социал-демократические и социал-революционные газеты гордо объявляли, что русская революция ведет за собою всемирную. Эта всеобщность, изобличающая обильное присутствие бездушного еврейства в нашей революции, и губит ее больше всего. Она — не русская, а социал-демократическая, до того непонятная массе, что один солдат в Харбине отвечал полковнику на вопрос, кто он, — так:
— Социал-демократ Его Императорского Величества.
Русская революция — вся какая-то заморенная, замученная, точно вытянутая из русского организма насильно, как какая-нибудь нитка. Убийства, грабежи, пожары еще не делают революции. Народ хочет земли, материального обеспечения в своей жалкой доле, и он только средство для проведения идей, ему непонятных и чуждых. Сами революционеры стали бы его расстреливать, если бы судьба вручила им власть, и приставили бы к нему жандармов, без которых никакая социал-демократия не продержится и дня. Огромная часть образованного общества жаждет только осуществления свобод 17 октября. У русской революции не только не было дня, но даже десяти минут таких, как праздник федерации Великой французской революции. У русской революции — забастовка, остановка жизни — могущественное средство. У французской — необычайный подъем деятельности. Русскому патриотическому чувству нанесен жестокий удар позорной войной и позорным миром. Патриотизм приник и обозлился. Во Франции патриотизм рос вместе с идеями и победами. Принципы 89 года расцвечивались победами, французскою славою и неустанною, смелою работой. Волна народная росла и росла, вся наэлектризованная, поднимая над собой таких людей, как Мирабо, Робеспьер, Дантон, целую группу жирондистов и даровитых людей на всех поприщах. Гений Франции блистал на удивленье и страх миру, и если Наполеон задушил, как говорится, «гидру революции», то он весь обязан был ей, он был ее сыном, она вознесла его на своей великой и блестящей волне и он поставил к ногам Франции всю Европу. Гениальная, высокая волна родила гениального вождя с его «чудесным жребием». Брызги этой волны создали «Марсельезу», песню, которая доселе способна одушевлять не только французское, но всякое сердце. А у нас все эти потуги на красный цвет, все это виршеплетство с его тиранией, цепями, борцами, трупами и т. п. «жестокими» словами не стоит не только четверостишия Пушкина или огненной строфы Лермонтова «На смерть Пушкина», но даже «Парадного подъезда» Некрасова. Такая тощая, приземистая волна не может вынести гения, и его нет. Есть граф Витте, нисколько не виноватый в том, что он не гений, и претензии и требования к нему, как к гениальному человеку, может быть только мешают ему развить и те способности, которые у него несомненно есть.
Я желал бы, чтобы эти строки сделали бы хоть одно доброе дело — убрали бы со страниц органов графа Витте фразу, которая начинает смешить — «несоответственно действительности». Смех — дело опасное и он может вынести другую фразу, что сам граф Витте «не соответствует действительности», тогда как он ее вполне законный и талантливый сын.
10(23) февраля, №10744
DCXXV
27 апреля приходится в неделю Расслабленного. Назначая этот день для созыва Думы, конечно, не думали о святцах и об Евангелии. В такое боевое время до этого ли? Очевидно, сама судьба сделала так, и России, может быть, трудно приискать иного определения, как «расслабленная». О расслабленном повествуют три евангелиста, Матфей, Марк и Лука.
Когда привели к Христу расслабленного, Он, прежде чем сказать ему: «встань, возьми одр твой и иди», сказал по Марку: «Чадо, прощаются тебе грехи твои», по Луке: «прощаются тебе грехи твои». Но у Матфея это обращение Христа передано ярче и подробнее. Христос сказал:
— Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои.
И России расслабленной необходимо помнить это:
— Дерзай, чадо!
То есть необходимо напрячь все свои силы, какие есть, необходимо воодушевиться и все свои помыслы направить к тому, чтобы дерзать во что бы то ни стало, дерзать для того, чтобы русская душа заговорила во всех русских, объединила их и направила к единой цели — встать крепко на ноги, одухотвориться свободой и любовью к родине и совершить подвиг обновления России, как следует мужественным и свободным людям. Грехи прощаются только тогда, когда сам человек дерзает, когда сам он верит, а не тогда, когда он представляет чуду вдохнуть в него дыхание жизни. Иначе расслабленный останется расслабленным, как скоро минутный порыв погаснет.
Россия призывается к новой вере, к вере в свои собственные, природные силы, а не к вере в указку, в опеку, в поддержку. Все старое, отжившее должно стать преданием, гробом, в котором оно должно обратиться в прах.
Когда на этих днях я читал статью в одном правительственном издании, о которой у нас было сказано на другой день после ее появления, я думал: как это нехорошо написано правительственным писателем. Чего он желает и что он хочет делать? Неужели в самом деле можно поверить тому, что общество совершенно ничтожно, что оно никуда не годно и что только правительство одно может делать и делает, когда видит, что общество расслаблено? Неужели накануне объявления о созыве Государственной думы можно бросать обществу обвинение в «узком эгоизме, мелком сервилизме, незрелости» и тому подобных качествах, чтобы окончить заключением: «с таким антигосударственным багажом трудно приниматься за грандиозные задачи государственного строительства».
Правительственный писатель не сообразил даже того, что «всякое общество стоит своего правительства и всякое правительство своего общества». Поэтому, если общество погрязло в «узком эгоизме, мелком сервилизме», если оно «не созрело», то и правительство тоже не созрело, оно тоже узко эгоистическое и мелко раболепное, в нем тоже нет никакого благородства и ему также не пристало приниматься «с таким багажом за грандиозные государственные задачи». Ведь это напрашивается само собой, без всяких усилий. Даже больше. Если общество никто не готовил к политической планомерной деятельности, если всякие его попытки к этому прекращались силою, если самая школа была направлена к тому, чтоб способствовать раболепию, угнетению духа и расслаблению мускулов и мозга, то как же можно его винить? На правительственной фабрике приготовлялся только один товар — бюрократический ситец, а все другие товары приготовлялись тайно, обращались контрабандно и, конечно, нередко сами были не чем иным, как подделкою под тот живой товар, в котором нуждалась Россия. Ведь, строго говоря, Россия не выходила из революции с самого Смутного времени. Были передышки, но революция не прекращалась. Или правительство шло революционным путем, или передавало революцию обществу и черни, и тогда начинало отстаивать свое право управлять, как оно хочет. Революционный змей всегда сохранял свою голову, хотя временами терял то свой хвост, то части своего тела. Он извивался в нашей многострадальной истории, меняя цвета, погружаясь в спячку и снова оживляясь. Где же тут было образоваться крепкому, сильному и деятельному обществу? Самые сильные, крепкие и деятельные обыкновенно уходили в бюрократию, вообще на службу и меняли свой естественный цвет, данный матерью русской природой, на казенный. Кто выскакивал или только хотел выскочить, того осаживали или бесцеремонно давали такого тумака, что он садился и принижался. Даже литература и художества воспитались и выросли контрабандою. Будь они свободнее, они, вероятно дали бы такие произведения, которые давно и мощно возвещали бы миру о великих свойствах души России. Та болезненная, ноющая, иногда стонущая нотка в этих произведениях есть жалоба на угнетение духа. Русская песня жалуется на то же или ударяется в неистовую пляску и начинает причитывать самые неистовые слова, от которых бросает в краску лица скромных людей. Не было ни одной свободной области. Даже сама бюрократия была несвободна, если в ней загоралась живая мысль. И ей приходилось лукавить, обманывать, выгораживаться всеми неправдами. И в ней нередко по способному и талантливому лбу били молотком и выбивали оттуда остатки свободной души, а бесталанные лбы делались просто барабанами.
Если говорить совершенно откровенно, то у нас в течение двухсот лет были только два действительно замечательных человека: это Петр Первый и Екатерина Вторая, которую Вольтер называл le Grand. Только об них можно сказать, что они были достаточно свободны для того, чтобы делать свое государственное дело. Других таких же свободных и таких же талантливых не было. Гениальный полководец, Суворов должен был обращаться в шута, чтобы ему прощали его свободу, его непослушание. Русский талант вообще, русская свободная душа грызли свои цепи и были прикованы к скале, как Прометей, или выбирали извилистые пути и шли по ним, теряя множество силы на эти длинные лабиринтовые обходы и выходы. История растягивалась и пожирала русские силы непроизводительно.
Как же не радоваться свободе? Как же не смотреть на эту Государственную думу, как на прямой путь, разрубивший стены многоэтажного, запутанного лабиринта?
Говорят: «еще не известно, что такое будет эта Дума». Да, еще неизвестно, но нам известно, что такое было. Чем бы ни была Дума, но это Русский Дом Свободы, куда придет настоящая, сильная, даровитая русская душа, если не теперь, не сейчас, то после, но придет непременно. Цепи с нее сняты, разбиты и брошены в море. Подите, достаньте их, попробуйте достать. Мы перешли в другую область и, если эту область не сумеем устроить, взлелеять, полюбить как душу, то мы ни к черту не годны. А тогда и жить не стоит.
Чем нас утешали? Опекой и покровительством. Покровительствовали дворянству, покровительствовали мужикам (19 февраля и Крестьянский банк), покровительствовали промышленности — и ничего из этого не вышло. Все валится, все хочет свободы, всем надоели и цепи, и ласки, и милостыни, которые раздавались так, что одни были довольны, другие завидовали и облизывались, третьи гнулись под тяжестью бремени и неволи. Вот что кончилось или должно кончиться с Государственной думой. И пусть будет вечно благословен тот день и час, когда государь подписал свой знаменитый манифест о свободе России и о своей собственной свободе от наследственных предрассудков, о свободе своей благородной души делать добро великой своей родине и любить ее, как свою душу.
Россия должна дерзать, как расслабленный дерзал, по слову Христа. Она должна собрать все свои силы, всю свою веру, чтобы встать и работать, как здоровый и свободный человек.
Пусть не все пойдет гладко, хорошо и благополучно. Маленькие дети падают, когда начинают ходить. Но эти падения к росту. Сам упал и сам встану. Прочь, нянька! Ты только мешаешь. И Россия вернет себе все, что потеряла, и окрепнет, и вырастет, и будет радоваться на своих детей, смелых, довольных, деятельных и любящих свою родину, как свою душу.
15(28) февраля, №10748
DCXXVI
Ничего иль очень мало, Все равно не доставало…Эти два стиха Пушкина в известной его недоконченной сказке хотелось бы приложить к русскому правительству. Именно то, чего не достает ему, оскорбляет русское чувство. Весьма естественно, что русское правительство олицетворяет себя с народом. Оно — плоть от плоти его и кость от костей. Очутившись на развалинах того режима, которому еще вчера «верою и правдой» служили члены этого правительства, они, конечно, хотя до известной степени, считают себя виновными в тех результатах, которые привели нас к новому монгольскому игу. Ведь со времен Батыева нашествия Россия не испытывала такого угнетения своей русской души, как после японской войны. Это угнетение в большей или меньшей степени испытывает и само правительство. Но так как управляет не народ, а правительство, то оно считает, что и народ виноват, именно русский народ, преимущественно великороссы. Он воевал, завоевывал и присоединял к Великороссии все те окраины, которые теперь входят в состав Русской империи. Преимущественно его средства шли на содержание войска, на издержки по управлению и укреплению окраин, на просвещение там и т. д. Москва долгое время служила средоточием собирания русской земли и наши центральные провинции выносили все бремя окраинской политики и после того, как Петербург стал столицей. Малороссия принимала в этом также большое участие. Вообще русское племя создало империю. И вот правительство как бы считает его ответственным за все то, что сделано, и спешит извиняться перед окраинами не только за себя, но и за народ. «Мы виноваты оба, и я, правительство, и все русские люди».
Когда-то я называл С. Ю. Витте и людей его направления юго-западниками. Прекрасно зная русский юго-запад, С. Ю. Витте не очень знаком с центром. Я это не в укор говорю, а только в виде факта. Мы все мало знаем Россию, и, может быть, меньше всего ее сердце, которое было всегда русским, всегда патриотичным и жертвовало не только избытком своих сил, своей крови, но, можно сказать без преувеличения, последними ее каплями. Нигде русское сердце так не напрягалось, как именно в русских провинциях, как бы сознавая ту роль, которая возложена судьбою на русское племя. Все тяготы оно выносило с таким терпением, которому не было границ. А между тем правительство никогда этого не понимало достаточно и постоянно обделяло именно русское племя.
Оно относилось к нему сурово, как педагог, вооруженный розгой. Таща с него все, что надо было на потребности государства, оно заботилось больше всего об окраинах. Сколько убито русских денег на Польшу, на Западный край, на Кавказ! Почти все наши университеты окраинные. Для всего центра — один Московский университет. Правительство, преследуя русификаторскую политику, старалось развить образование на окраинах на счет центральной России. Оно как будто торопилось дать просвещение окраинам, чтоб они не нуждались в русских. И вот освободительное движение выражается со стороны правительства именно в пренебрежительном отношении к центру России, вообще к русскому племени. Оно заискивает в окраинах, как виновное. Оно дает автономию Финляндии. Оно терпит изгнание русских отовсюду. Их гонят из Царства Польского, из Западного края, с Кавказа. Центр России, уступая многим окраинам в производительности почвы и в климате, не пользуется не только никакими преимуществами, но положительно отстал от окраин, истощив все свои средства. Те, кем жило государство, становятся пасынками. Правительство 17 октября с манифестом в руках от этого числа ничем не проявило особенной любви к русскому племени. Оно как бы сказало, что теперь настало такое время, что русское племя должно само напрячь все усилия для того, чтоб сохранить авторитетное свое положение, но ничего ему за это не дадут. Что касается расходов, то они еще увеличатся, и для окраин, чтобы умилостивить их, будут требоваться деньги с того же русского племени, будут требоваться без конца.
Левая партия в нашем конституционном движении поспешила высказаться за автономию Польши. Под левой я разумею московский земско-городской съезд. Эта левая высказалась за равноправность евреев и за изгнание русского языка из всех школ, где русский элемент в меньшинстве. На этом съезде не было ни одного голоса, который бы сказал, что свобода вероисповедания не дана только русским в той полноте, в которой она дана всем другим национальностям. Так называемые раскольники не получили всего того, что требует их вера и ее свободное отправление. Родная сестра православия не признана родною даже там, где русское раскольничество или старообрядчество составляет аванпост русского племени. Все это вздор для левых. Но и правые, т. е. Союз 17 октября, тоже набрали воды в рот на этот счет. Русский язык и их мало интересовал, а министерство народного просвещения играет прямо двусмысленную роль по отношению к окраинам. Я не нахожу в манифесте 17 октября ни одной строки о том, что русский язык и русских надо гнать отовсюду, где они в меньшинстве. А если манифесте этого нет, то почему их гонят, кто и кому на это дал право? Разве свобода заключается в насилиях, в изгнании, в убийствах, в насмешках, в преследовании? Кто посмеет сказать, что ему дано право гнать русских на основании манифеста 17 октября?
Если жители русской империи на ее окраинах могут сказать:
— Вы нас преследовали, вы нас стесняли, вы проводили узкую русскую политику, — так вот же вам в отместку. Убирайтесь отсюда вон! Не пойдете доброй волей — мы вас выгоним отсюда террором, бойкотом, насмешками, преследованиями.
Но русский народ может ответить так:
— Насчет политики со мной никогда правительство не советовалось и делало так, как ему Бог на душу послал. Если теперь правительство изменило свою политику, то и тут я не виноват. Оно со мной опять не советовалось. Если русского человека гонят, то виновато только одно правительство.
И это несомненно так. Ему чего-то не достает, чего-то не доставало, и это что-то можно назвать русским разумом, русской душою, как хотите назовите, но этот недостаток существенный. Сегодня в «Стране» г. Максим Ковалевский говорит, что графа Витте «ненавидят» все партии. Г. Меньшиков во вчерашнем фельетоне привел яркие данные для этого же чувства со стороны Русского собрания и Союза русского народа. Я не принадлежу к этим ненавистникам. Я хорошо знаю его ум и его дарования и осуждаю такие увлечения, которые всего больше вредят самой партии, а не министру-президенту. Но я себе это объясняю довольно удовлетворительно именно тем, что сказано мною выше. Есть что-то в душе русского человека, что его гложет, что не дает ему покоя. Японская война и унизительный мир легли тяжелым грузом на русскую душу. Они подорвали в ней доверие к руководительству правительства и к самому его представителю, т. е. к первому министру. Но это далеко не все. Уязвленная душа ищет какого-нибудь утешения, внимания, признания за собой заслуг в прошлом, в прошлых поколениях. Ей недостаточно того, что обещано в будущем. Она сознает, что она — сущность России, что ей необходимо облегчение и признание за нею всего того, что она сделала будучи даже в рабском виде. Руси, именно Руси недостаточно того, что сам «Христос в рабском виде исходил ее, благословляя». Призывая к себе «униженных и оскорбленных», Христос нигде не мог найти их столько, как на Руси. Но управляет Россией не Христос, а люди. И эти управляющие люди совсем иначе думают.
Они просто взяли и разорвали историю, не долго думая. Вот что было вчера, а вот что сегодня. Вчера — отсутствие свободы, а сегодня — полная свобода. — Это очень хорошо, и мы это приемлем с удовольствием, но и вчера управляли вы и сегодня управляете вы; это важно; вчера русский человек чувствовал себя «господином», или чем-то вроде этого, а сегодня его гонят по шее, как раба, как заразу, и правительство не почешет у себя даже затылок. Это очень важно.
Вы говорите: все равны теперь по всей России. Нет ни рабов, ни господ. Так это ясно из манифеста 17 октября. Всем дано. — Опять — покорно благодарим, хотя еще вилами писано, как будет. Мы разумеем настоящее. Вы бегаете за окраинами, а то, что мы на них потратили, — это пропало. Почему же так не бывает этого, например, в Англии? Англичанин везде англичанин, где развевается флаг его родины, везде он первый. Почему же я, русский, последний? Почему мне никто не сказал, что и я первый? Почему Польше давали конституцию, Финляндии, Болгарии, а мне не давали? Почему, наконец, меня гонят оттуда, где я жил по праву, по законам, и правительство как будто находит это естественным. Почему это естественно? Почему само русское освободительное движение презирало русский флаг, а вывешивало красный? Оно рвало русский флаг на клочья, как будто хотело этим показать, что именно русского человека, русского знамени и не признает освободительное движение. Оно — красное, интернациональное, цвета крови, и требует русской крови, точно этой крови пролито мало в целые века. Губернаторы ходили с красными флагами, генерал-губернатор являлся под их осенением. Да и это ли одно?! Есть немало «мелочей» того же рода, которые гораздо важнее и глубже дают себя чувствовать. И тем больнее чувствуются, что и господа-то мы мнимые, ибо родная власть сурово, иногда жестоко поступала с этими «господами», но они терпели и гордились тем, что они — Россия, великая держава. И когда эта же власть начинает кланяться окраинцам и не обращает никакого внимания на русских, на этих «господ», то как же этим «господам» не негодовать, не почувствовать, что к тем оскорблениям, которые нанесены русскому чувству поражениями, в которых власть несомненно виновата, прибавляется еще полное невнимание от этой самой власти. Почему они не могут не раздражаться, не искать тех, на которых они могут вылить свое раздражение, свою тоску, свою личную обиду?
Я, может быть, не ясно объясняю свою мысль. Но я думаю, что и по намекам она поймется. Есть множество русских людей, которые чувствуют себя униженными и оскорбленными, и это надо принять во внимание, над этим следует задуматься. Общественное мнение теперь составляется не одними газетами. О, далеко не газетами только. Надо, чтоб русские люди перешли в новую жизнь как граждане, не теряя чувства русского достоинства; надо, чтоб русских людей не толкали в шею через порог за то, что они русские.
20 февраля (5 марта), №10753
DCXXVII
«Пределы законности»! Какое это волшебное слово было для всякой власти, желающей быть беспредельной. Ведь только в интересах беспредельности для управляющих говорилось о пределах законности. Только для возвышения их говорится и теперь. Государственная дума собирается в сущности только для одного — положить предел властной беспредельности, или, вернее, не «положить», а «полагать», полагать постоянно и не какими-нибудь приказами, а подробным обсуждением всякого дела и вопроса, которые затрагивают русскую жизнь и стесняют ее свободу в самых законных и естественных ее стремлениях. Эта беспредельность была рабством. Она и наложила ярмо на всякую самодеятельность общества, связала все его шаги, сделала его вялым, боязливым и ничтожным в такой степени, что граф Витте не устает твердить, что оно слабо, безвольно и готово подчиниться всяким насилиям революционеров. Еще вчера его орган повторил это с хлестаковской развязностью, говоря о возможности новых забастовок, «если общество» и проч. и проч. и проч. Эти укоры обществу раздаются какою-то грубою, беспардонной иронией, каким-то обидным хохотом самодовольства. Если публицист, критик, писатель-художник говорит о недостатках общества, то они говорят об этом или с тем юмором и смехом, в котором слышатся слезы, или с тем пророческим жаром, который «жжет сердца людей» или, наконец, с бичом сатиры, пылающей гневом, не щадя ни правых, ни виновных, ибо и правые всегда грешны в том, что так много виноватых. Но когда власть не останавливает своего слугу из «Русского Государства» от высмеивания общества, то это не только безбожно и дико, но, более того, это лишено всякого понятия о самых первых правилах приличия, которые обыкновенно внушают самым маленьким детям. Учитель, кажется, математики, великих князей Александра и Константина Павловичей, француз Масон, приводит в своих «Мемуарах» несколько случаев бесстыдства важных русских барынь перед своими лакеями и возмущается этим. Барыни эти делали, нимало не смущаясь присутствием лакеев… Впрочем, кто хотел узнать, что они делали, пусть сам прочтет. Мне припоминается один случай из моих молодых лет. Надо знать, что, по условиям своего детства, проведенного в деревне государственных крестьян, и своего воспитания в строго закрытой школе времен императора Николая I я очень мало был знаком с крепостным правом, даже по слухам. Будучи учителем в уездном городе, я возмутился грубым обращением одного знакомого помещика и его супруги со своими дворовыми и резко ему это высказал, пригрозив напечатать. Угроза эта ничего не стоила, ибо в то время гласность только что начинала лепетать «папа и мама». Тем не менее этот помещик приехал ко мне и сказал: «Знаете ли вы, что я не только ссылаю своих людей в Сибирь и отдаю их в солдаты, но я имею право при самом государе императоре ударить своего человека по лицу и государь мне ни слова не скажет».
Я был решительно сражен этим последним доводом. Императора Александра II, когда он был еще великим князем цесаревичем, я много раз видел, когда он приезжал в Дворянский полк. Раз, обходя кадет в столовой, он остановился передо мной и спросил мою фамилию. Я назвал себя.
— Отчего не Суворов? — произнес он, улыбаясь.
Его ласковое обращение, его заступничество за кадет в суровое царствование его родителя и привлекало к нему все наши молодые сердца. И перед этим-то государем, которого я любил всей душою, какой-то мозгляк, маленький человечек, курносый, подслеповатый, покрытый веснушками, почти урод, может бить своего человека безнаказанно?! Да это ужас, ужас, ужас!
Эта была первая молния, прорезавшая мой мозг и осветившая мне непонятное. И теперь, после долгой жизни, которою я обязан Богу и моим родителям, в этой простой, но жестокой фразе крепостника мне чуется целое миросозерцание не только о крепостном праве над мужиками, но и вообще о некотором крепостном состоянии и всего русского человечества. Это насмешливое отношение к обществу, эти бездушные обвинения его, эта грубая ирония самодовольства и самомнения, разве это не отрыжка все той же фразы: «Я при самом государе императоре имею право ударить своего человека»? И «свой человек», т. е., всякий не принадлежащий к сонму «избранников», чувствовал над собой занесенную десницу и притаивался и лукавил или грубил и отбивался от всякого труда. Тысячу раз были правы те дворяне, во главе с А. М. Унковским, которые, отпуская на волю крепостных, в вежливой форме заявили, что и все русское общество нуждается в свободе. И правы были те государственные люди, которые дали первому призыву мировых посредников возможность действовать с целью примирения и соглашения между имущими и неимущими, и аграрного вопроса теперь бы не было, по крайней мере, в такой грубой и острой форме. Вообще, если бы наши люди первого порыва к русской свободе встретили со стороны власти разумное и искреннее отношение, история была бы не та, не запуталась бы теперь Россия так ужасно и уже давно не было бы и помину об этом цинически-высокомерном отношении к обществу. Общество необходимо призывать на помощь всему тому, что необходимо для установления свободы и порядка, для укрепления новой преобразованной жизни.
Необходимо поднимать его упавший дух, его веру в себя, в Россию, веру в лучшее будущее. Пусть перед ним зажигают яркие идеалы и ставят образцы, достойные подражания; пусть ему даже доказывают, что оно действительно пало, действительно покрыто язвами порока, равнодушия, праздности и празднословия, но не высокомерие должно это говорить, не равнодушная угодливость прыгающих прислужников с их хлестаковскими статьями в официальном органе, ответственность за которые, однако, падает не на их прислужников, скрывающих свои имена под анонимами и псевдонимами. Не высокомерием и самодовольством, не прислужничеством должны возбуждаться такие речи, а тем божественным одушевлением, которое зажигает сердца, и тою любовью к родине, которая никогда и не ночевала у прислужников высокомерия.
27 февраля (12 марта), №10760
DCXXVIII
Государственный совет выразил замечательную твердость в заседании своем 3 марта, когда он отклонил огромным большинством проект Совета министров «об обеспечении нормального отдыха служащих в коммерческих и торговых заведениях, складах и конторах». Когда в декабре рассматривался проект законов о печати, Государственный совет пошел далее Совета министров, который проектировал цензуру для рисунков. В настоящем случае, по-видимому, Государственный совет стал ниже либерализма Совета министров. Но это только по-видимому. На самом деле и тут Государственный совет оказался выше Совета министров, как представитель законодательства страны. Он именно выказал политический разум, которого не хватило у правительства графа Витте и прямо взял за рога этого опасного и вредного быка, который называется «угрозою» и «запугиванием». Изображение этого быка является обыкновенно очень ярким в сердце каждого министра тотчас после его назначения. Это — русский Апис, которому поклоняются и которым снискивают поклонение. Нося изображение этого аписа в сердце своем, начертанное самыми лучшими канцелярскими чернилами, министр чувствует себя превосходно. Он знает «опасность». Он сел на министерское кресло не столько потому, что был его достоин, сколько потому, что знает опасность и то место, где раки зимуют. Общество представляется прирожденным врагом правительству, вечно занятым ковами и желанием поглотить кого-нибудь. Глагол «запугать», как символ Аписа, спрягается всей канцелярией, начиная со столоначальника. Только писцы спокойно переписывают запугивающие бумаги и курят папиросы. Как скоро писец стал столоначальником, в его сердце уже является тень аписа, тень быка, устремленного рогами против общества и подозрительно посматривающего по сторонам. Столоначальник запугивает начальника отделения, начальник отделения начальника департамента; изображение растет, покрывается сочными красками и смело побуждает начальника отделения запугивать министра, а сего последнего запугивать выше. На этом зиждутся закон и пророки, таланты и поклонники. Больше этого мало чего и требовалось. На этом росло и вырастало пресловутое «недоверие» между правительством и самыми спокойными слоями образованного общества. Когда князь Святополк-Мирский совершенно случайно произнес слово «доверие», как бывало с ним, что он, играя в винт, случайно объявлял без козырей, приняв тройку за туза, общество испугалось и стало благодарить от испуга. Оно испугалось точно так же, как пугаются всякой нечаянности, но потом оправилось и само стало оказывать недоверие правительству и пользоваться его же средствами. Оно тоже стало пугать и запугивать и чем больше оно входило в свою роль, тем больше правительство пугалось. Одно время оно совсем с перепугу перестало шевелиться, так что все спрашивали: куда правительство ушло, не встречал ли его кто на дороге?
В это время только и речи и помыслов было, что с нами будет, когда нас заставят бастовать, оставаться без света, без булок и без говядины, когда нас посадят в тюрьму, объявят временное правительство и поведут на казнь?
Апис где-то ревел, где — неизвестно, даже неизвестно, ревел ли он, но говорили, что он ужасен и все может. Говорили, что он совсем забодал правительство и оно при смерти валяется от живота.
Вспомнили, что есть войско, вспомнили и испугались. А вдруг его тоже забодали. Надо подождать. Подождали, узнали, что оно цело, и испуг стал проходить, и была надежда, что он пройдет совсем.
И вот в это именно время Государственный совет, о котором у нас составилось представление, как о чем-то пассивном, как о богадельне, куда министры являются собственно для того, чтоб показать свою силу, вдруг говорит докладчику, министру торговли, г. Федорову, что он напрасно вздумать грозить и запугивать, что высшее законодательное учреждение существует вовсе не для того, чтобы быть стадом овец, разбегающимся перед угрозою пастуха, олицетворяемого Советом министров.
— Вы, почтеннейший Михаил Михайлович, попугайте хорошенько этих старичков Государственного совета. А то они, пожалуй, заупрямятся и начнут рассуждать. Терпеть я этого не могу. Только потеря времени.
— Не беспокойтесь, напугаю так, что у старичков поджилки затрясутся.
И начал почтеннейший министр торговли пугать бедствиями торговли и изображать приказчиков и ремесленников несокрушимой армией, которая забастует и погрузит наше любезное отечество в бездну зол. Должно быть, он очень хорошо говорил и не жалел масляных красок для картины грядущего. Ах, скоро ли мы дождемся, что речи будут печататься, и наши Мирабо и Робеспьеры, наши Неккеры и Колони явятся во всем блеске своей красоты и невинности? В данном случае смело можно предположить, что речь г. Федорова отличалась дивным красноречием и таким сгущением красок, что Государственный совет ничего не мог разглядеть, кроме того, что, очевидно, наступает одна из египетских казней, именно египетская тьма, которую доселе благочестивые странники в Иерусалим приносят с собою в коробочке и показывают верующим со страхом и трепетом. Государственный совет, очевидно, не смутился этой коробочкой и решительно запротестовал против угрозы и сказал, что он обязан руководствоваться интересами всей империи, а не группы лиц.
— Но проект составлен в духе христианства, — возразил председатель Святейшего Синода апостольским голосом.
Это было очень симпатично.
В кабинете графа Витте обер-прокурор Синода — это дух христианства. Без него — политика, экономия, расчеты, меры, весы и возмездие, но вдруг является дух христианства и тотчас вместе с дымом ладана все эти весы, меры и гири возмездия преобразовываются в херувимов и серафимов, которые поют в воздухе о мире всего мира и о любви к ближнему. Такое благолепие! Однако, Государственный совет не внял и духу христианства. Очевидно, он подумал, что находится в летах почтенных и о христианстве имеет понятие. К тому же Государственный совет мог сообразить, что все эти приказчики и ремесленники, которых г. Федоров якобы принес в своих карманах, откуда они грозили, — живые люди, понимающие, что отечество и так едва дышит и что надо, наконец, дать ему спокойствие перед Думою. Терпели много. Осталось два месяца. Пусть Дума разбирает и рассудит.
Так и решил Государственный совет.
Я нахожу, что Государственный совет поступил превосходно и дал хороший урок правительству, прямо патриотический урок. Он как бы сказал: не пора ли сдать в архив угрозы и запугивания и начать не пугать и не пугаться, а рассуждать, и действительно управляет при помощи общества. А то ведь выходит что-то такое, что ни на что не похоже, ибо правительство действует под влиянием страха и угрозы. Прекращают работы рабочие. Ах, надо их пожаловать. Бастуют железнодорожники, почтовые чиновники. Ах, надо их пожаловать. Волнуются и бедокурят крестьяне. Ах, надо их пожаловать. Перестают учиться гимназисты и гимназистки. Ах, надо их пожаловать. Кабинет министров только и знает, что «жалует» тем, кто грозит, и обещает тем, кто угрожает. И все это в «христианском духе». Не надо жаловать. Надо жить и работать и выработать самим, через своих представителей, условия жизни, как для тех, которые грозят, так и для тех, которые молчат и дожидаются. Иначе, это не политика свободных и умных людей, а политика из-под палки. Это недостойно правительства великой страны. Действуя из-под палки, оно теряет свой авторитет перед всем населением, которое еще не успело собраться в Думу. Заигрывая, пугаясь и запугивая, оно не внушает к себе никакого доверия, а только способствует распущенности. Пора с этим кончить!
5 (18) марта, №10766
DCXXIX
Я бы спросил не газету «Русское Государство», а русское правительство, которое издает эту газету: кто такой Минин? Тот Минин, которому на Кремлевской площади стоит памятник? Думаю, что правительство графа Витте о нем слышало и если даже оно себя само считает «спасителем отечества» и знает, как его спасти, то есть если оно само полно патриотической гордости и сознания своего превосходства, то все-таки оно способно отдавать дань уважения нижегородскому мещанину, заслуги которого признаны русской историей и русскими государями.
Вы спросите, почему я задаю такой вопрос. Разве правительство графа Витте оскорбляет память Минина?
Да потому, что газета графа Витте оскорбляет то сословие, к которому принадлежит Минин, потому что «Русское Государство» оскорбляет самым пошлым образом русскую буржуазию, то есть то сословие, которое постоянно работало, не покладая рук, работало упорно над развитием русской торговли и промышленности с тех самых пор, как началось русское государство, как заключен первый торговый договор «с греками». Даже русский народ, в своих былинах воспевая подвиги богатырей меча и силы, не забыл и богатыря торгового гостя, который строит корабли и отвозит русские товары и привозит иноземные.
Я не историк, но я знаю, кто работал над созданием Русского государства, кто прокладывал пути в «греки», на Волгу, в Астрахань, на Вятку, на Пермь, на дальний Север, к Белому морю, к Сибири. Я знаю, кто закладывал достаток и богатство на нашей земле, и знаю, что именно эти люди, люди русской земли, взяли в свои руки спасение государства в смутные годы нашей истории. Я знаю Строгановых, заслуги которых еще во времена Грозного царя были признаны и с именем которых связано имя завоевателя Сибири. Я знаю Псков и Новгород, которые сносились с торговою Ганзой, — выбирали своих посадников и процветали, как торговые и вольные города. Я знаю, как Петр Великий ценил людей торгового сословия. Я знаю, наконец, наших раскольников, которые могут назвать прекрасные русские имена из тех самых слоев населения, которые дали Минина.
Пускай «Русское Государство» треплет презрительно теперешнюю западную буржуазию, благодаря которой, между прочим, мы заключали займы за границей и которая еще доставляет и ученых, и художников, и литераторов и государственных людей в таких странах, как Франция и Германия. «Русское Государство» называет эту западную буржуазию «жировым перерождением организма», который кончится параличом сердца. От этих отзывов официального русского органа западная буржуазия «чхнет, и вон букашка» — такая букашка, как «Русское Государство». Но эта газета позволяет себе вот как говорит о русской буржуазии:
«Генеалогия нашей буржуазии ведет ее от кулаков и кабатчиков (??); никакой роли ни в созидании, ни в поддержании существующего строя буржуазия наша не играла и не играет; экономически — обособлена, этически — тупа и невежественна, политически — в хвосте того правительства и той партии, которые обещают ей поддержку».
По моему, это так же верно, как если бы кто-нибудь напечатал, что русская бюрократия ведет свое начало буквально от крапивного семени. Упало крапивное семя — и выросла бюрократия, презирающая народ, высокомерно относящаяся к купечеству и мещанству. Еще во время моих молодых лет она говорила ты купцам и третировала их, как городничий. Мещане и купцы, чтоб жить и работать, платили дань бюрократии. Такие буржуа, как Кокорев, Поляков, Губонин и многие другие, стали потом держать у себя бюрократию на посылках. Губонин говорил генералам ты, по праву «мужика» себе на уме. Дворянство, униженное еще в те времена, о которых Пушкин говорит в своей «Родословной» с припевом «Я мещанин, я мещанин», являлось уже той буржуазией, которая больше имела связи с купечеством и мещанством, чем с бюрократией. Недаром Пушкин даже декабристов причислял к tiers-état. Не распространяюсь, ибо это вопрос большой и еще мало исследованный, во всяком случае, в газете министра, который сделал государство кабатчиком, неприлично говорить, что русская буржуазия ведет свою генеалогию от кабатчиков, и еще неприличнее не знать истории. Буржуазия уже заключает в себе и дворянство, и земство, и является сильным и образованным классом. Даже в тесной своей купеческой среде она может назвать имена очень почтенные. Третьяковы, Щукины, Алексеевы, Морозовы и др., вся эта плеяда торговых москвичей, которые жертвуют миллионы на народное образование и дарят родному городу великолепные, собранные их трудом музеи, — все это «тупые и невежественные» люди, а ум и просвещение у еврейских банкиров и у их прихвостников? Если газета «Русское Государство» воображает, что она делает услугу русскому правительству, понося имущественные, трудовые сословия, которые неизмеримо больше дали государству и неизмеримо лучше поддерживали и поддерживают государство, чем бюрократия, то она жестоко заблуждается.
Надо быть этически — бессовестным, экономически — жадным к казенному пирогу и политически — недобросовестным, чтобы позволить себе этот наглый тон, выдающий еврея, не имеющего ничего общего с Русским Государством.
7(20) марта, №10768
DCXXX
Кажется, опять зашевелилась забастовка. По крайней мере, о ней говорят всюду. На этот счет русские люди сильны. Когда вопрос идет о том, чтобы ничего не делать, все с большим удовольствием готовы ничего не делать. Надо только начальство. А начальством готов явиться всякий, ибо всякому приятно играть роль повелителя. Этому мы выучились превосходно, потому что постоянно был превосходный пример. Стоило только приказать, а приказать мог всякий — для этого никакого ума даже не было нужно. И для приказания забастовок тоже никакого ума не нужно, и мы видели, что даже дети распоряжались этим и выказывали замечательную настойчивость, встречая не менее замечательное послушание со стороны взрослых, не только обывателей, но даже людей, облеченных властью, так что в этом отношении властные люди являлись не столько облеченными властью, сколько облегченными ею.
Удивительное все-таки время. И интересное, и горькое, и смысла человеческого в нем трудно добиться. Вместо деятельности — безделье, вместо споров и отстаивания своих убеждений — крики и бойкот. Английский капитан Бойкот чрезвычайно у нас популярный человек, хотя едва ли многие знают, что это действие, т. е. бойкотирование, обязано именно его фамилии.
Кто хочет кричать — кричи сколько хочешь. Чем громче, тем внушительнее. Мало крику — валяйся в судорогах, как в припадке падучей, и сейчас же найдешь себе подражателей. Эпилепсия теперь господствующая болезнь. Может, это показывает необыкновенную даровитость русских людей. Говорят, что Цезарь и Наполеон были эпилептиками. У нас — Достоевский, а некоторые приписывают это и Петру Великому. Очень может быть, что мы накануне появления великих людей, если припадки падучей столь знаменательны.
Что мы за племя? Даровитое ли мы племя или бездарное? Я верю в даровитость русского народа, как верю в его безграмотность. Но, быть может, образование нас губит и делает никуда негодными? Недаром же Петр Великий был человек необразованный. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой — все недоучки:
Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь.А как скоро стали учиться, так ничего и не выходит, и мы ссылаемся на то, что нас не учат, а как учить — никто не знает. Сейчас же явилось у нас переутомление, и для того, чтобы сохранить свежесть сил, перестали учиться и учить. Может быть, это превосходно. А если не превосходно, то во всяком случае предусмотрительно. Знаете, что в этом смысле сказал Ж.-Ж. Руссо, тот самый Жан-Жак, которого у нас не знают, но который имел огромное влияние на Великую французскую революцию. Его «Du Contrat Social» был политическим Евангелием в то время, как его же «Эмиль» — Евангелием педагогическим.
«Молодость — не детство, — говорит он. — Как для нации, так и для отдельных людей, есть время молодости или, если хотите, зрелости, которой надо дождаться, прежде чем подчинить людей законам; но зрелость народа не всегда легко узнать; и если опередить эту зрелость, то дело пропадет. Иной народ и родится способным к дисциплинированию, а другой и после десяти веков жизни оказывается к этому неспособным. Русские никогда не сделаются действительно просвещенными (policés), потому что слишком рано начали их просвещать. У Петра был гений подражательный; у него не было настоящего гения, который создает и делает из ничего. Кое-что он сделал хорошо, но большая часть им сделанного неудачна. Он видел варварство своего народа, но не видел, что он еще не готов для просвещения; он хотел его цивилизовать, когда его следовало сделать воинственным (aguerrir). Он хотел сначала сделать немцев, англичан, тогда как следовало начать с того, чтоб сделать русских; он помешал своим подданным сделаться когда-нибудь тем, чем они могли бы быть, убеждая их, что они были уже теми, чем еще не были. Так французский воспитатель образовывает своего воспитанника, чтобы блистать одно время в детстве и потом постоянно быть ничем. Русская империя захочет подчинить Европу и будет подчинена сама. Татары, ее подданные или ее соседи, сделаются ее властителями и нашими: эта революция мне кажется неизбежною. Все короли Европы согласно работают для того, чтобы ускорить это время».
Конечно, Руссо не предсказал французской революции, хотя в значительной степени сделал ее. Конечно, довольно мудрено узнать действительную зрелость народа для восприятия просвещения. Но есть что-то верное в словах великого писателя, что-то как будто вещее, какая-то угадка гениального человека, который знал Россию только по истории Петра Великого, написанной Вольтером. Петровское просвещение коснулось не всего народа, а только небольшой его части. Народ оставался в варварском и рабском состоянии, и побеждал. А та часть его, которая осталась при старой вере и обычаях, и доселе отличается повышенным благосостоянием, крепостью здоровья и мужеством на войне. Может быть, она росла правильно и закалялась в борьбе, то есть в той воинственности, о которой говорит Руссо. Может быть, именно этой части русского народа предстоит в будущем блестящая, руководящая роль и эти гонимые за старую веру и русские обычаи и сделаются просвещенными русскими людьми. Отказавшись решительно и упорно подчиниться Петру Великому и сделаться немцами или такими, каких хотел он сделать из русских людей, они выросли и созрели как раз вовремя, чтоб получить свободное просвещение.
Руссо прав сто раз, что Петр хотел сделать из русских немцев, и если не англичан, то голландцев. Русских, как русских, он презирал и распространял в переводе на русский язык взгляды европейских историков на Россию, взгляды прямо презрительные и ненавистнические. Эти взгляды он внушил и своим наследникам и многим образованным людям. Русские, как русские, как народ, росший в особых условиях, в особом климате, не признавался никогда. Его старались сделать европейцем, если не немцем и голландцем, то непременно европейцем. Русские ученые появлялись изредка, русская история доселе не написана, русское воспитание не существовало никогда, т. е. никогда не было человека, который задался бы таким вопросом, русская религия подпала под канцелярскую указку самую деспотическую.
И теперь вопрос: образованное ли мы общество, т. е. можем ли мы назваться европейцами? Утвердительный ответ на это было бы приятно выработать. Но несомненно, что мы, как русские начальники, совершенно готовы и, если ввести сейчас же социал-демократию в ее конечных стремлениях к коммунизму, то начальники найдутся прямо великолепные, хотя, конечно, не без качеств Держиморды. Держиморда в администрации, Держиморда в революции. Держиморда в политических забастовках. Немцы, англичане и французы вкраплены в русский народ и побеждают его наукою, трудом, предприимчивостью, как еврей побеждает тем, что он еврей. А европейца нет как нет.
Что касается татар, то Руссо едва ли не предсказал России поражение от японцев, т. е. от расы, близкой к монголам. А монгольское иго мы называем татарским, и иго, наложенное на Россию японцами, есть первое иго после татарского нашествия, и это иго давит и грозит. Грозит ли оно и Европе — покажет будущее. Но Руссо был первый, который заговорил о нашествии желтой расы и указал на нее, как на грядущую опасность. Император Вильгельм II, одно время кричавший об этой опасности, вероятно читал «Du Contrat Social».
P.S. Я считаю своей обязанностью сказать, что совершенно не разделяю содержания заметки о г. Левшине, которую я прочел в «Новом Времени» сегодня. Лично я не знаю нового попечителя, посылаемого в Прибалтийский край. Но я читал его книжку о Грановском, написанную очень мило, знаком с его «Историей Пажеского корпуса» и слышал о нем много лестного, как о русском человеке и хорошем работнике.
15(28) марта, №10776
DCXXXI
Несколько дней я пролежал в инфлуэнции, и вчерашний день для меня не существовал, как для выборщика. Но я очень интересовался исходом выборов. Когда вечером мне сказали, что кадеты побеждают, я нимало не огорчился, ибо прекрасно это предвидел по той барственной порядочности и полуработе, которые обнаруживала партия 17 октября. Она еще не выучила немецкую поговорку halbe Arbeit, keine Arbeit[26], но хорошо помнит русскую: дело не медведь — в лес не убежит. Эта партия мне с самого начала казалась малодеятельной. Что такое 17 октября? Манифест государя в этот знаменательный день произнес только три слова:
— Да будет свет.
И больше ничего не было в этом манифесте. Но эти три слова прозвучали как бы «по ту сторону жизни», где зарю давно ожидали, но где солнце еще не думало подниматься.
— Да будет свет.
Но государь не Бог. Свет должен был создаться. Надо еще собрать все материальные и духовные средства, все химические элементы для того, чтобы свет засиял. Работники явились и прежде всего самые нетерпеливые. Они обнаруживали порывы физической силы по программе Великой французской революции. Как во Франции, так должно быть и у нас. Это тем легче, что за нами столетний опыт европейской истории, за нами новая история социализма и социал-демократия, за нами революционная Россия с ее вождями и героями. Но оказалось, что вместо света были фейерверки. Они вспыхивали ярко, трещали громко, но это еще не был свет. Это были только искусственные вспышки. Работники более благоразумные не испугались этих вспышек, посмотрели на них здраво, но сами сделали очень мало для того, чтобы приготовить материал для света. Они говорили, они восхищались красноречием друг друга. Борьба правительства с фейерверками не только не возбудила в них энергии, но, напротив, уменьшила. Старая закваска полагаться на правительство оставалась в изобилии. Оно за нас сделает. Фейерверки напугали общество. Оно увидело, чти это такое, и не пойдет на эти взрывы. Оно знает теперь, чем эти взрывы пахнут, как жгуч их огонь, как они болезненно ранят. Наше дело теперь облегчено. Но работники первой категории, увидев, что фейерверки далеко не безопасное дело, сократили свою одностороннюю работу и прямо отняли у благоразумной части работников ту долю хороших материалов, которая могла бы находиться в их распоряжении. Поджигавшие фейерверки или были удалены, или рассеяны и расстреляны, зато эти удаленные, рассеянные и расстрелянные образовали ту почву, на которой твердо стала конституционно-демократическая партия. Она приняла в смягченном и культурном виде все то, что есть привлекательного, соблазнительно обманчивого и яркого в освободительных стремлениях и у устроителей фейерверков, смешала все это с реальными величинами, на которых стояла и партия 17 октября, и продолжала бороться неустанно и широко. Все, что было репрессивного в борьбе правительства с крайней партией и с революционными действиями, — всем этим кадеты пользовались или, вернее сказать, все это само шло им на пользу. Они стояли войском, не стреляли выстрелами, не возбуждали бунтов, но умело маневрировали и роняли партию 17 октября, которая больше благодушествовала, чем действовала. Кадеты кричали криком, нисколько не стесняясь и как бы говоря: «Мы ничего не скрываем. Любите нас такими, какие мы есть, а лучше нас никого нет». Кому что нужно, то все и получат. Вода, воздух и земля — всего будет вволю. А воли хоть отбавляй. Надо много жизненного политического опыта, чтобы разобраться в заре будущего дня — разве это по плечу русскому обществу с его невежеством и привычкою к рутине? Поэтому, прежде всего, вот вам — мечту, бурную поэзию надежды, чем всегда была полна русская литература целый век и чем и жил русский человек.
Надо сказать правду, что задача кадетов, по всему этому, была гораздо легче, чем задача партии, укрывшейся под знамя 17-го октября. Ей, этой партии, все приходилось начинать с начала, даже ремесленно-политические мелочи, и делать в бурливое, беспокойное время. Определить свои отношения к правительству, к революции, к партиям, образовать даже свои принципы, свои основы, найти рамки для свобод, средства и агентуру для пропаганды. У этой партии кажется, и денег не было для широкой пропаганды, и ей казалось, что самый разум страны должен быть за нее. У кадетов дело было гораздо легче. Конституция и революция, единство империи и автономия, социал-демократия и социализм, блаженство всех и всех в одну кучу под свою команду, — все это мило и живописно перемешалось, образовав букет, где чертополох подпирает розу и крапива спрятала свое жало под бумагу, которая облекла букет. Кадетов даже «Русское Государство» подхваливало и ярилось против 17-го октября, надувая официальные щеки. А октябристы долгое время даже не хотели видеть в кадетах врагов и расшаркивались с ними с вежливостью джентльменов. На съезде Союза 17 октября один заседатель, вероятно совсем размягченный речью г. Стаховича, даже крикнул: «для нас убеждения конституционно-демократической партии священны». Она, мол, критике подлежать не может. Вот какие чудные политики! Точно пьют за здоровье шампанским, а политика — сбоку припека, игра в винт! Тогда как кадеты вооружили историка русской культуры, г. Милюкова, и он стал пространно описывать союз, посмеиваясь над ним. Они не давали союзникам 17 октября шагу ступить, чтобы не наступить на ногу, и даже не извинялись. Впрочем, сегодня, вспомнив, вероятно, Собакевича, который, наступив на ногу, говорил: «я, кажется, вас обеспокоил», они, или, правильнее, «Речь», извиняются перед А. И. Гучковым за те пакости, которые она о нем написала, поверив пакостям «Московских Ведомостей». Дело в том, что «Московские Ведомости» бессовестно наврали на А. И. Гучкова, напечатав, что он будто бы сказал, что гг. Родичев и Петрункевич присутствовали на совещаниях революционеров. «Русские ведомости», естественно, сейчас же перепечатали. Как только гг. Родичев и Петрункевич прочли это, немедленно напечатали в трех газетах открытое письмо к Д. Н. Шипову, графу П. А. Гейдену и М. А. Стаховичу, вопрошая их о «честности». Можете себе представить! Вопрошают потому, что «ложь и клевета (слушайте!) исходят из уст не рядового добровольца вашего союза, а произнесены вашим лидером». Сколько в этом тоне какого-то шляхетского задора, какого-то высокопарного, противного чванства. Чтобы не было никакого сомнения в том, что г. Родичев и г. Петрункевич имеют высочайшую степень честности, они прочли лживое известие не в «Московских Ведомостях», которые они не читают, а в «Русских Ведомостях». А если какая-нибудь пакость «Московских Ведомостей» получает святое крещение в «Русских Ведомостях» простою перепечаткою, то для гг. Родичева и Петрункевича эта пакость обращается в святую истину. Ложь, сочиненная «Московскими Ведомостями», перейдя из них в «Русские Ведомости», обращается в такую правду, о которой не может быть спора. «Русские Ведомости» для них вроде их собственного камердинера, докладам которого они внимают с дворянской беспечностью, освященною крепостным правом. И вот они нагло, именно нагло, вопрошают о честности даже не г. Гучкова, который является для этих высокородных людей уж просто «лжецом и клеветником», с которым о чести не говорят, а его товарищей. Как, мол, вы, товарищи, думаете о честности своего лидера? Г. Гучков прошел молчанием эту пошлую выходку выродившихся представителей дворянства, которые еще недавно кричали: «мы — революционеры». Скажут ли что-нибудь о ней гг. Шипов и Стахович и граф Гейден — не знаю. Члены Союза 17 октября не поднимают брошенных им перчаток и больше молчат. Но эта перчатка — одна из самых крепостнических по духу, вся пропитанная крепостническим недоверием к честности людей, не кричащих: «мы революционеры!» — и не совершающих паломничества в Польшу с ладанкой «автономия» на своей дворянской груди. Этот поспешный набег гг. Родичевых и Петрункевичей сделан был накануне и в день выборов, и потому ему нельзя отказать в сугубой ловкости.
22 марта (4 апреля), №10783
DCXXXII
Победители на выборах не хотят, чтобы России удалось заключить заем, если государство крайне нуждается в деньгах, до созыва Государственной думы. Я этого не понимаю. Та бешеная агитация против русского кредита, которую вела революционная партия своими манифестами и агитацией, и теперешние попытки против того же кредита, в сущности, направлены не столько против правительства, сколько против России, как России. Правительство — вещь преходящая, а в данное время, когда Государственная дума почти готова, и подавно. Мне кажется, что в этом случае именно Россия выставляется такою никуда негодною кучей всякого мошенничества, варварства, подлости, предательства и самых гнусных инстинктов, что надо полагать, что Государственная дума явится каким-то Всемогущим Богом, который станет творить Своим божественным словом и из ничего создаст мир, полный красоты, добра и правды, неизреченной честности и высокой доблести. Задача Думы даже выше божеской задачи, ибо Бог творил из ничего, а Дума станет творить из той мерзости и подлости, которыми якобы переполнена Россия. Если англичане действительно, как телеграфирует нам г. Веселитский, склонны, вследствие каких-то писем, полученных из России, не принимать участия в займе до созыва Государственной думы, то этим самым они просто не верят русскому народу, его жизнедеятельности, его энергии, его способности к труду и культуре, его творчеству. Если Россия полна всякой гнусности, если она сгнила и протухла, то откуда явятся эти члены Государственной думы, не только, как творцы, равные Богу, но просто, как порядочные люди? Почему выборы есть столь могущественное средство, что они избирают самых превосходных, самых умных, самых даровитых, одним словом, тех праведников, ради которых Бог щадит народы и не сжигает их небесным огнем? Но выборы такое же человеческое дело, как все другие человеческие дела, иначе почему же г. Кони получает, как выборщик, каких-то 150 голосов, г. Кузьмин-Караваев даже 72, а какой-то бандажный мастер несколько тысяч голосов? Не потому ли, что этот бандажный мастер есть символ разложившегося и развинченного Петербурга, который еще кое-как двигается только благодаря бандажам, изготовленным евреем или немцем. Если вся Россия сгнила и переполнена всякой мерзостью, то откуда же возьмутся превосходнейшие люди, способные из мерзости создать нечто великое и удивительное? Я желал от всей души и желаю Государственной думы, потому что я верю, что Россия жива, что она не пахнет гнилью и разложением, что бодр русский народ своей физической и нравственной силою, своей христианской верою и верою в свой исторический труд. Не от Государственной думы зависит судьба России, а от России, которая может дать созидающую силу этой Думе. Из кого бы Дума ни составилась, хотя бы из самых крайних элементов, за ней останется Россия, русский народ, единый и нераздельный, который не даст собою играть, как, каким-то чучелом, набитым соломой и мякиной. Если б Государственная дума составилась даже из соломенных и мякинных чучел, то и из этого отнюдь бы не следовало, что Россия погибла и сгнила. Мало ли европейская история представляет нам дрянных и ничтожных палат, но живы были народы и дрянные палаты рассыпались, как песок.
Пусть англичане верят кому хотят, но я желал бы, чтоб верили России как России. Наше сердце недаром лежит к Франции и Франция верит в русский народ, верит даже после наших беспримерных поражений. И за это мы можем быть только бесконечно благодарны Франции. Она верила русскому народу и русскому царю, когда и в помине не было Государственной думы, и верит и теперь России и ее государю, слово которого неизменно и честно, не только как русского царя, но и как русского человека. Он дал свободу России, он собирает Государственную думу, он откроет ее, он сделает все, что обещал, как честный русский человек. Русский человек — не банкрот, каким его выставляют крайние партии, страстно желающие взять его под свою опеку и наделать из него крошево. И без Государственной думы и при Государственной думе он останется честным русским народом, всегда исполнявшим свои обязательства, а потому достойным всякого доверия.
27 марта (9 апреля), №10788
DCXXXIII
Все идет превосходно и в правительстве, и в обществе. Даже полемика Союза 17 октября между собою и от себя превосходна. И чем огорчаться? Ведь конституционно-демократическая партия — самая естественная из всего естественного. Не могла же у нас существовать конституционное-аристократическая партия за неимением аристократов. Мне кажется сомнительною даже конституционно-буржуазная партия, ибо слово «буржуа» в русской жизни — слово совершенно бессмысленное, а для обозначения среднего образованного сословия слова еще не изобретено, да, может быть, и самого материала для этой партии ещё недостаточно. О консервативной партии и говорить нечего. Ее никогда не было, как партии. Дворянство? Да где оно, скажите, пожалуйста? Оно разбилось, как дорогой хрустальный стакан. У нас, видно, все идет от мужика и к мужику возвращается. Мужицкое царство — и в этом наша оригинальность, от которой напрасно было бы бежать. Победоносная партия хорошо назвалась партией народной свободы и кадетами. Оба названия, ничего особенного не обозначая, очень милы. Что такое народная свобода, никто не знает доподлинно, но звучит это прекрасно, как лозунг, который должен быть звучен и выразителен. Обоим условиям лозунг вполне отвечает. Ничего не обещая, он как бы все обещает. Кадеты, слово, образовавшееся из начальных букв «конституционные демократы», тоже очень хорошее слово. Кадеты, это — военная молодежь, это — юношество, несущее с собою новую жизнь, свое, новое будущее. И кадетская партия действительно молодая и энергичная.
Не говорите, что заглавие ничего не значит. Оно очень много значит. Даже хорошее заглавие статьи, книги, романа, повести, стихотворения очень ценится авторами и публикой. А заглавие партии должно быть хорошим и симпатичным, и в этом отношении кадеты решительно выделились чрезвычайно счастливо. Ни Союз 17 октября, ни правовой порядок, ни Союз русского народа, ни монархисты и ни одна из прочих партий не может похвалиться своим заглавием. Поставьте над живой и интересной беллетристической книгой заглавие «Сухие туманы» — и я посмотрю, когда это публика узнает, что «Сухие туманы» интересный роман. А названия всех других партий напоминали несколько именно сухие туманы для огромного большинства. Господь знает, что под ними скрывалось. Я, по крайней мере, никак в них разобраться не мог, ибо все они толкались и терлись друг об друга и о чем-то умалчивали, что-то скрывали, чего-то не договаривали.
— Да вы за кадетов, что ли, стоите?
Нет. Я стараюсь, по своему разумению, объяснить настоящий день. Кадеты — это станция на железной дороге, проведенной между Конституцией и Революцией. Я не знаю, к чему эта станция ближе, к Конституции или Революции, и гадать не хочу. Но ясно вижу, что весь Петербург присел на кадетскую станцию и три четверти Москвы тут же присели. Перетянет ли Конституция или Революция, я этого не знаю. Но я знаю, что обнаружено много халатности со стороны тех партий, которые садились или около станции Конституция или на ней самой. Халатность обнаруживается даже в названиях партий.
Меня удивляет, куда девалось слово «либеральный»? А когда-то это слово было ходячим и, казалось так многое объединяло. Почему все партии игнорировали это слово? Показалось ли оно слишком старым и изношенным на картине этого освободительного движения, где ярко горели социал-революционеры и социал-демократы. Куда девалось слово «национальный»? Его тоже обегали боязливо прогрессивные партии. Помилуйте, как можно быть националистами? Да все евреи и еврействующие набросились бы на это слово с азартом. У русских прогрессивных партий не может быть этого слова. В России 100 народностей, считая каракалпаков и чукчей… Быть националистом — значит обидеть 99 народностей. Шутка!
Но слово «национальный» мне остается любезным. Я жил с ним и с ним умру. Я пристал бы к единственной партии, национально-демократической, которой нет, но которая могла бы проповедовать все свободы и экономическое устройство народа и не была бы исключительно русской, а, напротив, соединила бы с собою народности культурные, как поляки. И я еще верю, что национальное чувство возродится в просветленном виде, если русский народ не затолкают и не обезличат. А при лени, бездействии и отсутствии культуры это не невозможно.
Мне иногда кажется, что русский человек создан после халата; сначала халат, а потом уже русский человек. Во всю мою жизнь, начиная с отрочества, я ненавидел ленивых. Мне они казались злодеями своей жизни и общей жизни. Ненавидел я и карты, созданные для глупого короля и усвоенные ленивцами и мошенниками. Мне всегда казалось, что деятельный, трудолюбивый человек в России никогда не может пропасть, потому что она всегда нуждалась и нуждается в подобных людях. Юношество, которое не учится, мне всегда было противно, и я легко впадал даже в преувеличения и не хотел слушать никаких резонов, когда заходил спор об этом. Никакой политики в этом вопросе я не допускал и доселе допускать не могу, что бы мне ни говорили. Все забастовки молодежи не имели ни малейшего полезного политического значения и ни на йоту не способствовали освободительному движению. Но они дали огромный шанс трудолюбивому еврейству, которое тщательно поощряло русскую лень и вдохновляло молодежь ничего не делать и перестать учиться. Я говорил, что мы будем чистить сапоги у евреев, и будем их чистить. Я даже думаю, что это уже началось.
Существует необыкновенно долговязое слово, которое евреи и еврействующие с завидным прилежанием употребляют по отношению к «Новому Времени». Слово это длиннее не только высокопреосвященства, но и высокопревосходительства и уже потому оно искусственное. Это — человеконенавистничество. Кто против евреев, тот человеконенавистник. Кто за них, тот человеколюбец и достоин всяческих похвал. Я думаю, однако, что иные человеколюбцы промеж себя ругают евреев больше, чем мы вслух. Мы, по крайней мере, никогда не умалчивали об их достоинствах и нередко указывали на необходимость подражать им в той энергии, с какою они отстаивают свою национальность, именно национальность. Они — еврейский народ и говорят об этом с большей и большей настойчивостью. «Избранный народ Божий» — это остается в сердце еврея даже и тогда, когда он совсем забыл свою религию или сделался к ней вполне равнодушен. Я совершенно убежден в том, что кадеты не имели бы такого решительного успеха во время выборов, не будь евреи на их стороне, не снабди они их даже деньгами. В то время, как русские считали свои гроши и собирали по пятиалтынному, евреи давали тысячи, потому что они очень хорошо знали, что без денег ровно — ничего не сделаешь. И вся Европа это отлично знает и там давно знают и весьма точно, что стоит выбор каждого депутата своей партии. Подкуп на выборах — дело самое обыкновенное и об этом даже не спорят. Попадаются на подкупе только глупые, да и уследить за ним чрезвычайно трудно. У большинства наших партий, впрочем, не только на грубый подкуп, но даже на пропаганду не было денег, т. е. на подкуп при помощи убеждений и печатных и митинговых речей. Грубого подкупа, я думаю, не было ни у одной партии и в этом отношении все они, кажется, безупречны.
Возвращаюсь к человеконенавистничеству, к этому глупому и долговязому слову, которое употребляется тем охотнее, что оно ровно ничего не обозначает. В порядке идей оно не более идеи высокопревосходительства, о которое сломаешь язык, но ничего существенного не выразишь. Поэтому слово это меня никогда не обижало. Но оно, как высокопревосходительство, дает совершенно фальшивое основание к высокомерию и к брани. Я думаю, что с падением высокопревосходительства упадет и это высокомерие мнимых человеколюбцев. И в этом отношении я рассчитываю на Государственную думу, где наверное явятся мужественные русские люди, которые будут отстаивать русскую национальность даже от «дерзкой толпы» евреев. Это их так называет Иеремия. Я верю, что русские люди будут храбрее Цицерона, который боялся евреев. Когда во время судебных прений дело касалось еврейских интересов, он начинал говорить так тихо, что только судьи слышали его слова. «Я знаю, говорил он, как евреи солидарны между собою и как они умеют губить тех, которые становятся поперек дороги». Речь его гремела ужаснейшими обвинениями против греков и римлян, против могущественных людей его времени; но относительно евреев он советовал осторожность; он считал их таинственною, злою силой и лишь вскользь касался Иерусалима, этой столицы, где «царит подозрительность и клевета». Наши Цицероны трусливее настоящего Цицерона и даже совсем у них не ворочается язык говорить против евреев. Но русская душа проснется в своей свободе и своем мужестве и безбоязненно станет говорить правду обо всех, еллин ли он или иудей. И это необходимо для русской свободы.
28 марта (10 апреля), №10789
DCXXXIV
Я решительно не понимаю тактики Союза 17 октября, если эта тактика такова, как пишут о ней А. А. Столыпин и А. А. Пиленко. Когда я читал в последние два дня их заявления, я думал, что они иронизируют, и думаю доселе так: ирония тем сильнее, чем она серьезнее, чем непроницаемее форма. «Мы будем стоять за кадетов, мы, побежденные, для того, чтобы их победить. Мы, как правоверные конституционалисты, станем добиваться министерства из большинства, в данном случае из кадетов, так как большинство будет ихнее. Как только они окажутся во власти, сейчас же непременно провалятся». И А. А. Пиленко рисует в юмористическом духе министра внутренних дел г. Родичева и приводит слова г. Милюкова, что партии теряют свое обаяние скорее всего во власти. Это справедливо только до некоторой степени и справедливо относительно всех партий, кадеты это или союзники 17 октября. У нас, при новости режима, отсутствии всякой парламентской подготовки и присутствии бесшабашного увлечения так называемого общественного мнения, победа и поражения могут сменяться часто. Но могут еще не значит, что будут. Я не знаю, так ли комичен и экстравагантен г. Родичев, каким его рисует А. А. Пиленко в качестве запевалы партии. Но если он таков, из этого даже еще не следует, что он будет таким во власти. Власть меняет людей, меняет даже их внешность, их приемы, сглаживает характер и привычки.
Это, конечно, доказывать нечего. Что было с Сикстом V, когда он не был папой, и что сделалось, когда он вступил на папский престол, в большей или меньшей степени происходит со всяким человеком, который делается правителем государства, министром, главнокомандующим. Преображение вещь бесспорная. Всякий мало-мальски умный человек делается во власти умнее, сдержаннее, рассудительнее. Он быстро оставляет все те фокусы, которые ему были нужны для толпы, и заменяет их внутренним содержанием и заботится о той ответственности, которая лежит на нем. Почему же тому же самому не совершиться с представителями кадетской партии? Если бы мы были избалованы какой-нибудь плеядой замечательных министров и администраторов, сравниться с которыми было бы трудно или невозможно, можно еще было бы предаваться мечтам, что сегодняшние победители, будучи неглупыми людьми, завтра сделаются дураками и не выдержат никакого сравнения. Но ведь этого нет. Мы не можем судить о силе победоносной партии и о том, как она будет вести себя. Мы знаем только, что она вела выборную борьбу гораздо лучше всех других партий и этим уж показала, что она не утирает носа рукавом, как утирались другие партии.
Я далеко не согласен с теми, которые с каким-то необыкновенным самодовольством приписывают успех кадетов только этой тактике и, главное, правительственным репрессиям. Я думаю, что в самой программе и в составе партии было нечто такое, что давало ей перевес. Если атмосфера была благоприятна кадетам, то в ней много было благоприятного и для союзников 17 октября. Я думаю также, что русских вообще тянет в крайние партии, как людей, у которых чрезвычайно мало культуры и даже благ той природы, которая так щедра на Западе. Ковры-самолеты, кисельные берега, медовые реки, жар-птицы — влекли к себе народную фантазию от короткого страдного лета и тяжкой зимы. Прямо из ничтожества ко всем радостям жизни. Так и в политике: надо прямо жар-птицу, а не поросенка под хреном. Кроме того, в обществе много зависти, злобы против всякого, который выдается, и того тайного подковыркивания, которое питается личными расчетами. О нас давно сказано, что мы готовы пожирать самих себя. Я думаю, что у союзников этого добра было больше, чем у кадетов, может быть, потому, что около кадетов было много бескорыстной и наивно верующей молодежи, которая страстно предавалась агитации. У кадетов было и больше имен, а имена — великое дело. Бранят ли их или хвалят — все равно, это шаги к известности, к популярности. Если вы ругаете милого мне человека, я буду стоять за него тем крепче. Союзники 17 октября этого в такой степени не понимали, что прятали имена своих излюбленных под своими густыми политическими ресницами. Я думаю, что и теперь они это мало понимают и все стараются обличить кадетов в том, что они чуть ли не украли у них самые надежные принципы и выдали за свои. Мне кажется, что это просто смешно. Черты сходства есть у обеих партий уже потому, что они обе конституционные и воровать друг у друга нечего. Кадетам стоило только взять известную гамму от нижнего до, конституции, до верхнего — в пространстве. Я уже указывал на счастливое название партий. У одной два — кадеты и народной свободы, как будто две партии, у союзников 17 октября было только одно название, а за другим пришлось бежать к соседям. Вы можете говорить, что это не важно. А я вам говорю, что при выборах все важно и нет такой мелочи, которая, при умелом обхождении с нею, не могла бы содействовать успеху.
Что ж из всего этого следует? По-моему, из этого следует, что напрасно союзники 17 октября рассчитывают на свою тактику победить великодушием врага. Идти вместе с ним, проливать, выражаясь фигурально, за него кровь, возвести его в главнокомандующие и затем кубарем сбросить его под начальство Линевича — это что-то уж очень наивное или, если хотите, сверхчеловечески великодушное. Чтоб попасть под начальство Линевича, надо наделать очень много ошибок и, главное, не обращать никакого внимания на свой штаб, составленный с борка да с сосенки. Я думаю, что кадеты не наберут себе столько бездарностей, сколько собрал вокруг себя Куропаткин, желая угодить всем высокопоставленным рекомендациям. Я беру пример из военной истории, как всем понятный, во-первых, а во-вторых потому, что парламентская борьба тогда только и борьба, когда она пользуется умело всеми слабыми сторонами своего противника и, резко обозначая свои границы и цели, стоит на них твердо. Тогда только и жизнь партии, ибо только в перипетиях борьбы, в сшибке вождей набираются приверженцы. Я желал бы не ошибиться в том, что статьи А. А. Столыпина и А. А. Пиленко написаны иронически, а не серьезно. Если они серьезны, то они идут мимо целей и могут возбуждать у кадетов только улыбку.
Христос с нами, господа. В последние годы день Христова Воскресения был для России не праздником праздников, а только минутой надежды, за которою следовало нескончаемое горе и слезы. Дай Бог, чтоб эта чаша миновала нас навсегда.
2(15) апреля, №10794
DCXXXV
Какие несчастия в Америке! А люди еще грызутся между собою, заряжают бомбы, производят взрывы, уничтожают друг друга. Мало смерти, которая ходит по людям, как естественный спутник всякой жизни, мало тех случайностей, которые приносят с собой раны, калечества и неизлечимые болезни, мало всего этого, и человек в своем ненавистничестве стремится к разрушению, не научившись еще создавать. Стихии природы неумолимы, и против них нет средств. Они не боятся ни ружей, ни пушек, ни войск, ни грозной власти. Всколыхнется земля, и все повергается в прах.
Не идет ли революция оттуда, откуда ее не ожидают?
Русско-японской войне предшествовали страшные явления природы. Погибали города, тысячи жителей и состояния. Тотчас после войны — русская революция, брожения во Франции, и эта страшная революция в Сан-Франциско и его области. И где она остановится? Может быть, земной шар переживает новую эпоху переворотов и современной цивилизации грозит гибель не от революций, которые устраивают эти пигмеи, эти маленькие инфузории на земной поверхности, которые называются людьми, а неведомые силы природы.
Ну, а как у нас? На нашем Везувии?
«Нация идет!» Это фраза такая же смешная, как катковская фраза «Власть идет, встаньте!» — такой же бессмысленный приказ, как все приказы. Когда Катков говорил: «встаньте, власть идет!» — мы смеялись. Я хорошо помню впечатление этого изречения. Оно имело успех именно комический. Подражание г. Струве Каткову даже комического успеха иметь не может, потому что тут выдумки своей нет. Просто одно слово заменено другим и ничего больше. И мне кажется, что и «власть идет», и «нация идет», и «встаньте» — все это довольно глупо и пошло, потому что все это не свобода, не праздник жизни, а насилие и угрозы. В «Революционной России» за 1905 г., №72, я прочел такие повелительные выражения:
«На колени! Революция идет!»
«Шапки долой! Народовластие идет!»
Не угодно ли, — даже на колени и без шапок! Катков и Струве гораздо гуманнее. А тем властителям и насильникам ничего не стоит сказать:
«Головы долой! Конвент пришел!»
Г. Милюков на предварительном собрании городских выборщиков сказал:
«Несвоевременно просить об амнистии у тех, на которых партия смотрит как на будущих подсудимых».
Г. Набоков, как сын покойного министра, как человек воспитанный и привыкший к гостиным, сказал:
«Требовать амнистии у нынешнего правительства значит оказывать ему много чести».
И все это из той же области приказов, насилий и угроз, и все это не носит на себе никакого признака государственного ума и признаков предводителей политической партии.
Просто властители, которые спешат сказать, что они начальство над Россией и что они теперь могут приказывать, звать под суд, поставить на колени, упрятать в кутузку.
Нечто невинное и наивное, но из той же области обнаруживают и члены Государственной думы. Еще Государственная дума не открыта, выборы не проверены, а они уже приказывают. Сегодня напечатаны две телеграммы к графу Витте, одна из Самары от 12 членов, другая из Саратова, от одного члена, которые требуют немедленного прекращения смертных приговоров и проч. Характерны эти немедленность и приказательность. Все это из старого словаря бюрократии, где немедленно играет такую же частую роль, как в драмах и комедиях слова: «уходит» и «входит». Жизнь над этой «немедленностью» обыкновенно смеется, как над людской глупостью. Граф Витте отвечал этим членам, пародируя знаменитое выражение французского романиста и сатирика Альфонса Карра, сказанное еще в 1849 году: «Abolissons la peine de mort, mais que messieurs les assasins commencent». По-русски: «Отменим смертную казнь, но пусть гг. убийцы начнут». Он же прибавил: «Qu'ils ne tuent pas, on ne les tuera pas» (пусть они не убивают и их не станут убивать). Это чрезвычайно просто и азбучно, но азбучные истины господствуют еще в мире и учение Христа не только остается в непроглядной дали веков, но кажется, еще более отдаляется. У нас императрица Елизавета отменила смертную казнь, но она осталась для известных случаев, которые, однако ж, рассматривались далеко не всегда одинаково. Стоит вспомнить смерть императора Павла I. Для меня убийства и смертная казнь одинаково были противны. Убивать никто не имеет права, ни политически, ни приватно, потому что право жизни должно быть поставлено выше всего. Если допускать политические убийства и считать их «освободительным движением», то надо допускать и другие убийства, которые тоже можно притянуть в «освободительное движение», как это старался доказать себе Раскольников, как стараются доказать адвокаты (и женщины в деле Палем), что ради любви, ради мщения сильному и неправедному, изменнику в любви, например, можно и убить. Я восставал против суда присяжных, когда он оправдывал убийц, совершавших это преступление из-за ревности, из-за любви. Я всегда думал, что какие бы мотивы ни побуждали человека лишить себе подобного жизни, он должен быть наказан. Вполне оправдывать убийство — значит распространять убийства.
Никто не ставил вопроса о политическом убийстве так ярко, как Шекспир в «Смерти Цезаря». С художественной проницательностью он выставил все доводы за и против, и выставил их не в словах, а в характерах, написанных ярко и беспристрастно. Он шел по следам истории, правда, но он умел захватить в свою драму все оттенки мнений и все общественные наслоения, от высших и образованных до низших, до толпы, которая не знает пощады, если уметь овладеть ею и направить ее. Дело шло о свободе, а принесло тиранию, самый ужасный произвол и бесчисленные насилия при помощи толпы, угождая ей и льстя ей. Но со времен Цезаря многое изменилось. В XIX веке, в первую его половину, было два-три политических убийства. Вторая половина наполнялась ими более и более, а современная Россия превзошла в этом отношении все страны. Она дала первых анархистов, она же дает политических убийц, число которых все увеличивается, и человеческая жизнь становится совершенным пустяком.
Нынешний министр внутренних дел, г. Клемансо, кажется, во время прений в палате о драме Сарду «Termidor», пустил в политический оборот слово «блок». Он сказал, что одобряет всю Великую французскую революцию. Как — всю? — возражали ему. — И насилия, и казни, и сентябрьские убийства? Да, всю, en bloc. По-русски это можно бы перевести так: «все в кучу». Граф Витте, не одобряя того порядка вещей, который царствует, как бы признает за революцией прямо воюющую сторону, и притом такую, которая обладает средствами уничтожать, как никакая другая. Одни бомбы чего стоят, не только как орудие убийства, но и как орудие паники, орудие грабежа. Пусть эта воюющая сторона прекратит «ежедневные убийства, казни, грабежи и всякие другие возмутительнейшие преступления» — и государство пойдет на отмену смертной казни! Он этого прямо не сказал, а сказал так: «тогда и государство избавлено будет от тяжелой необходимости применять смертную казнь». Очевидно, как г. Клемансо, граф Витте разумеет все явления этого периода русской истории и судит о них en bloc. Прекратите войну — и мы прекратим. Если вы будете продолжать убивать, а убиваете вы ужасно, если вы будете продолжать насильничать при тех способах, которые теперь есть у всякого, то как же защищаться государству, как упрочить порядок? Таков смысл его ответа членам Государственной думы, поспешающим заявить о себе.
Надо, однако, кончить эту войну поскорее миром. Она тянется почти целый год, напрягая чувства и изнашивая русский характер и подрывая веру в судьбы России. Чаша вражды переполнена. Принесет ли этот мир Государственная дума? Вот вопрос самый близкий, самый важный.
Во всяком случае, идет что-то новое, никогда еще неизведанное. Грозное и грозящее, или миролюбивое, это будет зависеть от тех руководителей, которые возьмут в свои руки Государственную думу. Пока мы можем сказать наверное только то, что будут говорить страшно много, будут говорить не только умные, но и глупые. Всякий будет считать себя оратором и вершителем судеб. Тэн говорит, что в заседаниях Национального собрания говорило иногда разом несколько десятков человек. Но успех будут иметь только таланты и никто более. И не думайте, что говорить легко и что это никакого труда не стоит. Напротив, надо много труда. Импровизация — пустое дело. Замечательные ораторы обыкновенно изучают предмет и пишут свои речи, исправляют их и выучивают. Этой кабинетной работы никто не видит. Ее даже скрывают из тщеславия, чтобы прослыть вдохновенным, который сейчас вот из нутра все и выложил. Нет, это не так легко. Еще на митингах можно фокусничать и потрясать. В Думе это несравненно труднее. Кто захочет иметь влияние и значение, тот будет работать над каждым вопросом и над каждой своей речью.
Но что мы узнаем драгоценного, это не речи, не ораторство — это люди. Вот что будет очень любопытно и поучительно. «Людей нет» — это я слышу сорок лет. Мне всегда казалось, что они есть, но они работали где-то невидимо, ибо без них и России бы давно не было. Теперь «людей» поставят на выставку. Рассматривай и изучай. Всего ужаснее будет, если людей не окажется, тех русских людей, для которых всего дороже родина и ее успокоение. Но если среди 500 депутатов явятся десять человек действительно умных, даровитых и тактичных — это будет превосходно. Даже пять человек — и то очень хорошо. А остальные — соус, лук, перец, морковь, петрушка и проч.
9(22) апреля, №10800
DCXXXVI
Мы с В. П. Бурениным осматривали сегодня Государственную думу. Как бывший архитектор, мой товарищ скажет лучше меня о всем том, что он видел. Полтора часа посвятили мы этому осмотру. Нам обоим очень понравилось в этом народном дворце, поистине огромном, решительно все, не исключая и самого зала заседания.
Мы в этом отношении расходимся с М. О. Меньшиковым, который, вероятно, желал видеть здание вроде английского парламента. Но мы только начинаем парламентскую жизнь и применяем старое к новому.
Мы торопимся, как всегда, т. е. торопимся не постоянно, как бы следовало, а эдак через сто, двести лет. Вдруг поднимемся — и подавай нам все. Построить новое здание в течение одной зимы не было ни малейшей возможности. Надо было найти старое и сделать из него все то, что возможно. Таврический дворец оказался очень удобным по самой своей обширности для того, чтоб поместить новое, небывалое государственное учреждение. Век Екатерины Второй был едва ли не апогеем русской славы. Русская империя пользовалась в Европе таким престижем, что Вольтер мог сказать, хотя и не без лести, что «свет идет теперь с севера». И военная слава, и территориальные приобретения, и литература, и искусство, и наука, и журналистика, и даже опыт парламентаризма, все это ведет свое начало с екатерининского времени. И этот потемкинский дворец как бы подает руку нашему времени и как будто дает надежду на то, что XX век будет веком новой русской славы, нового подъема русской жизни. И если этого не случится, то Россия спела свою песенку. Это страшно сказать, но надо сказать.
Те счастливцы, которые будут заседать в этом народном дворце, должны это помнить. На них лежит ответственность огромная. От них будет зависеть прямо судьба России. Если партия явится вместо России, то эта партия должна выставить высокие таланты, безграничное самоотвержение и тот патриотизм русской души, без которого ничего не может быть построено. 6 последние годы торжествующая теперь партия столько рассеяла насмешек над патриотизмом «истинно русских людей», что надо полагать, что у ней есть свой патриотизм, просто «русский», который она покажет. Мы будем ждать этого с доверием и, проходя эти залы, любуясь всеми удобствами, всем комфортом, которые устроены во дворце великолепного князя Тавриды, всем целым, которое представляет собою это здание, скромное снаружи и необыкновенно сложное и изящное внутри, невольно хотелось верить, что тут будет именно русское творчество, которое скрепит все связи разных народов Русской империи и положит на это многовековое здание тот венец, под которым всем будет хорошо жить.
Все работы заканчиваются. Во многих комнатах натирают полы, убирают мусор. Через неделю надеются, что все будет готово. Я советую всем посмотреть этот будущий популярный дворец. Хотя он пуст, но он дает представление о той необыкновенно сложной работе, которая будет происходить в нем, и поднимает дух.
11(24) апреля, №10802
DCXXXVII
Я прочел протест нескольких русских писателей против «Американцев, которые оскорбили русского писателя Максима Горького и русскую женщину М. Ф. Андрееву, грубо вмешавшись в их интимную жизнь». Далее: «Мы, русские писатели, менее всего ожидали встретить такое попрание основных условий культурной жизни со стороны американских писателей, представителем которых явился Марк Твен, и выражаем им по этому поводу свое глубокое негодование».
Под этим протестом подписалось несколько известных имен, например, гг. К. Баранцевич, В. Немирович-Данченко, И. Н. Потапенко, и несколько совсем неизвестных, например, г. Д. Цензор и проч. Конечно, протест этот не может иметь ни малейшего практического значения и с этой стороны его нечего и рассматривать. Но он стоит того, чтобы посмотреть на него просто как на литературное явление. Г. Горький поехал в Америку гастролером революции. Его повез туда некий еврей, г. Иллиш, как повез бы он туда какую-нибудь известную певицу. Г. Горький является не просто путешественником, а с политическою целью. Кеннан, посетив тюрьмы политических осужденных в Сибири, читал в разных городах Америки публичные лекции об этом, надевая на себя кандалы. Во время войны нашей с Японией некоторые японцы читали в Америке публичные лекции во славу Японии и в хулу России. Это очень понятно, как политическая пропаганда против России. Менее понятна роль русского писателя, который поехал в Америку просить Христа ради на революцию. По моему мнению, это свинство во всех отношениях, но я не буду касаться и этого вопроса по пословице — вольному воля, спасенному рай. Но для того, чтоб в этой исключительной и весьма ответственной роли иметь успех, надо, во-первых, представлять собою нечто героическое, рыцаря без страха и порока, и, во-вторых, надо было изучить предварительно ту страну, куда ты едешь. Это не простое путешествие, а в некотором роде миссия. А тот миссионер, который поехал проповедовать в какую-нибудь страну, обязан предварительно изучить эту страну, ее нравы, ее установления и ее язык. Г. Горький презрел все это. Не владея ни одним языком, кроме русского, Мальбруг s'en va en guerre, рассчитывая исключительно на свое имя и на своего антрепренера, г. Иллиша. Г-жа Андреева в этом отношении отнюдь не могла ему помочь. Будучи русскою артисткою, она, конечно, совсем не была приготовлена к такой политической роли, которая требует ораторского таланта, знаний, навыка. Таким образом, и с этой стороны остается все тот же г. Иллиш, тот же «вечный жид», который странствует из страны в страну и странствию его несть конца.
Русские писатели протестуют против американцев вообще и Марка Твена в особенности, которому сам г. Горький многим обязан, не говоря о других гг. протестантах. Марк Твен — американец, как г. Немирович, например, русский. Г. Немирович живал во многих странах и несомненно применялся к их нравам и эти нравы изучал, и изучал их причины и их происхождение. Если бы он этого не делал, он не написал бы ни одной порядочной строки о тех странах, где он живал. Всякий русский путешественник, поселясь в чужой стране, непременно применяется к ее нравам и обычаям, ибо без этого ни в одной стране жить нельзя. «Ндраву моему не препятствуй» — это ведь именно то, над чем так много смеялись русские писатели и за что стоит г. Горький.
Почему же теперь русские писатели заявляют свое «глубокое негодование» американцам за то, что они будто бы оскорбили русского писателя и русскую женщину, вмешавшись в их «интимную жизнь». Да где же это вмешательство? Разве они разлучали их? Разве они чем-нибудь помешали их взаимным отношениям? Они только сказали, что у них в отелях так не водится и что поступок г. Горького оскорбляет их нравы. И они правы, хотя бы эти нравы нам не нравились. В Лондоне вы не по воле подчиняетесь празднованию воскресного дня, а в будние дни вас не пустят в кресла оперы, если вы не во фраке. И множество условий в обыденной жизни, которой вы невольно подчиняетесь, хотя эти условия вам не нравятся или даже они вам противны. Запад вообще внес и в наши нравы многие обычаи, которые мы исполняем. Мы ничего хорошего с собой на Запад не возили, кроме денег. Петр Великий, прожив со своей свитой некоторое время в Лондоне, так запакостил отель, что хозяину его пришлось уплатить казенными деньгами за чистку и повреждения отеля. Петр Великий, конечно, вознегодовал бы, если б потребовали от него чистоты и опрятности, но он был бы не прав. Г. Горький — не Петр Великий, но от него требовали только опрятности. Нельзя забывать, что свободу в Америке основали пуритане, как пуританин Кромвель основал в Англии республику. Пуритане преданы свободе, но они отличают от нее своеволие, и не г. В. Немировичу-Данченко с братией учить американцев. Очень может быть, что при той политической свободе, которая царствует в республике Соединенных Штатов, строгое соблюдение известных правил в семейной и общественной жизни в высокой степени важно. Может быть, что без этого соединения этой свободы с некоторыми стеснениями, унаследованными от доблестных предков, самое существование республики было бы невозможно. Говорить американцам, что они оскорбляют женщину, все равно что петуху учить соловья петь, ибо женщина там завоевала себе превосходное положение, как девушка, как мать семьи и как гражданка, и уважением к женщине Америка славится.
Я напомню забытый факт из жизни президента Кливленда, который занимал эту должность с 1885 по 1889 г. и с 1893 по 1897 г. Прямого отношения к делу этот факт не имеет, но он показывает, как американец считает необходимым подчиняться. Кливленд принадлежал к англиканско-методистской церкви, которая запрещает своим членам употребление спиртных напитков. Исключение допускается только на званых обедах для соблюдения общественных приличий, да и не больше одного бокала вина. Методистский епископ заметил, что за одним из таких обедов Кливленд выпил две рюмки вина. Консистория немедленно потребовала его к ответу, и заметьте — это было уже во второе его президентство, когда он приобрел себе популярность. Сам он не явился в консисторию, отговариваясь занятиями, но послал туда своего адвоката с собственноручным письмом, в котором каялся в своем грехе, говорил, что две выпитые им рюмки составляют не больше бокала и обещал неуклонное повиновение в будущем. Консисторский суд принял раскаяние во внимание и оправдал президента.
С нашей халатной точки зрения, где отравление населения алкоголем взяло на себя правительство, это подчинение первого лица в государстве какой-то консистории, вероятно, покажется смешным и нелепым. Но в Америке смотрят на это иначе. Это — строгое исполнение своих обязанностей, это — верность данному слову, это — уважение к свободе, которая никогда еще не основывалась на распущенности и халатности, и уважение к законам и общественному мнению своей страны. И чтобы протестовать против какого-нибудь явления в чужой, несомненно культурной стране, надо протестантам обладать культурным авторитетом. А какой же у нас авторитет — помилуйте! Какие такие культурные идеи представляют собою гг. протестанты? Если бы они их имели, они бы изложили их, они бы постарались доказать свое право указывать другим во имя каких-нибудь начал, которые они исповедуют. А разве они это сделали? Они даже и протест не сумели составить и прилично мотивировать его, как следовало бы образованным людям, которые знают, почему и во имя чего они протестуют.
12(25) апреля, №10803
DCXXXVIII
Уходит граф Витте или не уходит? Этот вопрос у всех сегодня на языке. Биржа упала вследствие этого слуха. И мудреного тут ничего нет. Уйти за десять дней до открытия Государственной думы, уйти человеку, при котором началась вся эта реформа, даже не с 17 октября, а с декабря 1904 г., когда ему, как председателю Комитета министров, пришлось вводить известные льготные узаконения, — это понять довольно мудрено. Если 6 у нас даровитыми людьми была полна страна, если б были политические деятели, которые заявили себя сколько-нибудь видными делами и обнаружили свои способности, тогда, конечно, уход графа Витте не составлял бы чего-нибудь необыкновенного. Но где же эти люди? Перечтите, пожалуйста, всех сколько-нибудь известных людей и скажите, где эти таланты? У графа Витте много недостатков. Но это несомненно умный и талантливый человек, обладающий, между прочим, бесспорною способностью дипломата. А дипломат теперь нужен не столько для иностранных дел, сколько для внутренних.
Что ни говорите, а наша реформа или наша конституция — вещь весьма недурная. Я очень счастлив, что дожил до нее, и вижу настоящую борьбу, достаточно свободную для того, чтобы все мнения и желания были известны и чтоб за всеми мнениями и желаниями стояли свободные люди и их отстаивали. Не сразу, так как сразу ничего не делается, но разум народный образуется и начнется управление законное и справедливое. Даже управление «партийного» большинства кадетов нисколько не страшно. Ведь бюрократия тоже партия, но она управляла без гласности, без представительства, без свободной критики. А теперь управление «партии» будет открыто и всякий шаг ее будет известен, обсужден и даже последствия всякого шага будут более или менее указаны и угаданы. Совершенства в мире нет и, вероятно, никогда не будет, но пути к совершенствованию для всех открыты, — вот что чрезвычайно важно, и в этом участие графа Витте было весьма значительное. Говоря пословицей: он заварил кашу, — и он отказывается, вопреки окончанию пословицы, ее расхлебать. А дело это чрезвычайной важности, потому что правительству предстоит весьма серьезная борьба в Думе, и борьба совершенно новая.
У правительства в Думе нет своей партии. Дума почти вся оппозиционная. Можно даже сказать не «почти вся», а просто вся, с теми или другими незначительными оттенками. Правда, известных имен, известных талантов в ней, как говорится, один-два да и обчелся. Провинциальные депутаты — почти сплошь инкогнито. Провинция, не исключая Москвы, судя по многим данным, тоже не знает особенно выдающихся людей. Одни из видных москвичей, старообрядец, когда его упрекали за выборы в Москве, сказал: «Что вы хотите, русских людей нет». — Позвольте, как же нет людей, когда они были при Михаиле Феодоровиче и Алексее Михайловиче? — «Тогда были, а теперь нет». Вероятно, еще бегают в штанишках. А кто вырос, тот ничем не отличился, ничем не показал себя. В Киеве, «матери городов русских», русских людей не оказалось. Выборщиков евреев — 55, русских — 15 и 1 поляк. Значит, в «матери городов русских», где евреи не пользуются даже правом свободного жительства, огромное большинство выборщиков евреи. Если будет выбран кто-нибудь из русских, то это будет милостью со стороны евреев. Что евреи соблаговолят, то и будет. Значит, между евреями есть люди, но среди русских нет. Значит, евреи умеют дело делать, а русские нет. Но так ли это? Не объясняется ли это скромностью русских и тем узким поприщем, где можно было бы показать себя. А как же евреи? Да, евреи постоянно борются за право жить, а потому и успешно боролись на выборах.
Но, допуская все это, я, однако уверен, что в Думе найдутся более или менее выдающиеся люди, способные бороться умно и с тактом с правительством. Несколько человек уже указывают, восхваляя их таланты. Управляющий делами Л. С. Полякова, г. Герценштейн, называется как будущий министр финансов и проч.
Раз появление даровитых людей в Думе и вообще в кадетской партии надо ожидать с большою вероятностью, то и правительство должно приготовиться к борьбе, имея даровитых министров. Если же оно потеряет перед самым открытием Думы графа Витте, с которым кадетская партия считалась не как с человеком незначащим, а именно как с человеком весьма значащим, то правительство потеряет много, а кадетская партия много выиграет. Она уже теперь торжествует и заговаривает об отставке всех министров. Если ушел первый министр, то уйдут и «собственные» его министры и министерство получат кадеты. Я много раз говорил о графе Витте и за него, и против него. Он делал ошибки, и значительные, но и роль, которая ему досталась, была одна из самых трудных. Поэтому, говоря против графа Витте, я никогда не упускал из виду того, что он один из даровитейших наших людей.
Без всяких протекций он выдвинулся на первое место в государстве и связал свое имя навек с самою большою реформою, которая когда-либо была в наших летописях. И если б где мог он упрочить окончательно свое значение, как политического деятеля, то это именно в Думе, в борьбе с оппозицией, в борьбе с тем живым элементом, который впервые выступает на сцену. Такая борьба должна бы подзадоривать, возбуждать и чувство и мысль. Завоевать часть Думы, разбить ее на партии, возбудить интерес к правительственной программе реформ — это должно бы улыбаться для всякого борца. А он уходит.
Но если он действительно уходит, то уходит не потому, что убоялся перед премудростью предстоящей борьбы с кадетской партией, а по каким-либо иным соображениям. По крайней мере, я так думаю. Мне говорили, что сегодня до поздней ночи происходило заседание Совета министров у графа Витте. Разбирались очередные дела, но об уходе первого министра никто не говорил в этом заседании. Во всяком случае, я поверю этому уходу только тогда, когда прочту о том в «Правительственном Вестнике».
19 апреля (2 мая), №10810
DCXXXIX
«А вот А. С. Суворин очутился действительно в неприятном положении», говорит «Речь». Это неприятное положение заключается якобы в том, что я говорил о графе Витте как об одном из даровитейших наших государственных людей накануне его отставки. А я думаю, что, я именно нахожусь в приятном положении. Нападать на человека, когда он уходит, не отдавать ему должной справедливости, когда он, сделав все, что мог, на сколько хватало сил, опыта и знания, оставляет свой пост, — я думаю, что это было бы совсем непорядочно. Участвовать в озлобленном хоре, который не пел, а неистово кричал и которому даже князь Мещерский подвывал издалека, мне было противно. Я с нетерпением ждал открытия Государственной думы, как такого русского торжества, перед которым должна приостановиться, по крайней мере, злоба и ненависть, и тем противнее был мне этот озлобленный хор, начавшийся после заключения займа. Я знаю графа Витте с тех еще пор, когда он не мечтал даже ни о каком министерском портфеле. Мне хорошо известны его достоинства и недостатки, а потому я никогда не мог говорить о нем так враждебно, как некоторые журналисты. Его недостатки в значительной степени — недостатки среды и недостатки отживающего режима. Он был его дитя, и счастливое дитя, потому что он родился талантливым и умным. Ему не бабушка ворожила, а божий дар. Если б он провел свой век при других условиях, он сделался бы одним из самых замечательных русских людей. Этого нельзя забывать. Нельзя судить о людях вне той жизни и той обстановки, среди которых они воспитаны, жили и служили. Но он оставляет свой пост не как ординарный министр, с суммою орденов, чинов и пенсий, а как государственный человек, который оставляет после себя прочное имя в русской истории. Не только самая злостная, но даже самая проницательная и талантливая критика не вычеркнет его имени из величайшей русской реформы, дарованной государем. Его имя будет неразрывно с нею связано, и история сумеет беспристрастно оценить его заслуги. Я не откажусь ни от одной строки, которые писал о нем, потому что все то, что писал о нем, положительное и отрицательное, я писал совершенно искренно. И теперь я не много не повторить ему упрека за то, что он ушел накануне открытия Государственной думы. Я этого понять не мог и не могу, потому что это почти равняется тому, что главнокомандующий уезжает с поля сражения накануне генеральной битвы — буквально накануне. И Наполеон не мог наверно знать, что битву он выиграет; и подавно не мог знать граф Витте, достанет ли у него сил выдержать борьбу на поприще для него совершенно новом и никем из русских государственных людей еще не испытанном. Но дело должно быть выше всякого самолюбия, и у государственного человека должно быть самоотречение и никакие переутомления тут не могут служить оправданием. И третьего дня, когда я писал о графе Витте, и сегодня я думаю об этом так же. Мне очень жаль, что он ушел, потому что ушел человек большого таланта. Он вызывал крупные страсти, сильное возбуждение, горячую полемику, и русская мысль училась на событиях, разыгравшихся около трона и первого министра, настоящей независимости и углублялась. К сожалению, эта русская мысль оказывалась в плену у шумной и разнузданной агитации; сама по себе совершенно естественная и неизбежная в свободном политическом строе, она вместо того, чтоб служить полезным орудием борьбы, начала господствовать над умами образованного общества, которое, при нормальном порядке вещей, должно оставаться выше этой агитации, чтоб не терять свое политическое значение. Во всяком случае только борьба с сильным поучительна и полезна для политического воспитания общества.
Я, по крайней мере, желаю людей сильных и талантливых, откуда бы они ни пришли, потому что без таких людей России будет плохо и при Государственной думе, будь она не только кадетская, но даже молодецкая.
21 апреля (4 мая), №10812
DCXL
Я не думаю, что очень превосходно со стороны члена Государственной думы г. Винавера не выразить протеста против тех рукоплесканий, которые раздались на вчерашнем съезде партии народной свободы при известии об «убийстве» адмирала Дубасова. Что среди публики могли аплодировать и даже кричать «ура», мне это нисколько не удивительно. Мало ли каких криков не бывает и аплодисментов! Много лет присутствуя в театре в качестве критика на первых представлениях, я достаточно наслушался таких аплодисментов, которые свидетельствовали только или о малоразвитости публики, или об ее темпераменте. Во все время освободительного движения раздавались крики и аплодисменты и совершались действия, которые можно считать невменяемыми и безумными. При повышенном настроении нервов, при революционной горячке невозможно считаться со всеми проявлениями отдельных лиц и, главное, невозможно их предупредить. Нет такой силы, которая могла бы тут справиться и устроить порядок. Но есть тактика партии, есть мнение здоровых, более или менее уравновешенных людей, которые ведут толпу и направляют ее. В этом положении находился г. Винавер не только как председатель собрания, но и как член Государственной думы и один из представителей партии.
Во всяком парламенте председатель выразил бы порицание аплодисментам, которые раздались бы при объявлении чьей-нибудь казни или насильственной смерти. В наших судах аплодисменты публики находят сейчас же протест председателя. Г. Винавер не исполнил своей первой обязанности, не выказал такта, который имел право ожидать от него всякий член собрания и всякий член партии, который дорожит ее авторитетом. Искренно или неискренно он бы это сделал, до этого никому нет дела и никто не был бы вправе копаться в его душе. Но он обязан быть тактичным и находчивым, он обязан был призвать публику к порядку и напомнить ей, что она не должна себя вести, как разнузданная толпа, для которой законы не писаны. Нельзя являться в собрания людей в том костюме, в котором ложатся спать, нельзя ругаться неприличными словами в обществе порядочных людей. Может быть, г. Винавер прав, не допустив прений по случаю этих аплодисментов, так как прения могли возбудить собрание еще больше. Но этот перерыв он сделал сообщением публике об «убийстве» адмирала Дубасова, и рукоплескания раздались тотчас же, когда он еще не сошел с своего председательского места. Он обязан был показать, что считает убийство убийством, казнь казнью и смерть смертью. Я не могу допустить, что в нем заговорила еврейская кровь; как культурный человек, он не может не понимать, что обязан считаться с тем, что зал наполнен христианами и что христианская мораль не допускает беснующейся радости перед смертью ближнего. По христианскому закону и враг есть ближний, тогда как еврейская мораль считает ближними только своих и спокойно истребляет врагов и иноплеменников. Именно евреи внесли в христианство нетерпимость религиозную. Мне думается, что всякий разумный еврей осудит г. Винавера в данном случае и должна его осудить партия народной свободы. Пляска вокруг эшафота, явления которой наблюдались во время Великой французской революции и увековечены гравюрами того времени, не может внушать нам ничего, кроме осуждения и отвращения. Не протестовать против убийств значит их распространять, а распространяя, понижать нравственный уровень общества. Недаром в тех странах, где казнь существует, публику стали удалять с этих кровавых зрелищ, потому что она являлась на них как на театральные представления и казнь возбуждала в ней чувства зверя.
Бомба — самое предательское оружие, какое только можно себе представить. Случайно она явилась вместе с развитием самой крайней партии, анархистов, которые не останавливались перед убийством президентов Соединенных Штатов и Франции, людей безупречных в политическом отношении и представляющих свои страны в силу выборов.
Где остановится бомба и что она наделает, никому неизвестно. Но она уже взрывала дворцы, кофейни, разрывалась на улицах, брошена была даже во французской палате депутатов, хотя бед там и не наделала. Та публика, которая аплодировала «убийству» адмирала Дубасова, может быть, аплодировала будущей своей или своих близких насильственной смерти. В революционное время смерть усиленно толкается между людьми и жадно ищет жертв. Никто не поклянется, что палаты депутатов избавлены навек от бомбы, никто не поручится, что не найдется фанатиков, которые поступят, как легендарный Самсон, погибший с врагами под развалинами им разрушенного храма. Но Самсону нужна была сверхъестественная сила, а теперь этой силой награждает бомба и малого ребенка. А потому теперь во много раз необходимее, чем прежде, протестовать против убийств, а не аплодировать им. Короли и придворные близоруко превозносили Шарлотту Корде, когда она убила Марата. Где политические убийства могут остановиться — никому неизвестно. Еврейские погромы ведь тоже политические явления с убийствами. Это надо помнить всем, в том числе и г. Винаверу и той политической партии, которая вступает во власть, и которая, конечно, знает, как важно воспитать политический такт.
Мне хочется сказать еще вот что: никому еще неизвестно, к чему стремится партия, которая своих фанатиков вооружает орудиями смерти. К тому ли только, чтоб произвести панику в рядах администрации, или к тому еще, чтоб подчинить себе и Государственную думу, хотя до известной степени, и показать ей, что сила все-таки на стороне революционеров. В то время, когда г. Милюков несомненно умно сочинял и читал свой доклад в первом заседании съезда, похожий на искусно проведенные дорожки французского парка, где неожиданно показываются приятные виды и где можно гулять до усталости все вокруг да около, в это время убит губернатор Слепцов, и в один и тот же день произведены покушения против двух генерал-губернаторов, из которых один убит и другой ранен. Когда съезд принимал под гром аплодисментов резолюцию о парламентской следственной комиссии над администрацией, революционная партия посылала палачей против представителей этой администрации, как бы желая предупредить резолюцию съезда и оставить ее вне своего анархического внимания. Я не думаю, что убийствами можно содействовать партии проводить свою реформу конституционным мирным порядком. Скорее ее можно поставить ими в трудное положение.
По всему этому я считаю поведение г. Винавера в высшей степени бестактным. Он совершил проступок не только как председатель собрания, который мог объявить перерыв заседания, не говоря об «убийстве» адмирала Дубасова, которое к тому же оказалось, к счастью, мнимым, но и как член партии, удостоенный выбора в Государственную думу, и как член широких кругов общества, ожидающих обновления от творческой и спокойной работы своих представителей.
25 апреля (8 мая), №10816
DCXLI
Государь увенчал сегодня себя славным венцом бессмертия.
Позволю себе привести слова, которыми я встретил этот год:
— «1906 год — великий год. Это год Государственной думы. Это, может быть, один из самых великих годов нашей истории. Закладывается новая Россия, новая империя. Вопреки многим неверующим, я убежден, что Дума соберется полная, а не куцая, не двести человек, а вся. Стоит одной партии энергично приняться за дело, как все другие сделают то же самое. Это — великий всенародный праздник, на который всякий сочтет пойти своим радостным долгом. Вся империя встретится, все народы ее должны побрататься. Не оружие войны они принесут с собою, а оружие своего духа, своей оригинальности, своей борьбы за право человека и гражданина. Такого дня не бывало еще, и он придет во всем своем сиянии и значении и прославит этот год на вечные времена.
Или мы русские, или нет. Такой вопрос решается. Или мы уничтожены японцами и революцией, или мы возродились внутренней, незримой, божественной силой нашего племени.
Кто в глубине своего сердца скажет: «мы пали»? Кто подумает, что наша история кончилась позором и унижением, что мы все сделали, что могли, и что нам осталось только перед целым миром пасть во прах и оставить после себя воспоминание рабов, которые кроме рабства ничего не заслужили, рабов, достойных презрения и смеха? В ком мысль представителя Русской земли, народного посла, не разбудит высоких стремлений души на том поприще нового мужества, новой доблести, которое открывается Государственной думой и которых мы не знали доселе? Весь мир будет смотреть на этих послов, на Россию, на ее государя, который откроет эту великую Думу и примет от нее новое всенародное коронование, как воистину великодушный государь, благородным сердцем желающий счастья своему народу. Все человечество примет духовное участие в нашем празднике народного законодательного труда. Я верю, что это будет праздник свободы, равенства и братства, праздник такой радости, которая будет вызывать слезы восторга и любви».
И я бесконечно счастлив, что могу повторить эти слова в этот великий день, который мы встретили достойно. Весна пришла, та весна, о приходе которой я говорил еще в конце 1903 года. Лед взломан, полая вода спадает. И солнце сегодня такое славное, весеннее, теплое. И Петербург — спокойно торжественный, и в окнах домов, и на балконах, и на улицах спокойная радость. И торжество в Георгиевском зале Зимнего дворца отличалось спокойной, самодовлеющей, трогательной торжественностью. Великая империя праздновала день возрождения во главе со своим государем.
Я был на хорах с журналистами. Зал был еще довольно пуст в начале первого часа, когда мы приехали. Ходили люди в военных и придворных мундирах. Являлись дамы в так называемых русских костюмах и исчезали. Вот три человека в пиджаках стоят на средине зала и разговаривают. Это — депутаты. Они скоро уходят. Накануне говорили, что депутаты не хотят придти. Я этому не верил и самым энергичным образом отрицал это. Являются господа в красных мундирах. Это — сенаторы. Показываются члены Государственного совета и между ними несколько фраков — это избранные. Отделение полных генералов наполняется. Приносят амвон и все нужное для молебствия. Быстрым ручьем вливаются певчие в таких же красных одеждах, как сенаторы. Золото, серебро, красный цвет — все это образует приятную картину. Торопливой поступью входят митрополиты и епископы. Шапки митрополитов украшены бриллиантовыми крестами. Митрополит Антоний снимает шапку, передает ее протодиакону и стоит немного впереди, разговаривая с ним. Зал наполняется. И вот вдруг целой рекой фраки, сюртуки, пиджаки, одна малорусская свита, чуйки, несколько костюмов совсем бедных, не то спинджаки, не то Бог знает что, два прекрасных татарских костюма, два великолепных киргизских, камергерский, костюм католического епископа, несколько священников, польский эффектный костюм, похожий на гусарский, точно из «Жизни за царя» в сцене краковяка, которой русская публика постоянно аплодирует и требует повторения. Эта река вливается в зал торопливо и устанавливается сама от трона до дверей зала в несколько шеренг. Несколько изящных фраков отделяются к окнам и колоннам и принимают то небрежные, то спокойные позы. Это — депутатская река. Она стала на низких подмостках, покрытых сукном, идущих от середины зала до окон. Я стал считать, сосчитал сотню и бросил. Все депутаты пришли. Что вчера говорили, то оказалось вздором, сплетней, пущенной для оппозиции. Зал полон. Очевидно, внизу становится жарко, так как депутаты вынимают платки и утирают пот. Седых очень мало. Мало и лысых. Большею частью средний возраст, 30–35–40 лет, сколько можно было разглядеть сверху.
Второй час на исходе. Придворные чиновники бросились к дверям зала. Послышались отдаленные звуки музыки, игравшей гимн.
За несколько зал от Георгиевского началось торжественное шествие. Очевидец мне говорил, что появление государя среди блестящей свиты, под оркестр музыки, было необыкновенно торжественно. Процессия двигается медленно. Звуки музыки слышнее и слышнее. Вот совсем близко. Вот и процессия. Государственное знамя высоко поднимается, несут регалии, скипетр, корону. Вот и государь с государыней и с государыней-матерью. Их кропят святой водой, и начинается молебен с великолепным хором певчих. Зал полон голосов. Раздается радостное «Христос воскресе». Это напоминает воскресшего Христа, измученного, с терновым венцом на челе и распятого, и придает молебну особенную торжественность. Он окончен. Пропели многие лета государю, государыням, наследнику и всему царствующему дому, и державе Российской. Государь и государыни приложились ко кресту. Быстро убирают амвон и проч., певчие юрким ручьем скользят около генералитета к выходу, духовенство за ними. Государыни уходят на возвышение, где трон. Государь остается один среди зала и за ним в двух-трех шагах камер-паж и пять-шесть человек свиты около депутатов, в стороне. Государь ждет, пока все станут на свои места и затем медленно идет к трону и садится на него. Одна сторона трона покрыта порфирой, которая спускается вниз. Министр двора подает ему лист с речью. Государь принимает его, встает и читает. Слышно каждое слово. Он читает мужественным, твердым голосом среди тишины огромного зала. Все лица обращены к нему. Речь производит такое впечатление, что, когда государь кончил, раздается торжественное, громкое «ура», которое не смолкает несколько минут, сопровождаемое музыкою гимна. Снова та же процессия с государственным знаменем, короною и регалиями. Государь и за ним обе государыни идут к выходу, кланяясь на обе стороны.
Вот в кратких чертах подробности. Но за всем этим был великий смысл этого великого дня, который государь назвал «днем возрождения лучших сил России». И это поднимало дух и давало высокое настроение. И дай Бог, чтобы эти «лучшие силы» действительно возродились и ввели нас в ту счастливую и спокойную область, где царствует «свобода и порядок на основе права», по выражению государя. Это будет зависеть и от правительства и от Думы, и от общества также, если оно хочет свободы и порядка на основе права.
Надо помнить, что скоро сказка сказывается, но не скоро делается дело. Дума собрана на пять лет. Это такой срок, в который грех было бы не создать что-нибудь прекрасное и долговечное. Государь в своей прекрасной, полной высокого смысла речи поставил на первую очередь крестьянский вопрос. Эта мысль общая и, быть может, самая трудная по своей необыкновенной сложности и необходимости. И тем противнее эти угрозы в речах митингов и в газетах «грозою народного гнева», «реками крови» и прочей фразеологией. Все это чрезвычайно легко говорить, ибо для всех этих угроз есть пространный лексикон фраз совершенно готовых, не говоря о лексиконе прокламаций. Важны мысль и дело, то есть важно именно то, чего у нас не было и что должно быть и быть во что бы то ни стало. Творчески разработанная мысль должна победить и побеждает только она, а не эти фразы, рассчитанные на дешевую популярность.
Я не перестану, пока во мне сердце бьется, приветствовать этот великий и прекрасный день и великую реформу, совершенную государем. Так как она великая, то она вечная, ибо все великое заключает в себе такие плодоносные зерна, которые никакие ветры, заморозки и морозы не могут истребить. И вот это-то свойство великого и привлекает к нему благородные сердца и будит силы и таланты и рождает их. И я верю, что таланты явятся, вдумчивые, яркие, дальновидные, мужественные мужеством русской души и просвещенного разума.
28 апреля (11 мая), №10819
DCXLII
В мире все относительно, даже гений, потому что и гении не равны. Когда гения нет, таланты сходят за них, когда нет талантов, то и посредственности ведут себя, как решители судеб. Поэтому ко всему надо относится с критикой.
Я прочел сейчас проект ответа Государственной думы на тронную речь. Тут нет ничего оригинального, нет никакой умственной работы, а есть только список с чужих образцов. Это просто передовая газетная статья, в которую втиснут целый ряд реформ, более или менее важных, которые потребуют работ не одной сессии, а нескольких. Нет ничего легче подобных программ, ибо в один день их можно написать несколько. Если прибавить к этой программе два-три параграфа, то будет социал-демократическая программа. Проект написан именно в таком смысле, чтоб с одной стороны удивить вселенную, а с другой — поставить правительство в угол, как величину совершенно бездарную и ничтожную, которая празднует трусу и просит прощения за все содеянное в русской истории. Депутаты Государственной думы действуют в два кнута — и в заседаниях, и в газетах. Так, депутат г. Протопопов объявляет в «Думе» прямо «буйными сумасшедшими» тех, кто не будет слушаться «избранников народа», сопровождая эту благоглупость глупостями о «тучах с кровавыми дождями» и о «музе истории», с которой г. Протопопов, кажется, никакой связи не имеет, как нет никакой связи в его мыслях. Другой депутат, имеющий некоторую связь с музой истории, г. Щепкин старается установить принципы эволюции, нельзя сказать, чтобы очень ясно. Но он, по крайней мере, за полную свободу мысли и не говорит о «послушании» подобно г. Протопопову, который читает проповедь, как самый ординарный протопоп, грозящий адом и вечными муками.
Мне хочется остановиться только на одной реформе, которая, по моему мнению, самая важная с точки зрения всех крайних партий, не исключая революционных. Можно говорить о политической целесообразности такого Государственного совета, как нынешний, можно желать его реформы и предлагать такую реформу. Но непременно, как этого желают многие в Думе, настаивать на его уничтожении — значит просто думать, что никто ничего не понимает, что в Думе, все мудрецы, а в обществе, глупцы. Уничтожение Государственного совета значит просто обращение Государственной думы в Учредительное собрание. Сегодня Государственный совет будет уничтожен, завтра мы с Учредительным собранием. Вторая палата существует во всех великих державах. А мы хотим быть величайшей, прямо в калашный ряд, из дьячков прямо в митрополиты. И добро бы были какие таланты или гении, а то просто средние люди, которые ровно ничем себя не заявили. Передо мной подробная библиография сочинений, явившихся на 1905 г. на всех европейских языках. Всех таких сочинений вышло 13 000. А знаете, сколько русских? Три. Да, три, да и из них два перевода. Пересмотрите эту массу теперешних брошюр в 2–10 коп., — огромное большинство переводы и притом весьма плохие. И с таким-то багажом эти господа хотят нас уверить, что они дальше смотрят и лучше видят, чем немцы, французы и англичане. Говоря о необходимости упразднения Государственного совета, господа обращаются к славянофильскому «средостению», слову архаическому, а во время свободы мыслей и глуповатому слову. Государственный совет есть якобы средостение между царем и народом, т. е. между царем и Думой. Но ведь и Дума есть с этой точки зрения не что иное, как средостение между царем и народом. Это есть фальшивое представительство народа, как доказывал еще Руссо, рисуя идеальное самоуправление. Представительные учреждения в том виде, в каком они существуют, имеют очень много недостатков. Но человек лучше этого еще ничего не выдумал в таких больших скоплениях людей, как государство. Мы и подавно должны радоваться, что дожили до представительства, но если становиться на «средостения», то надо иметь в виду и те крайние мнения, которые высказываются людьми, смотрящими очень далеко вперед и не мирящимися с представительством. Вот, например, князь Кропоткин. Его считают анархистом, но этот анархист не только человека не убьет, но даже комара, который сел на его руку и начинает своим хоботиком насасываться человеческой крови в маленькой дозе. Он его сдунет или смахнет. Так вот что он говорит о самой совершенной системе выборов, всеобщей, тайной, и т. д.
«Недостатки представительных собраний покажутся нам вполне естественными, если мы вспомним, как набираются их члены, и приглядимся к их деятельности. Не стану воспроизводить ужасной и омерзительной картины выборов. В буржуазной Англии и демократической Швейцарии, во Франции и Соединенных Штатах, в Германии и Аргентинской республике — везде повторяется одна и та же гнусная комедия. Не стану рассказывать, как агенты и избирательные комитеты проводят своих кандидатов, как они раздают направо и налево обещания: в собраниях сулят политические реформы, частным лицам — места и деньги; как они проникают в семьи избирателей и там льстят матери, хвалят ребенка, ласкают собачку, страдающую астмой, или любимого котенка. Как они рассыпаются по ресторанам, заводят между собой вымышленные споры, завязывают с избирателями разговоры, стараясь поймать их на слове, подобно стремящимся завлечь вас в азартную игру шулерам. Как после всех этих махинаций кандидат заставляет себя просить и, наконец, появляется среди «дорогих избирателей» с благосклонной улыбкой на губах, со скромным взором и вкрадчивым голосом, — совсем как старая мегера, старающаяся поймать жильца ласковой улыбкой и ангельскими взглядами.
Не стану перечислять лживых программ — одинаково лживых, — будь они оппортунистическими или социал-революционными, программ, которым не верит ни один из кандидатов, защищающих их с жаром, с дрожью в голосе, с пафосом, достойным сумасшедшего или ярмарочного актера. Недаром народ в своих комедиях стал теперь изображать наряду с мошенниками народных представителей — Тартюфами и банкирскими плутами, бегающими за избирателями и выманивающих у них голоса».
А вот и заключение: «Есть ли хоть одна страсть, самая низкая, самая гнусная, которая не появилась бы на сцену в день выборов? Обман, клевета, лицемерие, ложь, самые низкие проявления человека-зверя — вот картина страны в день выборов».
Как конституционисты, мы скажем, что это несправедливо уже потому, что ничего лучшего в Европе нет. Но ведь с точки зрения реальной правды все это совершенно справедливо и нет возможности отрицать в этой картине ни одной черточки. Но как избежать этого явления, покрыто мраком неизвестности, или надо верить князю Кропоткину, что если идти за ним, то попадем прямо в счастливый и бесподобный рай. То же делает наша Дума, надевая на себя славянофильский охабень, указывая на Государственный совет, как на «средостение». Это совсем не средостение, а применение известного изречения: ум хорошо, а два лучше. Поверить ум Государственной думы совершенно необходимо и, если Европа признает две палаты, то нам при самом начале представительства это тем необходимее. Мы ведь еще не знаем, кто такие эти депутаты и чего они стоят. Они могут по-протопоповски воображать, что их надо слушаться, а я того мнения, что их надо слушать, и изучать, и потом судить о них по их мыслям и действиям. Генералов было много на японской войне, а толку в них было мало. То же ведь может случиться и с Думой, не дай Бог: членов много, а настоящих людей нет. Мы до сих пор слышим слова, угрозы, повеления слушаться, признания вроде того, что «мы, мол, не можем работать при таких условиях средостения». Желают полного комфорта сразу, с первых же дней. Не дадите — сейчас же темная туча и протопоповский «кровавый дождь», или «за нами сто миллионов», или «если не будет полной амнистии, мы работать не можем», или «спешите, а то 1 мая будет «сильная кровь», «масса жертв», как говорил в воскресенье в Думе депутат Савельев, называя себя «знатоком» Москвы и Петербурга. В этих угрозах больше комического и глупого, чем серьезного. Это чучела на огороде для воробьев, которые, попривыкнув, на чучела садятся и оставляют на них следы.
Бык на арене, которого дразнят красным цветом и раздражают пикадоры, весьма отличается от быка по своей пользе отечеству, который пашет землю плугом. Я думаю, что русских ораторов в Государственном совете и Государственной думе приятнее было бы сравнить с быками, пашущими плугом борозду для посева насущного хлеба, а не с тем быком, которого дразнят красным цветом аплодисментов и пикируют жаждою дешевого успеха.
Итак, упразднение Государственного совета — значит создание Учредительного собрания.
3(16) мая, №10824
DCXLIII
Мне хочется сказать несколько слов о речах, и по поводу них, г. Стаховича и г. Родичева, хотя о них уже говорилось. Но ведь теперь хочется говорить только о Думе и об этих «великих людях», которые в ней заседают в качестве законодателей. Мы не знаем, что из них выйдет, какая судьба каждого из них. Многие, конечно, вернутся к своим занятиям по истечении срока, но найдется, вероятно, несколько человек, которые приобретут себе известность, явятся министрами, губернаторами, публицистами и т. д.
Речь г. Стаховича была на трудную тему — побудить Думу к порицанию убийств. Говорят, произнесена она была увлекательно и произвела общее впечатление. В печати всякая речь страшно теряет, как потеряла и эта речь. Мне кажется, судя по печатному тексту, г. Стахович слишком был дипломатичен и слишком усердно кланялся налево. Возглашение о синайской заповеди: «не убий», — может быть, в Думе и вышло превосходно, но в чтении нимало. Синайские заповеди нарушаем мы ежедневно и даже с удовольствием, например, «не прелюбодействуй», «не пожелай жены друга твоего», «не сотвори себе кумира» не только из кадетов, но даже из Государственной думы, и т. д.
Князь Трубецкой в своем письме в газету высказался гораздо прямее. Перед ним светила истина, как вифлеемская звезда, указывавшая волхвам место рождения Того, Кто произнес чудесные слова о любви к ближнему. Князь Евгений Трубецкой не побоялся назвать «спортом» эти убийства и не кланялся ни направо и ни налево. Для него была просто публика, не левые и не правые, а просто люди с их человеческими чувствами, с их сердцем. В его словах звучала проповедь нового завета о всепрощении, и ни голос, ни жест ее не поддерживали, и она гораздо лучше и доказательнее проповеди г. Стаховича. Какое впечатление она произвела бы в Думе, это зависело бы от того, как она была бы сказана. Но и только внятно прочтенная, она произвела бы впечатление, потому что она по существу своему правдива и мужественна. Во всяком случае, г. Родичев победил г. Стаховича чистейшей банальщиной. Говорят, у него большой темперамент и сильный голос. Для оратора это так же важно, как и для актера.
Актер иногда срывает бурные рукоплескания мастерским произношением самого банального монолога. Вы аплодируете со всеми, потому что в толпе вы легко поддаетесь стадному чувству и одушевление актера вас забирает всего. Когда же вы прочтете этот монолог в книге, вам становится неловко от мысли, как это вы могли аплодировать такому бессмысленному набору слов. Не слыхав речи г. Родичева, я прочел ее в газете, куда он сам ее доставил, и удивился, как таким вздором, да еще лживым, он мог увлечь Думу.
Он недавно напечатал в «Речи»: «Глазам страшно, а рукам не страшно». Это белиберда, но и «веревочка пригодится», как говорит Осип Хлестакова. Ответ г. Родичева г. Стаховичу весь построен именно на таких превосходных фразах, как «глазам страшно, а рукам не страшно», что, может быть, надо перевести так: голове страшно, языку не страшно.
«Мы должны смотреть на преступления не с точки зрения нравственности, а с точки зрения политической», — говорит г. Родичев. Почему же г. Стахович не возразил ему, что ведь это одобрение убийств и казней, приходят ли они сверху или снизу, одобрение их во всеобщей и русской истории прошлого, и в истории сегодняшнего дня. Это проповедь анархиста или недалекого человека, который не понимает, что говорит. Политическая точка зрения на убийства значит точка зрения политической партии, политического державства и силы. Если нравственная точка зрения не устойчива, то политическая и подавно. У консерватора, у либерала, у социал-революционера, у анархиста, у Нерона, у Ивана Грозного, у Петра Великого свои политические точки зрения, основанные на логике их убеждений, на их понятиях о государстве и власти и, таким образом, все гонения, все казни, все убийства, все пытки и костры инквизиции, все мучения в застенках тайных канцелярий, весь террор революций, все жестокости власти могут быть оправданы, и они действительно оправдывались своими современниками и даже потомками именно с политической точки зрения. Почему же г. Стаховичу не разобрать было политическую точку зрения г. Родичева? Ведь парламентская борьба потому и интересна и жизненна, что она борьба мнений и начал, борьба партий для достижения возможной правды и возможного народного счастия. Сказать красивую речь, сорвать рукоплескания и с колокольни долой — это не борьба, а только эффектные монологи.
Г. Родичев ссылается на суд. «Я вам скажу, когда прекратятся в России политические убийства: в тот день, когда народ уверует, что есть у нас суд и правда». М. О. Меньшиков уже сказал об этом, что высший суд о нравственности есть парламент. Я бы прибавил к этому тот же политический аргумент. Суд всегда будет находиться под влиянием политической системы, а политические системы далеки от совершенства. Во время французской революции суд не смел пикнуть под грозою руководителей Конвента и был просто палачом. Христианская религия возникла потому, что осужден был правдивейший и величайший человек, когда-либо сиявший в мире своей поистине божественной красотой и благостью. Распятый на кресте молился за врагов. Это был Бог. Людям до этого далеко, но анархия убийств, возведенная в систему, апология преступлений, одобрение их «с политической точки зрения» — неужели это не страшно? Неужели это не должно возмущать человека, принадлежащего совсем не к социал-революционерам и не к анархистам? Почему было не сказать этой Государственной думе, что такое, по меньшей мере, пилатово умывание рук есть преступление перед Россией, перед народом, который послал этих депутатов.
О чем просили? Только о такой малости: высказать свое порицание революционным убийствам, как вы высказали порицание казням требованием о всепрощении. И Дума ответила отрицательно. Она отвергла и ясную и простую поправку к речи г. Стаховича барона Рооппа.
— Нет, мы одобряем убийства.
Ведь этим самым Дума как бы присоединяется к тактике революционеров-убийц, к тактике грабителей и воров якобы на революционные цели. Дума одобряет анархию снизу, смотрит на нее, как на свою помощницу в борьбе с правительством, опирается на нее, как на гранит.
Вы взводите напраслину на Думу, скажут мне. Нет, я говорю правду, потому что иного окончательного и простейшего вывода из отказа Думы осудить убийства нельзя вывести. Те 78 депутатов, которые письменно отказались от своего голосования в ту же ночь и присоединились к пяти протестантам, лучше всего доказывают всю безбожность и дикость одобрять прямо или косвенно убийство. Они одумались и поступили, как христиане. Если б Христос сказал: «Любите ближнего своего, как самого себя, когда он вас полюбит так же», то христианства не было бы и не было бы Христа. Революционная нравственность и отвергает Христа и действует убийствами, местью и грабежами на революционные цели.
И никто не осмелился сказать каких-либо возражений г. Родичеву, вот что печально. Даже когда он прямо лгал, да, когда он бессовестно лгал, говоря, что «со времен Батыя» Россия не видала «таких гонений, огня и крови», как теперь, и тогда никто ему ничего не возразил. Со времен Батыя Русь видела ужаснейшие казни, мучения, массовые истребления жителей, тысячами потопление в реках людей невинных, целые вереницы виселиц, плававших по Волге, толпы палачей, которые рубили головы, как капусту, Русь все это видела в XVI, в XVII и в XVIII веках. Ведь одним этим Батыем г. Родичева можно было бы посадить на место. Не говорю о том, что при Батые г. Родичев сидел бы на колу или сам бы сажал на кол, не моргнув глазом. Но со времен «Батыя» — это необыкновенно радикально и потому — трусливое молчание. От Батыя до Родичева! Один покорил Россию, другой Государственную думу и Батый-Родичев покорил ее ложью и громким голосом. И Дума поклонилась ему в ноги.
8(21) мая, №10829
DCXLIV
В настоящее время есть два несомненно счастливых человека, М. М. Ковалевский и И. Л. Горемыкин. Знаток парламентской жизни в ее истории и в настоящем, М. М. Ковалевский читает с необыкновенным спокойствием лекции и в Думе и в «Стране», чуть-чуть позволяя себе тончайшую джентльменскую критику. Видно, что это человек совершенно уравновешенный и никакие бури не в состоянии вывести его из спокойного наслаждения жизнью и профессорством. Кадеты относятся к нему с дружественной иронией, тоже чуть-чуть заметной. И. Л. Горемыкин, когда был министром внутренних дел, говорил, что он газет не читает, да ему и некогда заниматься этим пустым делом. Сделавшись первым министром, он приобрел еще больше занятий и потому и подавно, конечно, газет не читает. Я полагаю, что и Думе он не придает значения и смотрит на нее, как смотрел Петр Зудотешин на рукопись «Дневника лишнего человека»: «читал и содержание оной не одобрил». А такие взгляды — пути к личному счастию в наше время. Граф С. Ю. Витте не только читал газеты, но даже основал свою собственную казенную. Его бранили ежедневно и выводили из необходимой для счастливого государственного человека степени спокойствия. Он и предпочел личное счастье. Если б стали бранить И. Л. Горемыкина, он все равно об этом не узнал бы, не читая газет, а состоящие при нем лица не осмелились бы его тревожить такими пустяками. Если вы пересмотрите газеты, вы увидите, что бывший кабинет был гораздо, гораздо несчастливее насчет брани, чем нынешний. Печать спокойствия лежит на челе теперешнего кабинета, и печать с этим считается. Спокойный человек всегда может рассчитывать, что и его оставят в покое. Но всегда ли спокойствие есть сила? Когда говорят об олимпийском спокойствии, то разумеют только могущество Юпитера; на самом деле на Олимпе совсем не было спокойствия и боги и богини ссорились, интриговали и дрались. Этот вопрос всего лучше предоставить академикам, ибо всего спокойнее им заниматься академически, не путая тревожную действительность. Так поступает, сколько мне кажется, Государственный совет, где академическая оппозиция сама не знает, с кем бороться, faute des combattants.
Я очень завидую спокойствию И. Л. Горемыкина и М. М. Ковалевского. Меня все волнует, и я напрасно говорю себе: будь просто наблюдателем, ну ее к черту, всю эту кутерьму. Это буря в стакане воды. Если она и разобьет стакан, то можно купить новый. И только что я решаюсь последовать этому внутреннему голосу, как вдруг мне кажется, что это вовсе не так легко — купить новый стакан на место разбитого. Я отлично понимаю, что вместо И. Л. Горемыкина премьером легко может быть М. М. Ковалевский. Оба — счастливые и спокойные люди. Они неслышно ходят по мягким коврам мысли, и мысль их ковровая. Но другое дело — разбитый стакан. Это — огромный стакан. Это — Россия. Буря в ней — настоящая буря, конечно, по моему мнению.
На меня очень разгневались за мою правду о голосовании Думы, которое я передал в его настоящем смысле одобрения политических убийств. Одна из самых откровенных газет сказала сегодня по поводу моего отношения к Думе, что до тех пор, пока судье, постановляющему смертный приговор, пишут не «его превосходительству, г. убийце», а просто «его превосходительству», то и политическому убийце надо писать просто «его превосходительству». Так она поняла приговор Думы и его одобрила. Так и я его понял, но не одобрил. За это газета г. Струве особенно на меня рассердилась.
Но я остаюсь при своем мнении и не уступлю из него ни буквы. Я продолжаю утверждать, что Дума поступила безбожно и нелепо и г. Родичев лгал и лгал бессовестно, ссылаясь на Батыя. Защитники Батыя-Родичева мне указывают на корреспонденции о казаках, которые якобы насилуют армянок, начиная с девочек 12 лет и кончая старухами в 70 лет; но, во-первых, эти корреспонденции печатает орган архилевый и, во-вторых, на казаков так клевещут левые, что верить всему этому вздору невозможно, тем более, что я отлично понимаю, что такие корреспонденции и даже Батый полезны в интересах крайних партий. Я искренно хотел представительства, я предвидел его, потому что искренно желал, но революции не желаю и Конвента не желаю.
Я прочел в одной газете статью члена Г. думы, г. Протопопова, у которого так навязла в мозгу французская революция, что он прямо считает себя несчастным человеком, что он не Фукье-Тенвилль, вообще не человек с французской фамилией, а с архирусской, даже с архиерейской. Заключаю так потому, что он желает, чтобы была не Дума, а Дума-Конвент. Вот слова его:
«Дума должна была бы быть не Думой, а Конвентом, который декретировал бы законы, творил суд и сам приводил в исполнение свои решения чрез особых комиссаров. Лишь такая Дума-Конвент могла бы удовлетворить требования значительной части нашего общества».
Конвент оставил по себе кровавую память именно своими судами и комиссарами, которые так нравятся члену Государственной думы. Для судов потребовалась гильотина, а между комиссарами были прямо злодеи, в роде Карье, Лебона, Фуше; злодейства этих комиссаров вызвали многочисленные бунты во Франции и подняли Вандею. Европа пошла на Францию войною, ассигнации пали до смешной цены, торговля, промышленность и земледелие были уничтожены. Неправда ли, приятные перспективы? Но у Конвента были свои заслуги, потому что между его членами были люди замечательного ума, дарований и учености. Десятичная система мер и весов, Институт, Политехническая школа, Высшая нормальная школа, Консерватория искусств и ремесел и пр. Все это было полезно для будущего. Но для своего времени Конвент дал только кровавую борьбу партий, разорение и приготовил диктатуру. Стало ясно вместе с тем лучшим умам Конвента, что для народного суверенитета необходимы две вещи: просвещенный народ и сливки ума и образования. С одними судами да комиссарами ничего путного не сделаешь. А многим членам нашей Думы прежде всего улыбается именно это привлечение к суду и комиссары. То ли дело, едет комиссар от Думы-Конвента в Воронеж или Курск и начинает приводить все в порядок и в трепет. Хлестаков не самозванец, а Хлестаков уполномоченный Г. думой! Можете себе вообразить всю эту прелесть! Депутат Миклашевский, мечтая об этом, рассказал в Думе даже свой разговор с извозчиком для большей убедительности своей аргументации в пользу предания суду всех тех, которые, в отсутствие Г. думы, позволяли себе управлять без ее полномочия. Г. Муромцев не догадался спросить г. Миклашевского, согласна ли была засвидетельствовать подлинность его разговора с извозчиком лошадь, так как других свидетелей не было.
Робеспьеров и Дантонов у нас не видать, но их челяди и комиссаров можно найти сколько угодно. Судить и казнить мы такие мастера, что в этом отношении все народы за пояс заткнем. Поэтому валяйте! Конвент так Конвент! Гильотину можно назвать протопопицей. Ни опыта, ни таланта, ни знания, ни даже фантазии, но с нищенской длинной сумой готовых фраз всякая инфузория может считать себя великим человеком и комиссаром от великой русской революции.
В конце концов мне глубоко противна та партийная непримиримость, которая простирается до пределов возмездия и мести, да еще в такое время, когда Государственная дума открыта и когда общество ожидает от нее успокоения и полной законности. Мне думается, что наступила пора и для партийности отказаться от террора и не рассчитывать на него, как на средство движения вперед. Ведь несомненно, что революция утомила огромное большинство населения и что она может только истощать Россию и привести ее к разложению. Раз существует правильная открытая борьба, необходимо все силы направить на нее так, чтобы террористические акты и воззвания к Конвенту и «протопопице» возбуждали общественный протест и не мешали бы свободной работе.
10(23) мая, №10831
DCXLV
Оказывается, что я ничего не понял и вообще потерял способность понимать глубокомысленную философию и политику кадетских и закадетских партий. Закадетскими партиями называю те, которые идут дальше кадетов, т. е. социал-демократы и социал-революционеры. Вчера «Дума» говорила, что г. Протопопов совсем не стремился к Конвенту и к «протопопице», а только к тому, чтобы немедленно было составлено новое министерство из большинства Думы, ибо только это министерство в состоянии провести в жизнь те законы, которые вырабатывает Дума. К сожалению, я вовсе не потерял способности читать и понимать то, что написано. Я привел цитату дословно, но последующие строки о том, что «Конвенты являются последствием такого соотношения сил, которого нет на нашей государственной арене», я не привел, потому, что они относились к дальнейшей протопоповской аргументации в пользу того самого «соотношения сил», которое необходимо создать для Конвента.
Смею думать, что сама газета, в которой участвует г. Струве несколькими строками «обо всем», понимает все легкомыслие статьи о Конвенте, ибо в своем толковании о ней выпускает такую важную фразу: «Лишь такая Дума-Конвент могла бы удовлетворить требования значительной части нашего общества»… Неужели дело идет о «незначительной» части общества, для которой существует Дума, и для незначительной части общества издается газета? Газета «Для немногих», что ли, как в начале XIX века назывались иногда литературные сборники? Кого хотят обмануть протопопы с их «протопопицей», попы и дьячки Думы? Кого и для чего? Им дороги свои убеждения, мне — свои. Дума, как представительное учреждение, мне дорога не меньше, чем им. О членах Думы можно быть разных мнений, а если члены Думы пишут плохие или нелепые статьи, то на это необходимо указывать, ибо одно дело — журнальная статья, другое — статья члена Думы. Я заговорил об ней только поэтому.
Что касается того, что у «Думы» «не хватает достаточно сильных слов» против меня, она может не стесняться, как не стеснялась доселе, полагая, что «сильные слова» кого-нибудь убеждают. Мне думается, что дело не в «сильных словах», а в сильной мысли, в сильных аргументах, выраженных талантливо. В газете «Дума» этого совсем нет, зато она наполняется статьями членов Государственной думы, которые это звание непременно проставляют под своей фамилией, как французы ставят под своей фамилией «De l’Institut» или «De L'Académie française», если они, как ученые или литераторы, члены Академии. Но тщеславие членов Академии понятно, потому что дело идет о заслугах ученых или литературных, признанных корпорацией ученых и литераторов; но «член Государственной думы» ровно ничего не прибавляет к личности в такой широкой и независимой области, как журналистика. И г. М. Ковалевский немножко это понимает, ибо, будучи членом Государственной думы, подписывается и под газетой как редактор, и под статьями просто: «М. Ковалевский», тогда как под одной из закадетских газет подписывается редактор «Ульянов, член Гос. думы». Но и в газете г. Ковалевского ставятся такие подписи: «Член Госуд. думмы Евгений Щепкин (к.-д.)». Конечно, тут опечатка в слове Думма, но я и вообще такую подпись считаю опечаткой, ибо это значит придавать себе значение не за собственной счет, а за счет Государственной думы. Со стороны г. Щепкина — пародирую его опечатку — даже просто dumm так подписываться, да еще с указанием на свой кадетский орден к. — д. В Государственной думе эти господа — «члены» ее, каждый из них там значащая единица, хотя бы иные только для счета голосов, но в газете они просто Поповы, Протопоповы, Щепкины, Ульяновы и могут быть полными нолями. Г. дума, говорящая от имени всего народа, не может отвечать за их газетные мнения, не может ни спорить с ними, ни соглашаться, но, называя себя членами Г. думы, они как бы тоже говорят от имени всего народа, а не за свой счет и не за счет только своего города или губернии. По моему мнению, у них такое же право на это, как у тайного советника Петрова подписываться своим чином, как у купца Иванова подписываться «поставщиком королевы эллинов». Конечно, это все-таки право, но в журналистике и литературе не употребительное. В журналистике и литературе нет ни членов Г. думы, ни членов Г. совета, ни сенаторов, ни министров, ни чинов и титулов. Тут существует только личность и авторитет только дарования. Умный не сделается глупее от того, что он член Г. думы, а глупый не поумнеет по той же причине. Граф Л. Н. Толстой подписывается просто: «Л. Толстой», как и многие иностранные писатели не подписывают свои титулы. В лучшем случае, подписываться «Членом Г. думы» — провинциализм, в худшем — реклама и ничего более, и притом плохая реклама, под которой иногда показывается прямая бездарность, едва умеющая связать несколько общих мест или выпалить «сильными словами» и угрозами.
Обращайте на себя внимание оригинальностью, талантом, умом, зрелым знанием русской жизни, которая вас послала в Думу, а не такими статейками, под которыми важна и оригинальна только подпись: «Член Госуд. думы». На Хлестакова никто не обращал внимания до тех пор, пока Бобчинский и Добчинский не заметили его и не сказали: «Э!» За этим ли «э!» гонятся господа «члены»?
До сих пор не было ни одной статьи «члена Государственной думы», которая бы (статья) обратила на себя общественное внимание силою слова или мысли, но были статьи простых журналистов с подписью и без подписи, которые пользовались общественным вниманием. И если члены Государственной думы так пишут в газете, где порхает г. Струве, что нельзя понять, что они пишут, и чтоб понять, что они пишут, к ним необходимы комментарии редакции, явно отступающие от выраженной мысли в статье «члена Г. думы», то это уж не моя вина.
В заключение приношу мою благодарность г. Струве за то, что он повторил в своей газете мое предложение называть гильотину — «протопопицей». Наши статьи исчезнут бесследно, но протопопица будет жить долго… пока будут жить протопопы.
12(25) мая, №10833
DCXLVI
И г. Гредескул заговорил в «Речи». Товарищ председателя Государственной думы. И как заговорил? «Извлекая суждения с самого дна души» и «влагая все свое нравственное сознание». Вот как заговорил!
Любопытно, что у него на самом дне души. Может быть, там пустота, а может, и перлы. Посмотрим.
Я обязан ему ответить не потому, что он напал на меня лично, но по существу дела, которое считаю очень важным.
Дело это по «вопросу о политических убийствах», который поднят был в Государственной думе и решен известным образом. Поговорив о совести вообще и о своей совести в особенности, он заметил, что «совести, без нужды, искушать не следует, так же как, не следует выставлять ее напоказ». Свою совесть, таким образом, он напоказ не выставляет, хотя говорит «с самого дна души», так что остается неизвестным, где у него находится совесть. Но он «человек средний», и совесть у него «промежуточная». Вот его слова: «Если б мы (средние люди) напрягли свою совесть до высшей степени, то мы или стали бы политическими убийцами, или перешли бы в число убежденных последователей графа Л. Н. Толстого». Совесть между убийством и непротивленьем злу — пространственная совесть для товарища председателя Государственной думы! По так как он совести своей не напрягает, так как она у него «промежуточная», то он за «мирное развитие общества». Человек с «промежуточной совестью», конечно, самый настоящий человек, тот самый, который требуется в «данном случае». Данный случай, как известно, заключается в том, должна ли была Государственная дума осудить политические убийства или нет. Должна, отвечает человек с «промежуточной совестью» и даже с «промежуточной фамилией», между русской и румынской. Сама Государственная дума выходит у него с «промежуточной совестью».
Прекрасно. Что же дальше?
Что дальше? А дальше ничего, ничего иль очень мало, скорей ничего. Он повторяет доводы г. Родичева о «политической точке» зрения и повторяет их вяло, бездушно, как самый плохой ученик, у которого нет ни таланта, ни знания, ни одушевления г. Родичева, а есть только какая-то размазня. О «нравственности» и о заповеди «Не убий», о чем говорил в Г. думе г. Стахович, а в печати князь Евг. Трубецкой, он только сказал, что так как он принадлежит «по официальной терминологии к числу лучших людей», то «нравственный багаж его не подлежит никакому сомнению и досмотру».
Неужели?
Позвольте усомниться, г. Гредескул.
Во-первых, с какого времени «официальная терминология» становится таким законом, что «не подлежит никакому сомнению и досмотру?» Спросите об этом у выдающихся людей кадетской партии, у гг. Милюкова, Гессена, у того же г. Родичева, у которого вы так бездарно похитили всю свою аргументацию, что ослабили ее до пошлости. О партиях не кадетских я уже не говорю. Двадцать два человека «политических», сидевшие вместе с вами в тюрьме, довольно пренебрежительно и остроумно заявили в газетах, что с вами они «никакой близости не имели, кроме территориальной». Во-вторых, вы попали в Государственную думу благодаря блажной мысли харьковского губернатора, который сослал вас, и поэтому же попали в товарищи к почтенному г. Муромцеву. В-третьих, у человека с «промежуточной совестью», который, несмотря на эту промежуточность, дерзает давать аттестаты совести других, весьма позволительно спросить о нравственности. Она тоже «промежуточная», пролезающая в отверстия? О, конечно. Ведь, г. Гредескул за политику и за данный момент. Что такое политика? Я об этом говорил в прошлый раз. Макиавеллизм, «государственная необходимость», «интересы партий», честолюбие достаточно характеризуют политику, и хотя Монтескье сказал, что «начали излечиваться от макиавеллизма и будут излечиваться ежедневно», что «перевороты (coups d’état) в настоящее время (в XVIII ст.) независимо от чести, только неосторожности», но с того времени сколько было «переворотов», т. е. насилий и беззаконий! Во время Великой революции: 20 июня и 10 августа — перевороты против королевской власти; 31 мая, 2 июня — против жирондистов, 2 апреля 1794 г. — против Дантона; 9 термидора — против Робеспьера; 18 фруктидора — переворот против умеренных республиканцев и роялистов, 18 брюмера — против Директории. Во время Террора убивали и гильотинировали в Париже, топили в реках, потопили в Нанте 300 детей вандейцев на том основании, что «от змеи могут рождаться только змееныши»; расстреливали в Лионе и Тулоне; во время Директории ссылали, после 18 брюмера изгоняли. И все это во время режима, который основывался на трех великодушных началах: свобода, равенство и братство. Между правилом министра Людовика XV: «Необходимость все оправдывает» и правилом Дантона: «Отваги, отваги и еще отваги!» существует теснейшая связь. Политика необходимости богата на мелкие средства. Мирабо говорил: «La petite morale tue la grande», т. e. маленькая нравственность убивает великую. И вот эту «великую нравственность» советовали Г. думе князь Трубецкой, г. Стахович, г. Меньшиков и я. Г. Гредескул говорит не только о моей совести, но и о совести князя Трубецкого, как стоящей не «на белоснежной вершине». Но я не в счет. В мои долгие годы я, конечно, много нагрешил, но князь Трубецкой и те другие годятся мне в сыновья, и не г. Гредескулу говорить об их совести. Но опыт долгой жизни и за мои слова. Я стою за эволюцию и против всяких убийств и казней. Г. дума не должна была говорить правительству: «ты начни», — а должна была стать выше воззрений правительства. Она должна была показать это перед всем народом, который ее избрал и который не давал ей наказов одобрять политические убийства. Она обязана была перед целым миром заявить, что она представительница великодушного, доброго и умного народа, который может давать уроки своему правительству. Дав этот урок, возвестив всей России, что она идет впереди правительства, она во всей полноте своего нравственного права, во всем своем народном величии могла говорить о том, чтобы были забыты навсегда все политические преступления, чтоб была амнистия за все содеянное в тяжкие дни переходного и смутного времени. Дума приобрела бы нравственный авторитет огромный, и ее благословила бы вся Русь, страдающая от убийств и смуты. Это был бы тот камень, на котором созидается храм. Но она, увы, хотела показать, что она власть и, как власть, не поднялась в понятиях своих о власти выше того правительства, которое она осуждала и требовала над ним суда.
Вот, г. Гредескул, в чем дело, в чем сущность той нравственности, той нравственной политики, о которой мы говорили, к которой необходимо стремиться и которая должна быть.
Вы клевещете на человеческую совесть, говоря, что «высшее напряжение совести» производит политические убийства. Ваша «промежуточная совесть», ваши «суждения, извлеченные с самого дна души», не могут оценить ту бездонную пошлость, которую вы произнесли этою фразой. Дно вашей души подобно пустой раковине, выброшенной на песок, если вы ставите политическое убийство, именно убийство, а не другие преступления, верховной добродетелью, сказав, что только «напряжение совести в высшей степени» способно обратить человека в убийцу, в мстителя, совершающего, по вашим словам, «неизбежное возмездие». Причины таких ужасных преступлений сложны, но одна из самых могущественных — не «напряжение совести», а страсть, вера в мнения, в иллюзию, не в то, что возможно в ближайшем, но что отстоит далеко, за лесами и горами, но что должно быть сейчас, «немедленно» — это любимое выражение теперь у нас; месяц промедления кажется веком; жгучее нетерпение неумолимо погоняет. Та страсть и вера, которые поднимают человека и толпу в революционное время, действуют заразительно, обращая монархиста в республиканца и революционера, мирного жителя — в воинствующего, скромного — в дерзкого, терпеливого — в буйного, доброго — в жестокого; та страсть, которой разумное кажется глупостью и безумное — мудростью. Кто-то справедливо сказал: «Не требуйте от революции благоразумия; это все равно, что от бури требовать, чтоб она ничего не разрушала». Время в революционные периоды идет с поражающей скоростью, и даже опыт приобретается быстро. Сообразите, сколько мы узнали и усвоили нового, небывалого в какой-нибудь полугод; сколько хорошего мы получили. Ведь надо же быть справедливым, что мы получили действительно много хорошего для развития новой жизни; но революция все еще идет и желают все большего и большего, желают разом, «немедленно». То, что вчера было новым, сегодня уже устарело; что третьего дня казалось ужасным, сегодня не ужасает; апологии политических убийств читаются, как вещь обыкновенная, и самые убийства не возбуждают внимания. А страсть еще возбуждает подражания и нечто еще более скверное, что так удачно князь Е. Трубецкой назвал «спортом». Охота на зверей и дичь заменилась охотой на людей, и этих господ с «напряженной совестью в высшей степени», этих «добродетельных» убийц теперь так много, что именами их никто не интересуется. Но благо тем русским людям, которые обновились духом и готовы стать на мирную работу с одушевлением и осуждением насилия и убийств. Будущее за ними, а не за насильниками, будущее за мыслию и трезвым делом. Я верю, что такие люди есть в Г. думе, но они еще боятся сбросить с себя революционное ярмо, потому что вне его им все еще мерещится старый порядок.
О политических убийствах, их причинах и последствиях, об этой страсти, переходящей в сектантство, в фанатизм, совершающей невероятные и ужасающие преступления, можно было бы сказать много, привести целый ряд исторических примеров, начиная с времен отдаленных до нашего времени, когда известный анархистский журналист, приглашая резать и разрушать, говорил: «Наука дает в настоящее время способы грациозно истреблять массами это племя чудовищ». Этот «грациозный» человек есть тоже, конечно, человек с «совестью, напряженной в высшей степени». Но добродетельный Гредескул или ничего не знает, или просто самим Богом лишен дара понимания в такой степени, что даже не умел повторить слова своего наставника, г. Родичева, и не мог возвыситься не только над ним, но даже над коленом его. Это — один из самых посредственных писателей, совершенно кстати определивший свою совесть «промежуточной». Это — что-то межеумочное, что-то между прочим…
Но довольно. Христос с вами, г. Гредескул. Вы ведь важная особа. Товарищ председателя Государственной думы — шутка! И подумаешь, все это в значительной степени благодаря харьковскому губернатору. Это — тоже одно из чудес революции. Я вам желаю от всего сердца, чтобы титул человека «с промежуточной совестью» не повис на вашей спине.
14(27) мая, №10835
DCXLVII
Итак, первое «недоверие» Думы правительству произнесено. Формула чисто французская. Я не знаю, по нашей конституции принадлежит ли это право Думе или нет, потому что законов никогда не читал и не читаю. Знаю, что они длинны и что у нас следует только помнить один закон: бабушка надвое сказала. Законы виттевского периода, оставаясь длинными, сохранили двойственность и неясность даже в главных чертах. Я думаю, что если у графа Витте спросите: Есть у нас конституция? — Есть. — А, может быть, ее нет? — Да, ее нет. — По какому она образцу? По французскому? — По французскому? — А может быть, по прусскому? — Кажется, по прусскому. И. Л. Горемыкин в своей декларации ничего не сказал определенного на этот счет. Он прочел ее и сел, и долго сидел совершенно спокойно, слушая ораторов. Потом, наслушавшись, ушел со своим советом. Кажется, он не прослушал только нескольких ораторов, в том числе графа Гейдена, который обиделся на это. Надо полагать, что министерство не ожидало «недоверия»; ибо оно, конечно, знает, парламент ли у нас вроде английского или французского или палата депутатов вроде прусской. Если и оно не знает, то надо спросить г. Муромцева. Он наверное знает очень твердо. У нас, впрочем, в том отношении хорошо, что обыкновенно никто ничего не знает. А законов такая пропасть, что ими можно топить Думу целую зиму.
Когда министерство узнало о «недоверии», смутилось оно или нет? Я думаю, нисколько. Одна газета сегодня объявила, что ей известно из достоверных источников, что министры не подадут в отставку. Мне тоже сказали достоверные репортеры, что министры и не думают подавать в отставку. Они назначены государем и останутся у власти пока государь сохранит к ним доверие. «Недоверие» Думы не имеет, таким образом, для них ни малейшего значения. Дума сыграла в парламент. Министры ей не ответят ничем. Как будто ничего и не было.
Но в таком случае зачем было первому министру выступать перед Думой? Ведь он очень хорошо знает, что министерской партии в Думе нет и в зародыше, что даже граф Гейден, не подавший своего голоса за резолюцию «недоверия», совершенно соглашался с большинством Думы в критике декларации, министр также мог знать, как встретят в Думе декларацию. На это замечают, что правительство считало своей обязанностью внимательно отнестись к адресу Думы, в котором изложена ее программа, и совершенно откровенно ответить на думскую программу своей собственной. Правительственная программа, таким образом, обращалась и к стране, которая должна знать, что думает делать правительство. Эта программа заключает в себе многое из того, что указано Думою, и отрицательно отвечала на те пункты, с которыми правительство не могло согласиться. Правительство могло думать, что произойдут прения, как в парламентах. Вместо этого получился митинг, в котором клеймили министерство и требовали, чтоб оно выходило в отставку. Дума прямо и откровенно заявляла, что законодательная власть принадлежит ей, что министры — исполнители только ее воли и с этим министерством она работать не может. Вся сущность заседания именно в этом и заключалась. Дума хотела, иными словами, чтоб ее программа была принята целиком, без всяких возражений. Тогда еще возможно было какое-нибудь соглашение. Но министерство не могло являться приказчиком Думы.
Конечно, и при этом министерство могло бы выступить в бой и отвечать на вызывающие речи ораторов соответствующими речами. Надо думать, что таких бойцов в министерстве нет или они были совершенно не приготовлены к такому приему. Только министр юстиции, г. Щегловитов, сказал несколько примирительных слов, прозвучавших как глас вопиющего в пустыне. Вся Дума была на левой стороне, а на правой, только министерство. Разбиралась не программа кабинета г. Горемыкина, а только вопросы об охране, амнистии и аграрный, и притом с главным мотивом о власти Думы. Это была битва всех депутатов против десятка министров, которые только слушали и глядели на независимые жесты ораторов. Тут мог бы что-нибудь сделать разве такой человек, как Бисмарк с его смелостью, находчивостью и юмором.
Ну а дальше?
А дальше и будет так. Правительство будет делать свое дело, являться по временам в Думу, отвечать на запросы и проч. А Дума будет заседать и заниматься своим делом.
Но ведь это будет два правительства, принципиально между собою несогласные и даже враждебные. Ни один закон не может пройти без Думы, и ни один закон, выработанный Думою, не может пройти без Государственного совета и утверждения государя. Дума может при таком порядке вещей не принимать правительственных проектов и заниматься теми проектами, которые указаны в адресе, как ее программа. «Недоверие» еще не конфликт, это только передняя его, antichambre. Но конфликт впереди, и его придется ждать, если не последует соглашения. А возможно ли оно на какой другой почве, кроме согласия правительства перейти к открытой парламентарной системе? Или правительство должно уступить, или должна уступить Дума. Может быть, оба соперника уступят?
Поживем, увидим. Разума только не надо терять. Я внимательно прочел все речи. Ораторы говорят мило, но повторение одного и того же скучно. Каждый оратор повторял один другого, сообразно своим понятиям. Говорят, г. Набоков произнес «государственную» речь. Но почему речь г. Лосева не государственная? Этого отличия я не могу разобрать. Если б в Думе были партии, то заседание было бы гораздо интереснее и представляло бы Россию вернее. А то, если всякий депутат говорит:
Быть или не быть? Вот в чем вопрос, —то оно утомительно.
Ярким исключением явился г. Винавер от еврейской партии. Он заговорил о равноправии, о чем в министерской декларации не было ни слова. Так как евреи всего ближе ему, то он упомянул о пролитой еврейской крови во славу освободительного движения, сказав, что министры струсили перед равноправием, и потому «пригвоздил их к позорному столбу». Так как министры очень хорошо знали, что позорных столбов в природе не существует, то и не испугались того, что г. Винавер возьмет длинный гвоздь, отточит его, как Шейлок оттачивал свой нож, чтоб вырезать фунт мяса из груди живого венецианского купца, приставит этот гвоздь к груди министра и начнет вбивать молотком. Как непоколебимый Шейлок, г. Винавер говорит теперь:
Клянусь душой, поколебать не в силах Ничей язык решение мое. Я требую по векселю уплаты За кровь, пролитую моим народом В освободительном движеньи русском.Последние два стиха приписаны мною к трем шекспировским, и я думаю, что они не настолько плохи, что не могут войти в текст «Венецианского купца», если какой-нибудь театр осмелится поставить его на сцене во время начинающегося господства евреев.
Вонзай свой нож поглубже, жид! —как говорит Антоний, прощаясь с жизнью. За то Порция и отчитала Шейлока. Но Шейлок — глупый и несчастный жид. Теперешние умнее.
Впрочем, все к лучшему. Надо верить, что все к лучшему. Даже когда «Речь» печатает вместо слова патриотизм, которое совсем исчезло из обращения, слово «потриотизм» через «о» и в кавычках, высмеивая это слово, то и это хорошо, ибо известный тургеневский лакей так заважничал, что говорил вместо «обеспечил» — «обюзпючил». Он тоже был очень важен. Да что патриотизм! Известно, что г. Кареев, профессор компиляции, хотел изгнать из русского языка слова «русская земля» и «русский народ». До этого еще ни один ученый не додумывался, а г. Кареев додумался. Приятно, что в России есть такие умные люди.
15(28) мая, №10836
DCXLVIII
Как не догадаться было председателю Г. д., г. Муромцеву, остановить смех «лучших людей» над членом Г. д. г. Михайличенко, который называл Г. с. «прерогативой», поставленной между Г. д. и монархом? Председатель иногда не в силах восстановить порядок и удержать даже от драки депутатов, как это мы знаем из истории парламентов. Председатель мог дозволить членам Г. д. резкие слова и выражения, вроде прибивания «министров к позорному столбу», чем занимался, Винавер по грубой еврейской привычке. Да и сами мы — резкий, невоспитанный и ругательный народ, и наши нравы такие же, и печать такая же. Еврейскую наглость поэтому мы мало замечаем. Но смеяться над членом Г. д. за то, что то образование, которое он получил, ниже того образования, которое получили гг. Муромцевы, Кокошкины, Родичевы, Набоковы и т. д., это стыдно, это очень стыдно. Члены Думы равны и одинаково заслуживают защиты от г. председателя, если хохочут над их образованием. Может быть, г. Михайличенко умнее иных образованных членов Г. д., получивших свои знания в университетах и других высших учебных заведениях, содержимых на счет народа, на счет массы этих самых Михайличенко и других крестьян членов Г. д., но не его вина, что сам он не попал в эти высшие школы. И г. Муромцев не осмеливается сказать своей аудитории, что она поступает неприлично, поступает как барин, хохочущий над мужиком, который коверкает иностранное слово.
С. А. Муромцев мог бы обратиться к Думе с такими словами:
— Господа, позвольте вам напомнить, что Дума не театральная сцена, где разыгрывается смешной водевиль. Смех, конечно, не исключается из нашего собрания, как не исключаются знаки одобрения. Но смех над депутатом, не получившим образования, я бы такой смех исключил. Депутат Михайличенко употребляет слово «прерогатива» в таком смысле, которого оно не имеет. Но смеяться над этим нечего. Слово это и вообще иностранные слова так часто употребляются в наших прениях, что очень легко запоминаются всеми, как вообще запоминается всякое курьезное слово и необычная вещь. Для понимания красоты речи нужно много вкуса и развития, но для усвоения ее курьезов требуется только память. Посетители Дрезденской картинной галереи, конечно, заметят Мадонну Рафаэля, потому что им ее укажут, как великое произведение, стоящее притом в особой комнате и окруженное особым вниманием и почтением, но не заметят многих прекрасных картин, которые оценить может только человек, любящий и понимающий искусство. Зато всякий заметит одну картину великого фламандца не по ее достоинству, а по исключительности ее содержания. Содержание это… оно… на ней изображена корова задом к зрителю в тот момент, когда она отправляет естественную…
— Она мочится, — кричит г. Аладьин с места. — Я видел.
Улыбаясь, г. Муромцев продолжает:
— Господа, иногда те иностранные слова, которые мы здесь употребляем, похожи именно на ту корову, которую видел г. Аладьин. Как эта картина бросается в глаза людям малообразованным только своим курьезным содержанием, так и эти слова усваиваются малообразованными людьми только потому, что они им новы. Я сам слышал, как в группе крестьян слово «президиум» выговаривалось прижидиум. Когда я спросил у одного из них, что значит прижидиум, он мне отвечал, что это «Дума при жидах»…
— Это оскорбление еврейскому народу, — кричит г. Винавер.
— Не позволим оскорблять еврейский народ, — вторят гг. Френкель, Каценельзон, Франсон и другие евреи.
— Господа, прошу вас не прерывать меня, — продолжает председатель Г. д. — Я сообщаю факты, и вам хорошо известно, что я очень хорошо знаю, что президиум не значит Дума при жидах… при евреях, но когда это слово начинают выговаривать прижидиум, то по созвучию объясняют и его значение.
В эту минуту крестьянин-депутат, привыкший праздновать воскресенье, прерывает слова г. Муромцева:
— Но если мы постановили праздновать шабаш, значит действительно Дума при жидах.
Начинается шум. Кареев кричит:
— Уважайте народы! Инородцам — первое место как угнетенным.
— Все христианские дети учат заповедь Божию, — говорит г. Каценельзон, — которая повелевает святить именно субботний день, а не воскресный. Все христианские дети будут рады праздновать, кроме воскресенья, и субботу…
— Они и весь год готовы праздновать!
— Запретите, г. председатель, возбуждать религиозные вопросы, — кричит кто-то резким голосом. — Постановление Г. думы священно!
— Непререкаемо! Все дни равны.
— Воскресенье в память воскресения Христова. Его надо праздновать. Наши деды…
— Долой дедов и отцов!..
— Суббота была раньше! Весь еврейский народ празднует субботу!..
— И Миколу отменили, — говорит крестьянин. — Потому, в субботу нет заседаний никогда, а во все прочие праздники могут быть. Это незаконно!
— Дума — закон! Нет закона, кроме Думы.
— Нет Бога, кроме Бога, Магомет пророк его, — кричит мусульманин. — Мы тоже к воскресенью привыкли.
— Отвыкните! — кричит Винавер. — Евреи проливали кровь! Они получают по векселю.
И так далее, и так далее. Евреи кипятятся особенно, боясь проиграть субботу. Г. Острогорский обливается потом. Крестьянин-депутат продолжает среди шума кричать: «Шабаш, шабаш!»
Г. Муромцев величаво ждет, когда страсти утишатся, и потом продолжает:
— Итак, господа, как по созвучию президиум обратился в прижидиум в уме людей неразвитых, так и г. Михайличенко тоже по созвучию объяснил себе слово прерогатива. Он, конечно, думал, что это слово русское, для него, конечно, новое, но понятное, ибо оно происходит от слова рог, рогатый и именно в этом смысле он его употребил. Слово «средостение» для него меньше понятно, чем прерогатива, как нечто рогатое. Я боюсь, что другие иностранные слова, которые мы употребляем, могут быть поняты по созвучию или совсем не поняты. Все эти интерпелляции, конфликты, мандаты — их надо избегать. Мне кажется, что Г. д. должна позаботиться и о том, чтобы сохранить этот язык во всей его чистоте и украсить его новыми словами. Новые понятия, новые термины наш язык должен отлить и в новые формы. Русский язык и при старом режиме оставался прекрасным языком великого народа и выработался в чудесных созданиях наших гениальных писателей, перед которыми и новая жизнь еще долго будет останавливаться с уважением и любовью. Мы должны охранять наш язык от всего наносного и всего жидовского… виноват: от еврейского жаргона, и по возможности стараться говорить ясно и просто, избегая иностранных слов. Не забудем, что именно он, этот русский язык, объединяет здесь, в нашем свободном собрании, все народы нашей империи, и поляки, избегавшие говорить на нем, теперь говорят на нем.
Извиняюсь перед г. Муромцевым за то, что я влагаю в его уста эту речь. Но смею думать, что он разделяет общий смысл этой речи, если не ее подробности.
16(29) мая, №10837
DCXLIX
Я много раз указывал на то, что Великая французская революция вся прошла при представительстве, а не без него. Представительство это выражалось в Учредительном собрании, Конвенте и проч. Я страстно желал Г. думы, но революции не желал и все время говорил против нее. Я желал Думы, потому что она должна была представить Россию, обновить жизнь реформаторской деятельностью и дать людей ума, таланта и знания. Дума избрана и собралась. Представляет ли она Россию? Несомненно представляет, но Россию взволнованную, нервную, обиженную, полную накопленной вражды к прошлому и обиды за несчастную войну и позорный мир. Дума представляет Россию в известный момент ее жизни. Один из депутатов Г. думы, именно профессор Щепкин, принадлежащий к кадетской партии, сказал: «страна невольно нас избрала». Это замечательно меткое слово, может быть, необдуманно вырвавшееся на волю, но, как необдуманное, сказавшее правду.
Когда страна невольно выбирает своих представителей, она поддается не столько разуму, сколько чувству и тому состоянию, которое называется «настроением». Люди находятся под гипнозом и не рассуждают. Их что-то охватывает, отчасти сознательное, отчасти бессознательное, то бессознательное, в котором много неизведанных ожиданий, страшных, томительных, трагических и комических. Попробуйте, мол, раскусите-ка. Не угодно ли на себе, правительство, примерить то, что мы испытали и перенесли безропотно, со скрытыми слезами и отчаянием. Эти люди заговорят с вами так, как следует с вами поговорить, чтоб вы помнили. Невестке бывают отместки. Скушайте, а мы посмотрим.
Я думаю, что дальше этого большинство выборщиков не шло, то есть оно не учитывало результатов, не ожидало и не хотело революции. Крестьяне думали только о земле и думали с наивной верой, что и Дума-то для того исключительно собирается, чтобы дать крестьянам землю. Предвыборная агитация кадетской партии столько наобещала, что крестьяне страшно дивились тому, что о земле не тотчас заговорили, и отнеслись к декларации г. Горемыкина прямо враждебно. Сотни телеграмм от депутатов и агитаторов полетели в деревни, и газеты не скрывают ожидаемых эффектов и грозят ужасами «народного гнева», «армией в 10 миллионов», которую г. Гредескул, будучи с «промежуточной совестью», увеличил до 100 миллионов, и назвал Г. думу «главным штабом» этой армии. 400–500 человек Г. думы — очень небольшой штаб для 100-миллионной армии, когда наши полководцы доводили штаб 300-тысячной армии до 100 человек. Но г. Гредескул, считая армию в 100 миллионов, не исключил из нее ни женщин, ни грудных детей. Миллионами армию вообще считать довольно глупо; наделать множество бед можно и небольшой армией.
Революционно ли настроена Россия? Это вопрос мудреный при ее обширности, многоплеменности, совсем не сколоченной историей, безграмотности и бестолковости, а потому следует его изобразить иначе: находится ли Россия в периоде революции? На этот вопрос следует отвечать так: да, Россия в периоде революции. Тот элемент, который ее не хочет, или малодеятелен, или равнодушен, или бежал от нее за границу, разделался так или иначе со своими землями, продал их или заложил в банке, перевел свои деньги и бумаги за границу и сам туда же потек неудержимо. Эта предусмотрительная эмиграция в высокой степени антипатична и вредна, как и вообще поспешная ликвидация состояний. Среди людей среднего состояния, которыми полна Русь, мало связи и единодушия. Если хотите, они единодушны только относительно правительства, и часть их исповедует революционные идеи или им сочувствует, потому что ничего путного от правительства не ждет, говоря, что оно даже власти не имеет, не заботится о своем авторитете и совсем не видит ни того, что делается, ни тех причин, от которых это «делание» зависит. У него до такой степени нет уверенности даже в своем праве быть правительством, что иногда кажется, что у него готов вырваться крик:
— Спасайся, кто может, а я ничего не могу.
Другая часть населения пассивна; она то со страхом, то с надеждою переживает это революционное время. Чувство национальности могло бы объединить этих людей. Но оно затоптано и молчит. Патриотизм мог бы соединить людей свободы и порядка, но г. Герценштейн, отвечая г. Гурко, справедливо и победоносно воскликнул: «Где же этот патриотизм, если он до сих пор не мог проявиться?» Дума точно обрадовалась, что никакого патриотизма действительно нет. А вчера г. Петрункевич чванливо и самое слово «патриот» назвал «отвратительным». О каком же патриотизме можно говорить, когда оратор-еврей свидетельствует, что никакого патриотизма нет, а оратор-русский самое слово клеймит, как отвратительное. Характерный признак нашей революции именно в том и заключается, что она лишена патриотизма, а потому и толка в ней особенного нет доселе. Князь Мещерский настойчиво убеждает г. Муромцева в том, что он может выбирать или роль Минина, или Пугачева. Но г. Муромцеву так же трудно сделаться Мининым, как князю Мещерскому князем Пожарским. Что касается Пугачева, то от Минина до Пугачева пропасть. Роль председателя Думы не всемогуща и он уже изнемогает от напора крайней левой, язык которой постоянно лижет «протопопицу».
Революционная ли Дума или нет? В деятельном меньшинстве — да. Если б выполнить программу «трудовиков», то необходима была бы Дума-Конвент, с неограниченною властью и все другие власти должны пойти насмарку. Тут понадобились бы и пулеметы, и бомбы, перед которыми гильотина и потопления в реках — детские забавы. Россия представила бы собой необузданную гражданскую войну, с вольницей, разбоем, расхищением и разорением и Европа, у которой своего дела и своих опасений много, оставила бы Россию свариться в своей крови. В этом меньшинстве нет ни одного талантливого человека, но есть смелость, дерзость и воля, против которых необходимы также смелость, дерзость и воля, освященные образованием и талантом.
Большинство Думы не революционно, но руководители ее — за полновластие, и это очень естественно. Что за охота сидеть и сочинять законы по указке правительства? Что за охота довольствоваться аплодисментами и не видеть никакого удовлетворения честолюбию, талантам, уму? Если и Г. дума приобретет себе право располагать министерскими портфелями, перспектива сейчас другая. Кого власть не соблазняет? Кто не стремится к ней, в силу ли личных выгод или в силу служения родине? Разве только люди не от мира сего к ней равнодушны. Во Франции в сессию палаты бывает больше ста запросов министрам, и палата любит эти запросы, ибо они иногда кончаются министерским кризисом. Тотчас же все подбадриваются в ожидании министерских мест. Смена министерств — это новые лица, новая группировка партий, всевозможные личные выгоды, расчеты на карьеру и т. д. Отечество — отечеством, а самолюбие и честолюбие выше всего, как у правительства, выбираемого вне Думы, так и у правительства думского. Я смотрю на дело только с этой обыденной, житейской точки зрения, оставляя в стороне политические взгляды на этот предмет. Как политический, вопрос этот имеет целую литературу, но все доводы против этого, вроде того, что есть большие неудобства соединять в законодательном учреждении и исполнительную власть, падают перед естественным стремлением вводить те законы, которые выработаны Думою, думскими же министрами. Дума бродит, как молодое вино, и нельзя еще сказать, что из нее выйдет. Но что вся она против правительства, в этом сомневаться может только слепой и глухой, и примирение тут едва ли возможно, если обе стороны не пойдут на серьезные компромиссы.
На стороне Г. думы большие преимущества. Об этом вчера говорил М. О. Меньшиков. Я бы прибавил, что связь настоящего с прошлым невозможно разорвать радикально. Дума — новорожденный. У нее еще жизни всего один месяц. Конечно, она невинна во всем прошлом; взятые, однако, из этого прошлого, члены ее знают все его недочеты и пороки и если участвовали волею или неволею в этом прошлом, как участвует каждый житель, то даже это самое участие может только побуждать их к искоренению этих недостатков и пороков не только в порядке жизни, но и в самих себе. Гоголь говорит, что недостатки и смешные стороны своих героев он находил в себе, а потому так удачно их и осмеял. Он и далее делал то же, стремясь к совершенству, впадал в мистицизм и умер, заморив себя. Быть добродетельным, провозглашать о необходимости добродетели для представителей народа — это явление общее во время молодости конституций. Известно, как дорожил Робеспьер репутацией добродетельного. Как он старался быть добродетельным и безупречным. Не имея никаких элементов Робеспьера и будучи гораздо старше его, г. Муромцев тоже говорил членам Думы: «будьте добродетельны», — не буквально этими словами, но смысл их тот самый.
Последующие сессии уж о добродетели не заботятся или, по крайней мере, не говорят об этом. Вероятно, возрастая, человек привыкает проще смотреть на свои обязанности и на свое дело, и парламентские деятели являются людьми весьма обыкновенными, с добродетелями и пороками. У них уже составляются традиции и целый список специальных, депутатских добродетелей и пороков.
Эта молодость нашей Думы, существующей только месяц, вероятно, и служит причиною, почему опасаются предоставить ей все парламентарные права. Погодите, подрастите, оглядитесь хорошенько, как бы говорят ей старые бюрократы. Успеете еще занять наше место. Дайте нам посидеть еще немного. Но Дума кричит им: «в отставку, в отставку!» И эти оскорбительные крики не могут не раздражать, не подливать масла в огонь. Это даже не «требования», изложенные более или менее в культурной форме, а грубые приказы неотесанной толпы, которая желает прежде всего оскорбить человеческое достоинство, принизить самое дорогое человеку — его личность.
Пусть толпа думает, что это — мужество. В лучшем случае это — борьба с рабскими инстинктами в собственной груди. Но следовало бы иметь мужество благоразумия. Быть благоразумными — ведь это тоже мужество, может быть, не такое дикое, не такое отважное, как атака, приступ, но часто именно мужество благоразумия побеждает прочнее, чем дикая атака, и, главное, при меньшей потере сил. Ведь возврата к прошлому быть не может. Перейден не Рубикон, а целое море. Рубикон пустяки, а море — это огромная величина. Оно не пустит назад. При всех своих молодых недостатках, при этих непристойных выкриках, при своей однородности, как партии, Дума уже завоевала себе симпатии большой части населения. В интересах ли самого населения эти атаки, эта горячая поспешность? Я знаю, что очень часто поговорка «поспешишь — людей насмешишь» довольно неуклюжая поговорка, но разумный смысл все-таки в ней есть. Прочное дело требует времени и обдуманности. Даже вдохновение великих поэтов, если быстро ложится на бумагу, то требует многочисленных поправок, упорной работы и напряжения для того, чтобы явиться перед миром читателей самых обыкновенных и сплошь и рядом совсем нетребовательных. Может быть, эти нетребовательные читатели были бы совершенно удовлетворены и первым, поспешным наброском, но поэт творит для современников и потомства, он желает сделать нечто совершенное, а потому не торопится. Мне кажется, до известной степени можно то же сказать и о той поспешности, с какою Дума добивается власти. Она этими первыми шагами удовлетворяет только неразборчивую толпу, взвинчивает ее и поселяет в ней жажду чего-то необыкновенного, какой-то эффектной мелодрамы топорного свойства. Когда в мелодраме актер орет: «Пей под ножом Прокопа Ляпунова», то будет и страшно и нелепо, и актеров на такие роли найдется так же много, как и публики. Но мелодрамы именно и следует избежать и не ссылаться ни на 100-миллионную армию, ни на потоки крови и не бить себя в грудь с клятвой помереть.
Жить надо, а не умирать, ибо дело в порядочной, культурной жизни, дело в перерождении поколений, а не в ухабистой и кровавой мелодраме. Пусть кадеты выставят личности, характеры, таланты. Суметь овладеть выборами и представить однородную Думу — еще далеко не все. Если кадеты не могут справиться с крайней левой, которая толкает их в атаку, то из этого еще не следует, что необходима атака и чем она грубее и оскорбительнее, тем лучше.
25 мая (7 июня), №10845
DCL
Хотя г. Герценштейн — еврей, но крестился, когда расстался с Л. С. Поляковым, стало быть, по моему мнению, русский человек. Самая фамилия его, в некотором роде, провиденциальная, ибо заключает в себе две знаменитых фамилии — Герцена и Штейна. Герцен — знаменитый русский писатель, сын Яковлева и немки, а Штейн — знаменитый прусский государственный человек и реформатор. Он прошел превосходную школу финансовых операций под руководством г. Лазаря Полякова, брата известного железнодорожника, теперь покойного С. С Полякова. Г. Лазарь Поляков основал земельный банк в Москве для вспомоществования дворянству, катившемуся по наклонной плоскости с быстротой товарного поезда, а г. Герценштейн был у него управляющим, оценивал имения и дома, ссужал, продавал и перепродавал, закладывал и перезакладывал, ликвидировал, сводил леса и сделался знатоком финансов вообще и земельного вопроса в особенности. Замечательно, что у нас именно евреи, Кауфман и Герценштейн, и чиновник с иностранной фамилией, г. Кутлер, сделались ревнителями земельного вопроса. Русские и тут в хвосте. Естественно, что у г. Герценштейна огромное знакомство в денежном, следовательно, в еврейском мире, в мире банкиров, в мире самых рискованных предприятий, где ходят по канату, балансируя, чтоб не упасть и не разбиться. Темные дела земельных и других банков он знает очень хорошо, ибо 15 лет вращался и действовал в этом мире. Л. С. Поляков — бесспорно умный человек и нашел себе умного, образованного и помощника, который вышел в тузы, а Л. Поляков принизился. Несколько лет тому назад «Новое Время» поместило добрый десяток статей, убеждая крестьянский банк купить огромное имение Гогенлоэ, окруженное малоземельным крестьянством. Но вотще! Имение было куплено каким-то подставным обществом при помощи банка Л. Полякова и г. Герценштейна. Должно быть, гешефт был красивый и высокой политики и нравственности. Г. Герценштейну не мешало бы рассказать об этом в Г. думе, которая должна знать все эти тайны. Тайны, самые таинственные, находятся, может быть, не в министерстве финансов и не у министра финансов, а именно в этих всеобъемлющих банках. Очень любопытно, как смотрят на г. Герценштейна революционеры. Гг. Стишинский и Гурко не обратили на это внимание, но следовало бы, ибо критика революционеров должна быть принята во внимание уже потому, чтоб поставить г. Герценштейна на подлежащее место. В прошлом году за границей я тщательно следил за этой критикой по «Революционной России» (июль — авг. 1905 г., №№70 и след.). Вот слова «Револ. России»: «Мы не боимся силы капитала, если мы сами будем сильны. Сильны же мы будем в том случае, если будем владеть землей и волей. Без воли мы не сможем овладеть всей землей, без земли воля нам будет не в волю. Поэтому «волю» мы хотим завоевать, а не получить ее «октроированной», землю мы хотим экспроприировать, а не выкупать… Вместе с самодержавием появилось на авансцене русской истории «поместное» землевладение, вместе с ним оно должно и исчезнуть с нее, чтоб кануть в вечность!
Выкуп земельной собственности называется «преступлением». Единственное средство для того, чтоб взять землю без выкупа — революция, народное восстание. «Надо много активной борьбы, надо вызвать к жизни энергию и инициативу самого народа, надо идти к нему для этого.
В народ! К оружию!» (№70, «Рев. Рос.»).
И так далее вплоть до социально-демократической республики, непрерывная революция и организация народных восстаний.
Что касается земельной реформы, выработанной г. Герценштейном революционеры называют ее только «либеральной» и самого г. Герценштейна «либералом». «Психология землевладельца-буржуа, говорит «Рев. Россия», сквозит в каждой фразе, в самой манере его изложения» и в то же время замечает: «невольно изумляешься сходству мотива либеральной аграрной программы в том виде, как ее проектирует г. Герценштейн, с такой же программой наших социал-демократов. Да ведь это — все то же самое. Разница не в задаче, а в исполнении».
Называя г. Герценштейна «либеральным государственным человеком и реальным политиком», «Витте русского либерализма», «будущим министром финансов либерального кабинета», «Революционная Россия» говорит: «Он уже усвоил себе ту точку зрения специалиста министерских дел, которая упрощает все великие социально-экономические проблемы, сводя их к искусству ловких финансовых операций, к знанию всех «входов» и «выходов» в области биржи и кредита». Доказывая, что выкуп дело трудное, г. Герценштейн этим только подчеркивает указание на себя, как на человека, для которого нет трудностей: «с финансовой стороны, говорит г. Герценштейн, выкупная операция может быть теперь проведена еще легче, чем это было в 1861 г.», и вообще «с финансовой стороны осуществление выкупной операции не встречает затруднений». Само собой разумеется, что руководить должен г. Герценштейн.
Очень интересны следующие строки «Революционной России»: «Г. Герценштейна ужасно беспокоит, что экспроприация земли затронет землевладельцев в то время, когда буржуазия фабрично-заводская, купеческая и кредитно-биржевая останутся нетронутыми… Если тут все дело в том, чтоб не обидеть чрезмерно землевладельца сравнительно с промышленниками, то г. Герценштейн мог бы предложить, например, известное вознаграждение, по крайней мере, части землевладельцев за счет промышленников — экстренный, специальный налог на товаро-торговый, индустриальный и денежный капитал для покрытия необходимых, справедливых расходов по проведению земельной реформы. Это было бы осуществлением, так сказать, взаимного страхования имущих классов, равномерно распределяющего убытки по экспроприации. И приди г. Герценштейн к такому действительно довольно логическому выводу, он не встретил бы в нас таких ожесточенных противников».
Милостивы. Надо сказать, что кадетский проект г. Герценштейна левее того, который критиковала «Револ. Россия». Она, между прочим, указывала на те самые слова о справедливости обязательного отчуждения и крестьянских земель, если они превосходят известную норму; на это указывал г. Гурко. Теперь г. Герценштейн не трогает крестьянских земель. Г. Гурко и г. Стишинскому следовало бы воспользоваться и указанием «Рев. России» на экстренный налог с торговцев, биржевиков, капиталистов, фабрикантов, ибо, в самом деле, несправедливо отчуждать принудительно частновладельческие земли и оставлять в покое богатых людей, не имеющих земли. Почему все те, которые имеют землю, должны служить козлищем отпущения? Г. Герценштейн не трогает капитала потому, что это подняло бы всех капиталистов, фабрикантов, купцов, и потому, что капитал трудно отобрать — деньги и бумаги можно хранить в Берлине, Париже, Лондоне, а землю взял и отнял: ее не перевезешь никуда и не спрячешь. Наши «трудовые», впрочем, не скрывают, что с земли только начнется социальное переустройство, а потом пойдет отчуждение и всего прочего.
Замечательно, что из трех заветов Великой французской революции, свободы, равенства и братства, в сущности приводится в исполнение только один — равенство, как и наименее трудный, ибо он поддается насилию, деспотизму монарха или представительного собрания. Ни свободы, ни братства в сущности нет, ибо для этого надо быть очень развитым человеком, христианином в лучшем значении этого слова, культурным и высоко гуманным. А много ли таких людей? Это философы, кабинетные ученые, мудрецы, отшельники, далеко стоящие от политики. Свобода требует от человека уважения к человеку. Теоретически она наделяет всякого человека такими «священными правами», которые никто не в праве нарушать. А свобода и братство нарушаются ежечасно в самых просвещенных странах. Но равенство идет вперед со времен Великой французской революции быстро. Для равенства прав — один и тот же закон для всех. Для равенства нравов, для уничтожения каст и классов — одно и то же воспитание и образование для всех, даваемое государством. Всеобщая подача голосов уничтожает неравенство для выборов в парламент. Для уничтожения неравенства в общественных слоях — установление равенства состояний, уничтожение наследств, отобрание земли, смело нарушая право собственности на нее, уничтожение частной собственности вообще и переход к собственности общественной, к коммунизму, коллективизму, социал-демократии. Все это уравнительное движение совершится вопреки свободе и братству, вопреки свободной личности, вопреки индивидуализму. Но свободу и братство обещают при помощи дальнейшей муштровки, стрижки мозгов и дарований, и насилия, которое оправдывается благими общими целями. Равенство составляет и ту платформу, на которой скачет и г. Герценштейн, и вся эта кадетская партия с ее «токами единения между скамьями», как выразился один кадетский публицист, а не между умами и талантами, которые отсутствуют. «Единение между скамьями», — это символ полного равенства во всех отношениях.
28 мая (10 июня), №10848
DCLI
Вот какая сила евреи. Г. дума почувствовала сейчас же, что она сидит на иголках, как только узнала о еврейском погроме в Белостоке. Никакой погром в русских губерниях ей не интересен, по всей вероятности, потому, что она особенно дорожит своим международным значением, на что и поспешил указать тезка Горького, г. Максим Ковалевский, сказавший: «Если мы желаем, чтоб Европа уважала нас…» О, желаем, желаем. Главное, чтоб Европа уважала, а Россия — черт с ней. Г. Набоков, этот выутюженный юрист, полный накрахмаленных фраз, закричал о «сигнале».
Собирайтесь, молодцы, За камни и кусты По два в ряд!Изволите ли видеть: выстрел раздался как «сигнал для погрома». Необходим немедленный ответ на страшный вопрос: «был ли такой выстрел или нет»? И ведь г. Набокову нимало не «страшно» от этого выстрела, но что вы хотите, если у него ничего нет, кроме выстрелов. Знай, постреливает и предоволен, и им довольны. Г. Родичев глубокомысленнее. Он воскликнул: «Я заявляю, что отечество в опасности, доколе это правительство у власти. Этим я кончаю, господа!» Это очень хорошо, но мне кажется, что г. Родичев заметно опоздал. Ведь министерство И. Л. Горемыкина — ровесница Г. думе — оба одномесячные младенцы, прилежно сосущие мамку Родину, а он только теперь спохватился, что «отечество в опасности», и притом «в опасности» только «доколе»… Слава Богу. Уйдет горемыкинский кабинет, и отечество будет в безопасности. А то ведь скажи он просто без «доколе», что «отечество в опасности», пришлось бы учреждать Комитет общественного спасения, как при Конвенте, что чрезвычайно усложнило бы положение России в Европе. Там отлично знают, что Comité du salut public — это уж, в некотором роде, апогей революции. Но «доколе» нас спасает, и дело кончается тем, что в Белосток отправлены три комиссара. Я очень рад, что один из них еврей; ибо предпочитаю «оригиналы спискам», еврея — еврействующему.
Отчего бы Г. д. не послать своих комиссаров с самого начала, если уж так интересуют ее евреи, а потом уж рассуждать, когда были бы привезены данные? Это было бы достойнее высокого дома и не повредило бы красному его отделению.
Находится ли «отечество в опасности» вообще, а не «доколе», я не могу сказать. Я читаю ежедневно о том, что собирается гроза, что нервность поднялась чрезвычайно, что не нынче — завтра должно совершиться что-то ужасное. Если это так, кто же нас избавит от этой грозы, кто предупредит ее?
Гениев, государственных мужей великого ума и таланта что-то не видать. Читаешь, читаешь речи «лучших людей» и думаешь: да неужели в самом деле это лучшие люди? Неужели в России нет ничего лучшего, кроме этих серединных людей, которые, вероятно, хорошие мужья своих жен, за которыми они взяли сотни тысяч и миллионы в приданое, хорошие отцы своих детей, хорошие директора фабрик и заводов, хорошие попы, не особенно обижавшие своих прихожан, превосходные рабочие и крестьяне, то интеллигентные, то неграмотные, хорошие помещики, понимающие, что новая жизнь требует уступок, хорошие профессора по иностранным книжкам, но все это — среднее, среднее, среднее. Всё, что выступало до сих пор, всё это среднее. Может быть, таланты у тех, кто до сих пор молчит? Давай Бог. Но в течение целого месяца ни одной оригинальной мысли, ни одной замечательной речи. Только и есть за этой Думой, что она оппозиционная. Но и в этой оппозиции нет той даровитости, которая обещала бы, которая искала бы способов и средств, умела бы пользоваться ошибками и слабохарактерностью правительства и привлекала бы блеском ума и дарований. Вот, мол, какие у нас люди. Радуйтесь и надейтесь, а то все ссылки на какие-то стомиллионные армии и вообще что-то спесивое и серое, а в своих крайностях что-то грубое и фразистое. Конечно, беды в этом еще нет. Но беда может придти от того, что крайняя группа решительно тянет за собою умеренную и не дает ей основаться. Начинается какой-то спорт, когда необходима спокойная работа. Или это везде так при начале и необходимо куропаткинское терпение?
Я ни одного слова не скажу за правительство, которое ни разу не показало, что оно правительство государя императора, который его выбрал и удостоил своего доверия. Государь император созвал эту Г. думу и тем самым совершил важнейшую реформу в русской жизни. Если «спесь ходит надуваючись», а потому даже не поблагодарила его за реформу в своем ответе на тронную речь, чем пренебрегла даже простым русским обычаем, то правительство И. Л. Горемыкина должно не только понимать всю огромность этой реформы, понимать до глубины сердца и до всех изгибов большого мозга, где, говорят, заседает разум, оно должно быть полно гордостью этой великой реформы и с самоотвержением служить своему государю и Отечеству и не позволять никому ронять свое достоинство. Оно обязано помнить, что оно — правительство государя великой державы и что в этой державе миллионы жителей, интересы и нужды которых еще не могут быть представлены Г. думой; если бы эта Дума была собрана по всеобщему голосованию, и тогда она не могла бы считаться представительством всей России, ибо оставались бы многие миллионы меньшинства, которые совсем не были бы представленны своими депутатами. Когда одна ученая тупица из кадетов на днях заявила, что большинство Думы — владыка, а меньшинство — дрянь, не стоящая внимания, то это только мнение ученой самонадеянной тупицы, к которой не пристали порядочные люди из этого самого большинства, по чувству ли приличия, которым тупица не обладает, или искренно, все равно не пристали. Государь император — представитель всей страны, ее большинства и меньшинства. Его разум и сердце должны обнимать всю Россию и искать гармонии общественной и государственной жизни. Его министры должны быть его помощниками, его представителями в Г. думе, а не представителями И. Л. Горемыкина, или самих себя. И как представители государя императора они обязаны вести себя. Иначе это будет недостойная комедия…
Меня интересуют два вопроса. Г. д. наряжает следственную комиссию над администраторами. Имела она на это право или нет, я не знаю, я не юрист и не законник; как простой русский человек, я имею право высказывать свое мнение. Мне кажется, что это следствие — бессмыслица. Я понял бы следствие со стороны Конвента, который был верховною властью во Франции, который посылал комиссаров в армию подтягивать и казнить генералов; в города — топить в реке и гильотинировать непокорных или «подозрительных» граждан, который учреждал революционные суды, на решения которых не было никакой апелляции, который арестовывал, обвинял и казнил даже своих собственных сочленов, народных избранников, который законодательствовал, управлял, посылал армии против неприятеля и против французов, восставших вандейцев. Но Г. дума — не Конвент и ничего не имеет с ним общего. Ее законодательство проходит через Г. совет и решение принадлежит государю императору. До 27 апреля Россия управлялась без Г. думы и вся целость власти принадлежала государю императору. Он издавал указы, назначал администраторов и, если они превышали свою власть и злоупотребляли ею, то только один государь и может осудить их и назначить над ними следствие. Если Г. д. претендует на то, что может наряжать следствия и придавать суду администраторов, — иначе для чего и следствия, — то она присваивает себе какие-то чрезвычайные права. Ведь ни один из администраторов, ни один из министров не явится на следствие и не станет отвечать на вопросы думских следователей или комиссаров. Конечно, они могут собрать материал для истории нашего времени, но материал односторонний, который и останется как материал. Мне кажется, что на правительстве И. Л. Горемыкина лежит непременная обязанность объяснить нам, не юристам, которых многие десятки миллионов, что это за следствие и обязаны ли являться к этим следователям русские граждане, как обвиняемые, так и свидетели?
Другой вопрос, меньшей важности, это телеграммы населения на высочайшее имя и печатание их в «Правительственном Вестнике». Что население имеет право на то, чтобы посылать эти телеграммы, — это не подлежит сомнению. Государь есть государь всей России, всех слоев населения, довольных и недовольных, счастливых и несчастливых. Г. д. постоянно принимает такие заявления и прямо и через своих сочленов и, конечно, не имеет ни малейшего права запрещать населению обращаться и к государю императору. Если Г. дума делает гласными обращение к себе — эта гласность во множество раз превосходит гласность «Правительственного Вестника» — то почему министерство И. Л. Горемыкина обязано класть эти телеграммы под сукно или смотреть на них как на нечто запрещенное? Г. дума видит в этих телеграммах «возбуждение одной части населения против другой» и «дерзостное неуважение к Г. д.». Я должен напомнить, что «возбуждение одной части населения против другой» — было излюбленным мотивом для предостережений газетам министра внутренних дел П. А. Валуева, а вместо «дерзостное» и проч. употреблялось при нем «дерзкое неуважение к правительству». Разница только в одном слове — «дерзостное» вместо «дерзкое». Я не понимаю необходимости этой конкуренции с министром старого режима, но очевидно к старому тянет и Думу. Г. Муромцев послал высокоофициальное письмо г. Горемыкину, где говорил, что «забота об ограждении достоинства Г. думы», и проч., обязывает его и проч. Г. Горемыкин отвечает ему высокоофициальным письмом, в котором говорит, что «забота об ограждении достоинства высших государственных установлений» и проч., обязывает его и проч. Г. Муромцев заботится только о Г. д., г. Горемыкин о «высших государственных учреждениях», в которые входит Г. дума. Эта переписка полна высокого комизма, и я не знаю, кому дать преимущество в лаконизме и остроумии. Но все-таки мы ничего не знаем о праве Г. думы давать, подобно Валуеву, предостережение «Правительственному Вестнику», и если б И. Л. Горемыкин не соперничал в лаконизме и остроумии с г. Муромцевым, а объяснил бы в чем дело, то было бы, пожалуй, лучше. Этот вопрос, помимо общего значения, интересует меня и лично, как журналиста, получавшего предостережения.
Если Г. дума имеет право давать предостережения или привлекать к ответственности «Правительственный Вестник», то мудрено сомневаться в том, что она может давать предостережения и привлекать к ответственности частные издания. К этому же мой земляк, воронежский священник и депутат о. Поярков уже предложил Г. д. избрать двух комиссаров для преследования газет. Наш репортер не обозначил, принято ли это, предложение с аплодисментами или без оных. Но никто против этого не протестовал и «дерзостное неуважение к Г. д.» может быть истолковано гг. комиссарами различно. Конечно, о. Поярков, как кажется, человек довольно легкомысленный, ибо он недавно выскочил с предложением Г. д. немедленно разъехаться, подобрать полы своих одежд и ряс, что Г. д. приняла со смехом. Но времена переменчивы, и глупости и глупые поступки свойственны умным людям и парламентам.
4(17) июня, №10855
DCLII
Вы не думаете, что настоящий момент значительный? По-моему, он гораздо значительнее «исторического дня 13 мая». Этот майский исторический день был горько комический день. Скоро месячный юбилей этого «события», и не проходит дня, чтобы в газетах не появлялись слухи то о том, что министерство уходит и новое формируется, то о том, что министерство не уходит и Дума «разгоняется», то о том, что и министерство не уходит, и новое не формируется, и Дума не «разгоняется». Не проходило дня, чтобы в Думе кто-нибудь из ораторов не сказал, что в Думу «брошено восемь голов» (расстрелянные в Риге), и не пародировал так или иначе крик «в отставку». Точно спорт между думцами: кто остроумнее или забористее кончит свою речь припевом: «выходите в отставку». Даже М. А. Стахович, решившийся раскрыть Библию и возобновить в памяти урок Закона Божия о Самсоне с целью преподать его какому-то «трудовику», который потрясал своим могучим дыханием столпы Российской державы, даже он, специалист по Моисееву законодательству, не удержался от того, чтобы не окончить свою речь припевом. «пусть выходят в отставку». В речи г. Стаховича, однако, нельзя не отметить одного прекрасного места о родине, восставать против которой он не советовал в выражениях искренних и горячих. Этими словами следовало бы заключить речь, и тогда она вышла бы эффектною, но он поместил их в середине и тщательно замазал потом статистическими данными и великодушною уступкою помещичьей земли. Речь вышла деланною, но в ней все-таки осталось патриотическое чувство, едва ли не впервые раздавшееся в зале Г. д. И в этом отношении речь эта входит в настоящий момент, как один из характеризующих его фактов.
Конечно, в этот момент входит дворянский адрес государю. Не знаю, есть ли в нем «восстановление одной части населения против другой» и «дерзостное неуважение к Г. думе», как в других адресах, о которых высокий дом запрашивал кабинет И. Л. Горемыкина. Пока только депутат Петражицкий обратил на него внимание и заподозрил подозрением «гражданина». Я могу заподозрить этот адрес только в запоздании. Хотя говорится, «что лучше поздно, чем никогда», но в данном случае лучше раньше, чем позже.
Множество несчастий и ошибок и в частной и государственной жизни зависят именно от того, что «поздно» хватились за ум, поздно произвели реформу или издали закон, поздно приложили к делу особенное внимание, поздно заметили свои и чужие недостатки, поздно отличили друзей от врагов, поздно принялись за сбережения в хозяйстве и проч. и проч. Это называется жить задним умом, и русское племя жило этим задним умом так настойчиво, что даже историки внесли это замечание в историю России. Не поздно ли и дворянство устроило свой съезд и решилось высказать свое мнение о современном положении России? Не только все сословия, но, можно даже сказать, все возрасты, кончая ученическим народных школ, устраивали свои съезды и составляли свои резолюции, а дворянство молчало. Несколько месяцев тому я резко нападал на дворянство за то, что оно бежало из деревень во время погромов и не ударило палец о палец для того, чтоб встретить эти погромы мужественно. Я тогда получил множество писем от дворян и дворянок, в которых меня порицали за это. Мне приятно теперь встретить в дворянском адресе оправдание того, что я говорил. Дворянство решается бороться с революцией и не бросать своих гнезд. Я именно в этом смысле говорил. Как дворянство намерено бороться с революцией, этого я не знаю и оно об этом не говорит. Но все-таки оно сказать об этом «осмелилось». Я подозревал, что оно совсем потерялось, ничего не смеет сказать, что оно просто вытерлось из истории и от него ничего не осталось. Массы продающихся имений, дворянские толпы в земельных банках, дворянская эмиграция в города и за границу именно как бы свидетельствовали о том, что дворянское сословие все вытерлось и ни на что не стало похоже. Я нимало не заинтересован в сохранении дворянства. Отец мой родился под соломенной крышей государственным крестьянином, солдатом Преображенского полка сражался при Бородине, где был ранен, и умер под соломенной же крышей, хотя и в капитанском чине, который в те времена давал потомственное дворянство. К крепостному праву ни отец мой, ни мать, дочь сельского священника, ни я не причастны ни с какой стороны. Но я не могу не признавать за дворянством больших заслуг государству и русской культуре. Мне думается, что русское дворянство сделало достаточно и для освободительного движения в его лучших стремлениях. Между тем как во Франции, во времена великой революции, существовало сильное среднее сословие, заслонявшее собою дворянство и имевшее в прошлом большие заслуги на всех государственных и культурных поприщах, у нас, ко времени нашей революции, почти только одно дворянство и выдвигалось на этих поприщах. Если мне скажут, что в этом виноват порядок вещей, то ведь это все равно для факта. Во Франции было так, у нас иначе. Там не только великих драматургов-поэтов дало третье сословие, но даже полководцев и знаменитого министра финансов Людовика XIV, Кольбера. У нас — говорю только о XIX веке — Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Тургенева и проч. дало дворянство. И все эти люди приносили с собою благородные общечеловеческие идеи, любовь к ближнему, любовь к мужику и родине, и на них воспитались целые поколения. Не привожу известных имен из других областей государственной жизни, ученой, военной, гражданской. Ни в каком случае, не один же крестьянин создавал Россию, как теперь повторяется на всех перекрестках вкривь и вкось. Все, что создано, принадлежит всем, ибо Россию создавали все сословия, но создание культуры в самой значительной степени принадлежит дворянству, как и труду и образованности лучших сил его принадлежат такие реформы Александра II, как освобождение крестьян, земство и суд. Если от этого образованного и культурного сословия остались только обломки, то и обломки не должны молчать в теперешнее время. Я не анализирую дворянского адреса и нахожу его далеко не шедевром, но одну фразу необходимо заметить.
Как бы социал-демократы и революционеры не смеялись над этой фразой, именно — «трудовое дворянство», которое употреблено съездом в своем адресе государю, выражение это имело смысл и может иметь его и теперь, если дворянство не ограничится одними словами, а действительно станет работать в деревне, не рассчитывая больше на бюрократическую карьеру. Не один земледельческий или фабричный труд есть труд. Поэтому не одна партия крестьян в Г. д. имеет право называть себя трудовою, но и все те, которые трудились и трудятся на разных поприщах жизни: военном, гражданском, земском, землевладельческом, фабричном, литературном, художественном и проч. Трудовики — это даже несколько фальшивое слово, либо слишком претенциозное, если оно изображает собой нечто исключительно почтенное, властное и господствующее, либо слишком грубое и топорное. Я могу себе представить не только социально-демократическую республику, но даже чистую анархию, как например, представляет ее себе граф Толстой или князь Кропоткин, но не могу себе представить равенство людей по черепу, ни по мозгу, ни по росту, ни по способностям, а потому не может быть такого государства, где труд был бы только труд «трудовиков». Я даже думаю, что без высших степеней труда, без талантов, способностей, особенно счастливых организаций, невозможно достижение какого бы то ни было улучшения жизни, как частной, семейной и общественной, так и государственной. Трудовая группа, конечно, имеет свое бесспорное значение, но, резко отделяясь от других групп и становясь к ним во враждебное отношение, она только ослабляет себя и вызывает к себе вражду и открытую, и затаенную, которая, пожалуй, посильнее открытой. Это сопоставление двух «трудовых групп» я тоже зачисляю в данный момент. О других фактах, в том числе о выступлении П. А. Столыпина, князя Урусова и др., скажу завтра, ибо чувствую, что тема эта не укладывается в одно письмо.
10(23) июня, №10861
DCLIII
— Руки вверх! Руки вверх!
Таков, в существе дела, общий крик Г. думы, кадетских и революционных газет, обращенный к правительству.
— Руки вверх!
Белостокский погром придал еще особенную интонацию этому крику, если можно так выразиться, жидовскую интонацию.
Но, по-видимому, правительство, однако, не желает поднимать руки вверх по примеру столь многих российских учреждений. Сужу об этом потому, что министры в полной парадной форме и митрополит Антоний соборне с хоругвями не встретили комиссаров Г. думы на станции, когда они возвратились из Белостока, не встретили, несмотря на то, что комиссары нашли, что из Петербурга не было приказа громить. Погром произвели низшие полицейские чины, солдаты и «офицерики». Кланяйтесь, «офицерики» и благодарите г. Щепкина. Увы, у комиссаров не было особых полномочий, но они все-таки выказали изумительную сообразительность и быстроту. Убьют одного человека — и целые месяцы производят следствие. Следствие это появляется в окружном суде, свидетели передопрашиваются перед присяжными, следствие дополняется, исправляется, а иногда и вовсе отвергается. А тут приехали комиссарики, подобрали человечков, оправдали революционериков и обвинили нижний полицейский чин, «солдатиков и офицериков» — и начнут рассказывать Г. думе сказки, как чистейшую правду, без всякого контроля над собою и защиты со стороны обвиненных. И все то, что наплетут гг. Щепкин, Якобсон и др. с прибавкою всего того, что скажут гг. Винаверы, Кокошкины, Набоковы и пр. добродетельные депутаты, пойдет по России в миллионах экземпляров с приложением репортерской печати: «Гром аплодисментов». Никакой поверки, никаких свидетелей, никаких очных ставок, никаких адвокатов, никаких присяжных. Что правда, что ложь, что личный взгляд и тенденциозность — никто этого разбирать не станет. «В Думе я подниму вопрос о привлечении к строжайшей ответственности нижних чинов полиции», — говорил г. Щепкин. Поднимайте, милый человек. Вам ли не поднять такую ношу? Известно, во всем стрелочник виноват, а революционный Бунд — овечки. Это «самооборона». Генерал-губернатор фон Бадер так испугался городской думы, что разрешил милицию и решил удалить войска. Почтенный генерал тем самым осудил и полицию, и солдат, и офицеров. Чего с ними церемониться. Не понимаю, почему бы везде в России этого не сделать. Вывести из всех городов войска и образовать милицию. Ведь было же это сделано во время Великой французской революции. Мирабо на этот счет сказал чудную речь, обращаясь к Людовику XVI (заочно) с самыми льстивыми словами и восхваляя его превыше небес, надо и нам сделать то же. Я потому и удивляюсь, что кабинет И. Л. Горемыкина in corpore и митрополит Антоний соборне не встретили думских комиссаров. Впрочем, вероятно, это будет поправлено, когда Г. дума выслушает своих комиссаров и провозгласит, что все то, что они сказали, святая святых и непреложно, как Моисеево Второзаконие: «око за око, зуб за зуб, бомба за бомбу».
Впрочем, зачем же я забегаю вперед? Может быть, Г. д. отнесется к этому делу, как Соломон, и пощадит городовых. Революционеры бьют их, как куропаток, а тут еще собираются бить и члены Г. д. Не сладив с министрами, драться с городовыми — это что-то непристойное.
Выступление князя Урусова очень интересное. Он был бессарабским губернатором при Плеве и товарищем министра внутренних дел при Дурново. Его речь распадается на две части. В первой он говорит о системе еврейских погромов, во второй — о лицах «с воспитанием вахмистра и городового и с убеждениями погромщика». Надо стоять близко к высшей администрации, чтоб знать таких людей и служить вместе с ними. Меня интересует только первая часть, потому что еврейские погромы — это самое больное место государственного организма, в котором на 140 млн. жителей 7 млн. евреев, пропорция, которой нет ни в одной стране мира. У нас, таким образом, еврейский вопрос — поистине вопрос государственный, требующий самого осторожного и подробного расследования. Князь Урусов взял его только со стороны погромов и притом так, что, кажется, ничего другого и нет, кроме погромов. Он говорит о системе этих погромов с такою уверенностью, точно он сам принимал в создании ее деятельное участие и даже сам устроил по этой системе один погром с блистательным успехом. В самом деле, объясняя все погромы единственно применением одной и той же полицейской системы, князь Урусов напоминает того генерала, который выиграл одно сражение и, рассказывая всем и каждому, как он это сражение выиграл, воображает, что все полководцы выигрывают сражения именно так, как он, а не иначе. Мы с вами потому и предполагаем, что он устроил один погром превосходно и по этому погрому изучил всю систему. Может быть, именно кишиневский погром устроен по системе, изобретенной князем Урусовым.
— Что вы говорите, да разве это возможно? Ведь это клевета.
А почему же Плеве после кишиневского погрома посадил губернатором в Кишиневе князя Урусова? Может быть, в знак благодарности? Может быть, все заранее было так условлено? В наше время, когда все друг друга ненавидят и друг друга подозревают, попробуем и мы, читатель, такую же систему. Кстати, и пример перед нами. Сегодня напечатано в «Речи», что гг. Гурко и Стишинский — птенцы Плеве, что г. Ширинский-Шихматов был послан Плеве в Тверь «для разгрома земства», что г. Коковцов — «ставленник» Плеве, что московский градоначальник Рейнбот был «посажен Плеве в Финляндию», и проч. Г. Столыпина заподазривают авансом: кого-то он сделает губернатором в Вологде? Почему же нельзя сказать того же самого о князе Урусове, когда он тоже «ставленник» Плеве и «избранник» Дурново. Ведь у Плеве была цельная система, и он выбирал людей «по системе», заранее убедившись, что они такие именно люди, какие ему вполне пригодны. Кадетский орган превозносит князя Урусова за его речь и разоблачения. А мы с вами «догадываемся», почему этот «ставленник» Плеве и товарищ Дурново так хорошо знаком с системою еврейских погромов и почему его Плеве сделал губернатором. Почему нам не догадаться для какой это причины князь Урусов поднес графу Витте конфетку, сказав, что якобы граф Витте был так поражен, когда узнал, что департамент полиции печатает воззвания, что упал в обморок. Догадываемся: князь Урусов думает, что граф Витте возвратится к власти и в благодарность за конфетку сделает его министром. Разве такая догадка не правдоподобна? К тому же в свое время было напечатано, что с графом Витте совсем не было обморока по этому казусному случаю. Да, для него это был секрет Полишинеля, ибо он знал не такие штуки. Полагаем, он даже знал, что наша полиция кое-где была дружна с революционерами настолько, что печатала в своих типографиях прокламации самих гг. революционеров или, по крайней мере, закрывала глаза на революционные типографии, получая за это благодарности. А митинги, на которых шла самая яркая пропаганда революционного восстания и деньги собирались на него на глазах полиции, — разве это для кого-нибудь секрет? Чего же графу Витте было падать в обморок?
Давайте дальше «заподозривать». Закон о «подозрительных» недаром был выдуман во времена Конвента, во время развала всякой ненависти. Можно заподозрить, что князь Урусов сказал свою речь вовсе не ради «истинного патриотизма», каким он хвалится, а просто ради того, чтобы выставиться и подыграться под евреев, во-первых, которые его вознесут; во-вторых, чтобы подложить г. Столыпину словесную бомбочку на здоровье; в третьих, чтоб показать и Г. д., что только он, князь Урусов, способен поставить на рельсы внутренний правовой порядок. Недурно?!
Нам скажут, что все это пахнет клеветой. А нам какое дело? Пусть клеветой. Мы ведь только подражаем кадетским и революционным газетам. О князе Урусове мы не имеем ни малейшего понятия; но, употребляя прием заподозревания, мы обвиняем его в том, что он, будучи ставленником Плеве и помощником Дурново, был искушен в погромах, принимал в них участие, сделан за это губернатором, потом оценен министром Дурново и взят им к себе в товарищи, потом, сделавшись членом Г. думы, воспользовался еврейским погромом, чтобы выдвинуться снова и попасть во власть. Разве все это не правдоподобно? Пусть князю Урусову и во сне этого не снилось, но, подражая газетному тону обвинений и заподозреваний, мы доказываем, что всякого человека можно вывалять во всяческой грязи. Робеспьер обвинял же Камила Демулена, бескорыстнейшего республиканца, сделавшего для свободы гораздо больше Робеспьера, обвинял же он его в том, что будто Питт его подкупил, и срубил ему голову без всяких разговоров. Вот настоящая политика в ненавистническое время, и пусть князь Урусов на нас не сетует за эту клевету, ибо подобных клевет он найдет множество в кадетских и закадетских газетах о своих знакомых и сослуживцах.
Затем, бросая эту манеру, повторяем совершенно серьезно, что еврейский вопрос — государственный вопрос огромной важности. Администратор, прибегающий к погромам для управления в стране, так же нелеп, как и тот, который воображает, что еврейские погромы зависят только от администрации. Хочет она их — будут. Не хочет — не будут. Ясно и просто. «Погром устроим какой угодно: на 10 человек, а угодно на 10 тысяч», — сказал жандармский офицер Комиссаров.
— Господа, — воскликнул князь Урусов, повествуя об этом Комиссарове в Думе, — эта фраза историческая!
Полноте, князь. Это просто грубое жандармское хвастовство, которое, без сомнения, вредно и должно быть устранено, но «исторического» тут можно найти только с точки зрения г-жи Простаковой. Увы, дело не в полиции, не в «историях» г-жи Простаковой и даже не в антисемитизме. Даже сей последний можно сдать в архив, потому что это ветхое оружие. Возьмем повыше. Государственные люди и серьезные ученые в Европе в последние годы изучают еврейский вопрос тщательно, ибо справедливо находят, что евреи в течение XIX века приобрели везде огромное значение и что они разрушительно действуют на христианское население характером своей деятельности, своим капитализмом, своею сплоченностью и сильно развитой волей. Вопрос лежит в ярком различии рас, семитов и арийцев, в религии и в том ветхозаветном законе, который сохранил еврейство чистым от всякой примеси, запретив мужчинам жениться на женщинах других племен, кроме еврейского, и не возбраняя женщинам выходить замуж за кого им угодно и, таким образом, распространять еврейскую кровь на все племена. Ротшильды выдают своих дочерей за христианских графов, баронов и герцогов, но сыновья женятся только на еврейках. Уже Наполеон видел, что евреи, получив во Франции равноправность во время революции, вовсе не заботились о слиянии с французами. «Евреи, как саранча, поедают мой народ», говорил император и потребовал от еврейского синедриона исполнения некоторых условий, которые бы способствовали слиянию французов с евреями. Синедрион кое в чем уступил, но остался тверд относительно браков, которые сохраняют еврейское племя чистым и объединенным в один народ, который и везде составляет «государство в государстве» и везде овладевает печатью, всеми либеральными профессиями, скупает земли, овладевает торговлей, заправляет биржею, сторонится от работ на фабриках и заводах и подчиняет себе христианское население. Но об этом после. Будем помнить, что в числе самых деятельных факторов в настоящий исторический момент является именно еврейский вопрос и к нему надо относиться очень внимательно и разумно, как к вопросу государственной важности, а не как к парламентскому фетишу, стоящему в droits de l’homme и во всякой либеральной программе.
Но я и сегодня не могу окончить своей темы. Она такая жгучая и нервная.
11(24) июня, №10862
DCLIV
Нужно творчество, творчество и творчество! Сколько раз в эти два года я написал эту фразу. И вот собрана Г. дума, вероятно, соберется Г. совет, образован «кабинет», заложены основы новой жизни, а творчества нет. Никакого творчества, зерна даже его не брошено. Разговоры, ошибки, ругательства, очень смелые ругательства — это не творчество. Если вы назовете министра сегодня дураком, завтра — палачом, послезавтра — Каином, то дальше ведь следуют те слова, в которых святое слово «мать» бесчестные уста смешиваются с грязью.
Может быть, для начала так оно следует, чтоб показать министрам, что их можно ругать и даже должно, и показать населению, какие важные особы депутаты. Но на этом одном засесть, ведь это даже неприлично и нисколько не умно. Что скажут соседи? А скажут, что русские только и способны, что ругаться, что известное выражение: «поскоблите русского — окажется татарин», — совершенно верное. Дрался и ругался до конституции, а получив конституцию, только ругается, потому что в последней драке с японцами опростоволосился и теперь если дерется, то револьверами и бомбами, и притом старается из-за угла выстрелить, убить и убежать. Такой подлый народ стал, что от него нечего и ждать чего-нибудь хорошего».
Правительство не ругается; оно ведет себя, как человек воспитанный и привыкший к власти, но и оно ничего не делает, ибо писать проекты для Г. думы, которая их отвергает, — какое же это дело? Это сношения и отношения враждебных департаментов. Г. совет… Ах, где Г. совет? Когда почтенные лорды намерены приступить к деятельности? Это решительно начинает интересовать россиян. Они хотят знать, для чего собственно Г. совет образован и почему члены его получают по 25 р. в день, тогда как члены Г. думы получают поденно только по 10 р. Если нельзя сказать, что Г. д. думает, то можно сказать, что она говорит на всю Россию; о Г. совете нельзя сказать ни того, что он советует, ни того, что он говорит. Что же он делает? Откликнитесь! Бремя такое, что нельзя ничего не делать, нельзя выжидать. Может быть, Г. совет не хочет тоже работать с кабинетом И. Л. Горемыкина, пускай скажет. Может быть, ему нечего делать, так как Г. дума никакой работы не доставляет, но ведь он сам не лишен законодательной инициативы и может возбуждать вопросы, как и Дума. Не хочет с ней соперничать, не хочет ей мешать? Но в таком случае, пусть соберется и скажет: «Я уйду». Или: «Я не могу работать с этим кабинетом», или «Я не могу объять необъятное и уважаю национального философа Кузьму Пруткова». Но Кузьма Прутков самолично рассказывал, что он, его брат, Жемчужников и граф А. К. Толстой, составлявшие Кузьму Пруткова, погибали от бездеятельности и выдумывали разные школьничества, например, являлись к выходу из церкви и ждали появления какого-нибудь чиновника в орденах и, крестясь, друг за другом, прикладывались к св. Анне и св. Владимиру на груди чиновника с самою серьезною миною и потом хохотали дома.
Но теперь совсем другое время. Теперь дело есть, чрезвычайно много дела. Я думаю, что русские люди должны подумать о том, что теперь не время игры в прежнее «это не моего департамента», или «это дело Г. думы», «до нас это еще не дошло». Смею уверить, что все дошло до всех, и дошло так близко, что хватает за горло, и если члены Г. совета этого не чувствуют, то они стоят очень далеко от страны, которая называется Россией. Г. совет или обязан работать и показать, что он собою представляет для страны, может ли страна положить на него какие-нибудь упования, или обязан просто разойтись, как учреждение, не отвечающее данному моменту.
Я вообще того мнения, что теперь только делом, только действиями и можно что-нибудь сделать. А дела и действий не видно ни со стороны Г. думы, ни со стороны правительства, ни со стороны Г. совета. Мне казалось, когда я мечтал о Г. думе, что она вместе с правительством высоко поднимет самосознание, патриотизм и работу в Русском Царстве. Я думал, что это будет именно временем возрождения, возрождением не слов, не проклятий, не насилия, не убийств, не ругательств и не призывов к революции и бунту, а возрождением свободного труда, свободных искусств, свободной промышленности, временем свободных ученых трудов, развития техники, конкуренции на всех поприщах деятельности. Я думал, что русское сердце зажжется особенным пламенем, что русский ум воспрянет, окрепнет, покажет свою молодую силу, свою горячую любовь к родине, что русский человек, как сказочный богатырь, поднимется во весь рост и удивит вселенную своим ярким пробуждением, великими делами. Побежденный, приниженный на войне, он тем ярче покажет, что стоит лучшей из побед, победы разума, труда и таланта, от которой зависят и все другие победы. Только опека, сковывавшая его жизнь, мешала ему развернуться во всю силу и во всю ширь своих дарований, и я думал, что он откинет прошлое и счеты с ним в историю и начнет не медля ни минуты новую жизнь, чудесное творчество. Я думал, что явятся таланты, блестящие, сильные, которые сейчас же привлекут к себе сердца всех, и мы все полюбим их как своих героев и пойдем за ними. И вот длинные месяцы какой-то бестолочи, восстаний, погромов, счетов за прошлое, разрывание могил умерших, «героев освободительного движения» и какая-то бессмысленная пляска и шабаш на Лысой горе. Вместо личностей — какие-то тени, вместо идей — общие места, вместо талантов — толпа, толпа без вожаков даже, ибо вожаком является всякий смельчак и даже нахал и так же быстро исчезает, как показался. Самая Г. дума кажется толпою, какою-то провинциальной труппой актеров, наскоро собранных с борка да сосенки, по 300 р. каждому в месяц. Это средняя актерская плата. И эти актеры говорят, аплодируют друг другу с азартом воспитанников учебных заведений на утренних даровых спектаклях и друг перед другом раскланиваются, хвастаясь тем, чего они не совершили, но что они способны совершить, если дать им полную власть распоряжаться Россией как им угодно.
Но если это так, то почему в органах думских партий такая радость, почти восторг по поводу всякой мерзости, всякого несчастия, всякого малейшего признака какой-нибудь грозы? Почему эти господа радуются затруднениям финансов, падению военной дисциплины, голоду, почему они радуются, что якобы иностранные державы готовы наложить опеку на Россию, почему они раздувают всякий факт в грозное событие и раздувают с дьявольской усмешкой? Сильные так не делают.
А эти встречи министра внутренних дел г. Столыпина, в Думе. Что они собою обозначают, кроме бессмысленной травли и мальчишеской потехи? Он являлся в Думу и вел себя и говорил так, что оставлял после себя впечатление, как человек мужественный, искренний и, кажется, с волей. Воля в русском человеке — это необыкновенно важная вещь. Безволие — это болезнь не только русского, но, пожалуй, чуть ли не всего славянского племени, а в ком она есть и проявляется во время и разумно, тот полезный деятель, тому мы в праве сказать: soyez le bienvenu! Но Г. д., знаете, как его встретила и в первый и во второй раз? Крики, гам, ярмарка русских баб, когда министр бросил в эту толпу крайних левых обвинение в клевете. И, действительно, эти крайние клеветали, а кадеты поддакивали, правые молчали, но приняли резолюцию крайних. Присяжный дьяк Думы, г. Набоков, смастерил ее с подьячим Аладьиным. А г. Жилкин сказал совсем глупый монолог: «Знает ли министр вн. дел, что он оскорбил всю страну, представляет ли он себе то чувство гнева, которое охватит всю Россию?»
Боже мой, как это страшно! Но я думаю, что Россия и бровью не поведет от того, что надменные выскочки получили то, что им следовало получить. Кто хочет, чтоб его уважали, тот сам не должен себя вести, как нахал, как невежда; если министру грозят кулаками и посылают ему в лицо оскорбления, он вправе взволноваться и сказать оскорбителям, что они клевещут. Министр — не лакей гг. Милюковых, Аладьиных и других оскорбителей. Он — посол государя. Это, кажется, не хотят понять гг. скандалисты; а гг. умеренные потакают им с замечательной близорукостью. Разве Г. дума делает не то же самое, что делали гимназисты с директорами и учителями? Разве не так же она кричит на министров, как гимназисты кричали на директоров и учителей? Недостает разве только химической обструкции, которую заменяют с выгодою такие речи, как г. Аладьина и его соперников.
Что это такое?
У кадетской партии — теоретические представления и весьма недостаточные для знакомства с тем материалом, из которого можно делать и которым придется делать. Эта теория осудила партию к уступкам крайним, к лести им, даже к некоторому послушанию им. Не имея среди своих членов талантов исключительных и сильных, имея закулисного руководителя умного, но не вдохновенного, не поэта — разумею г. Милюкова, — она дала возможность образоваться партии прямо политических невежд, демагогов, революционеров весьма невысокого калибра. Самыми шаблонными фразами, самою поверхностною, но резкою критикою, скорей даже не критикою, а памфлетом эта партия связала кадетам руки или принуждает их к молчанию и выжиданию. Никакого вдохновения и у демагогов нет, а ума и образования гораздо меньше, чем у кадетов, но у этой крайней есть та дерзость, которая готова идти с кулаками, грозить, призывать к бунту, шуметь, вызывать скандалы. Она рассчитывает не на свою силу, а на тех, кто их послал и которые не пойдут с нею, но смелость призыва, дерзость скандала, памфлетные замашки речи дают ей призрачную силу и, может быть, запугивают правительство и кадетскую партию.
Кадеты думали, что власть у них, когда вступили в Думу. Общий враг — правительство — связывало кадетов с этой крайней партией, и эта связь — та ошибка, которая ослабила партию. Кадеты хотели в своих руках держать революцию, а оказалось, что революция держит их в своих руках. Они думали, что правительство им уступит, что оно не выдержит скандала недоверия и той настойчивости овладеть полнотой парламентской власти, какой она добивается, а правительство уперлось, и этот враг связывает кадетов с крайней партией, и в то же время к этой крайней партии кадеты начинают чувствовать вражду едва ли не такую же, как к правительству. Общий предмет вражды — правительство — и связывает и разъединяет Думу. У крайней впереди — революция, значит, широкая дорога; для нее разрыв с кадетами еще небольшая важность, ибо даже парламентаризм ее не удовлетворит, а для кадетов разрыв с этой партией — почти поражение, потому что правые, сколько можно судить, держатся выжидательного положения. Среди них самый деятельный и, по-видимому, самый искренний — граф Гейден. Он много говорит, говорит дельно, рассудительно, но голосует сплошь и рядом с большинством.
— Господа, это вы неправильно делаете, но я с вами.
Правительство и для него, и для г. Стаховича, и для всех прочих умеренных — жупел, не такой, как для кадетов и тем более, как для крайних, но все-таки жупел. Чтоб его не было! Вот и все. Когда его свернем, тогда поборемся и поглядим, у кого сила.
Поглядим, слепой сказал. Мне все кажется, что в этой тактике кадетов есть что-то слепорожденное, то есть лишенное вдохновения, тонкости, эластичности, политической поэзии; если хотите, вместо тонкополитической игры — грубая прямолинейность, которой держится кадетская партия с таким же упорством, с каким правительство держится своей политики. И я думаю, что и у кадет и у правительства одна и та же мысль: уступить — значит умереть. У правительства эта мысль сильнее, ибо оно не может не знать, что в его положении уступить значит признать себя прямо бездарным и ничтожным и даже прогнанным со скандалом и, может быть, ввергнуть государство в пучину всех зол и всех случайностей. Ответственность огромная. Кто победит? Победит тот, кто будет дело делать, и кто этим делом займет жаждущую успокоения и творческой работы Россию.
14(27) июня, №10865
DCLV
Не весело. Все старые пьесы даются в Г. думе. И вчера, как и прежде, крики «палач», «погромщики», «вон», «в отставку», вся эта «химическая обструкция» левых и крайних. Гимназисты разливали пахучую жидкость, члены Г. д. разливают пахучие слова. В театральном зале пять человек могут устроить скандал, точно так же и в Г. думе. Где толпа, там более страстные, более смелые и крикливые ведут за собою всех, если у этих всех есть уже известное настроение. А у Г. д. оно есть. Она не хочет работать с этим кабинетом, и вместе с тем в своих органах ежедневно кричит:
«Если Г. д. разгонят, то это будет сигнал к ужаснейшей революции».
Да зачем ее разгонять? Кому это интересно и кому надобно? Можно удивляться одному: зачем министры ходят в Г. д., если они не хотят или не могут уходить? Думают они укротить ее своим смирением что ли? Или думают, что a la guerre comme a la guerre и необходимо исполнять свою обязанность? Вероятно, так. Вчера г. Набоков, похожий на маркиза де Ha-Боку (de N’A-Beaucoup) в романе Поль де Кока, не умеющий отличить «великого анархиста» Л. Толстого, как он его назвал, проповедующего непротивление злу и самоусовершенствование, от анархистов, проповедующих всяческое насилие и всякие восстания, этот маркиз сказал вчера, что, после принятия Г. думой закона об отмене смертной казни всякий суд «совершит уголовное преступление», если постановит над кем-нибудь смертный приговор. Значит, не нужно ни Г. совета, куда восходит думское постановление, ни утверждения государя. Есть только Г. дума, и все то, что она постановит, есть закон. Коротко, но не ясно. Но если маркиз такого мнения, то с простых граждан нечего и спрашивать. Они обыкновенно охотно идут за богатыми маркизами, притворяющимися революционерами, чтоб потом свернуть нм шею, если они не успеют убежать за границу.
На этих днях в органе кадетской партии было объявлено, что в Петергофе «окончательно понята невозможность» кабинета И. Л. Горемыкина. Понято вместе с этим, что «положение безвыходное», что «Г. дума за месяц разговоров (курс. подл.) сделала себя неприкосновенной», но все еще не понято, чего будет стоить Петергофу этот месяц проволочки. Месяц тому назад Г. дума, или, вернее, ее заправилы, отнеслись бы снисходительно к Петергофу и «уважили бы его», как говорится, согласившись на льготные комбинации министерства из лиц, если не особенно приятных Петергофу, то все-таки и не особенно неприятных. Но теперь, увы, время упущено. На «разбушевавшемся народном море» остался один корабль — Г. дума, и только на этом судне «невольные пассажиры» могут спастись и для того «ищут лоцмана». Но ищут его «с элементарным политическим непониманием», ищут среди «лиц почему-либо более приятных или менее неприятных». Напрасно. О, напрасно! Если теперь еще могут быть «просто приятные дамы» и «дамы приятные во всех отношениях», то министры остались только просто неприятные и неприятные во всех отношениях. Других министров не может быть, и их нет и не будет. Теперь дело не в «лицах», а в «направлении». Петергофу обязательно принять «направление» и предоставить кадетам, а не кому другому, «выбирать» лиц, ибо только кадеты представляют собою всю ту «силу, которую имеет представляемое ими направление», весь тот «авторитет, накопленный их предыдущей деятельностью», который может спасти Россию от «общего кораблекрушения».
Замечательно откровенно сказано.
Так как в течение месяца я сосчитал по газетам, что г. Муромцев вызывался в Петергоф 15 раз для образования кабинета, и так как на самом деле его ни разу не беспокоили на этот счет из Петергофа, то я не могу сказать, насколько верно и на этот раз, что в Петергофе «окончательно» решено уволить кабинет И. Л. Горемыкина. Но слухи об этом росли с самого 13 мая, когда последовало «недоверие» к кабинету. Известен этот политический прием — пускать слухи в известном направлении с тем, чтоб убедить общество в колебании наверху и в создании недоверия к кабинету внизу, среди администрации. Если являются слухи, что такой-то банкирский дом близок к ликвидации, то клиенты сейчас же спешат прекратить всякие дела с этим банкирским домом. Известный «Манифест» рабочих депутатов сейчас же заставил публику брать свои сбережения из сберегательных касс. Подобные этому слухи об отставке кабинета роняют к нему доверие среди ближайших его агентов. Какая будет политика нового кабинета? Может быть, он погонит всю администрацию или, по крайней мере, всех тех, которые будут заподозрены в усердии к политике кабинета, а потому поменьше усердия и побольше той формальности, которая служит и вашим и нашим.
Политика слухов, сочиненных, преувеличенных, клеветнических известий — вещь очень обыкновенная и всегда действительная. Как ни опровергайте ложь, часть ее все-таки остается и действует, как более или менее медленный яд. Чего нельзя сделать рядом талантливых революционных статей, для усвоения которых необходима известная степень развития, то можно сделать рядом нелепейших слухов. Притом наше правительство так теряется, что не осмеливается обращаться со своими опровержениями в те органы, которыми пущены слухи. Таким образом, само правительство как бы признает, что слух верен, если не пользуется законом, который обязывает всякую газету напечатать опровержение. Во всех странах законодательство о печати предвидит эти случаи для защиты от лжи и клеветы, как частных лиц, так и официальных.
Я хочу сказать о составе нового министерства, когда оно будет. Состав будет, как утверждает кадетский орган, из министров «неприятных». Кто же они?
Г. Муромцев, как первый министр, стал банальностью, невидимо побывав в Петергофе 15 раз. Называют первым министром г. Милюкова. Ему 47 лет. Он был профессором в России и Болгарии, лектором в Чикаго и Бостоне, занимался русской историей, писал по всем вопросам, религиозным, финансовым, аграрным, политическим. Я только что просматривал его книгу, им самим написанную по-английски и изданную в 1905 г. в Чикаго и Лондоне: «Russia and its Crisis». Книга написана в 1903–1905 г. «Книга эта не политический памфлет, написанный по случаю, а результат длинных годов, посвященных объяснению настоящего положения России русским прошлым». Так он начинает свою книгу. Г. Милюков не столько историк, сколько умный публицист, имеющий под рукою огромный исторический материал, сведенный к известным положениям. Россия шла и идет тем же историческим путем, как и другие державы. Таков в двух словах его вывод. Он едет по русской истории невозмутимо спокойно, ни за что не задевая, не встречая ни рытвин, ни рек, ни мостов, ни гатей, ни болот, где мог бы завязнуть экипаж или сломаться и заставить путника остановиться в недоумении и размышлении. Все для г. Милюкова ясно и все решено. Если он проходит иные явления и имена, то их и не нужно: они не по дороге. Кажется, трудно обойти такое имя, как Минин, а г. Милюков его обходит. Мне невольно напрашивается сравнение с Ключевским, с его двумя выпусками «Курса русской истории». Тот же стиль, если можно так выразиться, но у Ключевского вдруг вас резнет по сердцу глубоким русским чувством, или негодованием, или сочувствием. Чувствуется глубокий историк. У Милюкова — публицист, умный, холодный, решающий математическую задачу, решение которой давным-давно известно. Какой-то американский журналист назвал его «буйным агитатором» (violent agitator). Г. Милюков справедливо отвечает ему, что он совсем не из породы «буйных агитаторов». Для него Россия просто делится так: «Россия великого писателя. Льва Толстого» и «Россия министра внутренних дел. Плеве». Первая — Россия русской «интеллигенции» и «русского народа», Россия будущего; вторая — официальная Россия, Россия — анахронизм; у первой — свобода, у второй — деспотизм (the one spells liberty; the other, despotism).
Разделение опять прямолинейное, под знаменем двух несоизмеримых между собою величин. По иронии судьбы, Л. Толстой относится совершенно отрицательно к Г. думе, первой провозвестнице «свободы». Если Толстой «великий анархист», как назвал его маркиз Набоков, то он и «великий патриот», как назвал бы его я. Он — великий патриот во всех своих художественных произведениях, в особенности в «Войне и мире», патриот потому, что он говорил о русских людях и русских событиях только правду, он отгадывал эту правду тем художественным разумом, тайна которого у Творца веселенной. И в данном случае он бросил слово своего осуждения, как русский, любящий правду выше всякого кумира. Я совершенно убежден в том, что Толстой думает, что Россия гораздо сложнее и гораздо сложнее ее история, чем представляет ее себе и своим читателям г. Милюков.
Какой г. Милюков будет министр, если будет, не знаю. Мне вообще кажется, трудно сделаться хорошим министром, не имея за собой практической школы. Но я очень жалею о том, что ни г. Милюков, ни г. Гучков не сидят в Г. думе. Это были бы два такие лидера, которых никто не может заменить в Г. д. теперешнего состава.
Называют еще первыми министрами, давно — г. Шипова, недавно — графа Гейдена; в какой-то газете говорилось, что предлагали в Петергофе составить кабинет г. Стаховичу, но это такая же правда, как и относительно г. Муромцева. Говорят, что кадетская партия не хочет г. Муромцева, как первого министра, ибо он «превосходный» председатель Г. думы и его некем заменить. Гг. Герценштейна и Винавера кадетская партия обходит, как евреев, хотя они очень желательны, первый, как министр финансов, второй — министр юстиции. Trop de fleurs — два министра из евреев, но они и за кулисами не пропадут. В числе министров упоминаются и г. Петрункевич, и г. Родичев, и г. Набоков, и г. Кузьмин-Караваев. Даже г. Ковалевского прочат в иностранные дела, но он вчера в иностранных делах, кажется, спасовал перед г. Шершеневичем, который побил его тем же оружием. Трудовики пока не мечтают о министерских портфелях, но требуют, чтобы г. Жилкин был товарищем министра. Без подобной взятки не обходится ни одно партийное министерство, желающее иметь за собой большинство. Г. Жилкин только начало премудрости.
Впрочем, все это еще вилами писано.
21 июня (4 июля), №10872
DCLVI
Кажется, весь мир идет на Россию, по сигналу евреев и в защиту евреев. Сигнал этот дается газетами, а большинство газет в мире в еврейских руках. И русские газеты радуются, революционные открыто, пореволюционные с ужимкою. А, благодарим покорно Австрию: она делает запрос о белостокском погроме. Спасибо Англии, она делает запрос в парламенте о русских евреях. Вечная благодарность Жоресу и другим французам, которые посылают громы против России. Пожалуйста, сделайте ваше одолжение. Погромче, посильнее. Напирайте на Россию. Помогите нам приобрести свободу. Максим Горький, как настоящий предатель, призывал Европу к крестовому походу против России несколько месяцев назад. А теперь и Максим Ковалевский жеманится, как старая дева, перед Европою, желающая, чтоб ее полюбили за душевную красоту и за мнимую ученость по части английской конституции.
— Страна наша велика и обильна. Но обижают евреев. Приходите княжить и владеть нами.
Согласие массы русских газет и думских комиссаров в этом случае прямо умилительное. Провокация полиции, провокация военных властей, «планомерность» погрома, распределение частей войск с целью громить. Вот что нам говорят, кричат, визжат и кликушествуют.
Я отношусь с искренним порицанием к еврейским погромам не только потому, что всякие погромы мне ненавистны, но и потому, что еврейские погромы не что иное, как станции для завоевания России, ибо каждый таковой погром привлекает на сторону евреев множество христиан, по христианскому чувству любви и сострадания ко всем людям, тогда как еврею обязательно любить только еврея, только в еврее видеть «истинного человека» и действовать так, чтобы покорить под ноги его весь мир. Священные его книги ему это обещают, и он действительно завоевывает мир более и более, враждуя с христианской цивилизацией.
Гёте, великий Гёте говорит: «Как можем мы допустить причастность еврея к высшей культуре, источник и происхождение которой он отрицает».
Гуманный, отличавшийся большою терпимостью Вольтер, оставивший обстоятельные исследования по части еврейской истории и еврейского характера, много раз советовал выслать евреев в Палестину. «Еврейская нация, говорит он в «Essai sur les Moeurs», осмеливается обнаруживать непримиримую вражду против всех наций, она восстает против всех своих господ; всегда суеверная, всегда жадная к чужой собственности, всегда варварская, она пресмыкается в несчастий и дерзка в благоденствии (rampante dans les malheurs et insolente dans la prospérité).
В течение какого-нибудь полувека еврей наполовину завоевал Россию, и надо меньше полувека еще, чтобы он ее завоевал окончательно.
Добродушные либералы нашей Г. думы сейчас же после белостокского погрома, восклицали, что необходимо сейчас же узаконить равноправность евреев, а думские попы готовы предписать служить молебны во всей России о ниспослании победы и одоления евреев над христианами. Верные парламентским ветошкам, эти милостивые государи готовы сейчас же отдать русский народ в еврейское рабство, ибо далеки от того, чтобы видеть в еврейском вопросе государственный вопрос первейшей важности, который не должен поддаваться теоретической формуле о полном равенстве евреев, по крайней мере, до тех пор, пока не окрепнет под влиянием свободных учреждений коренное русское племя.
Я желал бы самого детального, самого беспристрастного следствия, чтоб выяснить все причины погрома, причинившего невинным людям много горя. Но отлично сознаю, что и такое следствие не убедит тех, которые хотят обелить во что бы то ни стало главного виновника в погроме, революционный Бунд. Во всех действиях этого Бунда видят «освободительное движение», а потому кто же смеет его винить? Напротив, Бунд оказал России огромную услугу. В его прокламациях, стачках, манифестациях, заговорах и уговорах нет ничего возмутительного с точки зрения революции. Это — война, война с оружием в руках, как словесным, так и материальным, война революции против русского правительства, и потому всякое революционное действие является симпатичным и всякое противодействие — позорным, бесчестным и погибельным для государства.
Вот в чем весь вопрос. Вот и все объяснение той бури и того ропота, которые раздались в Г. д. после белостокского погрома. Все это азбука. И если нужны кому-нибудь доказательства, стоит заглянуть в книгу г. Милюкова, о которой я вчера говорил («Russia and its Crisis»). Там в главе «The Urgence of Reform» изложена революционно-демократическая деятельность в России с 1895 по 1904 включительно и приведены правдивые данные на основании отчета социал-демократической и социал-революционной партий в связи с деятельностью еврейского Бунда, революционных русских заграничных газет и проч. Все это вместе составляло одно целое и очень деятельное, друг на друга опирающееся. Оно действовало под знаменем Революции, распространяя свои идеи в обществе, народе и войсках. Военный министр Куропаткин еще в 1902 г. обратил внимание командиров на революционные прокламации. Но у нас «обращают внимание» и «предписывают мероприятия» циркулярами, и притом тайными, а потому в результате пропаганда только усиливается. Эта тайна освобождает начальство от разумного и открытого противодействия и служит превосходным щитом для пропаганды.
Бунд был основан в сентябре 1897 г. В первом же году им устроены 312 стачек; в 156 известных стачках участвовало 27 890 человек. На еврейском жаргоне было распространено 82 000 прокламаций. По отчету Бунда за 1901–2 г., было напечатано периодических изданий, листков и прокламаций 398 150 экз.; устроено стачек 172; уличных демонстраций 30; манифестаций в синагогах и театрах 14; политических забастовок 6; тайных митингов 260, в которых участвовало 36 900 человек. Можно себе представить усиление энергии и средств Бунда в последующие годы, когда началась несчастная война и вместе с нею возросла смута. Революционная деятельность Бунда распространилась, как известно, и на Балтийский край, где между террористами было и значительное число евреев. «Революционная Россия», издававшаяся Бундом вместе с «Последними Известиями», распространила прокламации и брошюры в миллионах экземпляров уже в 1902 и 1903 годах. Вообще, если принять во внимание, что рядом с этой революционной деятельностью было полное отсутствие со стороны правительства подобной же деятельности распространением листков, брошюр и другими просветительными мерами, то можно сказать, что результаты революции еще недостаточно ярки, т. е. что народ еще недостаточно был восприимчив. Правительство ограничивалось чисто полицейской деятельностью и множило число «политических»[27]. Зато число революционеров, террористов, агитаторов, провокаторов увеличивалось с каждым днем, и они являлись всюду, и среди народа, подбивая его к погромам помещичьих усадеб и толкуя ему, что только Учредительное собрание даст ему землю, и среди солдат, убеждая их к неповиновению.
Какая лживая плоскость, после этих данных, уверять, что все делается при помощи правительственной провокации, что революция тут ни при чем и проч. Революция и «освободительное движение» представляют собою очень много сторон соприкосновения, так что практическое различие между этими словами и действиями, которые они изображают, очень часто ничтожное. Поэтому понятно, почему Г. д. не отнеслась порицательно к террористам. Понятна и та уверенность кадетской партии, с какою она берется, с помощью своего министерства, прекратить революцию и поставить на рельсы вагон русского государства и привести его пассажиров в порядок. Это министерство, крепко связанное с революцией в ее мирных освободительных задачах, станет действовать с большой энергией и, вероятно, не остановится перед тем, чтобы распустить настоящую Думу и собрать новую, выработав новую систему выборов. По крайней мере, так «говорят», а кто — это все равно.
Я пишу эти строки накануне обсуждения Г. д. белостокского погрома. Никакого беспристрастия к этому вопросу ждать нельзя, ибо если б и явились в Г. думе люди, которые захотели бы высказаться откровенно, без всякой вражды к еврейству, а просто с целью придти к мирному сожительству русского народа с народом, чуждым ему по племени, религии и характеру, но с которым жить во всяком случае приходится, то им заткнули бы рот. Надо чрезвычайное спокойствие, язык необыкновенного дипломатического чекана, чтоб говорить об этом поистине каторжном вопросе в таком вавилонском столпотворении, как Г. д. Ненависть к правительству, желание очернить его во что бы то ни стало, сделать его ответственным за все грехи прошлого, чуть не с Ивана Грозного, одно это замкнет уста всем членам Г. д., которые захотели бы разобраться в этом вопросе. Он к тому же — вопрос чрезвычайно сложный, и если Г. д. два дня важно рассуждала о том, следует ли допустить митинги на полотне железных дорог или нет, и пришла к тому заключению (слова г. Кокошкина), что вопрос этот будет принят в соображение комиссией, то как же можно себе вообразить, что Г. дума способна пролить какой-нибудь свет на еврейский вопрос?
Кроме обыкновенных гуманитарных соображений, Г. д. ничего не может сказать, и аргументация вся будет вертеться около правительственной провокации. Такие бестактные и узколобые люди, как г. Щепкин, готовый проглотить русского человека и съесть его с чесноком, способны облить всяческими подозрениями и самою клейкою грязью наших солдат и офицеров. Заступится ли кто-нибудь за русский народ, выяснит ли кто-нибудь причины погрома, независимо от всякой правительственной и военной провокации? Эти революционные убийства, эта революционная горячка, держащая все население начеку, не дающая ему покоя, но обещающая ему кисельные берега и медовые реки, это всенародное невежество, всероссийское и всееврейское, с придачею фанатизма с той и другой стороны, эта еврейская превосходно устроенная эксплуатация, берущая русского человека в охапку и выжимающая из него соки, эта ревность христиан к засилию еврейства, эти стародавние предания, наконец, о том, что дерзость еврея простирается до того, что он распял христианского Бога, — неужели все это не могло разнуздать человеческое терпение и не пробудить в человеке зверя?
Да, это один из самых проклятых вопросов и не Г. думе его решить. Иное дело, если б она была наполнена даровитыми и дальновидными людьми, а не такими средними, которые своекорыстно ищут ближайших целей, чтобы обвинительный акт против правительства был потолще.
22 июня (5 июля), №10873
DCLVII
Я прочитал сейчас речь г. Щепкина о белостокском погроме… «с точки зрения историка», как он выражается. Он ссылается на западноевропейскую прессу, которая якобы знает его «добросовестность» как историка. По исторической библиографии, как Ястрова «Jahresberichte der Geschichtswissenschaft», где за каждый год перечисляются все самые незначительные исторические вещи, не исключая журнальных статей, может быть, некоторые специалисты и знают его. Но чтоб у европейской печати было «хорошее мерило» для добросовестности его, это бессовестно он хвастается. Как историк, он — весьма незначительная величина, и то, что называется «западноевропейской прессой», его совсем не знает.
Не распространяюсь о всей бестактности этого хвастовства.
Пусть он «историк». Это даже очень хорошо, что он выступает в роли «историка», т. е. человека добросовестного, изучающего источники, сверяющего их, критикующего их и делающего из своего изучения беспристрастные выводы.
Посмотрим, что это за «историк».
Разве г. Щепкин смел бы говорить с такой наглой самоуверенностью в историческом сочинении, с какой он говорит в Г. думе? Чтобы написать скучнейшую книгу о Лжедимитрии I на немецком языке, г. Щепкин работал, вероятно, целый год, останавливаясь на всяких мелочах. Более 300 лет тому назад убит царевич Димитрий. Был ли он убит или кто другой вместо него, для нас это не имеет никакого значения теперь. России от этого ни тепло, ни холодно. Европа ничем не заинтересована в этом деле уже потому, что евреи в нем не участвовали. Но г. Щепкин изучает все следствие, занимается всякими показаниями и старается добраться до истины. Ему это мало удается. Он, кроме того, и тут обнаруживает недобросовестность, ссылаясь на такие сочинения, которые он не читал. Я это могу доказать. Но если на такое дело, как смерть царевича, он употребил много времени, чтоб исследовать его и написать, то как же он смеет говорить о своей добросовестности историка, когда белостокский погром он только понюхал в течение двух дней. Два дня, чтоб разобраться в таком сложном деле, где погибли до ста человек, два дня для того, чтобы разобрать исторические и бытовые причины погрома — историк не имел бы права пропустить это, — уяснить подробности его, найти действительных виновных и требовать их осуждения! Да надо быть или набитым дураком, или злобным мстителем, который думает только о мести, а не о правде, чтобы поверить такому историку. Это не историк, а Фукье-Тенвилль, злобный и бездарный прокурор. Да, злобный и бездарный. Весь доклад его — злоба и бездарность. Похвальба своей исторической добросовестностью — обман, рассчитанный на незнакомство Г. думы с историческими сочинениями г. Щепкина и с теми приемами, которые обязательны даже для плохого историка. Ничего подобного тому, что обязан сделать историк в историческом труде, г. Щепкин не сделал в белостокском погроме и в сотой доле. За подобное историческое сочинение его назвали бы невеждой и трижды бездарным и ничтожным человеком. Ему бы сказали, что так не поступают даже репортеры, а не только историки. Он поступил не только не так, как историк обязан поступать, но и не как порядочный прокурор. И порядочный прокурор был бы во сто раз добросовестнее. Ездивший с ним г. Араканцев, бывший прокурор, не меньше историк, чем г. Щепкин. Они друг друга стоят, два сапога — пара. В революционном суде, в должности публичного обвинителя, в суде, где не было ни контроля, ни кассации, где произнесенный приговор, без дальних разговоров, приводился в исполнение, только в таком месте г. Щепкин и годился бы. Ссылаясь на свою «историчность», он совершает бесчестный проступок перед наукой. Он профанирует ее ради личных целей и мести. И если Г. дума и выслушивает его и награждает рукоплесканиями, то это только значит, что она не желает и не умеет искать правды.
Я не говорю уже о том оскорблении русской армии, которое позволил себе г. Щепкин, сказав, что она «боится стрельбы». Г. Щепкин зато не боится лгать и клеветать, потому что уверен, что всякая ложь и клевета, произнесенные в Г. думе, останутся безнаказанными. Лжец и клеветник — не историк.
24 июня (7 июля), №10875
DCLVIII
Генерал Трепов серьезно думает об образовании думского министерства. Отчего бы не поручить составление его г. Аладьину? Всем известно, что наша Г. дума тем именно и замечательна, что самое замечательное лицо в ней г. Аладьин. Почему это так случилось, тому много исторических и истерических причин. В Г. думе есть профессора, приват-доценты, графы и князья, даже товарищ министра, но самый выдающийся человек из них всех — г. Аладьин. Генерал Трепов полагает думским министерством из кадетов победить г. Аладьина и его партию. Замысел великолепный. А я думаю, что министерство г. Аладьина будет великолепнее, чем министерства г. Муромцева, г. Милюкова и г. Петрункевича. Аладьинский кабинет несомненно имеет больше шансов образовать крепкое большинство по экономическим вопросам, как самым важным, а по вопросам политическим не пойдет дальше, чем всякий другой кадетский кабинет, но обнаружит самую непреклонную энергию.
Заслуги г. Аладьина многообразны. Прежде всего надо сказать, что он отнял у кадетской партии право собственности на Г. думу.
Эта партия, победив на выборах, вообразила, что Г. дума ее собственность и потому она может занять сразу непреклонную боевую позицию по отношению к правительству. Отсюда ее требовательный ответ на тронную речь. Отсюда ее необыкновенно горделивая позиция. Но вот г. Аладьин образовывает Трудовую партию и тем наносит кадетам такое неожиданное поражение, что оно сконфузило даже руководителя кадетов, г. Милюкова, и отдалило их победу.
Затем идет «исторический» день 13 мая, когда произнесено было недоверие кабинету г. Горемыкина. Резолюция о недоверии вышла из головы г. Аладьина или, что одно и то же, из головы его партии. Кадетская партия не умела даже составить резолюцию.
Если бы произвести думское, но более добросовестное дознание, чем о белостокском погроме, то оказалось бы, что первый, кто крикнул министрам: «в отставку» — был г. Аладьин. Крики в Думе: «Погромщики, палачи, убийцы, Каины» — все это крики г. Аладьина или его Трудовой группы. Самые резкие, самые беспощадные укоризны правительству произносил кто? — г. Аладьин. Кто постоянно указывал на «матерьальную» силу народа, который готов поддержать Г. думу в ее борьбе с правительством? Г. Аладьин. Разве не он прославил село Ногаткино, которое первое заявило, что «готово на самые крайние меры» для этой борьбы, а 75 баб этого села обратились к нему с требованием, чтоб он добыл женщинам «гражданские и политические права», ибо, говорили они, «женщина-раба не может быть матерью свободного гражданина»? Конечно, ногаткинским бабам позволительно не знать, что не только свободные граждане, но и великие свободные граждане рождались от рабынь, но важен самый факт, что даже бабы за г. Аладьина. И не только бабы. Петербургские дворники обратились к нему же с безграмотною, но сильною резолюцией, которую можно почти назвать дворницкой революцией. Стало быть, самый надежный элемент столичного населения, дворники, за него всей душою.
Кто грозил министрам не только побоями, но даже такою смертью, что от них и праха не останется? Все он же. Сначала огорченная образованием Трудовой группы, кадетская партия потом убедилась, что он бескорыстно вытаскивает для нее каштаны из огня, и радовалась и подстегивала его дружелюбным хлыстиком своих рукоплесканий. Силою своего демагогического одушевления он решительно оставил за собою г. Родичева, который даже перестал обращать на себя внимание Думы и общества. А г. Аладьин говорит далеко не так чисто, как другие члены Думы. Зато он говорит тем повелительным языком, какой только ему одному свойствен. Он сделался популярным человеком в низших и высших слоях общества. Он поразил всех властностью своих речей и авторитетностью своей натуры. Он много раз говорил, что пришел в Таврический дворец, чтоб «спасать Россию», и что только Г. дума (конечно, он особенно, как всякому это ясно) удерживает народ от поголовного восстания. Он говорил, только другими словами, то же, что князь Урусов, уверявший, что Дума «бережно старается поднять царскую корону», т. е. заявлял и о своей благонамеренности не менее князя Урусова. Как популярный человек, он приобрел себе преданных друзей и врагов, которые даже готовы покуситься на самую его жизнь. Так, один генерал-лейтенант, которому сторож указал г. Аладьина, сказал «на своем жаргоне», смотря на люстру и думая о г. Аладьине, в самом Таврическом дворце, такие замечательные слова:
— Если бы несколько членов Трудовой группы было повешено на эту люстру, как это было бы приятно.
Аладьин сам это рассказал в Думе (заседание 8 июня), и когда г. Муромцев вопросил его: «Кто это сказал?», он великодушно скрыл имя генерал-лейтенанта. Конечно, публичное указание на смертные приговоры, им получаемые, можно поставить ему в вину, ибо общественный человек должен ставить общественные цели выше личной безопасности и не прибегать к приемам, рассчитанным на жалость. Но без этого извинительного недостатка русский человек не может обойтись, как без водки перед обедом.
Его быструю популярность можно сравнить только с популярностью г. Горького. В его отношении к старому режиму звучит ненависть горьковских героев, и даже форма его речей напоминает форму речей тех героев г. Горького, которые возвышаются над босячеством и вкушали образования.
Помните, как все сходили с ума от г. Горького, как он вдруг приобрел популярность не только у нас, но и в Европе. Не только мужчины, но и дамы самого высокого света зачитывались им. Когда давали в Малом театре в Петербурге «На дне», весь большой свет наполнял ложи бельэтажа, бенуара и кресел. Все наперерыв стремились опуститься «на дно», где отребье человечества процветает и страдает, кипя ненавистью и завистью к тем, кто на поверхности и в бельэтажах. Я тогда, говоря об этой пьесе, обратил на это внимание и выразил свое удивление. Но следовало не только удивиться, но проникнуть в глубь этого явления. Л. Н. Толстой говорил мне после первых книжек г. Горького: «Он открыл нам новый класс людей». Но и великий писатель земли русской едва ли подозревал все значение этого открытия. Это было не столько литературное и подавно не столько художественное явление, сколько политическое, революционное. Негодующий, почти ругательный тон, то дышащий мщением, то желанием оскорбить, проникал эти произведения. В этом тоне есть что-то повелительное, приказывающее ненавидеть и презирать все то, что повыше, покультурнее и приличнее.
В романе Гюго «L'homme qui rit», главное действующее лицо — урод, нарочно приготовленный ворами детей (компрачикосами). Рот у него был разрезан до ушей. Его любит слепая девушка Леа и роскошная герцогиня Джосиана, испробовавшая все сладости жизни. Первая любит, не видя его уродства; вторая именно за уродство. Любви с уродом она еще не испытала, а потому горела желанием испытать. Нечто подобное было во влиянии г. Горького на русское общество. И низы и верхи восхищались им. Низы — потому, что он говорил их языком и их ненавистью, верхи — потому, что они не испытали еще удовольствия быть «на дне» с его обитателями, не признающими никаких нравственных законов, никакого удержу. Заманчивый перец распущенности манил и высший свет и возбуждал его к распаду. Г. Горький не попал в Г. думу и поплыл в Америку добывать лавры свободы. Его политическо-литературное влияние кончилось, потому что явилась революция на деле и уж многих роскошных приблизила «ко дну», а иным грозит и самым дном. Он все сказал, что имел, и за два года до смерти своей мне Чехов говорил: «Мне Горького жаль. Через два года ему нечего будет писать». Но он сделал свое дело, может быть, бессознательно. Г. Аладьин именно из г. Горького и вышел, и им напитался. Поэтому не только политике, но и литературе причастен. Как и г. Горький, он увлек за собой и слепых, как Леа, и всех этих образованных и богатых кадетов, которые считают «интересным» для себя и для России этот непримиримый, ругательный тон, как нашему высшему обществу казались весьма интересными герои «дна», производившие всякий развал.
Г. Аладьин и мешает кадетам, и помогает им. Они готовы и оттолкнуть его, и прижать к сердцу. Они ненавидят его и готовы лобызать. Его экономические цели дальше кадетских целей, но его средства, его тон, его смелость им на руку. Сами они — люди воспитанные, приличные, диспутирующие очень пространно о матерьях важных и неважных; они искажают иногда смело факты для идеи, но формы их приличные; но, соблюдая те же формы, они весьма не прочь, если для их пользы и для пользы России, конечно, раздаются ругательные и ненавистнические речи, действующие на самые широкие круги, захватывающие дворников и хулиганов. Не мытьем, так катаньем…
Итак, г. Аладьин несомненно представляет собою самую властную, самую решительную фигуру. О нем говорят больше, чем о всех членах Думы, и в его лице соединяют всю Трудовую группу.
Естественно поэтому, что самый замечательный человек Думы и должен образовать новое министерство взамен теперешнего, дискредитированию которого он несомненно способствовал именно в самых широких кругах. Генерал Трепов это понимает, но очевидно не очень.
«Дно» выплывает на верх, без «дна» никто ничего сделать не может.
На поверхности нет смелых и талантливых людей, вероятно потому, что они, как герцогиня Джосиана, извратились, избаловались, разжирели и измельчали.
29 июня (12 июля), №10880
DCLIX
Итак, из всех разговоров о думском министерстве, кажется, ничего не вышло. Поговорили, посудачили, поволновались, и баста. А на мой проект об аладьинском кабинете никто серьезно не посмотрел. Подумали, что это шутка, а близорукие люди, боящиеся аладьинцев, как соперников, подумали, что я хочу поссорить кадетов с трудовиками. Была неволя заниматься таким вздором. Я серьезно убежден в том, что трудовики — это нечто чувствующее народ, нечто непосредственное, говорящее нутром, как иные искренние актеры и актрисы говорят без школы, без науки, но нутро заражает толпу, а кадеты — это люди, прошедшие книжную школу. Будь эти Аладьин, Жилкин, Аникин и проч. такими же натурами, как Набоков, Кокошкин, Щепкин, Винавер — они бы сыграли роль молчальников и не выдвинулись бы на вершок и никто бы их не заметил. А вот этих заметили. Среди действующих лиц Г. думы они выдвинулись сами собой, как выдвигаются вдруг среди драматической труппы такие актеры, на которых антрепренер вовсе не рассчитывал, приглашая их на маленькие роли, а первачи и не воображали, что в них встретят соперников у публики. И вдруг публика их заметила. Первачи стали ругать громко публику, которая в искусстве, мол, ничего не понимает, а внутри себя почуяли некоторую зависть.
Молодые руководители трудовиков, к сожалению, слишком тронуты международным социализмом, который не дает простора их русскому чувству и русскому здравому смыслу. Они теряют свою русскую оригинальность и увлекаются общею враждою к тому, что называется старым режимом, слишком общо и в чем следовало бы отмечать природное от навеянного, бытовое от рабского. Подобно г. Петрункевичу, они считают, что «слово патриот — отвратительное слово», подобно г. Герценштейну, готовы назвать пожары «иллюминацией» и подобно г. Родичеву, набрать громких слов и составить из них пахучий букет гостинодворского амбре. У них русское чувство и разум подавлены ненавистью, и революционная репутация обязывает к известной тактике, которая может быть или совсем фальшива, или непригодна в русской обстановке. Мне кажется, что в глубине их души таится что-то отвергающее теорию г. Милюкова, который вместе с своей партией думает, что все народы одинаковы и что история всякого народа идет по одним и тем же путям и приводит к одним и тем же целям. Очень может быть, что лестница, по которой приходится взбираться, одинакова, но люди, которые по ней восходят, разнствуют, как разнствуют звезда от звезды, и у каждой звезды свой определенный ход. А если люди разнствуют, то это обязывает не давить своей души тем шаблонным революционизмом, который начинает походить на машину, совершенно бездушную, и теми теориями, которые меняются, вырождаются и отживают, тогда как народный смысл и характер, народная душа заключает в себе нечто вечное. Надо ее допрашивать почаще и посильнее в связи с тем разбродом и беспорядком, которые влекут родину в какую-то пропасть.
И только того весь русский народ почувствует, кто заговорит как русский человек, не стесняясь никакими шаблонами, как бы они ни были научно или революционно авторитетны. Как вершину этой шаблонности можно указать на печальное изречение историка и депутата Кареева, который не признавал за русским права называть Россию — Русской землей. В «Курсе русской истории» проф. Ключевского есть следующие слова, которые можно отнести к понятиям не таких даже людей, как г. Кареев: «Из пошехонского или ухтомского миросозерцания разве легко было подняться до мысли о Русской земле Владимира Святого и Ярослава Старого! Самое это слово Русская земля довольно редко появляется на страницах летописи удельных веков. Политическое дробление неизбежно вело к измельчанию политического сознания, к охлаждению земского чувства».
Измельчание политического сознания, охлаждение земского чувства — вот чем страдают депутаты нашей Думы. Кадеты низвели политическое сознание к своей партии, не то эволюционной, не то революционной, во всяком случае бессильной без поддержки революции, а трудовики тоже боится выйти из своего ухтомского революционного мировоззрения. Держа друг друга за хвост, ни та, ни другая партия не хочет или не может подняться до русского объединяющего и глубокого чувства. Обе партии не творческие, а компилятивные, как бывают творческие произведения и компиляции. Творчество смело, потому что оно сильно своим духом, увлекательно и надежно, в компиляции — все заимствованное и она качается из стороны в сторону, делая большие размахи к мелочам и скандалам и маленькие к важному делу.
Ни в той ни в другой партии никто не смел заикнуться о русском чувстве в таком вопросе, как еврейский погром. А это русское чувство обязывало к тому, обязывало сердцем и разумом, обязывало историей. Осуждайте погром, как бесчеловечный, плачьте хоть кровавыми слезами о погибших жертвах его, но скажите же, почему он явился? Сочувствуйте искренно «угнетенному племени», но скажите и о том «угнетенном» племени, которое делало погром. Надо совершенно презирать русский народ, надо забраться в пошехонскую или ухтомскую революционную раковину, чтобы объяснять этот погром провокацией. Никакая провокация не двинет народ против народа, если между ними не выросло вражды и ненависти. Вражда лежит в погромах помещичьих усадеб, и вражда лежит в еврейских погромах. Почему Дума замалчивает одни и выдвигает другие? Надобны все усилия материальные, чтобы остановить их и не допустить, но надо признать и их зависимость от причин более глубоких, чем натравливание, т. е. провокация. Русский народ не бешеная собака, готовая грызть всякого по указке начальства. В Думе все старались это отрицать, за исключением только двух депутатов. Один из них, г. Способный, указал на ближайшие, грубые причины со стороны евреев, другой упомянул о великорусском чувстве и заступился за армию. Им рукоплескала только маленькая группа, остальное шикало. Говорить о великорусском чувстве! Какова дерзость в этом собрании, где пошехонские революционные чувства и ухтомские расчеты об автономном расчленении Русского государства составляют такой принципиальный груз, что против него ничего не поделаешь. Не смеют! Уста завязаны и сердце слишком ровно бьется при слове «русский». Это слово не начинало звучать в Думе. Оно стало синонимом правительства, а не русского народа и русской земли. Самая Дума есть Государственная дума, а не Русская Дума. Государство — что-то неопределенное, способное разлагаться на составные части, а Русская земля — это центр жизни, это вся история, великая, многострадательная история, политая слезами, кровью, потом работы и великими подвигами именно русского народа, а не какого другого. И до этого сознания не поднимаются, его душат в себе эти представители русского государства, приносят его на алтарь своих партий, своей борьбы с так называемым правительством, с его провокацией и с русской армией. Прочь с дороги! Это наше место! Да ваше ли? Если оно ваше, почему вы молчите, кто вы, откуда, из какой страны, от какого народа? Почему вы не скажете, что вы русские, что сердце ваше кипит русским чувством? Стыдно называть себя русским? Эти слова были сказаны. Но если нищий не стыдится назвать себя нищим, почему вы стыдитесь русского имени, которое может назвать свои подвиги, свои славы? Почему вы отделяете себя от униженной России, когда вы кость от костей ее и плоть от плоти ее? Почему в вас самих бездна добродетели и ни одного порока? Вы звоните во все колокола о своих добродетелях и даже колокольчиком не позвонили о вашем национальном чувстве. Не надо его? Оно само собой разумеется?
Вы желаете освободить народ от правительства, потому что оно бессильно и бестолково. Прекрасно. Но вы ничем еще не доказали, что вы сильны и толковиты. Вы молчите, когда католический епископ, барон Роопп, обижает старообрядцев, этих крепких русских, не продававших своей веры ни за какие деньги, не продававших своего отечества и русского имени даже за границей, куда их безжалостно гнали, и проклинали на соборах. Вы не смеете сказать горькой правды об евреях и русском народе, сказать мягко, либерально, на общечеловеческом гуманном языке, ибо объяснить вражду двух народов не значит возбуждать эту вражду, а значит открыть путь к устранению причин этой вражды, значит идти на примирение. Ни одной речи, которая бы до этого возвысилась, которая бы дышала доводами разума и красноречием души. Провокация, провокация, провокация! Ничего, кроме провокации. Устранить провокацию, и все будет превосходно.
Черт возьми, какие умные люди и великие таланты. Недаром «весь земной шар» прославил провозвестника провокации. Но если б привести сюда нильского крокодила и рассказать ему, что погромы усадеб производятся без революционной провокации, а еврейские погромы происходят только от провокации, он прыснул бы со смеху и в благодарность за веселость не съел бы ни одного депутата.
4(17) июля, №10885
DCLX
Читал вчерашнее заседание Г. думы. Мне телефонировали на дачу, что оно необыкновенное, что продлится до 2 часов ночи. Я думал, что это вроде французского 4 августа. Понятно, с каким интересом взялся я за газеты. Особенно замечательного я ничего не нашел; мне даже казалось, что большая часть ораторов топчутся на одном месте, не обнаруживая ни таланта, ни мысли, ни смелости.
Но заседание все-таки интересное. Дума обсуждала вопрос: переходить ей Рубикон или нет? Мысль эту подал ей г. Кузьмин-Караваев. Думская комиссия написала план перехода — это «воззвание» к народу по аграрному вопросу в ответ на «Правительственное сообщение» по тому же вопросу. Сам инициатор произнес «взгляд и нечто», в котором провозгласил, что «если еще гром не грянул, то в этом нужно видеть прямое воздействие того авторитета, которым облечена в глазах населения Дума».
Поэтому необходимо Думе обратиться к народу с воззванием об успокоении. Итак, «воззвание» это имеет в виду прекрасную цель. Горят усадьбы, производятся грабежи. Дума своим воззванием все это остановит, потому что единственный оставшийся авторитет — это Дума. Я готов с этим согласиться, то есть с тем, что «воззвание» Думы к народу действительно могло бы внести некоторое успокоение. Но читая прения и самое воззвание, я начинаю сомневаться.
Что такое это «воззвание»? По своей форме нечто беззубое, канцелярское и бездушное. Разве такая канцелярщина может успокаивать? Воззвание читается, как бумага какого-нибудь станового пристава, который, «не взирая», и впредь будет стараться. Ни одной фразой оно не говорит ни уму, ни сердцу. В нем нет ничего такого, что отвечало бы слову «воззвание». Выписывается протокольно «воля народных представителей» и кончается «волею Думы». Воля может быть безгранична, как у отдельного лица, так и у народных представителей. Чтоб «воля» Думы сделалась законом, для этого надо еще много. Г. дума не есть парламент Англии, где «король в парламенте», где нет никаких «основных законов» и где парламент может все сделать, исключая одного: сделать мужчину женщиной или женщину мужчиной. Так дело там стоит в принципе, но на практике и он не столь свободен, ибо существует множество таких бытовых, исторических и психологических условий, перед которыми и английский парламент становится в тупик, несмотря на свою работу в течение многих веков. А наша Дума хочет каким-то воззванием, в котором нет ни государственного смысла, ни пророческого одушевления, достигнуть своих целей, в которых к тому же не отдает себе ясного отчета.
Прочитав затем прения, я подумал: зачем эти прения о «воззвании», когда оно уже напечатано и сегодня пошло по России, по крайней мере, в миллионе экземпляров? Можно было бы совсем обойтись без прений. Народ и без того его прочитает. Как он поймет его, неизвестно. Усилятся ли аграрные движения или остановятся? 6 этом весь вопрос. «Правительственное сообщение» призывало народ к спокойствию, обещая ему известные аграрные меры. Эти обещания не остановили погромов усадеб и пожаров. Местные власти или бездействуют, или растерялись. Воронежский губернатор «прибыл» в Бобров с войсками уже тогда, когда в этом уезде погромлено и сожжено на миллионы, а от Воронежа до Боброва по железной дороге можно доехать в 4–5 часов. Nous revenons toujours trop tard. Всегда опаздываем. Подействует ли думское «воззвание» в смысле «спокойствия» или воздействует иначе? Чтобы решить этот вопрос беспристрастно, необходимо было бы, чтобы правительство г. Горемыкина предписало немедленно губернаторам приостановить всякое воздействие на крестьян-погромщиков. Пусть делают, что хотят, читая «воззвание» и проникаясь обещанием Г. думы «принудительно отчуждать частную собственность».
Если аграрные беспорядки прекратятся без всякого действия против них правительства, то и чудесно. Значит, Г. дума действительно владеет тем авторитетом, о котором говорит, и перешла Рубикон, как Цезарь, перед которым склонился Рим. Ведь перейти Рубикон совсем не трудно, но трудно овладеть Римом.
Многие ораторы и говорили в этом смысле. Укажу только на несколько фраз.
Князь Волконский сказал, между прочим: «В результате получится выколачивание одного авторитета другим. Это разожжет лишний раз страсти населения». Г. Скирмунт, молодой депутат Северо-Западного края, сказал прямо прекрасную политическую речь: «Нельзя убивать муху на чужой щеке… Мы смелой рукой пишем «Мене, текел, фарес» на институте частной собственности… Мы успокоим народ, но только на развалинах всей нашей культуры». Проф. Петражицкий, признавая, что Г. дума может решиться в революционное время на «отчаянные шаги», сказал: «Мы имели бы право искать в «воззвании» нового великого слова, рассчитанного на великий результат. Какое же новое великое слово находится в проекте обращения»? Никакого. Разобрав работы аграрной думской комиссии, он называл их «весьма ничтожными», и никакого «великого слова» Г. дума не произнесла.
«Великое слово» — это чудесное выражение. Действительно, великое делается только великим, вдохновенным, мужественным словом. А если его нет и ждать его неоткуда, то надо работать, не прибегая к таким фокусам, механизм которых малому ребенку понятен, несмотря на все старания левых завернуть его в платок «успокоения населения».
Я должен отдать справедливость г. Рамишвили, который поступил молодцом. Как горячий восточный человек, он искренно объяснил поднятый вопрос о воззвании к населению, сказав, что «воззвание надо закончить не призывом к спокойствию, а призывом его к восстанию, которое только одно может помочь делу». В «зале свободы» — так назвал г. Муромцев вчера свою залу — послышался смех. Не понимаю, что тут смешного. Г. Рамишвили назвал настоящее слово, которое отказывались произнести другие или верили в чистоту своих намерений, что воззвание — это успокоение. Г. Рамишвили помогли и трудовики, эти «комаринские мужики», как названы они в нашей карикатуре во вчерашнем иллюстрированном прибавлении. Один из них сказал: «Народ должен организоваться и всеми способами заявлять о своей поддержке народным представителям… в конце сообщения необходимо подчеркнуть, что не мир и спокойствие, а беспокойство в великом смысле этого слова может организовать массу». Не знаю, к какой партии принадлежит депутат, еще яснее поддержавший комментарии депутата Рамишвили вот этими словами: «Единственный исход из заколдованного круга — это взять временно в свои руки исполнительную власть».
Чего лучше — объявить себя временным правительством. Одно опасно. Не сопротивление правительства г. Горемыкина — это, я думаю, не очень опасно. Опасна борьба за диктатуру. Грешный человек, я не вижу в Г. думе диктатора, помимо… кого-нибудь из упомянутых «комаринских мужиков». На тему «комаринского мужика» бессмертный Глинка написал чудесную пьесу. Это наша Марсельеза, а не те, что распеваются на улицах. Это действительная, настоящая наша Марсельеза. Народ сочинил слова превосходные, а великий музыкант положил их на музыку. Комаринский мужик жжет и грабит усадьбы. Услышав, что кадетский проект исключает из экспроприации сады и огороды, комаринский мужик бросился их уничтожать. Узнав из речи проф. Петражицкого, что думская комиссия исключает из экспроприации еще целые восемь разрядов земельной собственности, комаринский мужик начнет уничтожать и эти 8 разрядов. Всю земельную культуру к черту. Для комаринского мужика нет пределов и нет исключений.
«Он бежит, бежит, посвистывает» и делает еще нечто неудобосказуемое, при всем народе. Не естественно ли отсюда заключить, что только комаринский мужик и может быть диктатором во временном правительстве.
Впрочем, как вам угодно.
6(19) июля, №10887
DCLXI
Кадеты потерпели вчера поражение на «Воззвании» к народу. Это совсем не пиррова победа, как называют вчерашнее голосование некоторые, а прямо и просто поражение. Они понесли это поражение в самом чувствительном месте своего сердца — революционном, или вернее притворно-революционном. Говорю так, потому что революция им нужна для того самого, для чего кавалеристу нужен конь: на нем можно доехать дальше и вернее, чем пешком. Спина у революционного коня широкая, и если хорошо на ней усесться, то можно приплыть к министерским портфелям очень скоро, ничем не рискуя. Один из сочувственников кадетского министерства (иностранец) говорил мне не так давно:
— Кадет надо пожалеть. Они истратили полтора миллиона на выборы, чтобы стать во главе страны и ею управлять. При следующих выборах они не могут истратить такой суммы…
Не знаю, сколько правды в этой басне о полутора миллионах. Но вчерашнее поражение было так неожиданно, что кадетский лейб-орган совсем потерял кураж и старается скрыть поражение такими жалкими словами:
«После такого (курс. подл.) голосования — Думе ничто не страшно».
Думе, конечно, не страшно после такого голосования, которое совсем не определило большинства ее, но кадеты потеряли свои шансы на портфели. Портфели поднялись на воздух. За воззвание высказались 124 человека, против него 154. Правда, в этой последней цифре 101 воздержавшихся (трудовая группа и польское коло), но эти воздержавшиеся и устроили поражение: они не могли идти с правыми и не хотели идти с кадетами. Я подчеркиваю эти два глагола. Они не хотели подставлять свои спины кадетам, не хотели служить ни лошадьми для кадетских кавалеристов, ни комаринскими мужиками, которые побегут вперед и расчистят место для «господ».
И посмотреть, что это за пустыня была в Думе. Ведь голосуют только 177 человек, меньше половины всей Думы, 101 воздерживается, остальные или не пришли, или разбежались. И это победа! Полноте дураков ломать. Никто вам не поверит. И если вникнуть в подробности прений, то окажется, что кадетская партия вела себя в высшей степени непристойно, напоминая те свои приемы выборов, когда она рассылала две прокламации: одну интеллигентам-буржуа с обещанием уплатить за отчуждаемую землю, другую мужикам с обещанием отдать землю даром. Кадеты постарались устранить из воззвания «справедливую оценку» земель, то есть совершали покушение на обман народа. Народ будет читать это воззвание и естественно объяснит его с выгодной для себя стороны, то есть что Дума даст землю даром. Этот пункт воззвания утвержден 155 голосами против 75 и 66 воздержавшихся. Итак, 141 человек не пожелали участвовать в покушении на обман, то есть почти половина всех присутствовавших депутатов. Некоторые депутаты говорили, что от имени Думы даже нельзя говорить об отчуждении земель, потому что этот вопрос не только не обсуждался в Думе и не голосовался, но даже и в комиссиях еще не решен. Но кадеты настояли на своем. В Думе более 400 человек. Если голосовали только 296 человек, то больше ста человек отсутствовало. Где они были? Может быть, и они не желали участвовать в сочинении такого фальшивого документа, и это говорит в пользу представительства, хотя еще не окрепшего.
Фальшивость воззвания подтверждается голосованием о насилиях и погромах. Депутатом Ефремовым была внесена поправка к проекту воззвания в таком виде: «Г. д. предупреждает население против всяких погромов и осуждает насилие, от кого бы оно ни исходило». Только 46 голосов высказались за это. Все остальные за насилие и за погромы, откуда бы они ни исходили. Это великолепно и чрезвычайно умно! Революционеры будут агитировать поджоги и грабеж усадеб, мужики жечь и грабить помещиков, помещики жечь крестьянские усадьбы, правительство стрелять и казнить, а Дума будет дожидаться благосклонно того момента, когда Верховная власть попросит ее составить министерство и прекратить эти беззакония. Если б Дума согласилась осудить погромы и насилия, она тем самым отдалила бы свой призыв ко власти, ибо неодобрение ею насилий могло бы повести к некоторому успокоению и утверждению настоящего министерства. Не правда ли, это нелепо? Но ведь так выходит. Мне могут возразить, что отвергнуть поправку об осуждении погромов и насилий еще не значит одобрить погромы и насилия. Так мне возражали, когда я говорил против того приговора Думы, которым она отказалась порицать революционные убийства. Но после того она порицала белостокский погром. Правда, она видела в этом только провокацию правительства и осуждала погром только как погром, произведенный правительством. Но ведь поправка г. Ефремова говорила о погромах и насилиях, «откуда бы они ни происходили», то есть он предлагал осудить и правительственные погромы и насилия. Ведь это ясно? Согласитесь, что если Дума не могла думать о том «нелепом», о чем выше упомянуто и что я сам считаю нелепым, то она нелепо противоречила самой себе.
Вы скажете, что противоречие — дело неважное. Соглашаюсь. Но согласитесь и вы, что если Дума не одобряет своим голосованием погромов и насилий, то она остается бездействующей зрительницей их. Разве это честно? Ведь даже в театре зритель принимает участие в разыгрываемой на сцене драме. Он аплодирует, плачет, жалеет, негодует. Как же Дума отказывается от подобных ощущений при виде трагедии в русской жизни? Неужели она не понимает, что быть зрителем этой трагедии, не ударить палец о палец, когда стоны, плач и проклятия доносятся до Петербурга, значит поступать хуже, чем действуют люди в этой трагедии, которые рискуют своей свободой, своим достоянием, своей жизнью. Ведь даже поджигающий и грабящий мужик рискует не только собою, но и своими близкими. Если ограбленный и сожженный не заслуживает, по вашему мнению, симпатии, если его бедняжки дети, росшие в деревне, не внушают вам жалости, то как вы не пожалели поджигателя и грабителя? Как вам не стыдно не сказать ему: «Остановись! Не жги и не грабь! Вспомни Бога и совесть»!
Каким образом только 46 человек нашлись, которые поняли необходимость порицания погромов и насилий в таком акте, которым Дума говорит прямо с народом, прямо со своими избирателями. Это не прежнее голосование Думы, которым она отвергла порицание политических убийств и грабежей. Вчерашнее голосование гораздо важнее, ибо воззвание обращается прямо к народу и в то время, когда пылают усадьбы и города, когда тысячи людей из зажиточных становятся нищими, когда женщины и дети спасаются бегством в леса и бродят бесприютные и голодные, когда убийства и грабежи нагло прикрываются знаменем революции, когда в самой Думе говорят об убийствах поджигателей, когда в самой Думе опасаются вмешательства в русские внутренние дела Германии и Австрии. Дожить до таких ужасов, до такого унижения, что иностранные государства грозят России мечом, и оставаться равнодушными к судьбе Родины — да ведь это безумие! Что будто только министерство во всем этом виновато — ведь это ложь. Ведь ложь и то, что будто Петрункевичи, Набоковы, Герценштейны, Муромцевы, как только примут власть, сейчас же все и кончится и начнется благодать. А если не кончится, они просто скажут: «поздно призвали!» Но как мы можем верить в спасительную силу кадетского министерства, когда добрая половина Думы не хочет идти вместе с партией, распределяющей между своими министерские портфели? Как мы можем верить этой партии, когда она не дала ни одного человека, выдающегося своим умом, здравомыслием, энергией, своим мужеством и патриотизмом? Как можем мы верить словам, когда нет никаких дел, когда ужас положения не трогает руководителей Думы и когда среди пожаров, слез и проклятий они продолжают считаться с теми, которые не хотят уступить им мест?
Г. Петрункевич говорил в Думе твердо: «Поджигая усадьбы, народ не добьется удовлетворения земельной нужды». Слова прекрасные. Но был ли он среди тех 46 депутатов, которые соглашались порицать погромы и насилия? Нет. Он хитрил и вертелся, как многие другие. Он жаждал аплодисментов и восклицал: «Момент борьбы еще не наступил. Когда он наступит, мы заговорим другим языком и не с кафедры». Неужели? Где же это место и какой это другой язык? Г. Петрункевич совсем не демагог, и у него не хватит ни чувства, ни огненного языка для того, чтобы поднимать толпы. Он произносит хвастливую угрозу. Я не имею права сомневаться в его мужестве, но я уверен в его бессилии. Орган кадетов говорит мне, что я льщу трудовикам, что хочу поссорить их с кадетами, когда я говорил о товарищах-трудовиках. Но я говорил только то, что сознавал. Трудовики говорят и действуют прямо. Они с открытым лицом. Их речи — не речи политиков и дипломатов, не речи притворщиков-революционеров. Я не могу сочувствовать ни их речам, ни их делам. Я их враг. Но они искренни, они энергичны, и если они очутятся во власти, они разовьют такую правительственную деятельность, что в каждом угле Русского царства власть будет чувствоваться, как воздух, и видна будет, как день и ночь. Я не хочу власти трудовиков, потому что это будет власть террора, но я хотел бы такой власти в Русском царстве, чтоб она чувствовалась, как воздух, чтоб она видна была, как день и ночь, и чтобы ее окрылял разум порядка и свободы.
8(21) июля, №10889
DCLXII
Мне думается, что мы входим в область загадочного и фантастического. Какие видения ждут Россию, кто это скажет, когда идет такой погром повсюду, что ему и конца не видно. Как новый Гамлет, Русь стоит в нерешительности и спрашивает: быть или не быть? Где люди, которые с полной верой в будущее и в свои силы могут взять на себя ответ? Триста лет тому назад тоже было «освободительное движение». Оно вынесло на самой высокой волне того первого гражданина Русской земли, который нежданно-негаданно явился в Нижнем Новгороде.
Государство разваливалось, правительство попало в плен; поляки рыскали по русской земле и опустошали ее вместе со всем тем сбродом русских сил, который привык ловить рыбу в мутной воде. Кто был вреднее — казак ли, обращавшийся в разбойника, или боярин, продававший свою родину за поместья в этой родине польскому королевичу? Что было вреднее: распущенность ли диких сил, не знавших удержа, предававшихся грабежу и убийству, заставлявших матерей спасаться с своими детьми в реках и болотах, стоять в этом положении целые дни, чтобы дышать безопасно на берегу ночью, или апатия и совершенная нравственная дряблость всех властных людей того времени, всех тех, кто мог иметь влияние, кто мог выказать разум, волю и энергию? Разврат, подкуп, расхищение народного хозяйства, лживость, потеря всякого понятия о гражданском долге, о чести родины, о ее нуждах, все то, что летописцы наши назвали «воровством», «шатанием», «рознью», «изменой»; угнетение народа закрепощением его, страшные реакционные меры царя Бориса, преследования, ссылки опасных людей, ссылки целыми семьями, целыми родами, заключение в монастыри, произвол, шайки разбойников, весь тот хаос, который рождается в стране, когда власть потеряла все связи с народом. Народ ищет защиты во всяком добром молодце, во всякой тени власти, во всяком обещании лучшего будущего: идут интриги, заговоры; убивают одного самозванца, является другой; заговорщик Шуйский делается царем; вокруг него тщеславная пустота, преступления, измены, «перелеты», свержение с царства; в течение нескольких лет сменилось несколько царей. Никто никого не понимал и никто не хотел понять друг друга; всякий стоял только за себя, за свою мамону, за свои интересы. Разливалась по всей земле страшная смута. Никогда государство не стояло так близко к погибели.
И в это-то время, словно гром небесный, словно труба архангела, раздался голос Минина на нижегородской площади, прозвучала та скромная, но сильная речь, которая заставила встрепенуться Русь, собраться, окрепнуть, очистить русскую землю от врагов и дать ей мир и тишину. Чудесные, несравненные страницы нашей истории, высокий, величавый подвиг первого русского гражданина, который спас свою родину, ее веру, ее честь, ее национальное развитие. Выше такого подвига не бывает… И этот подвиг совершил нижегородский мясник вместе с боярином столь же скромным, как он, князем Пожарским.
Кузьма Минин в нашей истории является положительно личностью феноменальною, такою личностью, которая представляет собою высшее и своеобразнейшее воплощение нашей национальной мощи, нашего национального духа. Это — глубоко русский человек, русский характер со всеми его великими и крепкими достоинствами: с его сосредоточенной душевной энергией, неожиданно поднимающейся в могучее патриотическое одушевление, с его практически изворотливым, ясным умом, с его суровою крутою волею, не устающею в выносливости и не знающей препятствий в достижении великой цели, наконец, с тою чисто русскою простодушною скромностью, которая в совершении подвига находит полное внутреннее удовлетворение и не ищет для себя никаких внешних наград, никакой шумной героической славы. Таковы все наши энергичные русские люди, люди народа, люди труда, люди национальной сердцевины. Таковы все истинные представители, истинно излюбленные люди земли русской. Таков был и великий русский царь, «кому никто в царях не равен», высший выразитель русской мощи, русского реального ума и русской предприимчивости, — тот царь, что, по выражению Гоголя, протер нам глаза чистилищем европейского просвещения, но оно не дошло до народного сердца.
Люди такого чисто народного закала и склада выступали у нас не раз в трудные минуты жизни нашей родины и на своих плечах выносили дело нашего национального развития и укрепления общественного и политического. Но по большей части бывает так, что эти истинные спасители и блюстители родины остаются малозаметными и даже почти совсем незаметными за блестящими, а то и мишурными выходными героями нашей истории; по большей части они работают в массе, так что их трудно выделить из нее. Но когда, в исключительных обстоятельствах, им случается выделиться и стать на свое место, когда они являются во весь свой рост, как могучие представители и руководители народной силы, тогда они поражают неожиданным запасом нравственной энергии, ума, душевной доблести и созидательного духа.
Где же они теперь, эти Минины? Ведь тогда их было много в разных углах русского царства. Они были в крестьянах, в купцах, в попах, в монахах, архиереях, боярах, князьях. Во всех русских людях загоралось чувство близости друг другу, любви к отечеству и вере православной. Отчего теперь нет Мининых? Перестала их рождать русская земля, что ли? Великороссию, откуда они шли, истощили налогами для того, чтобы спаять те земли, которые приобретались? Или не настало еще время для того, чтоб Минины явились и раздался их голос и призвал всех на работу во имя Руси? Бог весть отчего, но их нет и голос их нигде не раздается, тогда как голоса ненависти, злобы и вражды слышатся громче и громче.
Гибель ли нам все это обещает или возрождение, возрождение из пролитой крови, из пламени пожаров, из разорения и грабежей? Для чего эта кровь, для чего эти жестокие фразы «использовать кровь для освободительного движения»? Не пора ли уснувшим проснуться, закрывшим глаза открыть их, смотрящим слишком далеко поглядеть ближе. Есть же лучшие люди на Руси помимо тех, которые собрались в Г. думе. Если само общество не сбросит с себя дремоты, трепета и равнодушия, если оно само не закричит против разлива революции и не станет на страже внутреннего мира, то и действительно «лучшие люди» Думы многого не сделают для того, чтоб страна вступила в новую жизнь без потрясений.
9(22) июля, №10890
DCLXIII
Почившую Г. думу называли Думою «народного гнева». Название дано было печальное, потому что в гневе нельзя творить. Сам Бог в гневе только разрушал и наказывал, а не творил. Дума должна была творить и могла творить, если бы она с самого начала не стремилась взять на себя страшную обузу и законодательства, и управления, и суда, и контроля. Она хотела быть всем, прежде чем осмотрелась, даже прежде чем проверила полномочия своих членов и устроилась в своем хозяйстве. Мне Думу искренне жаль. После ее роспуска чувствуешь себя как после покойника, нервного, теребящего, иногда злого задиру, но зато будившего мысль около важных вопросов и вызывавшего на горячие споры. Образовалась какая-то пустота, которую нечем наполнить. О покойниках либо совсем не надо говорить, либо говорить только хорошее. Если чувствуешь отсутствие покойника, значит он чего-нибудь стоит.
Я много полемизировал о Думе, и тем более мне ее жаль, что в старости годы считаются днями, а месяцы часами. Мне так же трудно дожить до новой Думы, как совершить путешествие на велосипеде в Константинополь, например. Она промелькнула для меня как видение, как падучая звезда, скатившаяся за горизонт. Никогда я не писал с таким мучительным желанием писать, как в эти месяцы ожидания Думы и ее заседаний. Я злился на графа Витте за то, что он оттягивал выборы месяц за месяцем, сам не зная для чего. Я уверен, что он сам не знал, для чего, и если б он захотел привести резоны, они оказались бы весьма шаткими. Он и его «собственные» министры постоянно заседали, сочиняя временные правила для печати, для собраний и проч., когда все это можно было поручить какой-нибудь образованной барышне, знающей иностранные языки, которая хорошо и добросовестно перевела бы все необходимое — стоило только указать ей — с французского или с немецкого, и кабинету графа Витте осталось бы только продержать корректуру. Я говорю это серьезно, потому что все эти законы существуют в континентальной Европе в несравненно более обдуманном и целесообразном виде, чем тот вид их, в каком они вышли под названием «временных правил», не удовлетворяющих ни правых, ни левых.
Я был искренно огорчен и удивлен, когда около четырех часов утра 10 июля узнал, что Г. д. распущена. Удивлен я был потому, что мне казалось, что с Г. д. можно было работать и после воззвания к народу, которое подложил кадетам г. Кузьмин-Караваев, военный юрист и довольно чуткий публицист, думаю, больше публицист, чем юрист, ибо, во-первых, его доклад о смертной казни непременно провалился бы во всяком законодательном собрании, в котором не было бы того предварительного согласия отменить ее непременно, какое существовало в Думе, — так он неубедителен — и, во-вторых, подложенное им Думе предложение о воззвании юридически не выдерживало никакой критики: оно было боевое предложение публициста, которое в Думе он защищал тоже неважно, фразами, а не доводами.
Я думал, что можно было работать с Думою, потому что кадетская партия понесла поражение, как я говорил, а в Думе отсутствовало чуть не полторы сотни депутатов, то есть целая треть. Разумеется, я смотрю на это как журналист, которому приятно было следить за прениями, работой общественной мысли и ее результатами. В положение власти, которой поставлен был, хотя и в слабых выражениях, ультиматум: мы или вы, я войти не могу, потому что властителем никогда не был, а как журналист я чувствовал порывы к борьбе и ясно видел, что против радикализма Думы вырастало сильное общественное мнение, с которым она должна была считаться. Дикая орда, творившая разгромы поместий по указке революционеров, очевидно заставила власть бросить на чашку весов гирю роспуска.
Мне жаль депутатов и умных, и неумных, правых и левых.
Когда я проезжал поздно вечером около Думы, в день ее роспуска, Таврический дворец показался мне таким красивым, как никогда, красивым и печальным. Ворота были заперты. Огни были только в нескольких окнах у входа. Ходил часовой в думской форме. Бродили люди тихонько по панелям, поглядывая на «высокий дом», оставленный своими хозяевами; кое-где в воротах соседних домов стояли кучками солдаты, без оружия, как любопытные. «Хозяева» народного дома, где давались представления на всю Россию, где раздавались речи без всякой цензуры, свободные, как ветер, где они теперь, что говорят, что чувствуют? Я не знал еще тогда, что они уехали в Выборг. Я представлял себе ясно всю тяжесть, всю неловкость их положения. Вчера еще они — свободные представители народа, пользующиеся такими правами, каких никто не имеет и в русском царстве никогда не имел. Везде им дорога и почет; они пользуются неприкосновенностью личности, чем еще никто, кроме них, не пользуется; министры их принимают, и министров они разносят. Они говорят с неограниченною свободою; слова их разносятся по России и по всему свету в миллионах экземпляров газет всего мира; имена их твердит вся Россия, а губерния, их избравшая, гордится каждым их словом и жестом. Для того, чтобы гениальному писателю приобрести известность в мире, надобны долгие годы и великие произведения; для депутата великого народа достаточно того, что он депутат. Как ни принижена была Россия японцами, но весь мир следил напряженно за прениями нашей Думы: имена депутатов становились известными в Париже и Лондоне более, чем имена депутатов старых парламентов Германии и Австрии. Одним словом, почет, слава, сознание своего высокого положения, свой дворец со всем комфортом, с массой публики, с женщинами и с горячим и благодарным юношеством за всякое благородное и живое слово. Положение завидное во всех отношениях, способное возбуждать честолюбие и высокие помыслы.
И вдруг — всему этому конец. Вчера — король, сегодня — простой смертный. Мне было сердечно жаль тамбовских депутатов, когда их выборы не были утверждены. Они были так сконфужены и смущены, точно совершили нечестный поступок. Внутренне они наверное плакали. И вот и всех остальных постигла та же участь, заслуженно или незаслуженно — этого вопроса я не хочу касаться. Человеческая душа у мало-мальски сильных людей — душа протестующая, с порывами к сверхчеловечеству. Поэтому поездку депутатов в Выборг я прекрасно понимаю. Умирающий в полной памяти человек ничего так не желает, как высказаться, оправдаться, наговориться, объяснить все то, что могло показаться тем, с которыми он жил, неясным, загадочным, несправедливым. Всякому хочется оставить после себя какую-нибудь мысль, какое-нибудь слово. Великие люди умирают, как и маленькие, иногда даже хуже. Но великим людям потомство приписывает обыкновенно хорошие слова, которых иногда они и не говорили, но история с удовольствием их сохраняет, потому что великие люди редки и хорошие слова около них хорошо запоминаются. Депутаты не так редки, как великие люди, но они у нас первые и по своему значению великие. Они думали, что несут на своих плечах всю Россию, ее законы, ее гражданские успехи, ее судьбу. Самый строгий судья не может не принять во внимание этой психологии депутата. Как умирающие, они хотели оставить завещание и кончить свою драму эффектной сценой, которая будет записана историей и живописью. Они протестовали, как умели, не умно, надо сказать, но конец всякой драматической пьесы, даже талантливой, обыкновенно не умен, а иногда даже глуп. Они протестовали к потомству, а не к кому другому, и потомство пусть, их судит. Они любили театральное в Таврическом дворце и умерли театрально в выборгском Бельведере.
Человек умер — цена ему грош. Бабы обмоют его голое тело, оденут, положат на стол, потом переложат в гроб, потом зароют в могилу. Родные поплачут и посудачат, и дело кончено навек. Положение умерших депутатов несравненно лучше. Они умерли, как депутаты, но живы, как люди. А, может быть, и воскреснут опять, как депутаты, через семь месяцев. Как об умерших, о них плакать нечего.
А наша Дума все-таки жива и будет жить. И вечная благодарность государю за то, что он создал ее. Родина наша не забудет этого до тех пор, пока жив будет русский народ.
13 (26) июля, №10894
DCLXIV
Какая будет следующая Дума? Я такого мнения, что всякая Дума будет казаться невозможной, если в стране не будет власти, если эта власть вообразит, что можно и при Думе жить с патриархальной распущенностью и повелевать, только повелевать, начиная с министра и кончая земским начальником. Как только одних повелений оказалось недостаточно, так власть оказалась никуда негодной и во всем стали виноваты общество, митинги, печать, Дума. Поверхностно смотреть, оно так будто и выходит. Все свободно говорят, собираются, печать кричит, Дума проявляет свою власть и добивается власти всеми средствами. Но было бы очень курьезно, если б свобода оказалась благоразумной и с привычками гостиных. Население разнообразно по средствам к жизни, по образованию и воспитанию, по свойству труда и более или менее зависимому положению, по темпераменту и т. д. Естественно, что каждый и поступает сообразно своему я, когда объявлена свобода, когда патриархальный порядок разрушился или объявлен недействительным. В конце прошлого ноября или в начале декабря мне говорил француз, несколько лет живущий в Петербурге, имеющий здесь и в Париже связи в высших сферах, о своем свидании с Рувье (он был тогда первым министром). Рувье его спросил, что сделалось с графом Витте? «Я знал его, — сказал он, — за человека энергичного, властного, а он ничего не делает, он все распустил и в России начинается революция. Я совершенно его не понимаю. Что с ним?
— На это я ответил ему, — говорил мне француз, — что с графом Витте сделалось то же самое, что и со всей русской администрацией. Он работал при старом режиме, когда каждое его слово, каждый жест принимались к беспрекословному исполнению. Ему достаточно было двинуть бровью, и все тотчас бросались угодить ему. Приказание передавалось по иерархии, сверху донизу, и сверху и донизу исполнялось, хорошо или дурно, другой вопрос. О населении мало кто думал. Оно должно было исполнять приказание и исполняло, охотно или неохотно. И вдруг указ 17 октября все это отменил. Объявлена была свобода — и свобода, не ограниченная никакими законами. Каждый ее брал, как хотел, и применял, как Бог на душу ему положил. Население и подчиненные стали рассуждать и поступать по собственному желанию. Кроме того, я должен был сказать г. Рувье, что русская администрация невежественна. Она так же мало знакома с историей революций и с установлением свободы в Европе, как и само население. Она знает историю Европы по Парижу, по курортам и по ресторанам. Все это игноранты. Тогда как руководители общественного движения учились и жили в Европе, наполняя свои головы только социализмом и идеями революционными. Они делали то, что надо было делать с их точки зрения, а администрация или ничего не делала, или не знала, что делать, и потому развивала революцию.
Я почти буквально передаю то, что слышал от этого француза и что совершенно правильно объясняет тот сумбур, который у нас начался с октября. На мой вопрос у одного довольно влиятельного чиновника, почему указ 17 октября не сопровождался законами, я получил такой ответ:
— Потому, что все струсили. Когда в Совете министров кто-то сказал об этом, все остальные замахали руками. «Помилуйте, что вы, что вы? Да нам скажут, что мы пошли назад. Нам ответят забастовками. Нет, сохрани Бог». Трусость была такая в высшей администрации, что стыдно вспомнить. А чем она была трусливее и растеряннее, тем храбрее были революционеры. Местная администрация прямо ничего не делала, да и не могла знать, что делать. Указ 17 октября давал все, все свободы, а у администрации был только кулак и приказание. Против кулака поднялся револьвер, а на приказания просто чхали. Администрация сложила руки, и революция и погромы пошли вольными шагами. Не шагами даже, а прыжками. Когда взялись за репрессии, было уже поздно. Революция приобрела уже силу почти военной стороны. Если б была власть, как в Европе, не было бы надобности в репрессиях, не было бы в Москве восстания. Но у нас власть не умеет быть властью, как полиция не умеет быть полицией. Петербургский градоначальник объявил приказом по полиции, чтобы она отличала освободительное движение от беспорядков. Это в пору было государственному человеку, но отнюдь не городовым. Не говорю уже о численности полиции. В Лондоне на каждый миллион жителей в десять раз больше полицейских, чем у нас.
Революция сделалась силой, потому что у власти не было силы, кроме военной. Она только на нее и опиралась, а в ноябре даже в этой силе сомневалась, и когда я выражал сожаление, что г. Носарь не арестовал графа Витте, то говорил это потому, что был глубоко убежден, что арестовать его ничего не стоило, как ничего не стоило ограбить Московский банк на миллион рублей. «Руки вверх!» — и дело сделано.
Г. Аладьин говорил в Лондоне журналисту, что он постарается, чтобы не было революции, потому что революция ужасное дело. А что он болтал в Думе, как он грозил народной волной? Не он ли торжественно объявил в Думе, что в селе Нагаткино мужики и бабы объявили, что они «готовы на самые крайние меры» для поддержания Думы, если ее посмеют распустить. Дума принимала село Ногаткино за всю Россию и аплодировала. Г. Гредескул грозил даже 150 млн. армией из своего кармана, точно дело идет о блохах. Революции не происходит, даже село Нагаткино спокойно, и вот г. Аладьин говорит, что он «постарается», чтоб село Нагаткино было спокойно.
Революции быть не может, если власть сорганизуется и научится управлять при свободах, что гораздо труднее, чем при их отсутствии. А если власть этому не научится, то никакая Дума будет невозможна, ни радикальная, ни либеральная, ни консервативная, ибо всякая Дума будет говорить свободно, а без полной свободы слова Дума — круглый нуль и комедия. Всякая Дума будет беспокойною и станет стремиться к власти и бороться за власть, а потому будет в оппозиции к министрам и станет с ними браниться. Это в порядке вещей. Что есть в Европе, то должно быть у нас, у нас похуже и погрубей, конечно. Наша Дума стремилась к власти, потому что превосходно понимала, что только сильная власть и может справиться с революцией. Не видя ее у правительства и ревнуя его, она не поддерживала правительства, а роняла его при всяком удобном случае, чтобы скорее его совсем обанкрутить и заставить сдаться в плен. Она к этому шла не умно, без оглядки, подчиняясь самоуверенным крайним. Дума могла ошибаться в своих силах, она рисковала, по своим отношениям к революционным партиям, усилить революцию и очутиться в руках революционеров — это было весьма возможно и это было страшно, — но с своей точки зрения она была права.
Вывод такой, по моему мнению: нечего мечтать о том, какова будет Дума, радикальная, революционная, либеральная или консервативная. Надо думать о том, чтоб Дума была, была непременно, и действовала именно так, чтоб никакая Дума не была опасна для Верховной власти и для единства и мира России. А для этого единственное средство — организация власти и немедленная реформа всего управления сверху донизу и земского самоуправления. Не о том только должно заботиться, чтобы войска оставались верны присяге и долгу, а о том, чтобы вся администрация была способна, жива и энергична и проникнута одним организаторским духом. У нас этого чрезвычайно мало. П. А. Столыпин начинает, по-моему, мужественно и хорошо, приглашая некоторых министров из общественных групп. Они должны пойти на это приглашение, если искренне желают Думу, желают представительства. С их стороны если это будет жертва, то жертва, как говорится, только на алтарь отечества, на алтарь Г. думы, а не на алтарь министерских портфелей.
Когда отечество нуждается в реформе и в сильных независимых людях, то не может быть предлогов для уклонения. Необходима сильная, творческая власть, и общество пойдет за ней, и родина благословит тех людей, которые своей деятельностью упрочат союз власти с Г. думой. Надо думать о благородной цели успокоения России, а не о партийных интересах.
Если председатель Совета министров не стесняется чинами для министров, будь они губернские секретари, то и подавно он не станет стесняться чинами для назначения губернаторов. Надобны люди, а не чины и люди из всех сословий, а не из одного дворянства. Губернатором может быть купец, как может быть он и министром. Люди, верующие в реформу, люди сильные и должны составить связь всех государственных органов. Тогда Дума будет венцом здания, а не тяжелою крышею, которой будут страшиться, что она раздавит само здание.
14(27) июля, №10895
DCLXV
Я начал читать большую брошюру Д. И. Менделеева «К познанию России», с картой России, ценой в 1 р., и читаю ее с увлечением. Среди той массы брошюр, которые за 1–10 коп. наполняют русские мозги революционной пылью и политиканством, брошюра Менделеева является собранием любопытнейших фактов, извлеченных из Переписи русского населения в 1897 г. и здравых и увлекательных идей знаменитого химика, прожившего долгую жизнь, полную производительной работы. Этот труд дает богатый материал для размышлений о России настоящего и будущего, потому что он знакомит в цифровых данных с жителями, их многообразным трудом и составом, их взаимными отношениями, их образованием, предприимчивостью, леностью, видами на будущее. Это книжка полезная для всякого министра, для всякого общественного деятеля и вообще для всякого образованного человека, который хочет отдать себе отчет о том, где он живет, с кем живет, на чем живет и что представляет собою Россия в настоящее время и какие надежды в будущем для всякого русского труда. Если кто хочет отвлеченных рассуждений, отрицания действительности, 8-часового рабочего дня, коммунистического устройства, постоянного отдыха от ничегонеделания, и тому эта книжка скажет многое, ибо она вся вращается среди реальной жизни и опирается на прочные данные, добытые Переписью. Каждая цифра — их множество представлено в таблицах — дает повод г. Менделееву высказывать свое мнение, свои наблюдения над жизнью, торговлею, промышленностью, земледелием, недрами земли, финансами, монополиями, налогами и проч. Все эти рассуждения он дает в кратких чертах, иногда торопливо, но чувствуется, что на всем этом лежит опыт жизни ученого, который ко всем явлениям относится как глубокий русский человек, желающий успехов своему отечеству. Чтобы дать понятие о богатстве материала, заключенного в этом произведении, надо написать столько же, сколько он, ибо тут нет ни одного лишнего слова и, напротив, хотелось бы больших подробностей.
Я ограничусь только весьма немногим, чтоб только дать хоть некоторое понятие об этом сочинении, потребовавшем много времени и работы над целой массой материалов Переписи.
Жителей в России по переписи 128,2 миллиона. Ежегодно это население увеличивается на 1/2 процента т. е. ежегодно прибывает не менее 2 миллионов жителей, т. е. в каждую минуту дня и ночи общее число рождающихся в России превышает число умирающих на 4 человека. В 1906 г. всех жителей России можно считать в 146,6 миллионов душ. Для расселения всех приходится в настоящем году около 10 десятин на душу, а через сто лет придется всего по 21/2 десятины на душу.
Расчеты г. Менделеева произведены на 128 миллионов жителей. Он делит Россию на края, заключающие в себе по нескольку губерний, сходных между собой. В Западной Европе в настоящее время приходится на душу по 4 десятины, считая в этом всю землю и землю, занятую городами и поселками. Помните, что в нашей Думе отнеслись с насмешкой к правительственным цифрам о наделе землею. Г. Герценштейн и г. Петрункевич потешались, желая отрицать эти цифры. Г. Менделеев берет всю русскую территорию с ее болотами, песками, тундрами и огромными берегами Ледовитого океана. Он выключает только большие озера, но не выключает леса. И знаете, что получается? В Закаспийском крае 20 дес. на душу, в Южно-Сибирском 60 дес., Восточно-Сибирском 386 дес., Западно-Сибирском 111. Не правда ли, какое богатство? Но зато в остальной России только в Пермском крае 71/2 дес. на душу, в Нижне-Волжском крае 6 дес. и в Кавказском 51/2 дес. на душу, а в остальных краях от 4 до 1 дес. на душу. Помните, что тут принимается в расчет вся земля, удобная и неудобная, под городами и поселками. Вся главная масса коренной России уже имеет тесноту большую, чем в Европе. Уже в целой половине России, на которой живет более двух третей русского населения, приходится на жителя в среднем меньше 4 дес. на душу. Так, в губерниях: Рязанской, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и Курской — на душу приходится в среднем менее 21/4 десятин, в Польском крае на душу менее 11/4 десятин, Малороссийском — менее 13/4 десятины. Ни в правительстве, ни в Г. думе не нашлось ни одного человека, который сделал бы такую статистическую работу. Правда, в Якутской области приходится 1339 десятин на душу. Но не угодно ли туда отправиться и поискать там удобной земли. Вот вам и русское многоземелье. «При нашем климате, — говорит г. Менделеев, — не то что на девять десятых страны, но даже на девяносто девять сотых существующих природных земель нельзя и думать идти дальше того, до чего добралась Западная Европа, т. е. до того, что одна засеянная десятина может пропитывать в целом (с плодопеременностью, травосеянием и т. п.) примерно трех жителей». Нет никакого другого пути для нас, кроме «коренных улучшений всего земледелия, а оно невозможно без специализирования (интенсивности) земледельского промысла и без приложения огромных к нему капитальных затрат». Отсюда необходимость развития промышленности. Это любимая тема г. Менделеева. Он доходит до артельных фабрик и заводов с могущественною поддержкой правительства, но он враг всякого государственного социализма, потому что он убивает характер, предприимчивость, изобретательность отдельных личностей и отделяет в разряд чиновников множество жителей.
Как прав г. Менделеев, говоря, что русский народ не завоевательный, что только необходимость заставляла его прибегать к завоеваниям.
Чего у нас много, это детей. Из 128 миллионов жителей у нас 35 миллионов детей до 10-летнего возраста, или 27,3 % всего населения. Во Франции таких детей только 17 процентов, в Италии 22 процента. Вообще, только молодые страны обладают таким количество детей, например Сербия, Болгария, Аргентина. Для будущего это хорошо, но для настоящего большое количество детей уменьшает рабочую силу, и, кроме того, детей надо выкармливать. Всех имеющих средства в России 34 миллиона, из них 271/2 миллиона мужчин и 61/2 миллиона женщин, а домочадцев, получающих средства от них, 94 миллиона. Замечательно увеличение трудящихся женщин, как и увеличение образованных женщин. Всех получивших высшее и среднее образование у нас около 1 миллиона 400 тысяч, из них 884 тысячи мужчин и 557 тысяч женщин, т. е. на 8 мужчин, получивших среднее и высшее образование, приходится 5 женщин с таким же образованием. Г. Менделеев свидетельствует об упадке у нас высшего образования. Нередко мужчины с таким образованием не умеют правильно писать по-русски и, при политиканстве мужской молодежи и лености, не далеко время, когда женщины не только поравняются с мужчинами, но и превзойдут их. Безграмотных в России 101 миллион. Эта цифра ужасающая. Наши депутаты — представители безграмотного народа и маленькой интеллигенции.
Умалишенных, глухих, немых и слепых у нас 545 тысяч душ, 4 на каждую 1000 душ. Так называемых «служащих», т. е. чиновников на казенной и общественной службе, у нас меньше, чем умалишенных, слепых и т. п., именно 336 тысяч. Это число очень малое, хотя у нас говорят постоянно о великом множестве чиновников. Г. Менделеев справедливо говорит, что если б у нас осуществился социализм и коммунизм, то число тех «служащих», которые будут распределять работы, сгонять на них и наблюдать за ними, будет во много раз более 336 тысяч. Вообще если взять всех лиц, находящихся «на общественном виду» (административно-полицейские и судебные, коронная и выборная, профессиональные: священники, учителя, врачи, ученые, художники и т. п., военные), то окажется всего 2 миллиона 160 тысяч, т. е. около 13/4 процента всего населения. Да надо принять во внимание, что в этих 2 миллионах 160 тысячах 1 миллион 145 тысяч военных. «Такого количества, — говорит г. Менделеев, — во всех отношениях немного не только по сравнению с тем, что в других прогрессивных странах, но даже с тем, что без сомнения существовало в давние, полупатриархальные времена». О военной силе г. Менделеев замечает, что она необходима «не только для ограждения от врагов внешних, но и от врагов внутренних, против которых везде, т. е. во всем мире, не исключая никаких республик, от европейских до американских, военную силу приходится применять, потому что полицейской силы не достает для борьбы с нетерпимым злом».
Городского населения у нас 17 мил., торговцев 11/2 мил. Всех хозяйств в России 221/2 мил., и на каждое хозяйство приходится 51/2 человек в среднем. Рабочих, занятых фабричной и ремесленной деятельностью, 5 мил. 100 тыс., т. е. около 4 процентов всех жителей. Это доказывает, что Россия вступила на промышленный путь, но еще очень слабо. Сравнение с Соединенными Штатами Америки говорит об этом разительно. Там земледелие и промышленность идут рядом, сначала земледелов было больше (в 1880 г.), потом они поравнялись, а в 1900 г. промышленников стало больше, чем земледелов, именно первых около 12 мил., а вторых 101/2 мил. Это сущность современной эволюции. «Если наша Г. дума и все правительство хотят добра народу, а себе вечной славы, они должны понять эти новые начала и положить их в основу своих действий. Социалисты тут кое-что поняли, но сбились, следуя за латинщиной, прибегая к насилиям, потворствуя животным инстинктам черни и стремясь к переворотам и власти».
На этом я кончаю, желая читателям познакомиться с самою книгою. Я почти не коснулся любопытных и сильных рассуждений нашего ученого о финансах, налогах, о государственных займах, о просвещении, о значении промышленности, в особенности горной и проч.
15 (28) июля, №10896
DCLXVI
Кадетские газеты полны статьями о покойном М. Я. Герценштейне. М. М. Ковалевский начинает свою статью так: «Подумаешь мы живем во времена Монтекки и Капулетти, гвельфов и гибеллинов, Белых и Черных». В убийстве обвиняются «истинно русские люди». Г. Милюков требует от правительства, как минимум, «немедленного закрытия и роспуска всех черносотенных организаций». Какой максимум мог бы его удовлетворить, он умалчивает. Правительство закрывает революционные газеты и революционные организации, а представитель кадетской партии требует такой же меры для противников революции. Для сотен городовых и других убитых революцией или ее наемниками ни слова жалости, ни слова укора. Когда погиб в этой вражде Монтекки и Капулетти свой, то все репрессии рекомендуются и требуются.
Г. дума отказалась от порицания политических убийств в самом начале своего существования и перед самым роспуском отказалась от порицания погромов, пожаров и грабежей. Из 300 наличных членов Думы только 46 соглашались произнести порицание погромам. Это значило, что с высоты новой власти, опиравшейся на народную волю, которая избрала их, было произнесено нечто такое, что давало убийцам, грабителям и погромщикам право продолжать свое ужасное дело. Такова «народная воля», именем которой клянутся «лучшие люди».
Разберемся спокойно в политических убийствах. Я всегда держался взгляда, что политическое убийство так же противно человеческой душе, как и всякое обыкновенное убийство, и высказывался об этом не раз.
Убийство Герценштейна в Териоках — несомненно политическое убийство, как убийство адмирала Чухнина, как убийство губернаторов, городовых и прочих представителей власти. Власть переходила на сторону Думы и ее депутатов. Они тоже являлись властителями именем народа, исполнявшими его волю. Целого народа нигде нет. Всегда есть только группы, более или менее сочувствующие друг другу или прямо друг другу враждебные. Поэтому как у революции образовалась целая орда убийц, грабителей и погромщиков, так может образоваться целая орда убийц, грабителей и погромщиков и у противной стороны. Так начинается анархия и междоусобие. Безнаказанность насилий и возведение в героев убийц вызывает конкуренцию. Когда были только кинжалы и плохие пистолеты, убить человека, не подвергая собственную жизнь опасности, было трудно. Так как редкий убийца не думает, что ему удастся совершить преступление и самому благополучно спастись, то при плохом оружии было сравнительно немного политических убийств. При современном усовершенствованном оружии мысль о безнаказанности, о возможности спастись убийце, помимо других причин, увеличила число политических преступлений. Выстрел, и жертва падает мертвая, а убийца спасается бегством или вмешивается в толпу и безопасно укрывается от всяких подозрений. И в самом деле, огромное количество политических и обыкновенных убийц остается неразысканными. А стоит лишь убедить себя, что ты не обыкновенный убийца, что ты действуешь не из корысти, не из личной мести, а по убеждению, что ты совершаешь месть политическую, которая должна устрашать врагов твоей партии, то и не останется даже раскаяния и упреков совести. Ты совершил нечто благородное, и имя твое войдет в «мартиролог освободителей». Это не убийство, а война, а на войне не убийство, а подвиги мужества; но всякая война тем и отличается от этих политических убийств, что там обе стороны вооружены, обе стороны приготовлены к нападению и защите и обе стороны одинаково заранее приготовляются к смерти. Война — дуэль, а не убийство. Политический же убийца чаще и более, чем обыкновенный, действует наверняка против безоружного и беззащитного человека и хорошо рассчитывает шансы своей безопасности.
Как революционного убийцу, так и контрреволюционного могут руководить совершенно одинаковые мысли. И последний может видеть в политических убийствах, совершаемых революционерами, врагов отечества и даже врагов того самого освободительного движения, которое понимается одним — как революция, как необходимый переворот для создания совершенно нового порядка вещей, а другим — как эволюция, как мирный переход от одной свободы к другой. В этом случае не может быть разных мерок для осуждения и не может быть особенного выбора. Кто попался навстречу, тот и виноват. Таких примеров множество. Можно бороться за всякую идею, как бы она ни была экстравагантна, но поднимающий меч от меча может и погибнуть. Партия, одобряющая убийство, может дождаться, что и на нее пойдут с мечом, не разбираясь, кто виноват.
Политические убийства развращают мозг именно потому, что человеческая жизнь ставится ни во что перед «убеждением» убийцы. На жизнь людей, не разделяющих ваших убеждений, предпринимается охота, как на вредных зверей, и затем обращается в спорт, нимало не тревожащий совести. Мне говорили об одном революционере в Прибалтийском крае, который убил 56 человек и хвалился этим подвигом. Такая охота на людей началась у нас давно, она подливала убийственного яда во все головы, и все головы отравлены, отравлена совесть.
Как на войне число убитых неприятелей принимается с удовольствием и даже с удовольствием преувеличивается, так и в эту революцию. Крикнул же кто-то: «Мало!» в Г. думе, когда произнесена была цифра в несколько сот убитых городовых. Чем больше жертв, тем лучше, чем ужаснее погромы, тем убедительнее. Пускай мучатся в предсмертных судорогах, оставляют сирот, пускай на обгорелых развалинах плачут женщины и дети, пусть гибнет весь этот старый режим и все то, что на нем росло. Мы вооружим всех, кто хочет, мы разнесем наши воззвания к бунту в войска, мы поднимем эти массы недовольных и слепых, мы развернем по всей России знамя восстания; все средства хороши для того, чтобы навести страх и усилить смуту. Ни одно восклицание ужаса и негодования не вырвется из наших уст. Если даже наша грудь содрогнется от ужаса, мы подавим этот крик, каких бы усилий это нам ни стоило. Все благо, все добро, ибо все это возвещает смерть старому режиму, на могиле которого построится величественный храм народного счастья.
Но старый мир состоит из живых людей, и многое множество этих людей тоже жаждут свободы. Они любят жизнь, любят своих детей, свои семьи, свое отечество, любят народную и военную славу, любят самое русское имя, и в их груди живет чувство негодования, готовое обратиться в отчаяние от всего того, что происходит от всей этой колесницы революции, запряженной злобою и местью и управляемой ведьмой социально-демократической республики, которая сидит за кучера. Эти люди, верующие в спокойное развитие, не хотят ни убийства, ни грабежей, ни пожаров, ни этой ведьмы, которая скачет по трупам и по крови, освещаемая заревом пожаров и громом восстаний. Они достаточно терпели, достаточно много перенесли. У многих из них, может быть, месть кипит в груди и злобою наполнено сердце, как и у революционеров, потому что революция отняла у них близких, отняла мир, счастье, состояние и ввергнула в бедность. С какой стороны вы станете их осуждать, если они примутся вам мстить око за око, если они будут поджигать и истреблять. Вы станете доказывать, что ваши убийцы — герои, потому что они убивают ради будущего, что они воодушевлены высокой идеей. А они вам будут доказывать, что настоящие герои они, потому что они стоят за мирное счастье, за прогрессивную монархию, а в революционерах видят своих врагов. Ком снега, оторвавшийся с снежной вершины, вырастая и вырастая, вырывает деревья, разрушает жилища, убивает людей. Так и злоба и убийства растут, не разбирая ни правых, ни виноватых. И неизвестно, есть ли люди, которые могут сказать, что жизнь их в безопасности, есть ли люди, которые не получали бы угроз. Я убежден, что ругательные и угрожающие письма получает даже Л. Н. Толстой. Над кем не висит Дамоклов меч, когда не только общественные деятели, но самые мирные граждане, содержатели аптек, галантерейных лавок, артельщики, почтальоны погибают от руки убийц? Не то еще «ужасно», что убит Чухнин или Герценштейн, а то ужасно, что убийство царствует и оправдывается «убеждениями» и убийцы и насильники поступают в разряд героев той или другой партии. Ужасна анархия, ужасно междоусобие, ужасна пугачевщина.
Кто выведет Россию из этого «ужаса», тот будет действительным спасителем отечества.
Принизить и ошельмовать врага, внушить ему трусость, заставить замолчать и спрятаться — вот тактика партий. Собрать людей мужественных, стойких, с крепкой душой, любящих свое отечество не потому, что оно «старый» или «новый» режим, а прежде всего просто потому, что оно отечество, собрать их во имя мира и спокойствия, сплотить их патриотическим чувством, руководить ими прозорливым умом, заставить верить в свою власть и в тот мир, который она несет с собой, — вот задача для тех, кто самоотверженно хочет спасти нашу Родину.
И прежде всего я желал бы, чтоб смерть несчастного Герценштейна была переломом, чтоб она образумила и тех и других, чтоб она внушила жалость к человеческой жизни, к русской погибающей жизни…
21 июля (3 августа), №10902
DCLXVII
В числе последних жертв террора во время французской революции была любовница Людовика XV, Дюбарри. Обыкновенно осужденные на казнь вели себя мужественно. Но Дюбарри безумно кричала: «Спасите меня», — когда ее везли на эшафот, и этот крик так потряс обыкновенно равнодушно или враждебно настроенную относительно осужденного толпу зрителей казней, что с этого момента толпа начала протестовать против гильотины. Трусливая женщина своим отчаянным криком вызвала то чувство сострадания, которое не вызывали жирондисты, г-жа Ролан, Людовик XVI, королева Мария-Антуанетта и тысячи других, погибших на гильотине с спокойствием героев.
Я не хочу сравнивать г-жу Дюбарри с русским обществом. Та властвовала при своем царственном любовнике, а революция нашла необходимым отрубить ей голову, когда эта голова потеряла всякое значение. Но русское общество поделилось. Одна часть его повелевает и покровительствует революции, а другая не находит в себе необходимого мужества для того, чтоб открыто протестовать против движения, принимающего характер анархии. Даже тени этого мужества нет. Прежде оно повиновалось правительству из-за страха, а теперь повинуется революции из-за того же страха. Не надо особенно искать, чтоб этот же страх найти в сердцах не малого числа администраторов, которые гнутся в ту или другую сторону, как люди, не уверенные в себе и в своей власти.
Наше время может быть превосходно характеризовано словами ослепленного Глостера в «Короле Лире» (акт. IV, сц. 1):
Во время смуты Слепого водит сумасшедший.Именно сумасшедшие и безумные водят у нас слепых. Слепой идет ощупью и рад, что безумец предлагает ему свои услуги, да еще бескорыстно.
— Я вижу, что вы ничего не видите. Я безумен, но у меня есть глаза. Положите мне на плечо свою руку и идите за мной.
И идут слепые, не зная, куда их ведут и какая звезда управляет путем безумного. Идут, может быть, прямо к бездне, идут не протестуя и не противодействуя, и, спотыкаясь, еще крепче ухватываются за плечо поводыря. Среди этих убийств, наглых насилий толпы и хулиганов, грабителей и воров, подстрекателей к бунтам и восстаниям не слышно криков. Точно общество одеревенело и притупилось, а толпа получила какое-то божественное значение. Никто не протестует: ни отдельные лица, ни городские общества, ни дворянство, ни купечество, ни духовенство. Решительно никто. Когда Г. думе представлялся случай сыграть ту прекрасную роль, она гордо отвергла ее дважды, а в третий раз в Выборге сама подписала воззвание к неповиновению правительству, сама начинила подобие бомбочки, действующее шире и продолжительнее, чем бомба революционера. Государственная ли это мера со стороны Думы или просто мщение за роспуск ее? Судя по г. Муромцеву, который на вопрос иностранного корреспондента отказался дать объяснение своей подписи под воззванием, ссылаясь на то, что он еще не сообразил последствий этого факта, было не мало депутатов, которые подписали воззвание нехотя, а, может быть, подобно мудрому г. Муромцеву, и не ясно отвечая себе на вопрос: что они делают? Дело в том, что было положено в Выборге, что всякий может подписаться или не подписаться, но прибавлена такая фраза: «подписавшегося ждет тяжкое наказание». Но если не подписываться из-за «тяжкого наказания» значит обнаруживать страх перед наказанием, и стали все подписываться. Не будь этой угрозы «тяжким наказанием», воззвание, вероятно, многими было бы не подписано. Подписанное и пущенное в оборот от выборной власти, хотя и после того, когда она была «разжалована» — выражение крестьянских депутатов, — оно печатается по всей России, начиная с Петербурга, и распространяется, несмотря на все усилия полиции, которая арестовывает типографии, тех, кто печатает и кто распространяет. Дума, таким образом, прямо перешла на сторону революции из чувства ли мщения за ее роспуск, или из таких государственных соображений, которые иначе нельзя назвать, как революционными. Позволительно думать, что этот революционный документ не будет служить кокардою для входа в будущую Думу, произведет ли он в России новые бедствия и новые осложнения или нет.
По моему мнению, достаточно и того, что мы имеем, достаточно того, что никто не может поручиться за завтрашний день, за спокойствие у себя дома и на улице, достаточно всего того, что мы пережили и переживаем, чтоб кричать и протестовать против всяческой распущенности, наглости и бунтарских проявлений, прикрывающихся именем революции…
Финляндцы после свеаборгского бунта начали протестовать, русские молчат и после этого, равнодушно читая подробности о зверствах, которые позволили себе солдаты и матросы над несчастными офицерами. Это злоба хищного зверя, который терзает живого человека и насыщает свою месть еще на мертвом. Самих бунтовщиков эта жестокая расправа главарей поражала своим неистовством, и они отвертывались от мучителей и убийц. Нет сомнения, что эти зверства над офицерами подсказывали иногда чувство раскаяния матросской толпе, которая, увлеченная предводителями, опомнившись, выдавала их, как это было на «Памяти Азова».
Но живые должны жить сегодняшним и будущим днем. Надо мужество, надо собираться этой армии, которая верит в Россию преобразованную, восставшую из унижения, помнящую прекрасные страницы своей истории. Надо понять сердцем и разумом, что пора сказать «довольно» всем этим страданиям, убийствам, бунтам и всякой губительной бестолочи. Прошлому нет возврата, а будущее может быть светлым и радостным, если мы одолеем эту тьму общими усилиями тех, которые искренне желают мира.
Когда умер Петр Великий, у гроба его проповедник потрясенным голосом сказал:
«Православные, что мы делаем? Кого мы погребаем? Петра Великого мы погребаем». И вся церковь зарыдала.
Кого мы погребаем теперь этой смутою, этой рознью и насилиями? Мы погребаем Россию, погребаем свободу и разум.
26 июля (8 августа), №10907
DCLXVIII
Как-то я говорил о Н. Н. Герарде как о добродетельном человеке, похожем на пастора. Хорошо быть добродетельным человеком. Но если добродетельный человек сделается министром, генерал-губернатором, наместником, то он у нас чувствует себя точно так же, как чувствует себя невинная девушка среди донжуанов. Его добродетель постоянно подвергается соблазну. И так как в министры, генерал-губернаторы и наместники приглашаются у нас все люди добродетельные хотя более или менее, то они, очутившись среди порока, теряются и, не зная, что делать, решаются охранять свою добродетель, как девица охраняет свою невинность. Она знает ее цену, она флиртует с тем и с другим, но она девица. Сделавшись генерал-губернаторами, заняв вообще ответственные места, наши добродетельные люди тоже занимаются больше флиртом, чем делом. Я совершенно убежден в том, что генерал Редигер, адмирал Бирилев, адмирал Скрыдлов, граф Воронцов-Дашков — все это добродетельные люди и все они флиртуют, сохраняя свою невинность. Они флиртуют и с людьми и с порученным им делом, но от любви бегают, как от чумы, ибо любовь требует всей души, всего человека. Так военное начальство флиртует с армией, морское с флотом, генерал-губернаторы с генерал-губернаторством, Н. Н. Герард с Финляндией. Его положение и самое трудное. Будучи россиянином, он должен флиртовать с чухонкой. Чухонка себе на уме и водит своего ухаживателя за нос гораздо бесцеремоннее, чем сделала бы это россиянка. И финский флирт должен быть особенно тонок, ибо чухонка воображает о себе чрезвычайно много, и если вы пожмете ей руку как-нибудь неловко, она кричит об оскорблении, о намерении ее изнасиловать. Помещенное сегодня в газете нашей открытое письмо Анатолия Антоновича Рейнбота Н. Н. Герарду открывает тайны флирта почтеннейшего генерал-губернатора. Вы прочтете его сами и сами оцените именно с этой стороны. Г. Рейнбот и г. Герард — оба с немецкими фамилиями, но оба россияне несомненные. Известно, что у нас люди с немецкими фамилиями являют себя даже сверхроссиянами. Но оба они совершенно иначе смотрят на вопрос. Г. Рейнбот приводит свой разговор с г. Герардом. Второй защищал красную гвардию и является ее крестным папашей, а первый предсказывал ему то, что случилось. Эта гвардия была фундаментом финской национальной независимой армии. Сами финляндцы заявляют претензии «объединить и руководствовать забастовками и революционным русским движением». Н. Н. Герард — не только крестный капитана Кока и его гвардии, но прошелся флиртом около ввоза оружия в Финляндию. Чухонка, хорошо зная, что ни она Николая Николаевича, ни он ее любить не может, отвечала флирту генерал-губернатора на двух языках, на шведском и финском, которых Н. Н.-ч не понимает. Она ему говорит:
— Я вас совсем не люблю.
А Н. Н-ч понимает так:
— Я вас обожаю.
И таким образом, оба живут во флирте, а события идут в бурной страсти.
Мне очень жаль добродетельного Н. Н-ча, жаль не потому, что чухонка провела его — это уж такая судьба мужчин у женщин, — а потому, что он флиртировал с чухонкой. Чухонку или надо любить и сделаться самому чухонцем — так поступил князь И. Оболенский, — или совсем не надо с нею флиртировать, а любить только Россию. Можно, любя Россию, оставаться либеральным в Финляндии, так как и Россия теперь либеральна, и смотреть в оба вокруг. «Я не занимаюсь ни флиртом, ни любовью, я только управляю». А в чем заключается управление, Н. Н-ч должен сам знать.
Граф Воронцов-Дашков с самого приезда на Кавказ объявил свою программу флирта, самого ординарного. В этом флирте ничего не было ясного и определенного, а какие-то из прописей извлеченные фразы, вроде «братцы» г. Скрыдлова. Флирт добродетельного графа-наместника даже не обозначал, кто эти «братцы». У Скрыдлова, по крайней мере, понятно, что он хотел разыграть роль добродетельного священника с наперсным крестом на груди, а у кавказского наместника и этого намерения не было. Населенный разными племенами, между которыми главные армяне и татары, Кавказ не мог понять, что намерен делать наместник и откуда он приехал, из Петербурга или с луны. Сегодня он флиртировал с армянином, завтра с татарином, послезавтра с грузином, и флиртировал лениво и не живописно, как и подобает человеку в его летах. А там темпераменты горячие и страсть чисто южная. И страсть начала действовать во всю, доходя до международной резни, до вырезывания целых поселений, то армянских, то татарских. Когда приехали с этого Кавказа депутаты, мы увидели, что все это профлиртованные графом Воронцовым-Дашковым аборигены, возомнившие о себе, что это они пришли из самой просвещенной страны в страну самую дикую и самую глупую. Что делается на Кавказе за время графского флирта, самый даровитый историк не разберет. Но русская революция помянет добрым словом добродетельного графа за то, что Кавказ представлял собою такую белиберду, что русские революционеры от души над ней хохотали. Для них была это оперетка с канканом, где русским именем вытирали полы и русскую военную славу попирали грязными ногами всевозможные прохвосты.
Флирт — забавен и приятен с девушками, добродетель со — старухами, но для управления русскими областями и ведомствами необходима любовь, требующая всей души, всего человека, всех его физических и нравственных сил. Кто занимается только флиртом в этом деле, все его добродетели не только ничего не стоят, но история России заклеймит их своим суровым приговором.
28 июля (10 августа), №10909
DCLXIX
При вступлении на престол государя императора, император Вильгельм II сказал: «Император Николай II вступил на прародительский престол — одно из самых тяжелых наследств, какое только может выпасть на долю правителя».
Слова эти прочно забыты. Я нашел их случайно, перелистывая газету за последние месяцы 1894 года. Император Вильгельм II сознавал тяжелое положение России и предвидел необходимость огромной работы для нового царствования. Из русских государственных людей не было никого, который бы так верно оценивал настоящее. Нет пророка в отечестве. Может, и теперь следует обратиться к германскому императору с просьбою сказать свое мнение о настоящем положении России. Он — опытный правитель. Одна русская дама слышала из уст самого императора одобрение роспуска Государственной думы, причем император назвал будто бы депутатов именем первой драмы Фридриха Шиллера. О будущем он ничего не сказал, но несомненно имеет о нем свое представление более верное, быть может, чем то, которое он высказал графу Витте о Портсмутском мире.
Что касается российских пророков, то я смею думать, что нет пророков в отечестве, а если пророчества тех, которые пророчествуют, справедливы, то России ничего не предстоит, кроме гибели, если она не соберет тотчас же Государственную думу и не примет программы левой партии. Я читал сегодня два пророчества, г. Кузьмина-Караваева и г. Кедрина. Пророчество первого решительно напоминает Иеремию из Тверской губернии, вообще богатой пророками, каковы гг. Родичев, Петрункевич, де-Роберти и т. д. Иеремиадами полон воздух этой передовой губернии. Кровь, восстания, остановка жизни, стомиллионные убытки, трус и потоп. Так пророчествует г. Кузьмин-Караваев. Г. Кедрин в Государственной думе отличался красноречием молчания, обманув решительно всех. Мирабо городской думы не проронил, кажется, ни одного слова в Государственной думе. Но он, до открытия ее, удостаивал своею беседою репортеров и после закрытия снова открыл загадочные уста.
«Всеобщие аграрные беспорядки, — сказал он, — вынудят правительство, из опасения более тяжких осложнений, уступить и снова собрать старую Думу при прежнем составе». Конечно, умнее этого ничего выдумать нельзя. Правительство сыграло бы невероятно глупую и даже совершенно безумную роль, которая окончательно заколотила бы его в гроб, засыпала бы землей и щебнем и вбила бы осиновый кол для предупреждения того, чтоб подобный злополучный мертвец не смел и выходить из могилы. Осина, говорят, прекрасное средство против привидений. Я думаю, что и г. Кедрин не обнаруживает ни малейшего дара пророчества и сообразительности, вещая о такой белиберде. Можно подумать, что Г. дума только тогда и Г. дума, когда в ней будут те самые люди, которые не выставили ни одного дарования, ни одного замечательного ума и после роспуска прибегли к мщению и посадили за себя в тюрьмы множество россиян, с восторгом печатавших выборгское воззвание. «Мы полевели, сказал еще г. Кедрин, я имел возможность высказать свой взгляд одному из министров по поводу роспуска Думы, заметив, что новая Дума, если она будет созвана, будет революционнее покойной». Я думаю, что это просто угроза: соберите нас опять, а то будет хуже. А я думаю, что новая Дума отнюдь не будет революционнее покойной уж потому, что она непременно будет осторожней и умнее. У покойной именно ума не было, хотя умные люди в ней были. Вместо ума в ней было то мальчишество, с которым мы знакомы в учебных заведениях и перед которым пасовало начальство и министры. Мальчишество в русском характере. Г. дума вела себя именно так, как студенты, делавшие митинги, обструкции и т. д. Это была как бы студенческая Дума, Дума молодого задора, молодого радикализма и самой юной самоуверенности. Самоуверенность эта принималась ею за властность и силу, и самоуверенность эта не покидает ее депутатов и теперь, если они, как г. Кедрин, мечтают, что правительство вынуждено будет вернуть ее в Таврический дворец.
В какой степени Дума была бессильна в практических вопросах, можно видеть из того, что аграрный вопрос знал только покойный Герценштейн. Профессор А. И. Чупров в письме к В. М. Соболевскому прямо это говорит, восклицая: «Несчастная наша страна и русское крестьянство!» («Русские Ведомости», №188). Совсем мы погибли. Был один человек, который мог спасти «несчастную страну», и того смерть унесла в могилу. Проф. Чупров, очевидно, стоит возле г. Кедрина. Если Россия так безголова и бездарна, что смерть умного человека есть смерть и страны, то черт ли в этой стране и на какой нам ляд таких профессоров, которые голосят, как старые бабы. Зато вот что вырвалось из уязвленного сердца вдовы погибшего, А. В. Герценштейн: «Желание мое — чтоб никогда на этом месте не произносились кровавые речи и чтоб его именем никогда не призывали к пролитию крови». Это — благородные слова русской женщины.
Забастовка кончена, благодаря энергии правительства, которое не дало ей развиться. Министерство образовалось, и дай Бог, чтобы все образовалось, вопреки предсказаниям и малодушию, ужасному малодушию, которое владеет россиянами.
Надо, наконец, чтоб «сумасшедшие не водили слепых». А слепых очень много. Я даже думаю, что души тех общественных спасителей отечества, которые составляют политические программы и предлагают их, как условия для своего вступления на министерский путь всеспасения, не лишены некоторой слепоты. Убийства, пожары, грабежи, воровство, развитие разбойничества — все это смущает, все это якобы революция. Да это не революция. Слово это только всех сбивает с толку и больше всех самую власть. Революций еще не бывало, и власть не знает, что с ними делать, не то поощрять, не то предупреждать, не то укрощать. Революции нет, а есть хаос, анархия, есть разбойничество, порожденное безвластием, беззаконием, отсутствием правосудия, о котором почти не слыхать или которое уходит в бумажное производство. Девять месяцев продолжалось следствие о «Потемкине» и, в честь прибытия г. Скрыдлова в Севастополь, исчезло. И жалеть об этих 20 томах никто не станет. Дело было рассказано в печати очень подробно самими участниками, как в петербургской революционной, так и в заграничной. 20 томов повторений одного и того же ничего особенного не прибавят. Но пожалеть следователей и особенно сидящих в тюрьме решительно необходимо. Что это за каторга сидеть в заключении, ничего не делая, придумывать ответы, мучаясь и портясь нравственно. Ворочать камни, лить воду в бездонную бочку все-таки лучше этой постылой, развращающей и разъедающей тюрьмы. Что это за жалкое правосудие, которое держит обвиненного в тюрьме целые годы и съедает его душу, как моль съедает материю. Раскаяние сильно только после преступления, когда преступный порыв сменяется порывом сожаления о нем, а потом оно обращается в притворство, злобу и отчаяние.
Каждому дню довлеет его злоба. Эти евангельские слова и есть простая мудрость для жизни семейной, общественной и политической. Кто живет хорошо сегодня, тот приготовляет хороший завтрашний день, хорошее утро. Повторяю, из сегодняшнего дня надо исключить революцию. Революции нет. Есть беззакония, разбойничество, хаос и есть трусливая власть и трусливые люди. В истории не встречается такого потока событий, который бы шел по определенной программе. Но ключ к истории захватывали люди и характеры, и она шла за ними, пока они шли «сегодняшним днем», т. е. пока они, чувствуя его и сознавая его потребности, со всей своей энергией и волей работали, смело встречая всякие препятствия и одолевая их. Программа — именно самые люди. Если они чувствуют в себе силы, способности, таланты для того, чтобы производительно работать, не зная усталости, то они пойдут как раз по той программе, которая необходима. А эта программа — в одном выражении. Россия как бы слышит эхо того голоса, который могущественно раздался над первобытным хаосом и который сказал: «Да будет свет!»
30 июля (12 августа), №10911
DCLXX
Я прочел вчера в «Правительственном Вестнике» своего рода шедевр административной литературы. Это сообщение о положении дел на Кавказе, может быть, и сочиненное в тифлисской канцелярии графа Воронцова-Дашкова. Самое расположение фактов замечательное. Сначала в кратких словах передается, что дело дошло до «открытого нападения на войска вооруженных шаек», и сейчас же говорится для утешения, что наместник принял «энергичные меры» для подавления беспорядков, что войск достаточно «для осуществления намеченных мероприятий, долженствующих обеспечить мирное течение жизни». Затем повествуется, для большего еще утешения, что беспорядки на Кавказе носят «совершенно такой же характер, как и волнения во внутренних губерниях России, т. е. большею частью революционный, а, следовательно, и вызваны одними и теми же причинами».
Все это очень приятно, и вы чувствуете, что это написано не для Кавказа, а для наместника его. Кавказ, совершенно неважная вещь, но граф Воронцов-Дашков — важный человек. Он принимает «энергичные меры», чтобы «обеспечить мирное течение жизни», но это не в его власти, ибо революция на Кавказе вызвана теми же причинами, как и в России. Что это за «причины», не говорится, но так как граф Воронцов-Дашков более 50 лет состоит на государственной службе, то причины эти он должен знать; возможно, что эти причины он сам приказывал запрягать в коляску своей службы и в ней спокойно катался, а потому они еще знакомее ему. Тем не менее все его мероприятия в течение двух лет привели только к тому, что революционное движение дошло до крайних пределов, до нападений вооруженных шаек на войска, до кровопролитных междоусобий национальностей, до совершенной анархии, — пожалуй, до необходимости начать новое завоевание Кавказа.
Но так как Кавказ не важен, а важен только наместник, то официальный документ сейчас же начинает все преуменьшать. Татары и армяне враждуют между собою, потому что татары невежественны, а армяне имеют революционные комитеты; но думать о панисламизме, о «священной войне, о газавате едва ли возможно». Стремления сепаратические и социалистические «не представляются сколько-нибудь внушающими опасения», против «разбойничества» принимаются опять же «энергичные меры» и притом «вплоть до назначения более или менее значительных премий за поимку преступников, усиленного надзора за ввозом оружия и проч.». Итак: «едва ли возможно», «опасения» едва ли «внушаются», «энергичные» меры «вплоть» до «усиленного надзора», точно это что-нибудь чрезвычайное, вроде изобретения пороха или открытия Кавказа.
Кавказ, очевидно, еще не открыт и ждет своего Колумба, ибо невозможно себе представить, что он совершенно похож на Тамбовскую губернию, что бы ни говорила местная «высшая власть» об одинаковых причинах и последствиях со всей империей. Для того, чтоб открыть его, необходимо нечто большее того, что разумеется под именем «энергичных мер», «примирительных комиссий» и работ по «намеченным преобразованиям». Зато в заключение выражается замечательно твердая уверенность в том, что «полного успокоения края можно ожидать, конечно (даже «конечно»!), лишь по прекращении происходящих беспорядков в остальной империи».
Отсюда следует, что писать этот канцелярский шедевр не было никакой надобности, ибо все дело в последних строках. Они все объясняют, и для них все написано. Когда кончатся беспорядки в России, тогда и на Кавказе будет спокойно. Граф Воронцов-Дашков совершенно отвечает по уму своему, по возрасту и способностям «мирному течению жизни» и даже представляет собою в некотором роде страдальца ни в чем неповинного. Он был бы превосходным правителем, если б в империи все было тихо. Тогда он сидел бы вельможей, принимал бы гостей и просителей и подписывал бы бумаги, в которых ничего другого не говорилось бы, кроме свидетельства о благополучии управляемых и о благодарности отечества. Но так как в империи плохо, то на Кавказе из рук вон плохо.
Оно, если хотите, логично. Большая часть наших администраторов создана для «мирного течения жизни». В этом трагизм положения России и трагикомизм управителей. Они никак не могут понять, что судьба, бросившая их в бурный поток, требует от них, так сказать, тоже бурных способностей, кипучей деятельности и политического дара для управления. А всего этого откуда же взять старым служакам, ездившим в коляске «мирного течения» самым благополучнейшим образом? Они могут только приказывать «энергичные меры и мероприятия», всем давно известные, но изобретать ничего не могут и спрашивать у них об этом нечего. Изобретения даются только талантливым, свежим и бодрым силам, которые еще стремятся в широкую жизнь и для которых самая жизнь есть деятельность, изобретение, изучение, а не отдых, не вельможное лежание или сидение. Все, что можно спросить у них, это — зачем брать на себя ответственную и самостоятельную роль наместника Кавказа? Наместник — не губернатор, это вице-король, не зависящий от высшей русской администрации. В Китае, во время боксерского движения, были плохие вице-короли и были вице-короли энергичные, талантливые, которые способствовали на местах успокоению своего вицекоролевства и тем способствовали успокоению всей империи. Но граф Воронцов-Дашков не из этих последних вице-королей. Он как будто что-то делает и как будто ровно ничего не делает, а все делается само собою вследствие общих с империей причин. Кавказ — часть империи, а потому ничего там сделать нельзя существенного до тех пор, пока вся империя не придет в порядок. В таком случае, зачем же наместник? Этот вопрос назойливо встает сам собою, он на языке у всей России и его даже задает самый этот официальный документ, проникнутый, при всем его канцелярском превосходстве, какой-то меланхолией безнадежности. Я прочел его несколько раз и с каждым разом все больше убеждался, что в нем и ничего нет, кроме меланхолии. Если он шедевр канцелярии, как я назвал его, то шедевр меланхолический, способный вызвать слезы о судьбе Русской империи.
Гоголь спрашивал: «Русь, куда ты несешься?»
В меланхолию, мой друг.
4(17) августа, №10916
DCLXXI
Русь идет в меланхолию. Так я кончил вчера свое письмо. Если мы действительно идем в меланхолию, то хуже этого быть ничего не может. Меланхолия отнимает энергию, спокойствие, разум, а все это теперь крайне необходимо. Надо делать дело, а дело у нас постоянно тормозится самым обычаем и условиями министерства. Первый министр, как средоточие всего управления, является человеком, которому, как говорится, дыхнуть некогда от одних визитов. Еще граф Лорис-Меликов на это жаловался, говоря, что у него не было на дело свободного часа для того, чтоб обдумать то, что надо сделать или что сделано. Бездельные визиты к нему более или менее великих мира сего особенно много отнимали времени. Придет человек, которому делать нечего, и сидит целый час и нельзя ему сказать, что вам некогда. В два часа ночи графу Лорису приходилось принимать губернаторов, которые ждали и такого приема по неделям. Так ли это теперь, я не знаю. Но знаю, что публика очень нетерпелива. Наша реформа шла решительно беглым шагом, и общество не то что к этому привыкло, но оно изнервничалось каким-то ожиданием. Г. дума своими заседаниями постоянно его поддерживало на точке кипения. Распустив Г. думу, надо ее чем-нибудь заменить. А заменить можно только делом, а не словами.
Сделать шаг, даже небольшой шаг — значит больше, чем написать или наговорить кучу слов. Каждый шаг завоевывает пространство, хотя на этот шаг, а словеса остаются в воздухе и разлетаются во все четыре стороны. Революция спешит, беспорядки усиливаются, аграрное движение грозит и предсказывается с удовольствием даже такими крепостниками, как г. де-Роберти, известный тверской испанец, на которого мужики постоянно жаловались. Революция или то, что ею называется, употребляет все средства: убийство, воровство, грабеж, мошенничество. Она наполняет дома бомбами, фабриками для оболочек для бомб, складами оружия, взрывчатых веществ и т. д. При нашем халатном жительстве, при патриархальности хозяев и дворников, при вялости полиции и ее крайне малом числе, вообще при всей нашей неподготовленности к борьбе с такой партией, которая средств не разбирает, положение становится невыносимым. Россия как будто наводнена неприятелем, который вторгается в дома, банки, в магазины, останавливает железные дороги, овладевает денежными пакетами, стреляет и грозит. Он невидимо существует везде и никто не знает часа, когда он пожалует и откуда. Из тюрем преступники бегут, бегут даже из вагонов, несмотря на стражу, как Беленцов. Везде как будто прорехи, открытые двери, зеванье. Суды действуют, как черепахи, и то, что называется «бездействием власти», вошло, как правило, в жизнь. Точно эта революция — какой-то титан. Но она, может быть, и действует по примеру действительного титана, Прометея, который ведь украл огонь, а не овладел им силою. Огонь был необходим человечеству, которое возвело легендарного Прометея в героя, в полубога за это хитрое воровство. Все то, к чему хитростью, разбоем, воровством и тому подобными недозволенными приемами, стремится революция, она считает благом и этим благом оправдывает себя. Прометей крал у богов и украл действительно необходимое человеку, а эти его подражатели и воришки крадут у кого попало и для целей весьма сомнительных и церемониться с ними нечего. У правительства есть свои задачи, свое благо, в которое оно верит искренно и чистосердечно. Одна газета, кажется «XX век», назвала членов кабинета П. А. Столыпина джентльменами. Сам он несомненно прямодушный, чистый и честный человек в лучшем значении этого слова. И человек с характером и с талантом. Возможно, что он еще неопытен в государственном деле, что перейти от губернатора к первому министру в такое тяжелое и сложное время и разом взять в свои руки нестройное, расшатавшееся дело, как берет его опытный мастер, мудреное дело.
Государственный паровоз не то, что губернский. Но, во-первых, не боги горшки обжигают, а во-вторых, и самое время такого темпа и закваски, что оно скоро приучает деятельную натуру к сложной машине. Необходимо, чтоб она двигалась, чтоб она не стояла на месте ни одного дня.
Необходимо работать над законодательством не для того только, чтоб представить проекты в будущую Думу, но и вводить их немедленно в жизнь. Те временные правила, которые были выработаны кабинетом графа Витте, показали на опыте свои несовершенства и прорехи. Одна свобода совести ввелась тотчас же, без особенных затруднений и протестов и если требует дополнений иногда, то и дополнения тотчас же разрешаются благополучно. Все остальное идет по ухабам. Г. дума может исправить введенные законы, дополнить их, изменить — это ее дело. Но для настоящего времени необходимо что-нибудь твердое, ясное, несложное. В аграрном вопросе необходимо сейчас же что-нибудь сделать, хоть в одной губернии, в одной местности, но сделать это именно делом, а не проектом, который будет лежать до Г. думы. Повторяю, один шаг вперед — и завоевано некоторое пространство. Это шаг к конечной цели, и вместе с тем этот шаг будет объяснением программы министерства. Ждать прямо невозможно, ибо трудно на что-нибудь опереться реальное. Все как-то смешалось, добро и зло, преступление и подвиг, честность и бесчестие, интересы отечества и революции, замоталось в один клубок, который необходимо начать разматывать, а не ждать того времени, когда соберется Г. дума и начнет рассматривать законодательные проекты.
Я, вероятно, плохой политик. Но мы теперь все не Бог весть какие политики, ибо для всех — все новое, все неожиданное, не упрощающееся, а, напротив, более и более делающееся сложным. Ведь и в Г. думе были плохие политики, работавшие ощупью и при помощи иностранных книжек. Даже думские профессора чуть не перессорились из-за книги Дайси. Уж на что специалист по конституции г. Ковалевский, а ему доказали, что книгу Дайси он не прочел толком, с начала до конца, а остановился где-то в середине. Это был один из любопытнейших примеров политического совершеннолетия, который представила Г. дума. Вести бесконечные споры, говорить речи вовсе не такая трудная вещь, как поставить яйцо, т. е. сделать дело.
К делу и надо перейти, и перейти решительно и смело. Ходить же около дела и только ходить и выжидать — невозможно.
5 (18) августа, №10917
DCLXXII
Часто приходится слышать, что у нас не революция, а смута, беспорядки, бунты, бомбы и т. д. Революция, мол, окончилась 17 октября, потому что революция — это переворот, это замена старого режима новым и проч.
А я думаю, как ни называйте электричество, оно сохранит свои свойства и силу. Революция продолжается, и довольно беспрепятственно. Кто старается уверить себя, что она кончилась, тот ее только поддерживает и благословляет. Революция — затяжные события и правительственным актом не кончаются. Революционное движение ведется в союзе с бесшабашными и с «святою канальей», как выразился Барбье о толпе, самыми энергичными, самыми недовольными, самыми убежденными в том, что революция полезна, что, слава Богу, она началась, расшатала и унизила власть, напугала всех, сверху донизу, и нашла себе сочувствие в одной части населения, а в другой — непротивление и трусость. Те, которые ведут революцию, совершенно неспособны довольствоваться ни манифестом 17 октября, ни открытием Г. думы и ни закрытием ее, само собой разумеется. В деятельности Г. думы им приятны были только отрицательные стороны, скандалы, заушения власти и спокойных слоев населения, пропаганда крайних мнений, призывы к восстанию и такие документы, как выборгский крендель, замешанный на живом теле и крови аристократическими руками гг. Муромцевых и Набоковых и свалянный грубыми руками трудовиков. Те свободы, которые даны, хороши только для пропаганды, для возбуждения в обществе новых аппетитов, и внушения массам самых крайних идей вплоть до раздела имущества. Все эти революционные элементы растут гораздо скорее, чем вырастает для борьбы общество, желавшее ближайших реформ и политической свободы.
После 17 октября революционное движение пошло гораздо сильнее; московский бунт был усмирен, и правительство думало, что это чрезвычайно приятное явление в смысле воздействия на революцию и на понижение в обществе раздражительности и недовольства. Правительство думало, что аграрное, или, как говорят мужики, ограбное движение поднимет самочувствие и мужество образованного состоятельного общества, которое станет деятельно против революции. Ничуть не бывало. Ограбное движение прибавило трусости, увеличило эмиграцию и усилило недовольство правительством, потому что оно оказалось бессильным остановить это имущественное разрушение. Усмирение московского мятежа, успокоив московское зажиточное и трудолюбивое, не «трудовое», а только трудолюбивое население, нисколько не повлияло на выборы, и спокойная партия 17 октября была представлена в Г. думе самым мизерным образом. Обыкновенно винят в этом репрессивные меры министра Дурново. Говорят, что если бы их не было, то все пошло бы прекрасно. А я думаю, что не пошло бы прекрасно и тогда, и не пошло бы по очень простой причине: и правительство было бессвязно и работало ощупью, и общество оказывалось еще более бессвязным, недеятельным, лишенным политического воспитания и того мужества, которое дается только этим воспитанием. А во время революции воспитание дается революционное и только продолжительная борьба с нею выделяет в особые группы партии спокойные и способные действовать успешно.
Я думаю, что революция еще не сказала всего того, что она сказать и сделать намеревается, если ей не помешают.
— Это бы ничего, если б это была революция. Революция — полезная вещь. Но наша революция — социальная.
Так мне говорило недавно лицо высокопоставленное, теперь не находящееся у власти. Но социальная революция есть во всякой политической революции. И Великая французская революция была в значительной степени социальной, и если Бабёфу отрубили голову за социалистические попытки, то из этого еще не следует, что социального элемента в этой революции не было. Его было достаточно, и только благодаря ему она была так настойчива и упорна. С того времени, в течение сотни лет, социальный элемент необычайно вырос, так вырос, что отделить политическую революцию от социальной нет ни малейшей возможности. Они вошли друг в друга и у нас особенно плотно потому, что наше третье сословие (дворянство и буржуазия) оказалось хрупче и растяжимее, чем рабочие и связанная с ними та интеллигенция, которая охотно становится под знамя пролетариата, как его руководительница. А такой интеллигенции много, и она предается своей роли с самоотвержением, достойным подражания. Даже кадетская буржуазия приобрела себе значение не потому, что она сильна сама по себе, а потому, что она руками и грудью опиралась на революцию в ее усовершенствованной социальной форме. И кадеты после роспуска Г. думы станут еще ближе к революции и найдут в ней еще большую опору.
Я не скажу ереси, если прибавлю к этому, что разве только Господь Бог разберет, где революция начинается и где она кончается и в какой партии она находит твердую стену, о которую могла бы разбиться. Я такой партии не вижу ни в обществе, ни даже в правительстве, ибо как общество, так и правительство проникнуты в очень немалой степени социальной волной; брызги этой волны решительно всюду, сознательно или бессознательно, то на платье, то за жилетом, на теле, то стучат прямо по сердцу и лбу. Революция знает это отлично. В народе она — безыменный Стенька Разин и Пугачев, в обществе — демократ-революционер, в правительстве — демократ-реформатор довольно неопределенного оттенка. Есть что-то общее во всех партиях, начиная с социалистов-революционеров и кончая «Московскими Ведомостями» и их «монархической партией». Это общее — словно роковая невозможность отделиться от всех других партий какою-нибудь независимой программой. Точно какое-то гостинодворское амбре, сильно насыщенное пахучими веществами, смешанное с опьяняющим мерзавчиком винополии и пеною шампанского, разносится всюду и своим запахом заражает всех. Хулиган, питающийся селедкой и закусывающий водкой, и прожигатель жизни, упитывающий себя изысканным обедом с шампанским, житель 20-го числа и революционер, буржуа и рабочий, великолепная кокотка и девка с Сенной, барыня и кухарка, администратор и социал-демократ пахнут этим амбре, и если отвертываются друг от друга, то только потому, что их поражает этот родственный запах. В себе самих они к нему так привыкли, что не слышат его, но когда приближается посторонний, запах его бьет в нос. Рабочий обращается в безработного, мужик — в грабителя по тем же побуждениям, по которым барин не находит в себе энергии для борьбы и труда для того, чтобы отстаивать свое имущество и жизнь.
Чего же удивляться, при этой невидимой связи каким-то запахом, что крайние мнения господствуют в обществе? Г. Идеалист совершенно справедливо сказал в «Новом Времени» (№10918), что нравственность в обществе понизилась. Нравственность съедается этой политикой, как и старшая сестра ее, религия. Религию даже мужик пропил или изнасиловал, получив огромное стремление к грабежу. Думаю, что слово «изнасиловал» тут очень подходит. Он изнасиловал ее в пропаганде, которая не щадила ни царя, ни Бога, ни государство, ни церковь, изнасиловал в дикости, грабеже и пьянстве. Государственные крестьяне так же ходят и ездят поджигать помещиков, как и бывшие крепостные.
Грабеж и поджоги сделались в деревенском быту таким же невинным спортом, как лаун-теннис и крокет[28]. Водка, как возбудительное средство, играет большую роль в этом спорте. А как пьют — вот любопытные данные.
С 1 июля 1904 г. по 1 июля 1905 г. Тульская губерния пропила 5 мил. руб. С 1 июля 1905 по 1 июля 1906 г. она числилась в числе голодающих и получила пособия от казны 1 мил. 400 тыс. руб. В это же время, т. е. с 1 июля 1905 г. по 1 июля 1906 г., она пропила 6 мил. 200 тыс. руб., на 1 мил. 200 тыс. более, т. е. пропила почти все казенное пособие. Только 200 тыс. пошло на удовлетворение нужды, а 1 мил. 200 тысяч возвратилось в казну через винные лавки. Не правда ли, замечательно интересный денежный оборот и счастливая финансовая операция!
8(21) августа, №10920
DCLXXIII
Кто эти люди, которые убивают, грабят и стреляют? По телеграммам наших двух агентств, которые сплошь и рядом повторяют друг друга, т. е. передают одни и те же известия, нельзя догадаться об этих личностях. Прочитав сегодня эти телеграммы, я нашел следующие их характеристики: «молодой человек», «злоумышленники», просто «вооруженные» и «вооруженные лица», «грабители», «участники ограбления», «молодые евреи» и просто «евреи», «неизвестные», «нападавшие» и «разбойники». О действиях их агентства выражаются тоже различно, например, «молодой человек, угрожая револьвером», «взял» 106 р. из кассы, «молодые евреи» «не успели взять деньги», «вооруженные лица» отняли 2000 руб.», «злоумышленники» «ограбили», «грабители» «похитили». Какое отличие «молодого человека», который взял 106 р., и «злоумышленниками», которые ограбили, и «грабителями», которые похитили? Хотят ли агентства показать богатство русского языка или просто свою небрежность, печатая телеграммы без всякой редакции, или свою принадлежность к общей российской халатности, которая еще Фамусовым выражена известной формулой: «подписано, и с рук долой»? Что касается убийств, то просто извещается: «убит» или «ранен» «тремя выстрелами», «залпом из револьверов», «двумя выстрелами». Оно, конечно, убивают выстрелами, но кто-нибудь стреляет. Очевидно, неизвестно кто, черти или люди. Надо думать, что черти, потому что черт может «моментально скрыться», как печатают те же агентства, и уловить его невозможно. Я говорю о черте вовсе не с целью дешевого юмора. Постоянное исчезновение «злоумышленников», «молодых людей», «молодых евреев» и «разбойников» поистине что-то волшебное. Ничто не роняет так власти, как эти исчезновения преступников, ничто так не поощряет грабителей и убийц, как почти полная уверенность скрыться, и ничто так беспомощно не оставляет обывателя на волю Божию, как такая же беспомощность охранителей порядка, которых бьют как дичь. Можно решительно удивляться мужеству городовых, которые становятся на службу, например, в Варшаве. Разве это не участие в ежедневной битве, разве это не война, не ежеминутное ожидание смерти? Разве городовой не прощается с женой и детьми, идя на свой пост, и семья его не испытывает постоянной тревоги? Разве солдаты не в том же положении, не в постоянной готовности двигаться и сражаться?..
Помните двухлетнюю войну англичан с бурами? Ежедневно печатались телеграммы о сражениях, в которых один убит и два ранены, два убиты и один ранен; десять убито было очень редко. А в Варшаве в один день было убито 26 человек. «Руки вверх» — это бурское выражение. Блиндированные поезда — изобретение англичан в бурскую войну. И эта война в России напоминает как нельзя более войну буров с англичанами. Наши буры достают оружие, устраивают его склады и фабрики для приготовления бомб. У них есть свои лагери, свои места сборов, свое правительство, свои летучие отряды. Наши войска в постоянном движении и постоянно разбросанные. Война продолжается уже больше года, и нет того дня, который прошел бы без убитых, раненых и пленных, разумея под этими последними арестованных наших буров. Подобно тому, как мы и часть европейской печати сочувствовали бурам и смеялись над англичанами или негодовали против них, и против России и ее правительства раздаются клики негодования и насмешки, а в пользу наших буров слышны симпатии и у нас и в Европе. Англичанам понадобилось много времени для того, чтобы изучить тактику буров, примениться к ней и найти способного человека, который постепенно отнял у буров всякую возможность нападать. Такой человек и у нас необходим для того, чтобы водворить порядок. Мне думается, что никакими программами и обещаниями его водворить невозможно, ибо он расшатан слишком глубоко, и правительство не дает нашим бурам никаких доказательств своей силы и своего авторитета. Буры наши доселе нимало не сомневаются в своей окончательной победе, и все их действия и вся их агитация направлена на возбуждение негодования против правительства и его либеральных намерений. Этим намерениям они не хотят верить, и как бы эти намерения ни были искренни, наши буры останутся непримиримы и без особенного труда по-своему докажут, что весь этот правительственный либерализм только обман, что правительство не понимает наших буров и не может им дать того, чего они хотят, и что они возьмут непременно, если не будут отчаиваться в победе.
Я сказал вчера, что есть какая-то связь, какой-то запах, общий всем партиям, запах, который и соединяет и разделяет. Может быть, это повальное сумасшествие, о котором говорят уже давно, а может быть, — это сознание, что война идет между англичанами и бурами, нашими англичанами и нашими бурами, о чем я вам теперь докладываю. Африканские буры одушевлялись освободительным движением, как и наши буры. Англичане два года старались им доказать, что Англия — сильна и авторитетна. Наша Англия вовсе не так настойчива в этом отношении, как английская Англия, и все еще рассчитывает на циркуляры, на программы и на Миколу-угодника. Вот, погодите, издадим программу, и все пойдет как по маслу. Давай Бог, но мне это сомнительно. Я никогда не могу забыть, что русские поднимались при всяком чужом освободительном движении, они шли к Гарибальди, шли к герцеговинцам, шли в Сербию и Болгарию и шли к бурам. А. И. Гучков тоже был у буров. Это великодушие — наша основная черта, и если мы разно смотрим на свое освободительное движение, то, может быть, чувствуем его одинаково. И хочется порядка, и жаль беспорядка. И так, мы, обыватели, вертимся и оставляем своих собственных англичан в недоумении и большом одиночестве по их отношениям к нашим собственным бурам.
Я бы советовал нашим собственным бурам сдаться, ибо наши собственные англичане тоже конституционисты, и на этом пути возможно примирение. Но наши буры желают революции, желают ее продолжения во что бы то ни стало.
И нечего нам от себя скрывать, что средства русской революции гораздо сильнее, чем были средства всякой другой европейской революции; сильнее в изобилии печатной пропаганды, сильнее приемами забастовок, сильнее оружием, револьверами и бомбами, сильнее в смысле непротивления общества, которое и доселе еще остается совершенно неорганизованным и мало сознающим идущую опасность. Наша революция — первая революция на новых началах и при новых средствах. И для меня, по крайней мере, не остается сомнения, что Европа, может быть, в весьма непродолжительном времени воспользуется всеми этими средствами для своих революций, пришествие которых неизбежно. Франция начала ряд политический революций. Россия начинает ряд революций социальных. Недаром Европа собирается гнать от себя русских и евреев, которые выдают себя за русских. Германия, Франция, Англия, Австрия пробуют ряд административных мер, чтобы избавиться от русских революционеров и даже от учащейся молодежи, которую прямо гонят из Германии. Россия заражает Европу. Умеренные европейские газеты ругают русское правительство за то, что оно все так распустило и не умеет справиться с революцией, а крайние газеты восхваляют русскую — революцию, видя в ней опыт революции нового фасона, la révolution à la mode russe. «Французское с нижегородским» не только смешалось в революции, но нижегородское пошло вперед, как грубое, неотесанное, некультурное. Те из нас, которые равнодушно объясняют все наши безобразия и ужасы некультурностью, не соображают, что некультурность только прибавляет силы революции нового фасона, так как эта революция не нуждается в образованности и собирает около себя толпу, для которой совершенно достаточно таких лозунгов, как «земля и воля», «республика», «покроем всю землю кровью, если вы нам не дадите того, чего мы желаем», и т. д.
Все средства хороши для достижения подобных целей, начиная с мошенничества и воровства и кончая грабежом и убийствами. Говорят, что эти средства погребают революцию, отнимают у нее престиж благородства и самоотвержения. Увы, это совсем не так. Революция постоянно изобретает, поражает, смущает и терроризирует. Она властно растет, а властность подчиняет и принижает, какими бы средствами она ни пользовалась. Зло заразительнее, чем добро. Большой преступник интереснее, чем большая добродетель. О нем кричат, а к добродетели остаются равнодушны. Убийца президента Гарфильда, Гито, перед казнью, как милости, просил, чтоб суд обнародовал, что он, Гито, получил 800 писем от сочувствующих ему женщин и несколько десятков букетов от них же. Что у нас проделывалось в деле лейтенанта Шмидта и Спиридоновой мужчинами и женщинами, есть только общее правило. Сколько лиц сочувствуют теперь Беленцову, убежавшему с поезда! И разве это происшествие не поднимает надежд революции, не указывает на бессилие правительства и разве есть у кого-нибудь уверенность, что завтра или послезавтра не случится чего-нибудь подобного. Что-нибудь прозевают, что-нибудь допустят и покроют панихидой за упокой или молебном за здравие.
В то время, как революция терроризирует, пользуется всяким случаем и всякими средствами, правительство — однообразно и рутиннозаконно в своих средствах и действиях и даже не прочь подавить личную инициативу. Революция бежит, а правительство и общество ходят и даже сидят. Я насмотрелся с прошлого ноября и наслушался много такого, что делает непоколебимым мое убеждение, что у нас революция… настоящая, несомненная, что освободительный манифест 17 октября 1905 г. так же не прекратил революцию, как не прекратила ее во Франции очень либеральная конституция 1791 г., оставившая королю только ненавистное ему veto.
Я пишу это не для того, чтоб пугать, а для того, чтоб возбуждать к деятельности, к борьбе все те силы, которые способны бороться с революцией. Я пишу это в интересах мирного населения, которое нуждается в защите, в безопасности, в спокойном труде. Это мрачная трагедия, где рядом с наглостью и террором столько слабых, развинченных, равнодушных и уверенных, что все само собою образуется. Кто верит в сие последнее, тот слаб и жалок. Кто ищет juste milieu, тот ищет летошного снега. Конечно, всякая трагедия имеет свой конец. Будет его иметь и наша. Но когда и где?
Чудная страна наша Русь. Нет такой другой страны во вселенной и не будет. Один восторг да и только. Кроме Господа Бога и болезней, целая организация для прекращения жизни. Для смерти лучшей страны не найдешь…
9(22) августа, №10921
DCLXXIV
Сегодня в 4-м часу вошел ко мне редактор и передал телефонное известие, что П. А. Столыпин убит, что дача его взорвана и что вместе с ним погибло много пришедшей к министру публики. Я достаточно привык к ужасам нашей революции, но это известие поразило меня. Оно напомнило мне взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г., когда было убито десять солдат Финляндского полка и двадцать пять ранено более или менее тяжело. Министр, опасный для революции своим прямодушием, искренностью, своим либерализмом и твердою решимостью бороться с революцией в пользу установления политической свободы, погиб в самом начале своей деятельности, когда общество стало относиться к нему сочувственно. Через полчаса я знал всю правду. Министр остался жив, но сердцу его, как отца, и жене его, как матери, нанесен страшный удар.
Было восемь часов. Мы поехали на Аптекарский остров, где находится дача министра внутренних дел П. А. Столыпина. По дороге мы видели мост, разрушенный небрежением левой партии городской думы. Приятель мне рассказывал, как радикальная думная комиссия устраивает безработных. Я вспоминаю безработных французской революции. Явление вполне тожественное, но тогдашняя французская дума была умнее и распорядительное петербургской.
С Каменноостровского проспекта мы повернули по Песочной улице, обыкновенно очень пустынной. Теперь по обоим тротуарам туда и назад ходило много публики. У ворот домов кучки людей. Кто-нибудь рассказывает, другие внимательно слушают. Начали встречаться конные разъезды. Экипаж наш остановился на углу Песочной и набережной Невки. Набережная вся обсажена большими деревьями. Мы вышли из экипажа и пошли к дому министра, который выходит на Невку. Дом с трех сторон окружен садом, мостовая на большом расстоянии от дома уже блестела мелко разбитым стеклом. Вот и дом. Он — двухэтажный, деревянный. Во втором этаже со стороны сада балкон со стеклянными рамами. Несколько каменных ступенек ведут в большую переднюю, где раздеваются посетители и где находится прислуга. Передняя эта с частью второго этажа над нею, до самой крыши вся разрушена. Пола тоже нет. Масса досок и другого деревянного материала сложена против дома у деревьев. Но час тому назад все это было еще не убрано и представляло руины, под которыми были погребены люди. В комнате во втором этаже, которая была рядом с комнатой над передней, работала швея, которая тяжело ранена. Пол этой комнаты, оторванный с одной стороны, повис в нижний этаж. В первом этаже, рядом с передней, комната, где занимался чиновник, обыкновенно встречавший посетителей. Потолок этой комнаты тоже повис, разделяя ее под углом. Окна выбиты. Перед самым крыльцом лужи крови. Немного поодаль ландо с сорванным верхом.
Мы стали расспрашивать офицеров, приставов и солдат о совершившейся драме.
— Ужасно жаль бедную барышню, Наталью Петровну. Солдат освободил ее из-под досок и всякого мусора. У нее раздроблены обе ноги. Когда солдат понес ее в соседний дом, она спросила его: «Это сон?» — «Нет, барышня, это не сон». Когда он положил ее на кровать и она увидела свои окровавленные ноги, она горько заплакала. Мертвенно бледная, она до этого времени не плакала и не стонала.
За что она пострадала, бедняжка? За что пострадали все эти убитые и тяжелораненые, пришедшие к министру с просьбами? Эти вопросы невольно приходят в голову, но на них нет ответа, как нет ответов на многие другие вопросы в это каторжное, проклятое время, время разбойное, мятежное, управляемое бесами в человеческом виде.
Они приехали — я говорю о бесах — в ландо, с Морской, д. №49, где есть меблированные комнаты. Несколько дней тому назад они прибыли из Москвы и тут остановились. Один был в генеральском мундире, другой одет ротмистром жандармского батальона, третий — штатский. Кучер тоже из них же, как мне говорили. Ландо извозчичье и рыжие лошади также. Генерал не вылезал из ландо. Ротмистр вылез, но не поднимался на крыльцо. Поднялся с бомбою в руках штатский. Никто не знает, бросил ли штатский бомбу или ее выронил. Существуют только догадки, ибо все бывшие в передней убиты, начиная со старика швейцара. Говорят, что кто-то увидел в руках у штатского бомбу и стал его не пускать, и в это время последовал взрыв. Говорят, что было два взрыва и две бомбы. Во всяком случае, ландо не отъезжало от крыльца. Вероятно, оно ждало, будут ли приняты министром приезжие, и если б штатский получил утвердительный ответ, он бы сказал своим товарищам и тогда все трое вошли бы в квартиру. На отказ в приеме они могли не рассчитывать, так как был между ними генерал, который, конечно, назвался бы известным именем. За это предположение говорит как то, что ландо не отъехало от крыльца, так и то, что в ландо найдены три заряженные браунинга. Либо револьверы должны были быть пущены в дело, либо бомба, смотря по обстоятельствам. Так как взрыв последовал очень скоро после того, как скрылся за дверью штатский, то возможно допустить, что бомба выпала из рук убийцы. Взрывом повалило ландо на бок. Лошади стали биться. Одна из них ранена в ногу, другая осталась цела. Кучер ранен легко, генерал и ротмистр тяжело, штатский убит.
Преображенский офицер Крейтон стоял в приемной министра рядом с Замятиным и разговаривал. Замятину снесло полголовы. Крейтон остался невредим. Бывший пензенский губернатор Хвостов говорил, что завтра он уезжает за границу. Он тяжело ранен и, говорят, уже умер.
Никогда не видано столько трупов, говорили мне свидетели катастрофы. 24 человека лежали между деревьями. Один из них, принятый за мертвого, вдруг открыл глаза и стал говорить. На некоторых убитых не было совсем ни платья, ни рубашек, они были совсем голые, или на руке или на ноге оставалась часть одежды, остальное платье исчезло. Один найден совсем голый, только с золотым кольцом на пальце. Это напоминает молнию, которая действует подобным же образом.
— Это сон?
Хочется повторить эти слова несчастной девочки, жестоко израненной дочери министра. Нет, это не сон, бедные наши дети, живущие среди этих ужасов. Это не сон, а жестокая действительность. Какие испытания она вам готовит еще, один Господь ведает. Лета не защищают и не внушают жалости, и в этой битве и вы кладете свою голову или несете страшное о ней воспоминание. Я не спрашиваю, когда все это кончится. Я не знаю даже, конец это или только начало. Бес ли вселился в русского человека или зверское начало побороло человеческое. Можно перестать верить в человеческое сердце — так оно ожесточилось, извратилось и жаждет крови и мщения в каких-то холодных, дьявольских расчетах, а не в порывах страсти, не в кипении крови.
Если бы видели убийцы, что тут было, какие душу раздирающие стоны и какое зрелище! Так мне говорили на месте катастрофы. Но разве это в первый раз? Разве не плачут и не хоронят на всех концах России эти жертвы? Разве слезы и стоны не слышит сердце? Этих «бесов» нам не исправить никакими словами убеждения, никакими вздохами, никакими мерами. Мало слышим мы, мало делаем все мы. Во всех нас сидит какой-то демон непротивления и равнодушия и пока он в нас во всех, пока революции раздаются улыбки и слышится какой-то беспардонный шепот, ничего не будет. Ведь ежедневно мы читаем об ужасах и насилиях. Ежедневно нам сообщают, что открыто столько-то бомб, столько-то револьверов, ружей, патронов, целые склады. Кто же собрал все это по всей России, кто все это допустил? Администрация теперь это открывает. А какая же администрация этого не видела и это допустила? Чего мы смотрели? Без сильной власти ничего нельзя сделать. Но власть и в нас, в нашей бодрости, в нашем сочувствии мирной жизни, мирному порядку. Надо же положить предел нашим желаниям и вооружить мужеством нашу совесть. Надо отделить революцию от мирного процесса и заклеймить позором и проклятием всякое насилие, всякое убийство. Наши дети этого требуют, те несчастные дети, которые заслуживают только радости и любви и которые в мучениях спрашивают: не сон ли это?
13 (26) августа, №10925
DCLXXV
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, Такая пустая и глупая шутка.Не горькая ли это правда, в особенности в наши дни, такие тревожные и безотрадные?
Атмосфера этой смуты явилась для огромного большинства нежданной бурею, с страшными громами поражений в какой-то далекой Маньчжурии, в долинах и горах какого-то Дальнего Востока, на водах Великого океана, в таких пространствах, которыми и фантазия не занималась. Я так слепо верил в непобедимость русского оружия, так надеялся на наш флот. Мне представлялись моряки чем-то особенно отважным, закаленным седыми волнами и грозными бурями старца-океана. В русских людях живет давно наивная вера во многое русское, потому что без этого жить нельзя. Помните великолепное празднество в Париже в честь наших моряков? Я в это время был там и участвовал в чудесной встрече русских моряков сотнями тысяч французского народа, который заполнял длинные улицы, пестрел на балконах и крышах и радостно приветствовал Россию. Мэр Парижа, бывший коммунар, сидевший рядом со мною за завтраком журналистов, говорил мне, что видел сам, как несколько парижан проталкивались к экипажам и целовали руки у моряков. Он прибавлял, что он никак не ожидал, чтобы дело дошло до такого целования. Перед военным клубом, где помещались моряки, целые дни не расходилась толпа из разных слоев населения, не исключая высших. А что за волшебное было представление в парижской Опере. Вся статская, военная, ученая, литературная, художественная и денежная знать наполняла ложи и кресла. Старец Канробер полуживой был внесен в ложу на кресле. Крики «да здравствует Россия!» раздавались из всех грудей, и весь партер и в ложах стояли. На сцене в роскошных русских костюмах первые певцы и певицы исполняли последний акт «Жизни за царя». Все эти праздники, тянувшиеся несколько октябрьских дней, были прямо волшебной сказкой. Ко мне в отель приходили студенты-медики и говорил пламенно о реванше, а один из них, заговорив об Эльзас-Лотарингии, зарыдал, как ребенок.
Во что только тогда ни верилось. Было ли какое счастье, которое бы не улыбалось, была ли какая-нибудь фантазия, в которую бы не верилось. Уж нечего говорить о нас, русских, но французы, французы, столько испытавшие разочарований, как блестели их глаза, как волновались их груди и какой пламень был в их речах!
Страшно вспомнить. Все погибло, все рассеялось, как туман, окрашенный роскошным блеском утренней зари.
Но погибло ли? Можно ли это говорить? Может ли верить этому русский разум, может ли верить этому русское сердце? Не может! Но я слышу вопросы: где же этот русский разум и где русское сердце? О них не слыхать было даже в Г. думе. Кажется, ни разу и никто не сказал о России, о том, что он русский, что он патриот. Во время Великой французской революции слово «патриот» было у всех на устах. Оно было общим лозунгом для поклонников свободы, равенства и братства. «Патриот» и «гражданин» имели одно и то же значение. В Г. думе слово «патриот» объявлено было позорным г. Петрункевичем. Чтоб не произносилось русское имя, стали высмеивать «истинно русских людей». Может быть, и русское имя стало пятном позора для всех тех, кто мечтал и мечтает о какой-то такой революции, которой нет конца и краю и которая бомбами победит непременно. С поднятым челом, с горящими глазами, с гордостью владыки говорят все те, фантазия которых уносится в безбрежную даль, а страстные их речи клеймят злобной насмешкой и проклятиями все то, что существует. Они клеймят все, начиная с Бога, которого нет, христианской религии, которая поддерживается своекорыстными властителями и попами, и кончая такими пустяками, как собственность, брак, семья и тому подобные учреждения. Все это порождение деспотизма и бюрократии и потому да погибнет все это и все те, которые всему этому служат. Прочь с дороги, и кто этому мешает, тому смерть!
Таковы убеждения того воинства, которое несет в своей голове и в своем сердце социализм и все с ним связанное неразрывно. Я говорю именно о воинстве, о действующих агентах этого учения, об этих убивающих и гибнущих иногда от своего собственного оружия, а иногда счастливо убегающих. О них говорят, как о бесах, пришествие которых предсказано Достоевским, о них говорят, как о злодеях и палачах или как о фанатиках, зараженных сумасшедшим бредом. Жизнь отравлена и, отравленная, она живет возбужденно, порывами надежды и отчаяния, приливами и отливами среди этого террора и смуты в океане русской жизни.
Что ж, прилив революции зальет Россию, револьвер и бомба победят, как победили японцы? Надо быть глубоко малодушными, чтобы допускать это.
Но что делать? Кто об этом не спрашивает? И вот на это ответы. Одни говорят: необходима диктатура; другие: необходимо собрать поскорее Г. думу и, вручив ей управление, объявить амнистию убийцам и согласиться на раздел имуществ; третьи: гнусные преступления этих политических палачей и палачек скоро заставят общество возненавидеть подобных людей, и тем самым они станут невозможными.
Скоро сказывается сказка, и не скоро делается дело. Когда слышишь горячие споры обо всем этом и сам принимаешь в них участие, то не можешь не видеть и не понимать, что все эти спорящие, все рекомендующие эти средства сами мало верят в целительность их. И чем горячее спор, тем быстрее падает его интерес. А вопрос весь в том, что никакие средства без людей ничего особенного не сделают. Все зависит от людей, начиная с того стола, за которым вы сидите, и платья, в которое вы одеты.
Да, все от людей, от их уменья, ума, таланта, силы воли. Не говоря уже о диктатуре, вещи вообще опасной, справа ли она или слева, даже собрание «лучших людей» будет только случайным собранием, в котором может не оказаться именно таких людей, которые стояли бы в уровень с событиями и могли бы направить их своим талантом и силой воли. Европейская история полна такими примерами. Французские историки говорят, что на протяжении почти ста лет были только две действительно даровитые палаты, это в 1789 г. и в 1871; все остальные не давали такого талантливого состава, как эти две. Наша первая Дума не дала ни одного замечательного человека, ни одного такого, о котором бы говорили: вот замечательный ум! Вот удивительный талант! Вспомните первые произведения наших писателей или художников. Они обдавали талантом своих современников и привлекали тотчас к себе все сердца, и в сердцах загорались надежды и радость. А наша адвокатура с появлением нового суда, как она была талантлива и блестяща! Даже прокуратура дала прекрасные таланты. Достаточно назвать одного Кони. Ничего подобного не случилось с Г. думой. Учреждение осталось дорогим, а «лучшие люди» стали весьма обыкновенными, какими они в сущности и были и какими останутся. Надо думать, что будущая Дума вызовет из России другой состав. Попадут в нее и бывшие депутаты, но и эти депутаты будут лучше в новой Думе, чем были прежде, потому что у них теперь есть то, чего не было, именно опыт. Эти несколько месяцев несомненно пройдут плодотворно для всех, и для бывших депутатов, и для выборщиков, и для министерства, несмотря на все усилия «бесов» терроризировать население и правительство, т. е. подчинить их себе, своей силе, которая проявляется не столько в них самих, сколько в химии. Террор угнетает волю своих противников, грозя их жизни и отнимая жизнь. Но мудрено отнять жизнь у России и погнать все культурное общество в тиски социал-демократии, под палки и бомбы пролетариата.
Россия воскреснет. Станем в это верить все, верить непреклонно, станем верить каждый день в свои силы, стало быть, в соединенную силу всех, в силу России. И если она не скоро найдет себе великого человека и великих людей, то несомненно найдет честных, образованных и мужественных людей.
Я начал за упокой, чтобы кончить за здравие, за мужество, за новую жизнь. Она будет труднее, чем та, которая осталась за нами, гораздо труднее, но одолеть ее необходимо. Надо бодро идти в настоящем, ничего не пугаясь, чтобы встретить грядущее. Из «лучших людей» Думы постепенно образуется когда-нибудь особое сословие политиков и политиканов, как и на Западе, которые смешаются с бюрократией, станут искать мест и обделывать свои делишки; но будут и талантливые и бескорыстные люди не для речей только, но и для дела управления страной и ее благополучия, как были и несомненно есть такие люди и в том слое, который шельмуется без разбора под именем бюрократии. И слово «патриот» воскреснет, и никто не осмелится в Думе оскорблять ни русского, ни армию, а кто оскорбит, тот ответит. Заметили странность: как вежливо газеты вели полемику по поводу вызова на дуэль г. Якубзона поручиком Смирнским. Ни одной оскорбительной выходки, ни злобных насмешек даже из тех газет, которые поносили военных. Оно и понятно: молодой человек за честь армии решился рисковать своей жизнью. Множество случаев, что плохой стрелок убивал хорошего. Поручик Смирнский понял то, чего не хотели понять некоторые из сильных военного мира, повелевавшие смирение и пренебрежение перед оскорбителями. Мужество ценится всяким порядочным человеком даже из тех, которые «принципиально» отвергают дуэль. И мужество — то великое качество, которое должно победить наших «бесов». Мужество убеждения и воли. Кто не боится смерти на своем посту, посланном ему судьбою, тот и убитый, в открытом ли бою или подлой изменой, оставляет после себя примеры для подражания живым. Глава теперешнего правительства — человек мужественный, бескорыстный и прямой. Он знает, что только одно мужество может помочь глубоко обдумать все условия русской жизни и затем принять твердые решения. И поэтому да здравствует мужественная жизнь, господа, и да посрамятся трусы!
16(29) августа, №10928
DCLXXVI
Замечательно, что тотчас после взрыва на даче П. А. Столыпина левая печать настойчиво стала говорить, что он уходит, что страдания его несчастных детей так подействовали на его нервы, что он не может заниматься более делами. И вот все эти дни сердобольная левая печать, наделенная особенно чувствительным сердцем, которое, как известно, находится тоже на левой стороне, усердно дебатирует это предложение министру: «Уходите, пожалуйста. Благодарите Бога, что вы остались целы, но уходите! Примите в соображение, что убить хотели вас. Вас не убили, а потому сделайте так, что вас как бы убили. Вы доставите большое удовлетворение террористической партии и всем тем, которые бомбы в руки не берут и жизнь свою берегут, но которые желают, как евреи желали манны небесной, чтобы правительство испугалось до истерики старой девы, до бреда сумасшедшего, до трусости зайца. Понимаете, как это было бы великолепно! Все врассыпную — и вы первый. Для вас это нисколько не постыдно. Вы не убиты, но вы убиты горем, не только горем отца и семьянина, но и горем порядочного человека и честного министра, который не может не жалеть всех погибших, которые пришли к нему с просьбою или служили ему. Вас никто не осудит. Мы напишем превосходные статьи о вашей отставке. Мы скажем: «И Столыпин ушел. Он был недурной человек, и даже как министр подавал некоторые надежды, но ужасное событие, направленное не в него собственно, а в него, как представителя правительства, так поразило его нервы… а, может быть, — кто знает? — так осветило его сознание, что он ушел. Он почувствовал полное свое бессилие управлять без народа, без полновластных представителей его, которые одни могут успокоить страну». И многое другое скажем. Но только уходите! Согласитесь, если вы не уйдете, то цель наших политических палачей не достигнута. Положим, число жертв очень велико. Это одно из самых «грандиозных» явлений и «нравственных поучений» для правительства, но все же оно как бы недействительно. А если вы уйдете, то цель достигнута вполне. И ужас наведен, и вы, против которого сами террористы ничего не могут сказать, ушли из дела».
Конечно, не этими самыми словами, но совершенно этот смысл слышится в этих настойчивых слухах. Уходите и удовлетворите военачальников террора, который мы не одобряем, но против которого нет никаких средств, кроме послушания. В самом деле, даже один опытный публицист говорит: «Против анархистов нет внешних средств!» И говорит это с такою же твердостью, с каковой он предсказывал урожай там, где следовал неурожай, и неурожай там, где следовал урожай. Есть только внутренние средства, и главное из них — послушание «голосу народа», ибо террористы — это народ, это его совесть и убеждение. Всех долой и все наше. Рецепт очень простой для тех, которых преследует террор: если взрыв и убийство при конституции — переходите немедленно к парламентаризму, если взрыв и убийство при парламентарной монархии — провозглашайте республику, а если при республике последуют те же явления, то одно средство — социал-демократия. Террор и рассчитывает так. Напугать правительство и общество и заставить их шествовать ускоренным маршем к целям террористов. Всякая уступка есть расчистка пути для власти революции. Эволюция — это презренная маска, которую надевают на себя некоторые, а на самом деле борьба идет репрессиями со стороны революционеров, и без них революционеры должны были бы смешаться с либералами, т. е. употреблять только слова убеждения, а не бомбы. Идет война и à la guerre comme à la guerre. Церемониться нечего. Все пускают в ход: лицемерие, обман, ложь, шпионство, клевету, взрывы, выстрелы. Конечно, и правительство может отвечать тем же. Но ведь то самое оружие, которое у революционеров носит лозунг «освобождения», «счастья родины», у правительства оно носит название палачества, разбойничества и подлости. Каждый арест и обыск — это гнусное насилие, а каждая фабрика бомб — это храм народного счастья. Каждый убийца городового и в особенности губернатора — герой, а каждый убийца убийцы городового — преступник и негодяй. Удивительно, как все это просто и как быстро воспринимается все это публикой, даже самой невинной в политике.
Уходит ли П. А. Столыпин? Думаю, что не уходит и по той самой причине, по которой ему советуют уходить. Кто ценит себя, свою личность, свое призвание, тот не уходит с своего поста, пока есть в нем силы. В этом и заключается мужество, о котором я вчера говорил. Умереть на своем посту — это прекрасная смерть в наше боевое время. С мужеством палачей террористической партии, которое отрицать невозможно, называйте его хотя злодейским, можно бороться только мужеством. Понижение этого мужества будет окончательным унижением власти, за которым может последовать полная анархия в России. Кто трус, пусть уходит. Кто не чувствует призвания и способностей служить России — пусть уходит. Но в ком есть убеждение, что он может быть полезен Родине, что сердце в нем горит патриотизмом и желанием водворить и утвердить новый порядок, тот должен оставаться, несмотря на взрывы, угрозы, отцовское горе, болезни жены и детей. Война отвергает все эти чувства, всякие сентиментальности. Она выше семьи, потому что на войну зовет Родина. Как Христос требовал, чтобы всякий, желающий идти за ним, оставил своего отца и свою матерь, так и Родина. Если правительство сдается в плен, то население может только презирать такое правительство, как презирает оно Стесселей и Небогатовых. Наше время требует всего человека, всей его души, всей жизни. Кто не может этого дать, тот, по меньшей мере, бесполезен, тот занимает место, на котором другой был бы полезнее. Нужны мужественные люди в такое опасное и тревожное время. У этих людей не служба деспотизму, а служба Родине, служба политической свободе, служба самоуправлению. Они имеют полное право написать это на своем знамени и с высоким челом смотреть на революцию и на ее выездных лакеев с их бранью, клеветою, ложью. Этим чувством должны одушевляться все, кто хочет искренно добра России, кто желает прекращения мятежей и всякой смуты. Победа за мужеством и талантом.
18(31) августа, №10930
DCLXXVII
Трагедия всегда перемежается комическими эпизодами, и об одном из них я хочу сказать в подобающем стиле.
Г. Родичев родил гениальную мысль. Это бывает со средними людьми. Вдруг родит гения, особенно в союзе с женой. Ведь родители гениальных людей почти сплошь средние люди и даже пониже средних. Г. Родичев родил гениальную мысль один. Рассуждая в «Речи» о «правосознании», об «успокоении в праве», о «творчестве права», он написал: «В бесправии воспитана вся наша администрация». Только-то? — спросите вы. А разве это не гениально? Ведь не только администрация, все мы воспитаны в бесправии, не исключая гг. Родичева, Муромцева, Кокошкина, Набокова, Аладьина, князя Урусова, Стаховича, графа Гейдена и всех остальных членов Думы. Кто почти всю жизнь прожил в бесправии, кто половину, кто две трети. Средний возраст господствовавшей кадетской партии 40 лет. Ведь это больше полжизни. Воспитанным в бесправии откуда научиться было праву? Из книг и газетных статей? Больше неоткуда было. Но и книги и газетные статьи — это теория. А на практике как администрация, так и Дума — кость от костей и плоть от плоти. Управляемые бесправием, мы и жили в бесправии и пользовались жизнью в этом бесправии, кормились бесправием, учились бесправно, пользовались доходами с имуществ, доставшихся бесправно, судились по законам бесправия и проч. Не правда ли, так? Далеко не совсем так, по-моему, и это доказывать нечего. Я беру только «гениальную» мысль г. Родичева, и из нее ясно, что если администрация не могла «сотворить право», то и Дума не могла «сотворить право», а если Дума могла «сотворить право», то и администрация могла «сотворить право». Таким образом, на практике явилась простая конкуренция между «бесправными»: бесправные Думы напали на бесправных администрации и переругались, как только могут ругаться бесправные. «Пошли вон, дураки!» закричали одни, в бесправии воспитанные, другим таковым же. Агафья Тихоновна, тоже в бесправии воспитанная, сказала это своим женихам, по свидетельству Гоголя, за 70 лет до Думы. Дума только повторила. Она и в этом не была оригинальна. Натурально, что Дума была уверена, что бесправно воспитанные не распустят ее, как однокашники не распускают друг друга, а продолжают то ругаться, то мириться. Натурально также, что вражда этих бесправных между собой должна была поглотить всю их энергию и все внимание, и для практического дела ничего уже не оставалось. Они сражались друг с другом одним и тем же оружием, — бесправием, которое выражалось фразою: «пошли вон, дураки». Дума ловила всякий предлог, чтобы сказать эту фразу на всю Россию. Администрация в департаментах и советах могла говорить ее же, с тем негодованием, которое чувствовали прилично воспитанные бюрократы. И ничего другого, решительно ничего. Шло ли дело о программе, шло ли оно о запросах, о смертной казни, об аграрном вопросе, о «жидотрепке» в Белостоке, — в результате только и было: «пошли вон, дураки». Когда Думу распустили, она так удивилась, что позабыла свою превосходную фразу и сказала вместо нее другую, заимствованную не у «бесправных» своих однокашников, а у революционеров: «Не давайте ни рекрутов, ни податей тем, которые нас разогнали». Что эти две стороны из одной и той же кости и плоти, доказывается и той халатностью и амикошонством, с каковыми бывшие члены Думы стали говорить, что необходимо собрать их снова, не прибегая к новым выборам. Ничего, мол, не случилось особенного. Просто поспорили за картами из-за большого шлема и опять помирились и садимся за новую пульку, в которой опять: «а, вы пошли не с той карты, — так пошли вон, дураки, палачи, разбойники» и т. д.
Премилый государственный винт!
Вместо того, чтобы всем бесправным идти вместе к «праву», учиться ему и учить других, которые ни книг, ни газет не читали, или читали с пятого на десятое, «бесправные» доказывали друг другу, кто из них умнее и добродетельнее и кто должен управлять «по праву и «творить право», Агафья ли Тихоновна или Кабаниха.
Эти заботы так гипнотизировали оба лагеря «бесправных», от короны и от народа, что они совсем забыли о тех, которые почти полстолетия отрицали всякое право, думая этим отрицанием «творить право»… революции во что бы то ни стало. Оба лагеря, очевидно, поверили манифесту революционеров, в котором было сказано, что они приостанавливают со дня открытия Г. думы свои действия, но будут продолжать приготовление всякого оружия для дальнейших действий. Слова этого они не исполнили вполне, ибо были взрывы, были убийства и грабежи, но это объяснялось тем, что центральный комитет не обладал достаточной силой для того, чтобы остановить действия «летучих отрядов». Но центральный комитет вполне исполнил свое обещание не останавливать приготовления всякого оружия, что несомненно доказывается открытием фабрик и складов бомб, динамита и всякого оружия уже после роспуска Думы, когда администрация, смахнув заботы о борьбе с Думой, обратила прилежное внимание и на этот предмет.
Я должен вам сообщить один очень интересный литературный факт, который вы или не знали, или забыли. Он случился 75 лет назад, т. е. еще ранее того времени, когда Агафья Тихоновна произнесла: «пошли вон, дураки».
Это было вскоре после так называемой июльской революции, которая продолжалась всего три дня (27–29 июля 1830 г.), но заставила Карла X подписать отречение от престола и возвела на престол Орлеанов, в лице Луи-Филиппа, сына того Филиппа Орлеанского (Philippe — Égalité), который был членом Конвента, вотировал смерть Людовику XVI и сам погиб под гильотиной, как жирондист. Два замечательных писателя, оба еврейского происхождения, поэт Г. Гейне и критик-публицист Бёрне, беседовали между собою в Париже год спустя после этой июльской революции. Сделавшийся отчаянным демагогом, Берне рассказывал Генриху Гейне, далекому от демагогии, об одном «освободительном празднике» в Германии, на котором у него украли часы:
— Я был очень рад этому воровству: оно подает мне надежду. И у нас также есть мошенники, и это хорошо, потому что мы тем легче преуспеем. А то этот проклятый чудак Монтескье старался убедить нас, что основа республики есть добродетель! Я приходил было уже в ужас от того, что наша партия будет состоять из честных людей и мы ничего не достигнем. Совершенно необходимо, чтобы и мы имели в своей партии таких же мошенников, как и наши враги… Я бы с удовольствием нашел этого патриота, который украл у меня часы; я бы поручил ему управление полицией и дипломатией, когда мы сделаемся министрами. Но я от себя бы прогнал этого вора. Я бы именно напечатал в «Гамбургском Корреспонденте», что даю сто луидоров тому честному человеку, который найдет мои часы. Часы этого стоят, уж как редкость, — как первые часы, которые украла немецкая свобода. И мы, сыны Германии, просыпаемся от сонной честности. Трепещите, тираны, и мы умеем воровать!
Этот юмористический рассказ Берне заключал в себе серьезное предупреждение и предсказание того, что действительно случилось. Революционеры приняли за руководство пословицу — клин клином вышибай — и совершенно вышибли из своего сознания «добродетель», о которой говорил «проклятый» Монтескье, и всякое «право», и всякое русское чувство. Немецкая свобода украла часы, русская свобода стала воровать и грабить напропалую, так воровать и грабить, как нигде еще не воровали и не грабили. Убийства практиковались и прежде, но и они со времен июльской революции стали возрастать, и опять у нас же развились прямо в нечто колоссальное при помощи взрывчатых веществ и той полицейской бдительности, которая издавна знаменита в российских летописях.
Оставшись без Думы, правительство берется победить революцию и дать реформы. Что одними реформами нельзя победить революцию, это доказывать нечего, как нечего доказывать и того, что и одной Думой нельзя победить революцию, как бы ни твердила об этом левая печать. Необходима сильная и талантливая власть, необходима воспитанная воля, которая бы заставила себя уважать и слушаться, и в то же время необходимы все те реформы, которые бы дали обществу свободу, т. е. избавили бы его от опеки администрации и от опеки революции. Перед правительством такая задача, которая в случае успеха даст ему большое значение и силу. Во всяком случае, для этого срок в шесть месяцев совсем небольшой. Хороших признаков два: правительство не растерялось от последних убийств, несмотря на весь их ужас, и сделало важный шаг — это два миллиона удельных земель, которые должны поступить в собственность крестьян. Это не циркуляр и не законопроект для будущей Думы, а практическое дело. Как бы ни говорила печать, что это неконституционно, как бы ни критиковала эту меру, но два миллиона десятин — прочное дело. Так как и я прожил свой век в том же «бесправии», как и г. Родичев и вся думская и административная братия, то я думаю, что правительство должно действовать, т. е. не только сочинять законы, чтобы представить их Думе, но и вводить их немедленно. Разумею законы, на которых должна основаться наша новая жизнь, начиная с реформы мелкой земской единицы или прихода и полной реформы земских учреждений и некоторых административных и кончая, или именно начиная, аграрным вопросом. Когда 20 февраля соберется новая Дума, она может эти законы исправить, изменить, дополнить, и т. д. Это право за ней остается. Но у России есть право жить мирно, а в настоящее время она живет каким-то революционным сумбуром и какою-то смесью старого с новым, очень несовершенною и отрывочною, мало соображенною с развитием и потребностями общества, явившеюся под именем «временных правил». Такая правительственная деятельность привлечет симпатии всего того огромного большинства населения, которое теперь так страдает и мучится. Конституционно ли это или нет, население об этом не спросит, если увидит, что все это служит к его благу и его спокойствию.
25 августа (7 сентября), №10937
DCLXXVIII
Прошло две недели, как я не беседовал с читателями. Изменилось ли что-нибудь? Не думаю. Все идет по-прежнему. Убивают, грабят и исчезают. Трагедия и оперетка идут рука об руку. Оперетка однако для нас не веселая, но с луны она, наверно, забавна. Забавен этот страх, эта пугливость, эта болезненная паника, которая отнимает разум. Со страхом нельзя жить. Кто страшится, тот не гражданин. Чем государство свободнее, тем требуется больше мужества и самостоятельности от граждан. Кажется, у Шамфора есть анекдот о том, как один французский солдат привел шесть пленных англичан.
— Ты как же это сделал? — спросил у него начальник.
— Я одного убил и потом всех окружил и взял в плен.
Вот именно так все эти названные революционеры делают с нами. Один человек «окружает» целую толпу и победоносно исчезает. Если бы он не думал о том, чтоб убежать, он, вероятно, мог бы взять в плен несколько человек и привести их в кутузку.
Пока этот страх не пройдет, Россия не успокоится. Если он не пройдет до новых выборов, новые выборы дадут в Г. думу крайних левых. Их выберут из страха. Я убежден, что и прошлая Дума была выбрана под влиянием страха, а вовсе не из оппозиции и в отместку, как говорили, репрессиям кабинету Витте-Дурново. Никакой отместки не было, а был просто страх, страх чего-то, не кого-то, а именно чего-то, что стояло в воздухе и угнетало нервы и отнимало разум. Недаром говорят, что Россия с ума сошла, что все стали полоумными, что у нас эпидемическое сумасшествие. Это все от страха. Прежде всего страха напустили японцы, потом Портсмутский мир прибавил страха, который не был смягчен титулом графа, заключителя мира, С. Ю. Витте, а только этим титулом страх усилен, потом забастовки, разгром имений, потом радикализм печати, потом московский бунт и его усмирение, потом трусливость власти, которая только притворялась сильной и храброй, прибегая к лихорадочным репрессиям, потом убийства и грабительства революционеров, перед которыми даже Дума дрожала до истерики и истерически ораторствовала. Я прочитывал в эти две недели два тома думских заседаний. Это совсем не политика, не красноречие, а почти сплошная истерика. Истерика больше двух месяцев. В парламентах в Европе почти ни одно заседание не обходится без взрывов веселости и даже смеха. Это очень естественно среди людей независимых, обеспеченных материально и политически, избранных народом на самую высокую чреду. В нашей Думе смеха почти не было, а взрывы веселости были разве только в кулуарах и в буфете. Большинство пресерьезно молчало, боясь обнаружить свое истерическое настроение, а меньшинство истерично говорило и выкрикивало правительству «руки вверх». Правительство из страха поднять руки вверх, под общим гипнозом, избегало Думы, как черт ладана. Дело кончилось припадком падучей в Выборге. Самый октябрьский манифест — произведение страха. Скоро годовщина этому повальному страху, и я не вижу признаков его уменьшения. Чудесная весна, небывалое по теплоте лето нисколько не содействовали уменьшению страха. Голод прибавил страха, и прекрасное для дачников лето обратилось в голодное лето для народа. Сами революционеры действуют под влиянием страха, какой-то заразительной лихорадки страха, страха перед чем-то неосязаемым, перед какой-то волною, которая не то потрясает землю, не то готовится ее перекувырнуть. Они, революционеры, боятся, что волна вдруг упадет, и разлетится пылью, и этой пылью их самих задушит. И они действуют истерично, торопливо, точно подгоняемые какими-то бесами, которые летают в воздухе и хохочут, как подобает бесам, радующимся всякому злу и кавардаку. Что будет, бесам до этого нет никакого дела. Они вечно живут в оперетке, коверкаются и хохочут над людскою глупостью. А глупости столько в русской жизни показалось, что в соединении со страхом она почти вовсе парализовала ум. А для ума теперь есть простор, но, вероятно, он запуган и связан страхом до того, что стал сомневаться, что дважды два четыре. Он становится в тупик перед этой формулой и спрашивает: дважды два — не стеариновая ли свечка? Г. Пигасов, изобретенный или найденный Тургеневым, не есть ли самый замечательный государственный человек в России, самый свободный и самый смелый? Сказать такую радикальную, такую революционную вещь, как дважды два — стеариновая свечка, для этого необходима смелость анархиста, который ни перед чем не останавливается. Искать конституционную формулу нечего, ибо она давно найдена, хотя и не сразу дается, но искать такую формулу в действительности, как дважды два отнюдь не четыре, значит добиваться самых великих истин, стоящих, конечно, не в таблице умножения, потому что эта таблица — вещь самая банальная и в ней никто не сомневается. Мне кажется, что от господствующего у нас страха и мы все стали сомневаться в таблице умножения. Зачем нам ближайшие истины, когда нас манят истинами самыми дальними? Надо ближайшие презирать и искать в пространстве нечто превосходное. Найдем ли мы его, — вот в чем вопрос.
При этом положении дел прямо отрадно читать письмо А. И. Гучкова, известное нашим читателям. Он сам назвал его «всенародным исповеданием своей политической веры». Естественно, что все газеты говорят об этом письме сегодня и, разумеется, поют панихиду по общественном деятеле, который осмелился быть искренним и смахнуть чувство страха, чтоб открыто и ясно сказать, во что он верует. Его отсылают уж прямо в союз русских людей, приглашают отказаться от политической роли, а октябристы дают совет следовать примеру г. Шипова, который вышел из союза. Центральный комитет союза тоже поспешил оговориться, что он не уполномочивал г. Гучкова говорить от партии. Мне кажется, есть люди, около которых группируется партия и без которых она мало значит, а то, пожалуй, и ничего не значит. К таким людям несомненно принадлежит А. И. Гучков, один из самых умных и талантливых людей, которых выдвинуло конституционное движение. Мало разумея в партии 17 октября и мало в нее вникая, я всегда был склонен вникать более в людей, чем в партию. В г. Гучкове мне симпатичны его мужество, его твердая уверенность в победе конституционного порядка вещей, его прирожденное русское чувство, которое он никогда не скрывал, и открытая борьба с революцией. Программа, им объявленная, написана такой твердой рукой, что не дает возможности подозревать в нем заднюю мысль. Я прочел две статьи в «Речи», из которых одна г. Милюкова, статью в «Товарище» и «Стране», и ответ на письмо г. Гучкова князя Трубецкого. Передовые статьи «Речи», «Товарища» и «Страны» не что иное, как бездарная травля. Это упражнения на тему дважды два — стеариновая свечка, или дважды два во всяком случае не четыре, а, например, три и девять десятых или четыре с половиной. Г. Милюков, судя по его полемике с М. О. Меньшиковым и теперь с А. И. Гучковым, полемист не важный. Он как будто согласен в некоторых отношениях с г. Гучковым и как будто особенно согласен в некоторых отношениях с революцией. Он давно воображает себя Колоссом Родосским, поставив одну ногу на берег конституции, а другую на берег революции. Под ногами у него проходят корабли с грузом конституции и с грузом революции, и он высматривает, где и как эти грузы складываются. Он с удовольствием одной ногой готов бы потопить конституционный груз, но боится потерять равновесие и свалиться в воду. Сообразно этому он ходит около письма г. Гучкова с ужимками корректного человека, боящегося преувеличить в полувежливостях и уменьшить в уколах. Я не особенно давно выражал сожаление, что в Думе не было ни Гучкова, ни Милюкова. Очень интересна была бы борьба между ними именно в Думе. Но и теперь любопытно видеть, как Милюков старается сделать крушение на том поезде, в который сел г. Гучков. Он собирает камушки и складывает их с некоторым раздражением, ибо в тайнике души своей не может не признать, что дело идет о сильном и талантливом человеке, которого травлей не повалишь и который не откажется от своих убеждений из-за партийной приманки, да и убеждения эти имеют такую несомненную ценность и будущность, что они могут вредить радикализму кадетской партии. Г. Милюков не любит соперничества ни в своей партии, ни в чужой. Письмо г. Гучкова есть документ большого значения, ибо оно устанавливает твердо конституционный принцип и его прогрессивное развитие. У партии 17 октября не было ничего достаточно определенного. Она шаталась, как маятник, и не мудрено, что из нее вышла партия мирного обновления, почти повторившая программу кадетской партии. Разумеется, все громы направлены против приемлемости г. Гучковым военно-полевых судов, приемлемости, им оговоренной очень тщательно. Это, в сущности, подробность, не имеющая принципиального значения, подробность тяжкая, горькая, но проходящая сама собою. Замечательно, что князь Трубецкой, отвечая на письмо г. Гучкова, говорит: «Я доказывал, что даже «кадетскому» министерству, в случае его образования, придется прибегать к суровым и крутым репрессивным мерам. И, применяя их, оно в отличие от нынешнего министерства будет совершенно право потому, что они не будут попирать закона, источника всякой власти». Почему кадетское министерство, применяя крутые и суровые репрессивные меры, будет, право, т. е. не будет попирать закона — это остается тайной, которую князь Трубецкой не объявляет, но можно догадываться, что дело идет о том, что он не прочь пророчествовать в пользу кадетов. Мне бы хотелось спросить, кто управляет во время революции по тающим законам? Управляет ум, государственный талант, прозорливость, опыт и знание народной жизни. Великая революция вводила реформы ужаснейшими насилиями. Социал-демократия вовсе не скрывает, что для достижения своих целей она рассчитывает на кровавый переворот. В этих ссылках на закон больше лицемерия и партийной тактики, чем действительного уважения закона. И вся эта полемика против г. Гучкова есть только средство поднять престиж кадетской партии и повалить одного из самых даровитых и искренних русских конституционалистов, за которыми ближайшее будущее.
13(26) сентября, №10956
DCLXXIX
Несколько дней я не был в Петербурге и не читал газет. Возвратившись, я узнал, что англичане везут адрес г. Муромцеву, что кадеты собираются их встретить торжественным образом на конях, во главе с г. Милюковым, для которого приведен белый конь, прямой потомок Сметанки, белого жеребца, выведенного графом Орловым из Аравии. Конь этот уцелел на одном из конских заводов, разгромленных во время аграрных беспорядков. Англичан повезут со станции в открытой коляске на волах, чтобы зрелище продолжалось дольше. Впереди хор митрополичьих певчих будет петь английский народный гимн «Боже, спаси короля», а два хора музыкантов будут играть русскую «Марсельезу». Г. Милюков, сидя на коне, будет дирижировать и запевать так:
Вставай, подымайся, рабочий народ, Идет англичанин к тебе на подмогу. Идет англичанин, он адрес везет — В восторге я бью на цымбалах тревогу, Бью я, Милюков, и собрат мой, Соскис. Хор Сторонись, кто прокис, Кто прокис, сторонись.Я очень рад этому прекрасному торжеству, которое запишется рубиновыми буквами в летописях европейской истории. Оно как раз кстати накануне столь желанного и столь благодетельного соглашения Англии с Россией. Можно пожалеть о том, что между англичанами нет Франклина, и еще более о том, что между русскими нет Лафайета, роль которого мог бы сыграть г. Кузьмин-Караваев, но зато в эскорте, которым предводительствует г. Милюков, есть все что может заключаться между г. Милюковым и г. Соскисом, альфой и омегой кадетской дружины. Я не знаю, кто такой г. Соскис, но в комитетском списке распорядителей торжества Милюков стоит на первом месте, а на последнем Соскис. Дистанция, может быть, и не огромного размера, ибо размеры г. Милюкова весьма скислись.
Англия шла на нас во время севастопольской кампании, она шла на нас в Берлинском трактате и доблестно помогала разгрому России японцами. Успех постоянно сопровождал ее наступление на Россию, и на сей раз кадетская партия несомненно увеличит англичанами свою боевую способность и победит на выборах. В благодарность за эту помощь, которая теперь является особенно кстати ввиду усиления партии г. Гучкова, на съезде кадетов в Гельсингфорсе они примут название «кадеты-бритты». Пожалуйста, без каламбуров.
Еще на днях телеграф разнес по вселенной чрезвычайно отрадное известие о том, что два убийца городовых в Варшаве, едва ли не жиды, явились в Англию и были там приняты с распростертыми объятиями, когда объявили, что они не просто убийцы, а убийцы городовых, то есть убийцы политические. Телеграф умолчал об овациях англичан в честь этих политических освободителей, и мы, к сожалению, не знаем, где был дан банкет в их честь и кто говорил блестящие спичи на этом банкете, восхваляя пролитие русской крови. Но было видение некоему россиянину, что настанет некогда день, когда английских городовых будут убивать английские пролетарии, что замки английских лордов и банкиров подвергнутся такому же разгрому и уничтожению, как и замки остзейских баронов и русских помещиков, и что эти «политические» преступники будут скрываться с почетом в России. Роли якобы переменятся, и невестке будут отместки. Конечно, предсказания не всегда сбываются, но нет сомнения, что русская революция очень популярна в европейской пролетарской среде. Уже и теперь есть некоторые признаки обмена освободительных движений. Лондонский Ротшильд, как сообщил тот же услужливый телеграф, получил предварение о бомбе от русских революционеров. Хотя благородный банкир поспешил опровергнуть это известие и, пользуясь этим случаем, дающим возможность выказать свое ротшильдовское мужество, заявил, что у него нет русских бумаг, что он не причастен к займам русского правительства, проклятым всеми друзьями русского освободительного движения, и что он, таким образом, вполне невинен во вражде к русской революции и ничего не заслуживает, кроме искренней благодарности от революционеров, но кто знает коварство русских вообще и русских революционеров в особенности, тот все-таки с тяжелым чувством прочел этот слух. Поэтому английское высшее общество и высокие представители Сити поспешили сделать визит Ротшильду и выразить свое сочувствие тому беспокойству, которое он мог ощутить на одну малую минуту. В Петербурге тоже идет агитация для поднесения благодарственного адреса Ротшильду за его отвращение к бумагам русских займов и уже собираются подписи.
Таким образом, с одной стороны, адрес английских джентльменов г. Муромцеву за его мужественное поведение и за то, что он привык сначала сделать глупость, а потом рассуждать, как и подобает истинно-деятельному русскому человеку, с другой стороны, адрес россиян г. Ротшильду за его презрение к наживе насчет русского освободительного движения. Эта счастливая случайность, этот обмен взаимных почтений и нелицемерной преданности глубоко знаменателен и чреват последствиями еще вследствие вот какого обстоятельства. Не один отряд кадетов, Милюков — Соскис, будет встречать англичан, но также и отряд Союза русского народа, Дубровин — Пуришкевич. Крайности сходятся, и, к счастию России, они сошлись и выданную минуту и по очень простой причине. Гг. Милюков — Соскис в лице англичан, везущих адрес, встречает друзей, сочувствующих кадетской партии и революционерам, а гг. Дубровин — Пуришкевич едет навстречу тех же самых англичан, приветствуя в них просто Англию, вступающую в союз с Россией. Гг. Милюков — Соскис едет на белом коне от оппозиции русскому правительству, а гг. Дубровин — Пуришкевич едет на вороном коне от партии, сочувствующей правительству. Белые кони будут впереди, как и подобает оппозиции, которая всегда впереди, а вороные кони будут сзади, как и следует отсталому Союзу русского народа. В середине будет помещаться открытая коляска с англичанами. Я знаю наверно, что программа встречи уже выработана обеими партиями и весь вопрос теперь только в подробностях. Опасаются конфликта только в том у отношении, что кадеты подозревают Союз русского народа в какой-нибудь пакости и, поэтому, уже сделали авансы у английского посла, сообщив ему свои подозрения.
Так — все это «говорят», покорно прошу обратить на это внимание — говорят, что будто гг. Дубровин — Пуришкевич будут петь «Коль славен» и затем песню «Ах, зачем было огород городить» с присвистом и другими знаками радости и сердечного умиления, что толпа, в которой непременно будут черносотенцы, может принять за выражение протеста «русского народа». Этого, по мнению комитета Милюков — Скис, необходимо избежать, ибо малейшее проявление каких-нибудь неприязненных чувств по отношению к англичанам может оскорбить Англию и вызвать дипломатический инцидент, который будет совершенно некстати, как не патриотический и затрудняющий дружественные переговоры двух просвещенных дипломатий, английской и русской, действующих совершенно бескорыстно, русская — в пользу англичан, а английская — пользу русских. Со своей стороны, комитет Дубровин — Пуришкевич, предвидя подобный шаг со стороны комитета Милюков — Скис, делает «выступление» у его величества короля Эдуарда VII, прося его обратить внимание на это обстоятельство и предписать своему послу в Петербурге корректность и невмешательство. Замечательно, что к русскому правительству не обращаются ни комитет Дубровин — Пуришкевич, ни комитет Милюков — Соскис, ибо оба комитета находят это достаточно бесполезным по обстоятельствам очень сложным, разъяснение таковых не может служить предметом настоящей статьи, основанной на слухах. Заходит разговор в обоих комитетах и о том, что может случиться во время этой торжественной процессии такая оказия, что «разбойники», которые теперь ходят свободно по всем улицам столицы и других российских городов, крикнут: «руки вверх» — и начнется безбоязненное обирание, причем возможен и такой случай, что самый адрес г. Муромцеву будет отобран и переписан г. Дубровину. Но на это возражают, что англичанам хорошо известно это восклицание «руки вверх» и давно практикуется в Англии. Это можно видеть из комедии г. Пинеро «Амазонки», где хулиганы кричат лорду Фицджеральду «руки вверх» и обирают его дочиста, доводя до истерики. Русская публика встретила эту сцену с таким взрывом хохота, какого давно не бывало в театрах. Обрадовалась ли она тому, что английские лорды, несмотря на свое происхождение от царя Давида и на то, что они называют Богородицу «ma cousine», способны так же трусить, как и россияне, или захохотала она над трусостью вообще, почувствовав бодрость, — вопрос нерешенный.
Набрасывая эту заметку о том, что гг. англичане суют свой нос, нимало не смущаясь, в русские внутренние дела, я все вспоминал выражение князя Бисмарка, сказанное им на французском языке, о том, чтобы «ne pas permettre á l’étranger de mettre ses doigts dans notre omelette nationale» по-русски: не позволять иностранцу запускать свои пальцы в нашу национальную яичницу. Вспоминая это выражение, я гадал, не повторит ли его П. А. Столыпин? В самом деле, зачем позволять англичанам запускать свои пальцы в нашу национальную яичницу? Это как будто и обидно. Помните, как негодовали кадеты, когда появился слух о том, что между Германией и Австрией с одной стороны и русским правительством с другой ведутся переговоры о вмешательстве в русские дела. Я вполне разделял бы такое негодование, если бы оно на чем-нибудь было основано. С какой же стати теперь кадетский комитет Милюков — Скис затевает торжественную встречу английских пальцев в русской яичнице — скажите мне, пожалуйста?
24 сентября (7 октября), №10967
DCLXXX
У В. П. Буренина есть пародия на судебное разбирательство под заглавием «Мертвая нога». Пародия эта имела несколько изданий и представляет собою истинный шедевр нашей юмористической литературы. Как все действительно даровитое и смелое, пародия эта дождалась своего осуществления в современной действительности. Даже действительность, пожалуй, превосходит сатирическую фантазию. Это суд над г. Носарем и Комп. Бедный русский суд! Ему приходится восстановлять изумительную картину прошлого с приобщением настоящего. Говорят, что это святилище суда напоминает кафе-шантан. Но и время, которое оно воспроизводит, походило на кафе-шантан многими подробностями. Сам г. Носарь — какой-то фантастический герой, не то смелый комик в трагической пьесе, не то трагик в пьесе комической, которую разыгрывало правительство с чувством детского неведения в общественной психологии и в истории революции. Когда это происходило, никому не приходило у голову, что совершается какое-то преступление. Все думали, что то, что происходит, весьма естественно, как одно из законнейших явлений революционного периода.
Когда Совет рабочих депутатов вместе с г. Носарем арестовали, я выражал сожаление, что г. Носарь не арестовал графа Витте. Это было бы чрезвычайно последовательно, и для полноты картины только этого и не доставало. Совет рабочих депутатов решительно разыгрывал роль правительства, смело и открыто боролся с графом Витте и его собственными министрами и даже своими «указами» очистил сберегательные кассы на 200 000 000 рублей. Ведь это не фантазия, а истинная правда, и неужели в этом виноват г. Носарь и Совет рабочих депутатов? Я думаю, что тут главная вина на правительстве, которое все это видело и обо всем этом знало как нельзя лучше. Граф Витте решился «взять в плен» г. Носаря только тогда, когда правительство последнего стало грозить полным крахом русским финансам. Граф Витте боялся его трогать, боялся со всей искренностью человека, который ничего не понимал в русской революции и русском обществе и ждал указаний от общественного мнения, точно оно могло сложиться в хорошую силу в какие-нибудь два месяца. Мне известно из первых источников, что Рувье громко выражал свое удивление бездействию графа Витте и говорил в ноябре, что он не понимает, как такой умный и властный человек дает так беспрепятственно развиваться революции. Г. Носарь сделался каким-то легендарным человеком, какою-то невидимою пружиною самых смелых махинаций. О нем рассказывали чудеса, как о Калиостро, как о человеке, обладающем прямо сверхъестественным влиянием. Почти вся печать была к его услугам и печатала его «указы» и «заседания» с удовольствием и самоотвержением. Цензура этого нового правительства вступила в свои права и действовала открыто, а цензура правительства графа Витте сидела под столом. Графу Витте приписывают фразу: «Если бы я арестовал Совет рабочих депутатов две недели тому назад, то я рисковал бы вызвать в Петербурге новое восстание рабочих». Трудно себе представить, что две недели сделали то, что арест совершился очень тихо, как самый обыкновенный арест, хотя он был обставлен военной силой, едва ли необходимой. И вот эти люди сидят на скамье подсудимых, куда они не могли бы попасть, если бы не было им дано убеждения, что правительство — нуль, что свергнуть его ничего не стоит и что даже необходимо его свергнуть, потому что без правительства страна попадет в невообразимую анархию.
Мне кажется, что никогда правительство не было так виновато в попустительстве, как именно во время царствования Совета рабочих депутатов. Оно точно нарочно показывало свое ничтожество, точно нарочно дразнило революционные элементы, давая им сплотиться, взять известную глубину и большую ширину в своем распространении и влиянии. Страх — вот что было сильно у правительства. У него не было надлежащего ума, основанного на знании и опыте для того, чтобы крепко держать в своих руках вожжи и вместе с тем ввести в Государственную думу общество. А граф Витте — несомненно умный и даровитый человек. Но действовать в прошлое время, когда перед вами «все трепещет», и действовать, когда от этого трепета осталось только воспоминание, две вещи разные. И в этом трагикомическом положении очутился граф Витте. Я не раз уже говорил, что именно страх все объясняет, все излишества революции, усмирения восстаний и выборы в Государственную думу. Не будь этого страха, не было бы Совета рабочих депутатов, не сидел бы г. Носарь на скамье подсудимых, не было бы московского восстания и не было бы господства кадетов и трудовиков в Г. думе. Все наделал правительственный страх, отсутствие того мужества, которое в революционное время необходимее всего, потому что всякая революция, помимо всего прочего, есть развитие дерзости и мужества и может быть побеждена только мужественным умом. Само же общество ждет, кто кого победит. Когда граф Витте жаловался в прошлом декабре корреспонденту «Standard» на равнодушие общества и выставлял большую организованность революционных сил, как пример для подражания, он сам себя принижал почти до quantite negligeable, как во мнении русского общества, так и во мнении революционеров. Он прямо этими жалобами говорил, что у него нет никакой власти и никаких средств для борьбы с революцией. Естественно, что общество стало двигаться влево, где само правительство указывало ему прекрасную организацию и, стало быть силу. А элементам революционным, которые видели полное бессилие правительства, оставалось только действовать против правительства, которое само как бы говорило: не зевайте! Положение вещей было таково, что никто не знал, где находится правительство и сколько этих правительств, одно, два или четыре.
Минул год, и общество стало громко заявлять о своем существовании, между прочим, в деле с английским адресом. Пусть же общество знает, что оно не бессильно, что оно может кое-что сделать, что оно может заявлять даже о своем патриотизме и его станут слушать. Проектированная мною встреча англичан на белых и вороных конях, оставшихся от разгромов конских заводов, не состоялась. И не потому, что якобы вмешалась в это дипломатия, а потому, что вмешалось в это общество. Общество догадалось, что кадеты вместе с англичанами радикального пошиба желают над ним посмеяться, желают ему плюнуть в глаза и сказать перед целым миром, что никакого русского общества не существует, слово «патриотизм» признано г. Петрункевичем «позорным», под рукоплескания Г. думы, что «правительство» — просто дурацкий колпак, и даже самое слово «Россия» существует только в официальных бумагах, на самом же деле есть только кадетский народ и революционный народ, которые, опираясь друг на друга, придумывают новые формы для России. Г. Милюков совершенно правдиво говорил в Гельсингфорсе, что кадетская партия не сидит между двух стульев: она сидит на двух стульях, одной стороной своего сиденья — на парламентаризме, а другой — на революции. Обществу оставлено было повиноваться. Но оно неожиданно и громко заговорило.
Это решительно первый удачный взрыв русского чувства, которое сказалось почти во всех партиях, в одних громко, в других молчаливо. Дело не в том, что англичане ехали приветствовать председателя распущенной Думы, которая призывала к неповиновению народ своим выборгским воззванием. Дело было гораздо важнее, ибо этот акт просто означал вмешательство иностранцев во внутреннюю русскую жизнь, запускание английских пальцев в «национальную яичницу». Москва энергично заговорила в лице дворянства, купечества, ремесленников и проч. А монархическая партия даже послала телеграмму королю Эдуарду VII. Это было несколько комично, но мы так долго пикнуть не смели даже перед городничим, что всякое проявление общественной инициативы заслуживает симпатии. Притом, если кадеты обращались к парламенту, то почему же партии, противоположной им, не обратиться к королю? Дипломатия дипломатией, пусть она делает свое дело через послов, посланников и консулов, но пусть и общество не молчит, пусть и оно вмешивается так или иначе, чтобы перестали его считать стадом баранов. Дипломатия хранила бы молчание, если 6 русское общество не закричало, если 6 оно не проявило надлежащей энергии.
Хочется думать, что этот успех не последний, что общество на нем легко поймет, какая сила заключается в нем, если оно начинает действовать как свободное общество, руководимое патриотизмом и сознанием тех благ, которые сулит ему преобразованный строй родины.
Мы подошли к выборам. Если общество проявит и тут энергию, если сплотится во имя конституционных начал и открыто пойдет против революции, успех несомненно оно приобретет. А успех — это умиротворение, это — правильная борьба в Г. думе и мирное обновление всего нашего строя. Но храни Бог, если все пойдет по-прежнему, если россияне станут говорить: да ведь все стало тише. Чего же беспокоиться? Надо очень беспокоиться, но беспокойство состоит не в бросании себя из стороны в сторону. Оно должно быть разумное, имеющее в виду единую цель, которая должна соединить вместе близкие между собою партии.
13(26) октября, №10986
DCLXXXI
Нужны ли теперь теоретические споры, например, о парламентаризме? Я к таким спорам совершенно равнодушен. Мне кажется, что дело совсем не в том, чтобы нападать на парламентаризм или отстаивать его. У нас еще политическая жизнь идет под заглавием «освободительного движения». А это движение практикуется в жизни так разнообразно, что ни начала его не определились, ни цели. Оно еще в хаотическом беспорядке и притом в беспорядке совершенно искреннем, потому что ни одна партия не может сказать, что она вполне определилась. Все они еще бродят, и не могут показать, какое вино, пиво или водку они приготовили и намерены производить для употребления в своем отечестве. Это можно сказать не только о партиях средних, но даже о крайних, как социал-революционеры или Союз русского народа. Средние партии не отмежевались от крайних, а крайние не нашли еще своих краев. Да что партии, само правительство еще ищет свои границы и не знает точно, где эти границы надо провести. Вследствие этого борьба идет хаотическая, и есть полное вероятие, что вторая Г. д. соберется именно в этом направлении. Ведь и первая Г. дума представляла собою совсем не русский народ, а именно тот хаос, который породили все обстоятельства и события последних лет и которые доселе не нашли себе тех умственных сил, которые необходимы для творчества.
«Освободительное движение» идет не только своим беспорядком, но даже своими взрывами, грабительством, убийствами, призывами к презрению и ненависти правительства или к презрению и ненависти одной партии к другой. Точно раскололась земная кора в русском царстве и из трещин пошла горящая сера, смрад и в серном дыме вылезли черти и начали бедокурить напропалую. В этом дыме и живем мы, и в сущности никто из нас не знает не только того, где истина — этого и никто и нигде не знает, но и того, где простая пристань. Должна же быть пристань. На то и государство, чтобы дать человеку пристань, где он мог бы жить безопасно, если не под смоковницей, то под какою-нибудь крышею и за какими-нибудь стенами. Но нет ни крыши, ни стен, а смоковницы рубятся и сжигаются. У всех партий и у правительства, конечно, имеется в виду эта пристань. Но она лежит так далеко, что ее даже не видать; мы все еще плывем к ней на утлых ладьях 17 октября, сбитых из досок и кое-как просмоленных. Год миновал, когда Россия была пущена по этому революционному морю, и когда вспомнишь все печали и воздыхания за этот год, то становится совершенно ясно, что Россия живет вовсе не потому, что она получила какую-то конституцию и наслаждается какою-то свободою, а потому, что она жила до 17 октября, худо ли, хорошо ли, но жила и на чем-то и под чем-то сидела. Проклиная теперь взапуски все то, чем мы жили, мы только хотим показаться людьми вновь испеченными и наполненными необыкновенно превосходным материалом для немедленного строительства самого изысканного стиля. А в сущности ничем мы особенным не наполнены, т. е. ничем таким, что не имело бы корней в прошлом; та «народная воля», о которой говорится ежедневно, есть не что иное, как сугубое лицемерие партий, из которых каждая старается кричать, что она представляет собой «народную волю». На самом деле народная воля такая же фантазия, как ковры-самолеты и кисельные реки, и никто этой народной воли не представляет себе в определенном виде и никто не решился бы привести ее в исполнение, если бы она оказалась совершенно свободной, ибо едва ли может быть сомнение в том, что эта народная воля сказалась бы в огромном большинстве требованием земли безданно и беспошлинно и обращения фабрик, заводов и другого имущества в коллективную собственность. И этой «народной воле» льстят едва ли не все партии, в том или другом приближении, с разными ужимками, улыбочками и обещаниями. Бескорыстнее всех обещают те, у кого нет ничего, а все другие говорят о «народной воле», припрятав предварительно капиталы в банках и продав свои земли и имения.
«Новым путем успешно могут идти только новые люди, ничем — даже выражением сочувствия или одобрения — не связанные с недавним прошлым». Так говорит одна газета. Где же такие «новые люди?» Их нет и не может быть ни в одной партии, исключая разве революционеров, которые уж многие годы работают над разложением России и в настоящее время продолжают это занятие. Для них «новый путь» — это социал-демократия или анархизм и достижение этого пути не иначе, как революционным порядком. Члены всех других партий непременно связаны с прошлым не «только выражением сочувствия или одобрения», но и более существенным — своим благосостоянием в его самых разнообразных формах, начиная с крепостного права, которое воспитало столько певцов и дельцов из кадетской партии, и кончая адвокатской «экспроприацией», в которой с таким великолепием еще так недавно заявил себя бывший председатель Г. думы, г. Муромцев. Он, как известно, являлся готовым ограбить раскольников по таким законам, против которых кричала столетняя русская совесть и которые отменили только на днях.
Хвастаться нечем этим «новым людям», льстящим «народной воле» и ничем не доказавшим своей пригодности и своего таланта для управления Россией. Проклятие заключается именно в этом, в отсутствии людей с большим умом, большим талантом и большой смелостью. Дело не в «народной воле», не в «парламентаризме», а именно в людях. Партий много, а людей нет или очень мало. Оттого и много партий, что людей нет. Всякий, мало-мальски чувствующий себя не совсем дураком, стремится образовать свою партию и объявить свою платформу. А платформы так похожи большею частью между собою, что не зачем было бы и делиться. Но хотя на четверть, хотя на вершок, а надо отступить, надо оградиться и из своего огорода бросать снаряды в других. Есть два-три человека, которые могут говорить и агитировать, вот и партия. Говорят о блоках, т. е. о сделках одной партии с другой на время выборов. Но эти блоки делаются скрепя сердце, и ни в одной партии нет искреннего желания соединиться с другой для того, чтобы провести кандидатов в Г. думу. Есть друг друга досыта — это идет как характеристика русских еще со времени Смутного времени и доселе нас характеризует.
Партия 17 октября, по крайней мере, тем отличается от других, что она не становится во враждебное отношение к правительству. Она перешла этот Рубикон, благодаря А. И. Гучкову, который не побоялся высказаться совершенно искренно. Перейти же этот Рубикон надобна была большая смелость, ибо все партии начинали и продолжали с оппозиции правительству во что бы то ни стало. Мне иногда кажется, что само правительство со времени графа Витте стремилось к оппозиции правительству, ибо оно с трудом сознавало, что оно правительство и не ясно и не мужественно представляло себе, в чем собственно заключается обязанность и задачи правительства. Трудно сказать вполне утвердительно, находится ли правительство П. А. Столыпина еще в том же фазисе развития, то есть в полусознании, или оно вполне сознает себя правительством и действует, как правительство, т. е. как власть, имеющая впереди одну цель — благоустройство империи и упразднение революции. За ним во всяком случае есть положительные заслуги, есть стремления твердые к созданию спокойной почвы для нового строительства. Оно только начинается, да и то не особенно смело.
Нашу конституцию кто-то сравнил с велосипедом. Надо было время, чтобы выучиться на нем ездить, надобны были гонки, испытания, состязания. Из велосипеда создался автомобиль, который можно сравнить с парламентаризмом. Мы еще пользуемся заграничным велосипедом и в прямом и в этом фигуральном виде. Нашей конституции необходимо придать национальный характер, а для этого необходимо тем более времени, что механическое производство вовсе не так трудно, как сооружение парламента, требующего повышенного образования и политической культуры.
30 октября (12 ноября), №11003
DCLXXXII
Граф Л. Н. Толстой о Шекспире. Г. Чертков, состоящий в роли неумолимого душеприказчика графа Толстого и пророка небытия, помещает в «Русском Слове» статью знаменитого писателя о Шекспире. Об этой статье известно было раньше. Явилось только начало ее, но это начало говорит очень определенно о всей статье: «Шекспир не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем». Вот подлинные слова Толстого. И, конечно, иначе и нельзя говорить писателю, который хочет опровергнуть мнение столетий в лице самых просвещенных и даровитых людей и в лице поклоняющейся толпы, которую надо считать многими миллионами. Этот литературный прием графа Толстого — очень хороший прием, ибо ничто так не действует, как отрицание самое решительное. Подите докажите, что Венера Милосская — посредственное и ничтожное произведение. Но взять топор и раскрошить статую — это будет очень доказательно, потому что статуя исчезнет. Конечно, comparaison n’est pas raison, в особенности когда дело идет о таком превосходном писателе, как граф Толстой, и о таком поэте, как Шекспир, сочинения которого отнюдь нельзя истребить никаким топором, но грубость приемов одинаково хорошо рассчитана. «Великий писатель Земли Русской» назвал Шекспира г…, прямо и просто, даже не prince de govno, как назвал себя русский аристократ и эмигрант Головин в своей автобиографии, а Banpo напечатал это в «Dictionnaire des contemporains». Мнение графа Толстого о Шекспире не может быть выражено никаким более мягким словом лучше, чем именно этим «неприличным» словом, ибо быть ниже «самого посредственного сочинителя» это значит быть совершенною дрянью. Если б Толстой стал говорить о Шекспире, как Вольтер, признавая за ним и достоинства, то это было бы не оригинально. А Толстой хочет быть единственным в своем роде и провозгласил на весь мир, что Шекспир просто дрянь.
Мисс Бэкон, как известно, первая провозгласила, что такой невежественный дурак и невежда, такой актеришка, как Шекспир, не мог сочинить такое множество превосходных драматических пьес: для этого надо было быть гениальным ученым и самым просвещенным человеком. А так как таким гениальным человеком во времена Шекспира был ее предок, Бэкон, то он и есть автор шекспировских произведений, актеришка же Шекспир только подписывал их и получал за это на водку.
Об этом актеришке ровно ничего определенного неизвестно, кроме того, что он оставил своей жене кровать по духовному завещанию и подписал это завещание такими каракулями, что они как нельзя убедительнее доказывает, что этот пресловутый Шекспир был до того безграмотный, что едва умел подписать каракулями свое имя в то время, когда его грамотные современники писали даже красивым почерком. Граф Толстой взял именно такую же верную ноту в шекспировском вопросе, как и мисс Бэкон. Разница только в том, что сия последняя отвергла Шекспира, чтобы передать его славу канцлеру Бэкону, а граф Толстой, соглашаясь с нею, что Шекспир был ниже самого посредственного сочинителя, взялся доказать, что и все шекспировские вещи выеденного яйца не стоят и что поклонение Шекспиру есть «великое зло». А зло надо истреблять, и вот он истребляет его.
Граф Толстой, по его словам, всегда чувствовал «красоту поэзии во всех ее формах» и несмотря на это, с самого первого чтения им Шекспира, находил, что он никакого наслаждения не приносит ему, а производит в нем «отвращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен, — говорит он, находя ничтожными и прямо дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем образованным миром, — или безумно то значение, которое приписывается этим образованным миром произведениям Шекспира». Целые 50 лет он хранил в себе тайну этого недоумения и, наконец, не выдержал, позволив г. Черткову опубликовать подробно, на чем это недоумение основывается. Г. Чертков это сделал тем с большим удовольствием, что сам никогда ничего не понимал даже в художестве Толстого, а понимал только в его вегетарианстве и некурении табаку, и если распространял сочинения Толстого, то только самые неудобопонятные и лишенные всякого художественного значения.
14(27) ноября, №11018
DCLXXXIII
Слава Богу, убийцы Герценштейна открыты гг. Милюковым и Гессеном, и притом не при содействии, как могли предполагать ненавистники кадетов, еврейского Бунда, которому хорошо известны все убийцы, открытые и неоткрытые, так как кулик кулика видит издалека, а при содействии некоего невинного «перелета», перешедшего из Союза русского народа в союз кадетов. Этот перелет думал, что в Союзе русского народа «пламенные патриоты», но оказалось, что там только погромщики и убийцы, а «пламенные патриоты» только под зонтиком гг. Милюкова и Гессена, перелет и поспешил под этот зонтик с такими «документами», которые «Речь» называет «совершенно бесспорными данными». Убийство М. Я. Герценштейна организовано руководителем боевой дружины Союза Юскевичем-Красковским, при ближайшем содействии г. Половцова.
Вероятно, это тот г. Половцев, который на последнем собрании союзников 17 октября и кадетов выразился о г. Милюкове так непочтительно, как только может выражаться черносотенец. Но сегодня «Речь» говорит, что это не г. Половцев, а г. Половнев, что это «досадная опечатка»! Надо думать, что редакция «Речи» так была полна именем г. Половцева, что читала Половнева Половцевым, несмотря на тяжкое обвинение, о котором шла речь. Ненависть всей редакции к г. Половцеву закрывала ей глаза. Это первый случай такой «досадной опечатки» с тех пор, как существуют русские газеты, причем «Речь» даже не извинилась за нее перед обвиненным, имя которого уже разносят сегодня левые газеты, как имя ненавистного преступника.
Как это можно обвинять кого бы то ни было в политическом убийстве, называя его по имени, а потому рекомендуя его преступником до суда, и даже, может быть, взывая этим самым к мстителям, которых теперь так много? Убийца даже на скамье подсудимых не называется убийцей, а только обвиняемым, но злоба не стесняется. На этих днях парижский суд приговорил Рошфора к 21 000 франков штрафа за оскорбление г-жи Сиветон, которую этот публицист обвинял в предосудительном поведении относительно ее мужа, покончившего с собой самоубийством. Но у нас клевета ходит смело и открыто, из дома в дом, брызжа слюною и бранью, и вовсе не думает ни о какой ответственности, как это было во время французской революции, когда от клеветы и обвинений не спасались самые чистые люди и когда судьи не принимали жалоб на клевету, говоря, что они боятся мщения революционеров. Гёте говорит, что настоящий деспотизм развивается только из чувства свободы в соединении с удачей; он стремится к безусловному и хочет властвовать во что бы то ни стало, хотя не всегда умеет и может. Зато как скоро является удача, деспот готов. При переходе из рабства к свободе это явление очень обыкновенное. Хочется властвовать в особенности тем, которые понимают свободу как нечто безусловное и неограниченное и употребляют для своих целей все средства. Нельзя сказать, что публицисты «Русского Знамени» особенно стеснялись в обвинениях, но мне не приходилось читать в их органах такого обвинения в убийстве. Таким образом, публицисты «Речи» превзошли публицистов «Русского Знамени», поклонники свободы поклонников реакции превзошли в наглости. Можно бы на этом и кончить с этим «инцидентом». Но в объявлении о найденных убийцах есть поистине перлы. Заимствованы ли эти перлы из ларчика г. Кизеветтера, который составил для кадет «Катехизис», или изобретены независимо, но перлы остаются перлами.
Имя г. Юскевича-Красковского я встречаю впервые в печати. Но человек он должно быть, ужасный. «Речь» видела «ряд фотографий» его боевой дружины. Что это за люди, — ужасно! Судите сами вот по этой характеристике:
«Зверские физиономии, вытянутая вперед правая рука, сжимающая взведенный (?) револьвер… Достаточно взглянуть на физиономии этих людей, чтобы сразу понять, что нет того преступления, пред которым они остановились бы».
Мне кажется, что эти фотографии скорей смешны, театрально комичны, чем ужасны, потому что ни один действительный злодей не станет так сниматься, если он не совершенный идиот. Так снимаются только актеры в своих ролях и в известных сценах, но отнюдь не злодеи. Но гг. Милюков и Гессен, очевидно, хотят прослыть физиономистами и напугать воображение глупцов. Им достаточно взглянуть на физиономию, чтобы узнать нераскаянного злодея. Удивительно, отчего министр юстиции не пригласит гг. Милюкова и Гессена в качестве русских Лафатеров. Сколько вершителей революционных убийств не открыто! А открытые, может быть, были и совсем не убийцы. Конечно, Герценштейн убит непременно «злодеем», но масса политических убийств при помощи револьверов и бомб совершены просто «освободителями» и «героями», у которых на лице ничего не написано, кроме «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» или «вставай, поднимайся, русский народ». Естественно, что всю «боевую дружину» необходимо арестовать немедленно, на что и указывает «Речь», приглашая министра юстиции немедленно принять «самые энергические меры, не столько против физических убийц, сколько против их руководителей, против тех, кто нанимал их, снабжал бомбами и револьверами и проверял посты». Сколько великодушия и самоотвержения в этих словах «Речи» о руководителях! Наконец-то! — можно воскликнуть. А то ведь ни единым словом эта газета не проговорилась относительно подстрекателей и руководителей в революционных убийствах, точно их никогда не было и быть не могло, хотя преступники постоянно говорили, что они принадлежат к социал-революционной партии и что исполняли приговор ее.
Почтенный «перелет» сообщил почтенным Лафатерам «Речи» еще следующие известия:
«После известных статей М. О. Меньшикова о союзе нововременский публицист был сильно избит; среди бела дня на Литейном проспекте совершенно было нападение на П. Н. Милюкова; приказано было выследить А. М. Бобрищева-Пушкина; одному лицу поручено было организовать убийство руководителей «Речи» — Милюкова и Гессена, причем у последнего предполагалось произвести и имущественную экспроприацию».
Читателям известно, что с г. Меньшиковым ничего подобного не было. Относительно А. М. Бобрищева-Пушкина — опять «досадная опечатка», ибо говорит сегодня «Речь», что надо читать А. В. Бобрищева-Пушкина. На г. Милюкова напал «несколько месяцев тому назад подвыпивший мастеровой». Была ли у него «зверская физиономия», была ли у него «вытянутая рука с взведенным револьвером», «Речь», к сожалению, не сообщает, а потому и нельзя сказать, принадлежал ли он к «боевой дружине» или к «выпившим кадетам». Ведь и это возможно. Во всякой партии бывают «выпившие». Надо надеяться, что следствие это выяснит вплоть до организации убийства г. Милюкова и г. Гессена и — horribile dictu — «намерения произвести экспроприацию» у Гессена. Хвала богам, гг. Милюков и Гессен живы и здоровы, а у г. Гессена имущество цело. Г. Милюков и г. Гессен не имеют права даже сказать: «нас чуть не убили», «нас чуть не обокрали». А в наше время прямо смешно объявлять и о том, что вас чуть не убили или чуть не обокрали, когда революционная партия ежедневно убивает и грабит, когда на пространстве одной недели убиты граф Игнатьев, Литвинов и Лауниц, когда сотни политических убийц и грабителей не открыты, и, вероятно, никогда открыты не будут, когда во всех углах империи насильственная смерть царствует, как нечто обычное, и когда над каждым так называемым бюрократом, будь он кристальной чистоты, висит Дамоклов меч. Надо много мужества, чтоб служить государству и помнить, что оно может жить не только будущим, но и тем великим прошлым, которое вознесло его на известную высоту. Слезы родных и близких с одной стороны и крики победы с другой стороны перемешиваются, как «со святыми упокой» с революционными песнями, как скрежет зубовный с хохотом бесов. Я не могу забыть высшего проявления горя со стороны вдовы Герценштейна, которая над гробом мужа заклинала не мстить за его смерть. Это был поистине благородный вопль русской женщины, лучшая эпитафия на памятнике убитому. Эту фразу ее г. Родичев, на последнем заседании Союза 17 октября, присвоил кадетской партии совершенно напрасно. Партия г. Родичева это убийство не переставала брать своим лозунгом, выигрышным призом для выборов в Г. думу и для обвинения правительства и всех так называемых черносотенцев. Целые миллионы их виновны в этом убийстве. Вся так называемая «монархическая партия» называется «Речью» — «шайкой убийц» и А. И. Гучкову посылается упрек в сочувствии этой партии.
Кто бы ни убил Герценштейна, на правительстве лежит серьезная задача немедленно расследовать это дело судебным порядком и тем покончить с ним. Правда ли то, что утверждает «Речь», или клевета — необходимо это знать.
В монархической партии есть несомненно «пламенные патриоты», искренние люди, но в каждой семье не без урода. Когда Герценштейн был убит, все партии без исключения отнеслись к этому убийству с осуждением.
После убийства Герценштейна я говорил, что нечего удивляться, если убийство станет орудием не одной революционной партии. Стоит только признать политическое убийство — я против него всегда ратовал, как против всякого убийства, — то признавайте его одинаково за всеми партиями, не проливайте крокодиловых слез и не цепляйтесь за единственное убийство, которое якобы совершено людьми правой партии и не называйте ее «шайкой убийц»!
Я говорил и теперь повторяю, что как революционного убийцу, так и контрреволюционного могут руководить совершенно одинаковые мысли и побуждения. И как у революции образовалась целая орда убийц и грабителей, так и у противной стороны может образоваться такая же орда. И убийца контрреволюционный может видеть в политических убийствах, совершаемых революционерами, врагов отечества и даже врагов того самого освободительного движения, которое понимается одними — как революция, как необходимый переворот для создания совершенно нового порядка вещей, а другими — как эволюция, как мирный переход от одной свободы к другой. Можно бороться за всякую идею, как бы она ни была экстравагантна, но партия, одобряющая убийства, может дождаться, что и на нее пойдут с мечом. Ведь невозможно же утверждать, что у мирных партий нет искренних и горячих людей, нет негодования, которое душит их при виде этой анархии.
Политические убийства развращают мозг именно потому, что человеческая жизнь ставится ни во что перед «убеждением» убийцы. На жизнь людей, не разделяющих ваших убеждений, предпринимается охота, как на вредных зверей, и затем обращается в спорт, нимало не тревожащей совести. Такая охота на людей началась у нас давно, она подливала убийственного яда во все головы, и все головы отравлены, и отравлена совесть.
Как на войне число убитых неприятелей принимается с удовольствием и даже с удовольствием и преувеличивается, так и в эту революцию. Крикнул же кто-то: «Мало!» в Г. думе, когда произнесена была цифра, в несколько сот убитых городовых. Чем больше жертв, тем лучше. Но для кого? Исчезают люди, а людишки радуются. И печальная Родина стоит, роняя слезы, и все еще взывает к своим верным сынам и ждет их.
22 декабря 1906 (4 января 1907), №11056
DCLXXXIV
«Чем же мы, однако, виноваты, что мы никого не убивали?» — восклицает сегодня «Речь» по поводу выраженного мною удивления, как можно обвинять кого-нибудь в политическом убийстве, называя его по имени и потому рекомендуя его преступником до суда и т. д. Милые люди, однако. Они никого не убивали, а потому могут обвинять других в убийстве. Они — уже прокуроры и следователи по самой своей прирожденной чистоте и житейской невинности. Они обвиняют, потому что добродетельны. Совсем не похожие на Робеспьера, они обвиняют из тех же добродетельных побуждений, как и этот человек. Когда они доберутся до власти, то будут еще добродетельнее и потому будут не только обвинять, но и душить.
Смешной случай приводит сегодня «Колокол». Гг. Милюков и Гессен якобы встревожились тем, что «черная сотня собирается убивать вождей крамолы. Гг. Гессен и Милюков даже ездили к министру юстиции просить о защите».
В этом известии есть некоторое недоразумение, именно сказано о «вождях крамолы». Я не думаю, что гг. Гессен и Милюков, пожав руку г. Щегловитову, который с изысканной вежливостью просит их садиться, могли сказать:
— Г. министр, союз русского народа решил убивать «вождей крамолы», а потому мы покорнейше просим защитить нас от этих злодеев.
Если бы они так выразились, то г. Щегловитов не мог бы воскликнуть из «Гамлета»: «О, ужас, ужас, ужас!» — или спросить: «Как надо понимать злодея — в «кавычках» или без кавычек», а сказал бы проще:
— При чем же вы, господа, у крамолы?
В самом деле, при чем они у крамолы? Прихвостни, что ли? Нет, министр юстиции такого вопроса им не посмеет задать. Очевидно, «Колокол» сам сочинил «вождей крамолы», а гг. Милюков и Гессен ездили к министру, как мирные и добродетельные граждане, сами испугавшиеся «крамолы»… с правой стороны. «Крамолы» с левой они не боятся и порицать ее не осмеливаются, и потому им кажется весьма естественным обращаться к министру, который обязан защищать всех и каждого от «крамолы» справа и слева. Для того, чтоб не показать, что они не струсили, они объяснили министру, что они открыли через посланных ими перелетов убийц Герценштейна и что эти убийцы — крамольники справа. Положение министра, я вам скажу! Справа поют: «Боже, Царя храни», а слева — «Собирайся, русский народ, в топоры». Но самое важное — добродетель, и, конечно, добродетель переоцененная, а не та старая, которая говорит: чти, не укради, не убий, не прелюбо… и так далее. Добродетельные имеют право обвинять даже в убийстве и взывать о мщении.
Я сказал, что если считать справедливой клевету на партию русского народа относительно Герценштейна, то это все-таки единственное убийство, тогда как «крамола» совершила их сотни. На это добродетельные люди из «Речи» отвечают: «единственное ли? — это покажет суд». Комики и трусы. Гораздо храбрее говорит по этому же поводу «Товарищ».
Он восклицает: «а Кишинев, Гомель, Белосток, Седлец и пр., и пр., и пр.» Вот это дело: уж если обвинять «истинно-русских людей» в убийствах, то, конечно, всего лучше именно так, как делает «Товарищ»: Кишинев, Гомель, Белосток, Седлец и пр., и пр., и пр. Тут, по крайней мере, нечто грандиозное и великолепное с князем Урусовым и г. Лопухиным, которые, как девы в притче, будут держать светильники. С одной стороны — «истинно русские люди», а с другой стороны — «истинно нерусские люди» и пошла потеха, вроде русско-японской войны. С одной стороны — г. Дубровин, с другой стороны — г. Ходский, полководцы, а там корпусные командиры, г. Милюков, г. Гессен, г. Пуришкевич, князь Долгоруков, г. Родичев и все прочие великие люди на малые дела и большие глупости. Нам нужно что-нибудь грандиозное, сногсшибательное, кроваво-кровавое, красно-багровое, темно-черное. Нам нужно что-нибудь поистине ужасное, чтобы все криком кричали, чтобы все с ума сошли и, испуская вопли и проклятия, начали бы истреблять друг друга с увлечением голодных львов, тигров и волков. Вот это красота, вот это революция! А что теперь делается, это совершеннейшие пустяки, которые даже надоели своим однообразием и уж ни в ком не возбуждают ни сильной мысли, ни мщения, ни вражды, ни негодования. Пошлятина! У Косоротова в «Коринфском чуде» вампир выпивает всю кровь у молодого человека и говорит: «мало!».
Бывало, убьет какой человек старуху-процентщицу, которая со скаредной скупостью давая рубль, стаскивала в залог, в крещенские морозы, последнее пальто с бедняков, и начинаются выражения негодования при одном слове «убийство». И ахи, и охи, и разговоры на все лады во всех слоях общества; репортеры, высунув язык, бегают за мнениями замечательных адвокатов, профессоров уголовного права, банкиров еврейского племени, прокуроров, митрополитов, а светские дамы из «невероятных» (incroyables) спешат засвидетельствовать через газеты свое негодование, а старые старухи спешат поставить грошовую свечу за упокой убиенной. А теперь убийства только записываются, как нумер бумаги, в исходящий журнал канцелярии. О них читают, покуривая сигару или цыгарку и запивая пролитую кровь кофеем или водкой. Точно все обратились в «дьяков, в приказах поседелых», и убийство является прямо какой-то пошлостью, общим местом. 50 человек разорвано бомбой, 5 казнено, три человека повешено, десять убито. Это все равно, что 25 воробьев убито и 25 улетело. Населения в России больше, чем воробьев, а потому пусть убивают. Убийства помогают тем, которые однако не убивают, будучи добродетельны.
Разве не так? Мы рассуждаем об убийствах, как, бывало, рассуждали о выеденном яйце, спрашивая, кем, почему и для чего оно выедено? Когда теперь человека убьют, сейчас же начинают доказывать, что убитого и следовало убить по таким-то и таким-то причинам. И только ни у кого из пишущих и доказывающих, что убитого и надо было убить, не хватает ни мужества, ни честности самого себя обвинить в чем-нибудь и хоть ткнуть в свой медный лоб вопросом: что ты за судья? Может, ты сам, оправдывающий убийство, стоишь если не виселиц, то публичных пощечин?
Придумать причины, во время политической борьбы, оправдывающие убийство другого, — кому ума для этого не доставало. Это так же легко, как сделать ребенка. Политические страсти — это грузная, грязная волна, убивающая, притупляющая и загрязняющая. Кто выше поднимает ногу в кафешантане, та и привлекает толпу. Кто выше поднимает ногу свободы и во имя ее ничем не стесняется, тот и правее всех. Ему все прощается, ибо у него все — во имя свободы народа. Всякая тирания, всякие насилия — все это оправдывается и без усилий разума, а только с усилием глотки, потому что, если взять тиранию и насилия всех веков и представить ее в ужасающей сумме, то какая временная тирания превзойдет это?
Вся история идет на помощь. Смотрите, мол, что делалось, как угнетали ваших предков, какие были тираны, как жгли, убивали, казнили, мучили — настало время освобождения, мщения и свободы. И так далее. И аплодисменты, и страсти разгораются, и толпа верит и сумасшествует, воображая, что она лезет на небо, что еще несколько усилий — и останется только прыгнуть, чтобы вскочить туда и блаженствовать, развалившись на пуховой перине облаков.
Я вовсе не партизан партии русского народа. Но я не сочувствую тем обвинениям в убийстве, которыми Милюков и Гессен бросили во враждебную им партию. Я считаю это большим свинством с их стороны. Свинство это потому, что обвинители твердо решили: что бы ни сделало правительство, как бы добросовестно ни исследовало это обвинение, выигрыш будет непременно на стороне их, обвинителей, перед той толпой, на которую они рассчитывают. Уже теперь эти обвинители вместе с воздушным г. Ковалевским говорят, что дело будет замято, замолчано, и т. д. Возможно, что все это обвинение есть выдумка, клевета, вздор, подстроенный при помощи «перелетов», но когда добродетельные люди, считающие себя самыми добродетельными в политическом отношении, обвиняют, то их обвинение есть несомненная истина и кто в этом сомневается, тот враг свободы и отечества. Так это всегда было и так будет. Борьба с этими добродетельными людьми, которые ежедневно кричат о своих добродетелях, ежедневно славят себя и свою партию, ежедневно льстят своей толпе, очень трудная борьба. Они всегда правы, хоть кол на их голове теши. Гёте прав, говоря, что истинные деспоты выходят только из духа свободы и удачи. За удачей, поэтому, они гоняются с неутомимостью и жадностью гончих собак. «Надо дерзать, дерзать и дерзать!» повторяют они слова Дантона, и их осадить могут только те, которые на дерзание будут отвечать дерзанием. Только тогда, когда народный дух воспрянет, когда он властно скажет «довольно!», только тогда настанет мир, только тогда начнется спокойная жизнь.
А когда это будет?
24 декабря 1906 (6 января 1907), №11058
1907
DCLXXXV
Хочется сказать: с новым годом, с новым счастьем, непременно с новым. Но эту фразу даже трудно написать, потому что верить в новое счастье стало почти то же, что верить в новое несчастье. Неужели, в самом деле, с новым годом, с новым несчастьем? Неужели и в этом году мы все будем журавлей в небе ловить, воображая, что мы такие богатыри, что для нас закон не писан. Прямо к богам, в чертоги социал-демократии, к трехчасовой работе и всеобщему счастью. «Большевики» это обещают непременно и злятся на кадетов за то, что они остановились на промежуточной станции, на которой правительство будет кадетское и счастье только кадетское, а не большевиковское. Октябристы со своей стороны обещают свое умеренное счастье, если Россия выберет благоразумную и работящую Думу. Союз русского народа приглашает не верить никому и отрицает все революционные, радикальные и либеральные партии и все надежды полагает на себя. А я думаю так, что все надежды надо полагать на труд. Будем работать, будет и то, что называется счастьем, будем работать, будет и то, что называется самоуправлением, политической свободой, конституцией. Мне кажется, что отрезвление несомненно существует сравнительно с тем, что было еще недавно. Усилия правительства на пути реформ сделали свое дело. Отрезвление несомненно идет вперед и будет идти, хотя, конечно с той постепенностью, которой мы так не любим, но которая налагается на нас самой нашей природой. Целые века нашей исторической жизни это доказывают с точностью почти математической. Никаких чудес не было никогда у нас и не будет, и ни одна партия не может обещать какие-нибудь чудеса, и меньше всего самые крайние. Где уж нам чудотворцев искать, когда у нас столько чудодеев и разбойников революции. Подождем естественного течения событий, которые будут зависеть от нашей сплоченности и трезвости мысли. И меньше всего веры этим жалким пигмеям, не написавшим даже ни одного теоретического сочинения о социализме, о социал-демократии, не написавшим ни одной фантазии в роде Мора, Фурье или даже романической талантливой болтовни вроде Уэллса, которая бы стала известной миру, как известны миру «Крейцерова соната», «Бесы», «Анна Каренина», «Преступление и наказание». Эти тысячи немецких брошюр, распространяемых радикальными и революционными кружками, в плохих, безграмотных переводах, напечатанных на бумаге, сделанной из лошадиного помета (такая бумага существует), доказывают только жалкое невежество и беспросветную бездарность этих нахалов в публицистике и развращении невежественного населения. На родине социализма, в Германии, целый ряд имен ученых экономистов, исследователей, философских умов, историков, оригинальных мыслителей. У нас их совсем нет, а если есть какие, то это просто фельетонисты и копиисты с немецкого.
Конечно, у нас была цензура, были всевозможные стеснения мысли. Но вот год свободы такой, что даже сочинения анархистов в переводах с иностранных языков свободно печатаются и продаются, но и в этот год русская революция и русский социализм не дали решительно ничего самостоятельного, кроме газетных статей, пылающих бешенством и бранью. Русский либерализм не был бесплоден и во времена цензуры, таланты вроде Добролюбова и Чернышевского умели и во время цензуры давать статьи и сочинения радикального и социалистического характера, доселе не превзойденные никем из корифеев нашей писательской революции, которые в течение многих лет могли свободно писать за границей и там ничего не произвели, кроме прокламаций и газетных листков, из которых ни один не напоминал «Колокола» Герцена. Сочинения романиста Герцена, романиста Л. Н. Толстого, современника Чернышевского, Добролюбова и Писарева, по вопросам социальным, остаются и доселе выдающимися среди всей этой груды фельетонов русских революционных писателей, которая накопилась в течение последних 30–40 лет.
Гиганты приготовили французскую революцию, ряд всемирных писателей, имена которых обязательно помнить каждому гимназисту, ибо эти имена популярны, как слова: свобода, жизнь, правда. Целая плеяда философов, ученых и экономистов образовали немецкое общество и развили его до понимания истории, права, социальных отношений. Об Англии уж и говорить нечего.
А у нас? Фельетонисты и никого больше. Нищенская бедность оригинальной мысли, дарований и знаний и рядом с этим несоразмерные претензии. Только и оригинального, что убийства и празднование. Как можно больше праздников и убийств! Начиная с правительства и кончая последним рабочим, только и заботы, чтобы праздновать. Даже почту и телеграфы правительство закрывает в некоторые дни, но никак не сможет закрыть убийств. Старается, старается, а все ничего не выходит. Ни в одной стране нет столько праздников, как у нас, и ни в одной стране никогда не бывало столько убийств, как у нас.
Это замечательное отношение между праздниками и убийствами, но, к сожалению, не новое.
В обыкновенные годы, до революции, в России совершалось ежегодно тысяч 5–6 убийств, т. е. 14–16 убийств ежедневно. Если определить дни, в какие убийства происходили, то несомненно, что большая часть их придется на праздники. Отдыхали благочестиво, напивались винища, дрались и убивали в «пьяном восторге». Теперь убивают в «политическом восторге», который прибавился к пьяному. Таким образом, теперь два восторга вместо одного и друг друга они перегоняют.
И этот политический восторг, конечно, значительно обязан своим происхождением именно фельетонистам революции, воспринявшим налегке популярные иностранные сочинения и старающимся вдолбить в невежественные головы, что нет лучше средства для насаждения в Российской империи социального прогресса, как убийство и грабежи, предпринимаемые для умножения и совершенствования убийств.
И правительство фельетонное, и образование фельетонное, и наука фельетонная, и революция фельетонная, приправленная убийствами, как кровавым соусом. Ученье и книга совсем заброшены. Молодежь поджаривает революцию, воображая, что дворец свободы может быть построен без архитекторов и даже без каменщиков, а просто революционной болтовней. Для нее и телеграфы, и телефоны, и газеты, эти граммофоны человеческой праздности и бестолочи. Чем больше болтовни и чем меньше работы, тем лучше. Говорят: восьмичасовой день! Да если б действительно молодежь работала восемь часов ежедневно, то при русской даровитости вышло бы чудесное поколение, которое удивило бы мир. В русскую даровитость нельзя не верить. Но лень, беспутство, болтовня, распущенность, отсутствие всякой дисциплины труда и воли, делают не одну молодежь рабом увлечений и страстным разрушителем государственного и своего собственного физического и нравственного организма. Невежественная и нищая страна становится поприщем какого-то развала, в котором погибают дарования и лучшие силы уходят, не созрев для производительной работы.
Когда же это кончится? Когда возвратится сознание к русскому, что настала пора упорной умственной и физической работы, что без этого Русь погибнет и распадется?
Да неужели погибнет?
Вы, конечно, видите, что на великоросса идут с оружием и дрекольем. На него именно идет эта революция. Его именно она хочет поглотить, обессилить и обезволить. Со всех окраин идут крики, что великоросс ничтожен, что он должен уступить и подчиниться, что его век прошел, его вековые работы уничтожены, его главенство должно разлететься прахом. Окраины поднимают оружие против него и грозят. Он, создавший империю, должен спокойно выслушивать проклятия и угрозы и нести на своем горбу всю эту свалку. Твердый, мужественный, даровитый государственник, великоросс считается уже какой-то неважной величиной. С севера кричит финн, желающий образовать финское государство, захватив север России. А я думал, что можно взять у него Выборгскую губернию. Какое право имел Александр I отдавать то, что завоевано было Петром Великим? Поляк кричит о Польше от моря и до моря в то время, когда разбойники революции уничтожают его промышленность к радости немецких фабрикантов и рабочих. Великороссу говорят, что он и не русский. Погодите, господа. Не разом. Орите, пожалуй. Мы это слыхали. Но уничтожить корень русского племени, подчиниться без горячего боя этим наглым крикам, этой разинутой пасти окраин, этого не будет. Великороссия встанет. Она покажет еще независимость и бодрость своей души и заставит уважать себя, как государственную, великую, даровитую силу, и сплотит нас снова, не уступив ни пяди того, что она приобрела своею кровью, своим вековым тяжелым трудом. Она докажет, что именно в этом корне русского племени вся созидательная и объединительная сила и она проявится с такой упругой энергией, которой вы еще не знаете. И этот срок ближе, чем вы думаете.
Давайте желать нового счастья. Желать страстно, желать и верить в новое счастье и ковать и ковать его молотом воли, надежды и любви. И покажется заря его, и оно взойдет, как солнце, и все осветит и всех согреет, и правых, и виноватых.
Вечная память погибшим во имя долга и любви к отечеству и к его замирению. Пусть пролитая кровь оплодотворит ниву мужества русских людей в их борьбе с силами разрушения и мести. И да благословит Господь Бог новые начала мирной и свободной жизни, и да прольет Он на нашу милую Родину обильный дождь Своих великих милостей и тихого, не убивающего, но разряжающего душную атмосферу, грома, который вызывает в русском человеке чувство благоговейной молитвы и сознания своих грешных помышлений и дел…
1(14) января, №11065
DCLXXXVI
Великий русский ученый сегодня опочил навеки. Менделеев — одна из несокрушимых гордостей русской земли. Всемирный ученый, прославляющий русский гений, ушел от нас в то время, когда его последнее произведение, «К познанию России», полное такого ума и просвещенного опыта, нашло горячее сочувствие в России. Самое заглавие указывает на то, чего нам всем недостает, начиная с государственных людей и тех, которые стоят во главе политических партий. Всю свою жизнь покойный посвятил этому познанию своей родины и передачи своей науки молодым поколениям. Я начинаю этими строками рассказ о той беседе, в которой я был на этих днях молчаливым, но внимательным слушателем. Менделеева ждали там, но он прислал письмо, полное сочувствием к предмету этой беседы, но по нездоровью сам не мог быть. 30 лет назад он предсказал, что Россия может затопить нефтью Европу, и его имя неразрывно связано с этою промышленностью, как вечно связано оно со всемирной наукой. Англия учится по его учебнику химии и этот учебник, стыдно сказать, имеет большее число изданий в этой свободной и просвещенной стране, чем у нас. Не на газетных листах рассказать и оценить жизнь его. Все русские склонятся перед прахом почившего в полном сознании этой огромной потери и тех заслуг, которые он принес своей родине.
Люди, знающие нашу Среднюю Азию, Закаспийский край, Туркестан, Фергану, собрались в небольшом числе, и я был среди них только гостем. Большинство нашей публики знает эти владения России по Щедрину, который много печатных листов исписал словом «ташкенец» и характеристикою этого слова. Край, приобретенный мужественным Черняевым, остается неизвестным целым слоям нашей интеллигенции. Само правительство не ценило Черняева при его жизни, но придет пора, когда ему воздвигнут памятник, как одному из самых лучших сынов России; с ничтожными средствами он приобрел своей родине чудесный край, который в будущем может дать ей огромное богатство и благосостояние. Скобелев победою при Ахал-Теке довершил дело Черняева. Заслуги этих двух генералов будут расти по мере того, как будет расти русская культура в этих краях. Так как нет худа без добра, то потеря Маньчжурии может подвинуть дело нашей культуры в этих ближних краях и заставить нас сосредоточиться на том, что мы имеем, и не разбрасываться на далекие пространства.
В том обществе, о котором я говорю, несколько ученых, два бывших министра, несколько инженеров и один старый и славный русский географ говорили не о политических партиях и не о революции. Беседа шла о Закаспийской степи, об обводнении этой степи и насаждении на ней хлопка. Не правда ли, какая скука! То ли дело политический песок, который сыплется со страниц газет и до боли утомляет глаза. Но говорили о действительных песках, говорили об обращении безводной и пустынной земли в культурное пространство, которое якобы может производить на сотни миллионов того драгоценного товара, который называется хлопком. Говорю «якобы», ибо я могу только утверждать, что эта беседа, продолжавшаяся несколько часов, была так интересна, что я старался не проронить слова. Старый русский географ с ясностью даровитого ученого изложил программу беседы и направлял ее с тактом и интересом тонкого знатока предмета. В этой беседе были и молодые увлечения грандиозностью задачи, и практические указания людей дела, с которыми они познакомились на месте, и скептицизм пожилых администраторов, работавших в этой же области, и бодрая и смелая речь надежды на возможность победить это песчаное царство. Все это было так содержательно и одушевленно! Слово человеческое не тешило слух красноречием, но давало факты для размышления о будущих и прошлых судьбах России. Все собеседники, мне казалось, были воодушевлены тем чувством, которое называется патриотизмом, хотя это слово ни разу не было произнесено и никто о нем не думал. Говорили русские люди, как русские люди, которым интересно все то, что касается родины.
Если взять местность от низовьев Дона и Азовского моря до границ Китая, а на юге от Персии, Афганистана, Памира до границ Сибири и Урала, получится район около 3 тыс. верст длины и 11/2–2 тыс. ширины. Входящие в эти пределы 11 областей и 2 губернии заключают в себе около 357 мил. десятин с населением в 121/2 мил. душ, т. е. около 29 десятин на душу. Но если выделить крайние восточные области: Самаркандскую, Ферганскую — и западные: Кубанскую, Терскую и Ставропольскую губ., — как более населенные, заключающие в себе половину населения всего района, то в остальных областях окажется 321 мил. десятин с населением в 6300 т., т. е. на одну душу 51 десятина, на мужскую же душу 100 десятин. Территория эта равна России без губерний Архангельской, Вологодской и Астраханской, с населением свыше 100 мил. А 50 мил. десятин Закаспийской области равняются 11 лучшим черноземным центральным губерниям с 26 мил. населения, в которых на 1 душу приходится менее 2 дес. и даже 1,2 дес., а в этой Закаспийской области 372 тысячи жителей, т. е. на 1 душу приходится 133 десятины.
Не пугайтесь цифр, ибо цифры управляют миром, по словам Гёте. Они принадлежат не мне, как и следующие строки, которыми характеризуется Средняя Азия.
Она обыкновенно представляется сплошною степью сыпучих песков, ни к какой производительной роли неспособной. Несколько цветущих оазисов являются ничтожным исключением. Но это далеко не так. Наши солончаки характеризуются огромным содержанием сернокислого натра и отсутствием углекислого. Благодаря этому счастливому обстоятельству, они, по мнению г. Раунера, «помощью искусственного орошения легко могут быть превращены в плодороднейшие почвы», как это уже делается в Египте и других странах. Существует огромное пространство лёссовой почвы, лежащей без пользы. (Лёссовая почва воздушного образования. Воздух тысячелетия отлагает разносимую им пыль разлагающихся органических остатков Гималаи и других гор.) Плодородие лёссовой почвы иногда кажется невероятным. Это тот самый лёсс, который китайцы настилают на речные плоты, и небольшой плот питает семью. На Рейне и Дунае есть ничтожные залегания этой почвы, и немцы оценили ее. По словам одного ученого, «эта почва драгоценнее заключающей в себе благородные металлы».
Говорят, что на этой почве люцерна дает урожай в Закаспийской области, например, в течение 10–15 лет ежегодно принося 6–9 укосов, что составит 1–11/2 тыс. пуд. с 1 дес. Злачные растения дают два урожая. При умелом уходе виноград родит 1–2 тыс. пуд. с десятины, расцениваемый в Петербурге в 60 коп. фунт. Европейские плодовые деревья, перенесенные в этот край, дают изобильные урожаи, причем качество фруктов выше европейских, а главное, плод созревает 3–4 недели ранее, чем в Европе. Все это обещает плодоводству блестящую будущность и широкое развитие. Рост деревьев почти невероятен: 1 вершок в поперечнике в год. Здесь строевые деревья вырастают в 6–7 лет. «Каждая капля влаги, — говорит Коншин, — всасываемая почвой, возвращается обратно в виде роскошной растительности. Последняя изумляет скоростью своего развития. В 5 лет тополь вырастает до высоты в 4–5 саж. и становится строевым лесом». Серьезную будущность имеют шелководство, производство свеклы, дающей громадные урожаи и высокий процент сахара, кукурузы, возможна культура чая и т. д.
Для хлопководства край этот представляет исключительно благоприятные условия. Хлопок — «дитя солнца», говорят американцы: он требует прежде всего огромного количества тепла. Закаспийское лето при продолжительности в 7–8 месяцев, по определению Реклю и др., по жаре соответствует тропическому климату (зима суровая). Плодородие почвы здесь изумительное, а сухость лета такова, что дождей совершенно нет. При этом масса света при безоблачности неба. Все эти условия более благоприятны для хлопка, чем в Америке. Край словно создан для этого продукта.
Но чего же недостает Закаспийской области, чтоб дать России хлопок? Недостает воды. Кто проезжал по Закаспийской дороге, тот не может забыть, когда через сотню верст, лишенных жизни и растительности сыпучих песков, поезд врывается в полутропический оазис с буйной растительностью, культурой полей, с садами, поражающими количеством фруктов, с плантациями хлопка, винограда, шелковицы, риса, джургуты, с сочными травами и т. д. Эта смена картин смерти природы и ее буйного расцвета так поражает, что сначала принимаешь действительность за мираж. Объясняется это тем, что эти пески — верхний слой лёссовой почвы, идущей далее через весь Китай, самой плодородной в мире, далеко оставляющей за собой тучный чернозем, а жаркий климат позволяет произрастать высшим, наиболее ценным культурам. Оплодотворяет же это драгоценнейшее в мире богатство вода. Где она есть, там роскошная растительность, где ее нет, там пустыня. И вот вопрос в том, чтоб из Аму-Дарьи отвести каналом часть воды, которая оплодотворила бы лёссовые пространства по обеим сторонам Закаспийской железной дороги.
Хорошо зная «ташкенца» и умея презрительно к нему относиться, вы едва ли знакомы с тем значением, которое имеет хлопок. Америка производит его на 800 мил. в год. России нужно его на 100 мил. рублей — 15 лет тому назад весь необходимый нам хлопок мы получали из Америки. Теперь на 30 мил. р. хлопка мы вывозим из того края, где работает «ташкенец». В будущем Средняя Азия может производить его на сотни миллионов рублей. Так обещают и, по-видимому, правдоподобно. А фрукты? Знаете ли вы, что около Ташкента есть русский сад в 125 дес., который производит те нежные сорта яблок, например, кальвиль, которые мы получаем из Франции и покупаем в Петербурге по 10 р. за десяток. Сад этот ценится теперь до миллиона рублей. Но, разумеется, это малость, ибо в Америке есть сад в 5000 десятин. Но мы только начинаем работать, и должны работать как американцы, чтоб оправдать ходячую фразу: средства России неисчислимы, и русский народ недаром трудился над расширеньем пределов своей земли.
Пока я на этом кончаю. Об яблоках я упомянул потому, что они для вас, обыкновенного читателя, интереснее хлопка и в том обществе, где я был, о них говорили мимоходом, как рассказывают анекдот. Однако, Англия покупает на десятки мил. р. яблок из Канады, которая разводит русские сорта яблок. Серьезный разговор шел об обводнении Закаспийской степи, как о таком вопросе, который имеет не только национальное, но и мировое значение, ибо край этот может производить наиболее ценные культуры, продукты которых имеют неограниченный международный рынок.
21 января (3 февралях №11085
DCLXXXVII
Все последние месяцы «роспуска» только и было разговора, что вторая Дума будет такая же левая, как и первая. У самого правительства, по-видимому, было такое же убеждение. По крайней мере, мне это известно из разговора в декабре с одним влиятельным членом кабинета. Он называл тогда собирающуюся теперь Думу «разноцветною», но с преобладанием красных и оранжевых лучей. Может быть, она будет радугой, которую Господь поставил на небе, как известно из Библии, специально для того, чтобы напоминать человечеству о том, что всемирного потопа больше не будет, и радуга служила «знамением завета между Богом и землею», т. е. их примирением между собою. И радуга-Дума была бы знамением завета между царем и народом. Семь цветов, но на небе она сияет как яркое, блестящее слияние всех цветов в один гармонический свет. Именно такой Думы надо бы желать, Думы, одушевленной одним желанием помочь родине стать на ту высоту, на которой должно стоять великому русскому народу.
Будет ли Государственная дума этою радугою завета, увидим, вероятно, в непродолжительном времени. Собралась она, в самом деле, после русского потопа, продолжавшегося гораздо дольше, чем всемирный. Вода всяких неустройств, бунтов, казней, убийств, громов выстрелов, молний пожаров и истребительной войны. Таков этот русский потоп. Русская земля заключает в себе все народы, происшедшие от Сима, Хама и Иафета. Им предстоит начать новую жизнь, жизнь борьбы, работы и согласия. Долго ли продлятся следствия русского потопа, конечно, предсказать не могут даже две русские Кассандры, Милюков и Ковалевский. Так они сами себя называют. Сначала Милюков назвал себя Кассандрой, потом, подражая ему, Ковалевский. Известно, что Кассандра была особа женского пола, дочь Приама и Гекубы, изрекавшая пророчества, которым никто не верил (так это устроил влюбленный в нее Аполлон), но которые исполнялись. Не имея никакого отношения к Аполлону, гг. Милюков и Ковалевский влюблены сами в себя, а потому их пророчества весьма сомнительны. Пророчество же о левой думе, как уже сказано, изрекало и само правительство. Весьма вероятно, что во время свидания П. А. Столыпина и П. Н. Милюкова в 1907 г., на Неве, свидания столь же знаменитого, как и свидание двух императоров, Наполеона и Александра, на Немане в 1807 г., говорилось именно о составе грядущей Думы, об ее партиях, об ее настроении. В отличие от свидания на Немане, на свидании на Неве не было заключено трактата между министром и фютюр-министром. И это хорошо, ибо трактаты-то сплошь и рядом и ведут к войнам. Если быть войне, пускай она будет в Таврическом дворце, совершенно открыто, на глазах у всех. Если П. Н. Милюков не хотел уступать, то и П. А. Столыпин остался тем же мужественным характером, каким его сделала жизнь и убеждения. Ему уже грозят запросами, его приглашают выйти в отставку и ежедневно печатают, что он уже уходит, но он остается и не намеревается повторить графа Витте. Не так страшен черт, как его малюют.
Говорить будут и в новой Думе так же много, как и в старой, и на те же темы. Из кого бы ни состояла Дума, она не будет «спокойно» работать над теми законопроектами, которые в изобилии приготовлены правительством. Я не могу себе представить русскую Думу в виде Государственного совета или Сената, в виде необыкновенно серьезных деловых людей и чиновников, которые стараются отличиться своим беспристрастием, оценить мудрость и прогрессивность правительства и затем голосовать проекты с такою же уравновешенною выдержкою. В парламентах этого никогда не бывает. Вопросы принципиальные возбуждают интересы и страсти партий, иногда до белого каления, в правительство летят отравленные стрелы красноречия, и борьба партий доходит иногда до рукопашной схватки.
У Государственной думы был бы неспокойный темперамент даже в том случае, если б большинство было не оппозиционное quand même. Русский темперамент горячий, а совсем не холодный. Известный итальянский артист, Эрнест Росси, после первого представления в Мариинском театре, приехал ко мне и говорил с удивлением и удовольствием о восторженном приеме его публикой. «Я думал, что русские — холодный, мрачный, сосредоточенный народ. И вдруг я вижу в русских таких же горячих людей, как мои соотечественники, итальянцы». То, что делается в театре, делалось и в Г. думе и будет делаться. В бывшей Думе ораторы даже раскланивались, как актеры, очевидно, думая, что они, по меньшей мере, играют роль мстящего Гамлета. Дума «народного гнева» была исключительно театральная и народа-строителя нимало не представляла.
Надо принимать в соображение, что агитационные речи всегда будут милее, приятнее, ближе русскому сердцу, чем спокойные, деловые и скучные. Скуку мы ненавидим уже потому, что в нашей жизни, в нашем климате, в нашем обиходе ее очень много. Страстность, красивый голос, ясная дикция, властность темперамента — все это привлекает, как привлекают юмор, ядовитая насмешка, сатира. За гениальным юмором Гоголя мы просмотрели положительные характеры русского человека и стали было забывать Пушкина, у которого была такая великая русская душа, что он ясно видел и недостатки и достоинства русского. Надо было явиться Тургеневу, Достоевскому и Толстому, чтобы снова воскресить Пушкина и вспомнить, что Гоголь меньше всего знал русского человека, но гениальный талант юмориста как раз пришелся по неспокойной и неуравновешенной, но сильной и мужественной душе великоросса. Мне кажется, что первая Дума больше всего грешила именно этою стороною своего существования, темпераментом. Он явился во всей своей невоспитанности и властности. Страстная грубость Аладьина дала ему популярность и авторитет в Думе. Этой страстной грубости боялись даже в Думе. Словом, не идеи пугали правительство, а именно темперамент, резкие формы, в которых слышались ненависть и злоба. Не было ни деловитости, ни юмора и тем ярче сказывалось ненавистное отношение к тому, что существовало и что казалось еще существующим. Не перед силою идей своих противников пасовало правительство Витте до Думы и правительство Горемыкина во время Думы, а именно перед темпераментом, который не знал удержа и выступал с бесстрашием своей первобытности и желания победить. Помните, когда г. Гурко в Г. думе показал свой темперамент, как это взволновало депутатов и как они начали выкрикивать на помощь Герценштейна. Говорят, что само правительство тогда испугалось темперамента Гурко, на которого напала вся печать именно за проявления темперамента, а вовсе не за аргументацию и силу идей. И в лидвалевском деле Гурко обнаружил более всего свой темперамент и то пренебрежение к русскому человеку, которое обнаруживала всегда бюрократия и аристократия вместе с пристрастием к иностранцам: подобно царю Ивану Грозному, который производил себя «от великого самодержца Августа Кесаря», и наше чиновничество так же настраивалось.
Выбор Крушевана решительно поразил всю нашу левую печать, и об этом выборе телеграфировали во все газеты мира, где только есть какой-нибудь еврей. Крушеван — талантливый журналист, но с горячим темпераментом и антисемит. И вот напугались его темперамента, а вовсе не его идей. Сегодня «Речь» уже грозит ему и г. Пуришкевичу «строгою цензурою Думы», то есть кассацией их выбора. И прошлая Дума исключила умеренных тамбовских депутатов, и нынешняя проявит непременно эту же «строгость» трусости. Да, это трусость перед темпераментом, и г. Родичев силен только темпераментом. Темперамент занимает большое место в талантах ораторов и государственных людей. Темперамент Мирабо доказывается целою его жизнью. Да, по правде сказать, и русское правительство только тогда заставляет чувствовать свой авторитет, когда оно обнаруживает темперамент. Во всяком случае, мы еще в стадии увлечений и страстности. Период этот пройдет, и горячность темперамента убавится с течением времени, но если б он совсем исчез, было бы чрезвычайно скучно, ибо настало бы время винта по десятой копейки.
Россия находится на перепутье. Перед ней твердо стоит вопрос об огромном выигрыше или огромном проигрыше. Перед ней не развлечение от скуки, не чиновничья работа на стуле с намерением его просидеть, а работа страстная и жгучая, работа всем существом, всей природою. Кто на это неспособен, тот не человек своего времени и тот наверное проиграет. Выиграет сильный своим талантом, своим самоотвержением, своим темпераментом и непременно своей любовью к России. Мне это кажется так же ясно, как ясно солнце, когда все его лучи падают на землю и творят божественное дело.
14(27) февраля, №11109
DCLXXXVIII
Мне случилось в эти недели видеться с А. Н. Куропаткиным и графом Витте. Оба они были связаны между собою если не тем, что называется дружбою, то взаимным уважением, обоюдным признанием способностей, ума и государственного опыта. Война с Японией разделила их в том отношении, что один на нее пошел и мечтал о победе, а другой ее не хотел и когда, Куропаткин уже в звании только командующего 1-й армией писал ему о необходимости продолжать войну, другой настаивал на мире. Об этом и шел у меня разговор с графом Витте, один из тех разговоров, о котором есть хорошее французское выражение — parler à bâtons rompus. Сущность мнений графа Витте можно изобразить в таких словах:
«Я не знаком с историческим сочинением А. Н. Куропаткина об японской войне. Знаю только по выдержкам, появившимся в газете.
Зная отлично А. Н. Куропаткина, высоко ценя его таланты, которыми он обильно одарен, и преклоняясь перед его личною храбростью и мужеством, мне все-таки кажется, что если действительно от него зависели наши неудачи в боях, как от главнокомандующего, то неудачи эти произошли от тех же свойств его души, которые понудили его, в его положении ныне, публиковать историю войны, участь которой императором была вручена ему, по единодушному указанию России. Я не чувствую в этом действии тех качеств души, которыми обладали наши великие и выдающиеся полководцы-победители: Суворов, Кутузов, Барятинский, Скобелев, Гурко, Тотлебен и проч. Мне кажется, что главная причина нашей неудачи в японской войне заключалась в том, что мы к ней совсем не были готовы и к ней сколько-нибудь серьезно и не подготовлялись. Мы до самого начала японской войны гораздо более готовились на других театрах военных действий, нежели на маньчжурском. Мы вели там агрессивную политику с голыми руками.
А. Н. Куропаткин поехал на войну с поста военного министра. Он приготовлял армию к войнам, он же стал во главе войск при первой войне. Император А. Н. Куропаткина до назначения его военным министром близко не знал. Он был назначен военным министром по рекомендации своего предшественника П. С. Ванновского. П. С. Ванновский мне говорил, что, рекомендуя А. Н. Куропаткина, он докладывал его величеству, что первейшее условие успеха военного дела заключается в том, чтобы его величество, вручив тому или другому лицу пост военного министра, вполне доверился бы этому лицу. Насколько я мог судить, государь доверился военному министру А. Н. Куропаткину.
Что касается вопроса о своевременности Портсмутского договора, то у меня имеются данные, которые не дают основания утверждать, что продолжая войну, мы достигли бы лучших условий. По моему глубокому убеждению, выиграть войну, потеряв флот, было невозможно. Ведь А. Н. Куропаткин, уезжая в армию, не соглашался иначе заключить мир, как в Токио. Если бы даже после систематического проигрыша в течение целого года всех сражений на суше мы бы и выиграли несколько сражений в Маньчжурии, то все-таки в это время весь Сахалин и Уссурийский край был бы в руках японцев. Пора перестать смотреть на японскую нацию как на такую, которую можно было испугать проигрышем сражения на суше после целого ряда побед и окончательного захвата всей береговой полосы от Порт-Артура до Амура и выше. Если мудрость боевой политики А. Н. Куропаткина заключалась в том, что он давал японцам ряд Бородино, то почему не предполагать, что и японцы не были бы так мудры, что начали бы нам давать ряд Бородино, отступая к Ялу и Квантуну. Суть в том, что какие бы ни были наши успехи, перейти Ялу, отобрать Квантуй, Сахалин и Уссурийский край без флота мы все-таки не были бы в состоянии. Мне кажется, что сравнение А. Н. Куропаткина Мукдена или Телина с Бородином вообще несоответственно, ибо Бородино, Москва и Смоленск — это Россия, и к Бородину нужно было прибавить русский народ, а Телин, Мукден и Шахэ — это Маньчжурия, и к Телину нужно было прибавить народ не русский, а китайский, по свидетельству самого А. Н. Куропаткина, нам недоброжелательный, и, прибавлю от себя, по нашей же вине. Но оставляя в стороне стратегические соображения, по моему убеждению, мы не могли дольше воевать по соображениям внутреннего состояния России».
Я говорил с людьми компетентными, которые не придавали значения флоту ни в начале войны, ни после поражения флота. Приводить этих мнений не стану. Но сделаю одно возражение графу Витте относительно Портсмутского договора в таком виде: если бы он хоть отчасти предвидел все то, что произошло в России после этого договора, он употребил бы все усилия для того, чтобы не заключать его. Он вел бы себя в Портсмуте с японцами с такою независимостью, даже с таким «высокомерием», к какому он только способен. Ставлю это слово в кавычках, ибо не могу прибрать более дипломатического. Мне немножко известна сущность совещаний, происходивших перед отъездом С. Ю. Витте в Америку. Говорили, что только один государь был за продолжение войны, все же остальные советники говорили за мир; от войны не ожидали, если бы она продолжалась даже с успехом, ничего больше, кроме отступления японцев в Корею. Но и для этого отступления высчитывали огромные потери в людях и капиталах и много времени, кажется, около года. Конечно, гадания остаются гаданиями, но в данном случае гадания о победах, о которых говорят теперь и Куропаткин и Линевич, не упоминая о военных менее значительных, но проделавших всю войну, ничего невероятного в себе не заключают. Было бы любопытно, если б граф Витте обнародовал те «документы», о которых он говорит.
Я видел в одном доме и А. Н. Куропаткина. Он казался очень бодрым и убежденным и авторитетным тоном высказывал свои мысли о войне. Читатели знакомы отчасти с этими взглядами по беседе с бывшим главнокомандующим одного из сотрудников «Нового Времени». Эта беседа происходила уже после моей встречи с ним у общей нашей с ним знакомой писательницы. В будущей войне с японцами Куропаткин не сомневается, как и в исходе ее в пользу России. Мне было очень приятно услышать от него это, ибо я никогда не позволю себе сомневаться, чтобы Россия осталась побежденною. Побежденная Россия, имеющая огромные интересы на Востоке и, по-моему, не могущая жить в одних европейских своих пределах, потому не может и жить побежденною. Франция, которая была побеждена более, чем Россия, ибо была разбита в сердце своем, принуждена была искать победы в Африке и Азии и в них найти некоторое удовлетворение своему патриотическому чувству. Падение империи и провозглашение республики было недостаточно для французского народа для того, чтобы сохранить свое значение. Республика пошла на союз с самодержавной Россией, чтобы обезопасить себя от своей победительницы. Так и нам непременно придется отстаивать свое значение при помощи военной силы или снизойти на степень второстепенной державы.
Я читал где-то сожаление о том, что наши генералы начинают переругиваться подобно тому, как во Франции переругивались генералы после 1870–1871 г. Повод к этому подала книга Куропаткина и беседа с ним нашего сотрудника. Говорили, что три генерала, задетые им, послали ему вызов на дуэль. Я, напротив, думаю, что эта генеральская полемика очень доброе дело, и даже дуэли между ними были бы желанным явлением. Необходимо выяснить все наши неуспехи и причины их со всею возможною для современников ясностью. Полемика заставляет невольно обнаруживать то, что человек скрывает, она выдает тайны характеров и действий, она характеризует нравы и определяет способности участвующих в полемике. Она, наконец, дает прекрасный материал для истории. До беспристрастной истории, конечно, далеко еще. Но важно и то, что современники получат представление о главных действующих лицах.
17 февраля (2 марта), №11112
DCLXXXIX
Японцы очень заинтересовались книгою генерала Куропаткина и заплатили несколько тысяч рублей за телеграмму, которая передавала сущность ее. Газеты относятся к Куропаткину с враждою и высокомерием, как к человеку, который снисходителен к себе самому, строг к подчиненным и взваливает свою вину на других. Одна из газет сказала, что Куропаткин, как все разбитые генералы, чрезмерно болтлив, а победитель, каким она считает Витте, молчалив. Из генералов всех снисходительнее к Куропаткину Нодзу, который находит «его тактику при отступлении искусной». Оку не хочет допустить, чтобы эта книга была написана Куропаткиным, ибо невозможно думать, что полководец способен бросить столько грязи в своих подчиненных и сотрудников, которых он однако не увольнял. Он выражает к нему полное презрение в таких словах, что Куропаткину пришлось бы вызывать Оку на дуэль, если бы это было в обычае и если бы Япония была где-нибудь за двое, за трое суток от Петербурга. Генерал Ноги был лаконичен и сказал только, что, очевидно, головы европейцев и японцев устроены совершенно различно, если европейцы считают возможным писать такие книги.
Подумаешь, какие справедливые и благородные люди, какие великие и великодушные полководцы! Они защищают русских генералов и вместе с ними негодуют на главнокомандующего.
Я уже высказал свое мнение о книге генерала Куропаткина. По-моему, он прекрасно сделал, что написал книгу с тою искренностью, какая только ему доступна, что он не пощадил своих подчиненных и вместе с ними и самого себя. Ведь всякому разумному человеку понятно, что полководец, проигравший целую кампанию, несомненно виноват больше всех. Как бы он ни оправдывался, общество включило его в плохие полководцы и имя его стало знаменитым совсем не в знаменитом смысле.
В этом отношении не может быть двух мнений, по крайней мере, для общества, которое не входит и не имеет возможности входить в специальную оценку военных событий. Пусть специалисты и критики военного дела роются в подробностях, в тактике, в стратегии, пусть ссылаются на исторические примеры, пусть находят причины поражения в обстоятельствах, независящих от полководца, усиливают его ответственность или уменьшают ее, голос народа будет против полководца, проигравшего такую значительную компанию.
Японские генералы в своих отзывах о генерале Куропаткине не сказали ничего нового, ибо все это говорили и русские люди, и русские военные. Трагическое положение Куропаткина вовсе не в том, что генерал Оку о нем дурного мнения или что генерал Мартынов о нем такого же дурного мнения. Генерал Мартынов даже сказал, что говорить о возможности победы, когда наша армия ко времени Портсмутского договора сделалась способною к победе, очень легко, потому что на бумаге и на словах легче победить, чем на самом деле. Конечно, легче, как легче на бумаге критиковать полководца, чем стоять на его месте. Трагическое положение Куропаткина в народном приговоре. Что скажет история, это очень далекое дело. Вероятно, одни историки его будут оправдывать, другие обвинять, но никто не скажет, что он победил. А в этом коротеньком слове весь смысл полководца, вся его репутация и все больное и скорбное чувство униженной родины.
От этого скорбного чувства не может отделаться ни один русский человек, ни один русский критик кампании. Почему же японские генералы так согласно с русскими критиками говорят о Куропаткине и его книге? Японцами в этом случае руководит тоже патриотическое чувство. Было бы прямо изумительно, если бы наши враги иначе отнеслись к его книге. Она должна была поразить их особенно неприятно, она должна была их обидеть. И если генерал Нодзу отозвался о Куропаткине снисходительно, то он этим показал только наибольшую скромность. Как было не обидеться японцам, когда Куропаткин весь неуспех кампании относит, кроме неприготовленности к ней, к бездарности русских генералов, начиная с самого себя и кончая всеми другими, с весьма незначительными исключениями? Как им не увидеть того жала, которое выглянуло, может быть, невольно из книги Куропаткина и направлено против них? Дрались два народа. Одному было близко от Маньчжурии; другому так далеко, что необходимы были месяцы железной дороги для передвижения армий на поле битвы. У одного все было под рукой, у другого все было далеко. Один только и думал о войне с Россией и опасался ее, а другой меньше всего об этом думал и все свое внимание сосредоточивал на Западе, а вовсе не на Востоке, который он привык побеждать почти без оружия. Один изучал Россию, а другой понятия не имел об Японии. Да при этих и тому подобных условиях, что же за важность эти победы! Ведь тут для победы вовсе не требовалось особых талантов со стороны полководцев. Ведь тут является возможность предположить, что японские генералы были нисколько не лучше русских. Будь Япония в условиях России, а Россия в условиях Японии, другими словами, будь Куропаткин японцем, он победил бы так же русских генералов, как победили их Оку, Нодзу и другие. До Александра, Цезаря и Наполеона японским генералам, несмотря на их победы, нисколько не ближе, чем Куропаткину. Вот что поняли из книги последнего японцы и японские генералы, вот что им было обидно и вот почему они заругались совсем неприличными словами. Несомненно, что Куропаткин защищает самого себя и будет защищать, но несомненно, что он хорошо сделал, распространив свою ответственность и на других генералов и показав их несостоятельность. Никто и им не мешает обвинять Куропаткина или оправдываться от его обвинения. Пусть почешут друг друга. Это очень полезно. Но с их стороны будет очень неумно радоваться тому, что японские генералы ругают книгу Куропаткина и его самого и защищают тем самым подчиненных Куропаткину ничтожных генералов. А радоваться этому, конечно, они будут, ибо им лестно, что самые знаменитые японские генералы осуждают книгу, в которой описываются бесподобные по своей бездарности, невежеству и трусости действия некоторых русских генералов. Радоваться, господа, нечему и смеяться нечему — над самими собою смеетесь. Не угодно ли отвечать всем перед современниками и потомством? Японские генералы отлично поняли яд книги Куропаткина. Осмелился человек говорить, что война проиграна Россией благодаря бездарности начальников русской армии, а вовсе не гению японцев, не великим их полководческим талантам. Если б Куропаткин сказал в своей книге, что все его подчиненные превосходно исполняли свой долг, все генералы стояли на высоте своего призвания, но гениальность японских генералов была так несомненна, что ни его усилия, ни таланты его генералов ничего не могли поделать против этих гигантов, — если б так он сказал, японцы превознесли бы его и нашли бы в нем такие достоинства, которых он никогда не имел. Чем искуснее полководец, чем мужественнее генералы, чем храбрее армия, тем больше, тем блестящее победа над нею, тем ярче слава. Теперь же, если принять в соображение все затруднения, которые пришлось перенести русской армии, и всю бездарность военачальников, то японские победы являются результатом не превосходства японского племени над русским, не превосходством ее культуры над русской, а сцеплением страшно невыгодных для русской армии обстоятельств. Блеск японских побед над русской армией — не вековечный блеск военного гения, а успех временный; Портсмутский мир — не результат бессилия и отчаяния русского народа, а плод поспешности, с какою он был заключен. Все это хорошо учли японские генералы и потому-то книга Куропаткина так возмутила их…
23 февраля (8 марта), №11118
DCXC
Что будет со второй Думой? Сегодняшние газеты самого отчаянного толка говорят, что Г. дума будет распущена 1 марта. Это решено будто и подписано. Осведомительное бюро, вероятно, не станет этого опровергать, ибо подобные достоверные известия будут являться много раз, как являлись они и во времена покойной Думы. Такие известия пускаются для агитационных целей и для угроз правительству. Так, это известие сопровождается такой угрозой: «Разогнать вторую Думу — это значит попытаться задушить 150-миллионный народ, который в своей смертельной конвульсии, как Самсон во храме, опрокинет на мир весь купол и все устои гражданственности». Бедного Самсона так часто вспоминали в первой Думе, что пора бы его оставить в покое, не говоря о том, что опрокидывать «весь купол на мир» — образ довольно смешной и едва ли не еврейский.
Я думаю, что судьба Думы будет зависеть не от самых крайних, а от кадетов и октябристов. В сущности, обе эти партии мало чем отличаются друг от друга, и если взять во внимание некоторый период будущего, когда эти партии разовьются и образуются, то разница эта еще более сократится. Одна милая дама говорит, когда брат ее, октябрист, входит в комнату:
— Повеяло холодом: октябрист идет.
Но теперь и от кадетов начинает нести холодком, потому что они постарели и им стало немножко стыдно скакать разыгравшеюся коровой, подняв хвост, когда появились буйные телята русской, грузинской, татарской и еврейской породы, смело задирающие свой хвост и кричащие неистовым голосом.
К сожалению, чем партии родственнее, тем они упорнее стоят на своих различиях. Родные братья жесточе враждуют, чем простые знакомые. Недаром были Каин и Авель, эти первые братья. Православная церковь ни с кем так не враждовала упорно и жестоко, как с старообрядцами, а с ними у нее было наибольшее сходство. Секты, далеко отпавшие от православия, не терпели таких прижимок, такого обидного преследования, как старообрядцы. Надо было возникнуть единоверию, как некоему звену между православием и старообрядчеством. Кадеты и октябристы напоминают православных и старообрядцев, а мирнообновленцы — единоверцев. Они в процентном отношении так же немногочисленны, и присоединение их к одной из этих двух партий дело недалекого будущего. Дума будет зависеть от кадетов и октябристов — разумею и партии, близко к ним стоящие справа, потому что интеллигентная сила, конечно, на стороне кадетов и октябристов. У крайних левых, вероятно, не окажется никаких серьезных достоинств в Думе, несмотря на то, что в их газетах есть несомненно талантливые и бойкие полемисты, куда бойчее «товарищей» и «речистов». Резкость, невоспитанность, грубые выходки, горячий темперамент еще не Бог весть что. Эти качества в первой Думе сыграли плохую роль, роль скандала, благодаря покровительству кадетов. Без этого покровительства все их выходки прошли бы, как проходят все подобные вещи, бесследно, оставляя после себя анекдоты. А анекдоты совсем не страшное дело и уберечься от них невозможно даже в самых мирных и благочестивых семьях.
Член Г. думы Хомяков, в беседе с репортером, спросил: кто «мог бы заменить наших министров? Где вы найдете людей действительно способных управлять таким колоссальным механизмом? В ответ указывают на Гейдена, Шипова, Милюкова, Родичева, Петрункевича… и только. Хочется верить, что 145-миллионный русский народ должен и сможет выдвинуть новых людей — «богатырей мысли и дела». Очевидно, г. Хомяков не считает упомянутых кандидатов «богатырями мысли и дела». Но «Товарищ» замечает так: «управлять может всякий, кто будет ответственен (курс, в подл.) за свои действия и распоряжения перед народным представительством». Не только г. Ходский, но даже Нечитайло[29], Нахайло и Кричайло. Это очень приятно. Дантон говорил, — что «во время революции власть остается в руках ничтожностей. А управлять людьми так трудно, что лучше родиться и остаться простым рыбаком». Мнение Хомякова, желающего «богатырей мысли и дела», подходит к этим словам Дантона. Семь месяцев тому назад эти слова о «богатырях мысли и дела» были произнесены в высочайшем указе, но не только богатыри еще не явились, не явилось их отдаленного подобия. Надо, однако, верить, что они явятся. Не может быть, чтоб их не было, а вера в богатырей все равно что вера в идеалы, она поддерживает бодрость, а бодрость внушает мужество талантливым людям работать и делать на пользу родины, не смущаясь криками, не оглядываясь ни направо, ни налево, чтоб справиться, как там думают. Талант должен быть независим и идти своей дорогой, а не по указке партии и толпы. Богатырь мысли и дела — аристократ мысли и дела, т. е. стоящий выше толпы, а не демократ, не всякий, не первый встречный, выкрикивающий общие мысли о свободе и ответственности. Клемансо, в одной беседе, в которой участвовали князь Павел или Петр Долгорукий, М. М. Ковалевский и Брандес, и напечатанной в журнале «Le Censeur», очень неделикатно выразился о теперешней демократии, которую защищал князь Долгорукий, вероятно, по соображениям своего демократического ума. И, конечно, едва ли бы кто из упомянутых кандидатов в министры, будучи у власти, решился так независимо высказаться о толпе, как это делал Клемансо. У нас демократический прокурорский надзор в Москве в стачке трамваев не нашел ничего особенного, что бы могло обеспокоить его юридическую голову, и надо было, чтобы г. Щегловитый напомнил прокурору, что есть закон 2 декабря 1905 г., предусматривающий такие стачки, которые грозят общественным бедствием и караются. Интересы рабочих несомненно должны приниматься во внимание, но не все то, что захочет рабочий, должно быть немедленно исполнено.
Сегодня крайние газеты с яростью набрасываются на князя Е. Трубецкого, осмелившегося напомнить закон о неприкосновенности депутатов. Его слова, конечно, искажаются до полного противоречия с подлинником, и он именуется черносотенником, ni plus, ni moins. Случилось так, что и петербургский градоначальник объявил, что депутаты будут задерживаться в случае буйного их поведения. Очевидно, все это неприятно. Неприкосновенность так неприкосновенность, автономия так автономия: ндраву моему не препятствуй. Что хочу, то и делаю. Господа террористы, имеющие в Г. думе своих представителей, должны бы иметь право кричать там со своих кресел вместо «руки вверх» — «бомбы вверх»! И поднимать бомбы, угрожая своим сочленам в случае их неповиновения. Это было бы бесподобно для устроения в России нового порядка вещей. Достоевский называл русский народ народом-богоносцем. Оказывается, что по учению наших революционеров и анархистов русский народ, который выбрал их в Г. думу, есть народ-бомбоносец. Бог — это нечто неизвестное и непонятное. Богоносец — это сантиментальное отражение славянофильской души, идиллия, тогда как бомбоносец — это очень реальная величина, с которою все считаются, вольно или невольно. Если 6 социал-революционеров назвать бомбоносцами вместо нынешнего их названия, то это было бы кстати. Нежное название их эс-эрами скрывает только их сущность, как и вообще название партий по начальным буквам обращает серьезное дело революции в какой-то потешный фарс. Кадеты, эс-эры, эс-деки — это маски, придуманные нежным отношением к революции со стороны чуть ли не всего общества, начиная с министров и членов Г. совета. Это — союз господ Читайло, Смыкайло и Надувайло с Нечитайло, Нахайло и Кричайло, перед которыми в просторечии не ставится слово «господин». Союз двух троиц, одной более или менее образованной, другой более или менее необразованной, очевидно, еще крепок.
Я всегда был оптимистом и думаю, что в русской жизни и природе это необходимо. Время все даст, и разом ничего не дается, ничего разом не приобретается, исключая разве выигрыша в 200 тысяч или неожиданного наследства. А что касается времени, то, право же, ждать обязательно. Время дает чрезвычайно много и в такие периоды, которые только кажутся продолжительными, а на самом деле они совсем не велики. Мой отец родился в 1786 году. Стало быть, отец мой и я, его продолжение, жили в царствования Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Семь царствований и 121 год. Сколько перемен политики, сколько событий, какое движение в литературе, искусстве, науке, промышленности, какой прогресс в социальной жизни, какие громадные открытия, совершенно изменившие жизнь.
Перед Россией несомненно открывается новая эра и, чтобы заложить для нее твердые основания, необходимо не торопиться. Наскоро построенный дом потребует столько перестроек, поправок и дополнений, что лучше строить медленнее, но прочнее. Переживаемое нами время — прямо великое время, и создать прочное величие будет зависеть именно от умеренных партий, включая в них и кадетов, если они действительно хотят победить революцию. Последнее очень важно — хотят ли они победить революцию, и что для них русский народ — народ ли богоносец, или народ-бомбоносец…
28 февраля (13 марта), №11123
DCXCI
П. А. Столыпина приглашают выходить в отставку. «Добросовестно и добровольно» выходите в отставку, говорит сегодня «Речь».
Почему? Кадет торопит, ему не терпится. Говорят, он ощутил некоторую зависть к успеху г. Столыпина и ощутил по гражданскому чувству, ибо этот успех может отдалить наступление блаженных времен правления партии «хочубытьминистром», как можно назвать партию народной свободы; возгорев этою гражданскою завистью, он готов употребить все способы убеждения и даже отрядить с миссией того комиссионера-корреспондента, который посредничал между генералом Треповым и г. Милюковым для образования думского министерства в июне-июле. Наши «верхи», как известно, еще со времен Фамусова чувствуют большое расположение к «иностранцам», как по части выписки вина из Бордо, так и по части политики. Воспитанные на французском языке, они чувствуют себя с «иностранцами» свободнее и роднее. Даже министры предпочитают вести политические беседы с «иностранцами» и сообщать свои взгляды русскому обществу в переводе с французского и английского. Да, министерство должно подать в отставку. Дума ему этого еще не сказала, не желая повторять первую Думу, но кадет сказал. Этого довольно. Он говорил и до созыва второй Думы об отставке, говорит и теперь. Торопитесь исполнить желание фютюр-министра.
— Знаете ли, что Столыпин вызвал зависть среди бюрократического мира, — говорило мне одно лицо. Его хвалят, кривя рот. Бюрократы не прощают успеха и своему брату.
Правда ли это, не знаю. Но кадеты решительно не могут простить этого успеха, и доказательство — эта бестактность «Речи». Хоть подождать бы руководителям этой газеты несколько дней. Не могли. Слишком обидно ждать. Отдаю справедливость г. Тану в «Товарище». Он называет речь г. Столыпина «своеобразно-красивой и тяжеловесно-сильной», «она мне импонирует, как всякая сила». «Если это противник, продолжает он, то это противник серьезный, не то что те гороховые шуты на правой стороне». Мне кажется, что и на правой стороне есть сила убеждения, есть талантливые ораторы, но г. Тану простительно называть правых гороховыми шутами, так правым простительно называть гороховым шутом г. Тана. Это не брань, а комплиментарные движения парламентарной души.
Душа эта несомненно расстроена всеми приготовлениями ко второй Думе, всеми тревогами, предчувствиями, снами и действительностью. Падение потолка перед этими волнениями просто счастливая случайность, не погубившая даже ни одной мыши. Говорю «счастливая», ибо все то, что миновало, даже не задев никого пальцем, хотя могло погубить, есть счастье, есть плюс в существовании, а не минус. Может быть, это было чудо, а может, естественное явление, не только потому, что когда-нибудь потолок должен был упасть, но, может быть, по тому никому неизвестному закону, что подобные случайности очень часто происходят в отсутствие людей. Знаете ли вы, что в прошлом XIX веке было несколько сот пожаров театров, и только какой-нибудь десяток из них во время представлений. Наибольший процент их приходится как раз на два часа после представления, а затем на час и полтора часа до начала спектакля. На это есть хорошо проверенные статистические данные. Парламент — собрание людей, положим, лучших, но и театр — собрание людей совсем не худших. Аналогия тут возможна. По этому закону потолок в Думе и должен был провалиться или после заседания, или перед заседанием. Конечно, этого еще в парламентах не случалось, но, может быть, потому, что их очень мало, или потому, что мы со своей революцией начинаем новую эру, какой еще не бывало, а потому и факты ее должны быть необыкновенными, нигде не бывалыми.
Для потомства, быть может, следует сохранить такие фразы:
«Казалось, свалилось небо. Громадные каменные глыбы, свалившиеся с огромной высоты, придавили все собою».
Так описывал один газетчик в вечернем листке обвал потолка в Думе. «Казалось, что свалилось небо». Пьяному купцу Островского казалось, что небо треснуло. Доски и штукатурка превратились в «громадные каменные глыбы». Один поэт, играя словами «толочь воду», сказал об этом же событии:
Парламент наш еще воды не много потолок, Как вдруг обрушился над Думой потолок.Следует еще сохранить следующие слова кадетской «Речи»: «центральные места, занятые партией народной свободы (кадетами), остались почти нетронутыми». Если такой идиот, как потолок, выразил свое высокое уважение к кадетам, то уж и толковать нечего: надо пасть перед ними во прах. Погибли бы правые и левые, их снесли бы на кладбище или поехали бы они на родину инвалидами, а кадеты разве покрылись бы только штукатурной пылью.
Я вполне убежден, что в глубине сердца многих членов Думы этот бессмысленный обвал потолка отзовется таинственным впечатлением. От грошовой свечки Москва сгорела, от ничтожных причин, от легкомыслия, от игры в революцию, могут случиться бедствия, как и от обвала потолка. Может обвалиться вся Россия, если будет продолжаться этот бессмысленный кавардак, который производят революционеры и покровительствующие революции господа. Пусть обвалившийся потолок напоминает об этом. Вот и нет худа без добра, как говорит пословица. Но было бы превосходно, если бы худа совсем не было.
Кадетский орган негодовал на Столыпина в день обвала потолка за то, что он явился, «к изумлению всех», в заседание Думы во главе министерства. «Он немного бледен, но держит голову высоко и смотрит прямо в глаза народным представителям, словно все происшедшее его нимало не касается». Если он был бледен и если он явился в Думу, то это доказывает, что все происшедшее он принял к сердцу. Но он имеет право смотреть всем прямо в глаза, потому что обвал потолка нимало от него не зависел и предупредить его у него не было никакой возможности. Столыпин не имел возможности предупредить взрыва на своей даче, когда погибли десятки русских людей и когда были искалечены его дети. Он имеет право смотреть прямо в глаза народным представителям, потому что он — один из самых мужественных, честных и искренних сынов России. На своем страшном и ответственном посту он живет под постоянной угрозой быть искалеченным и убитым. Он горит как в огне на своей службе, и если есть у него недостатки, как у государственного человека, то как русский человек он заслуживает глубокого уважения. Если б он был членом Г. думы, он принадлежал бы к числу самых достойнейших людей, желающих обновления и всяких успехов своему отечеству. Тот адрес ему от общества, который теперь подписывается, доказывает, что общество ценит его, что оно видит в нем человека, способного стоять во главе правительства в это трудное время. Он доказал на трибуне, что обладает и тем талантом оратора, который необходим для министров в конституционном государстве. Этого едва ли кто от него ожидал и тем приятнее было в этом убедиться.
Кто-то на заседании Г. думы, в день обвала, сказал: «Дума должна встать во весь рост». Пусть становится и покажет свой рост. Но и правительство должно стоять решительно во весь рост. Пусть это будут если не два богатыря, то два честных и искренних борца за общее благо.
А кто стоит во весь рост — это русский язык.
Речь депутата Лампатидзе, плохо владеющего русским языком, вызывает крестьянского депутата с правой, который просит председателя требовать от оратора говорить по-русски. Великолепное замечание. Учитесь, господа инородцы, по-русски. Когда-то еще Кавказ получит автономию или будет завоеван Турцией, но пока русский язык знать надо. Он повелевает, он — поистине неограниченный монарх, он — монарх гениальный. Он правит Россиею больше тысячи лет. Он — монарх не только Божией милостию, но монарх бессмертный, постоянно растущий в своих делах и помыслах. Он останется монархом при всех формах политической жизни. Он, этот русский язык, на котором создана великолепная литература, объединяет парламент обширной Русской империи и повелевает им. Без него депутат косноязычен и нем. Он заставил гордого поляка говорить по-русски, тогда как этот поляк притворялся непонимающим или выражал прямо желание не говорить на нем не только с русскими, но и с властью, даже с императорами, которые обращались к поляку на французском языке. А здесь, в русской Г. думе, поляк раскрывает уста по-русски. Русский язык повелевает по праву своей нравственной, художественной и политической силы.
9 (22) марта, №11131
DCXCII
Убили журналиста Иоллоса. Происшествие очень обыкновенное среди всевозможных убийств нашего времени. После убийства Герценштейна я говорил, что «политические убийства развращают мозг именно потому, что человеческая жизнь ставится ни во что перед «убеждением» убийцы. На жизнь людей, не разделяющих ваших убеждений, предпринимается охота, как на диких зверей, и затем обращается в спорт, нимало не тревожащий совести. Подобно тому, как у революции образовалась целая орда убийц, грабителей и погромщиков, так может образоваться целая орда убийц, грабителей и погромщиков и у противной стороны… Как революционного убийцу, так и контрреволюционного могут руководить совершенно одинаковые мысли. И последний может видеть в политических убийствах, совершенных революционерами, врагов отечества и даже врагов того самого освободительного движения, которое понимается одним — как революция, как необходимый переворот для создания совершенно нового порядка вещей, а другим — как эволюция, как мирный переход от одного порядка к другому. В этом случае не может быть разных мерок для суждения и не может быть особенного выбора. Кто попался навстречу, тот и виноват. Таких примеров множество. Можно бороться за всякую идею, как бы она ни была экстравагантна, но поднимающий меч от меча может и погибнуть. Партия, одобряющая убийства, может дождаться, что и на нее пойдут с мечом, не разбираясь, кто виноват». Делаю эти краткие выписки из моей, довольно пространной статьи, за которую говорит то обстоятельство, что на нее обратил свое внимание граф Л. Н. Толстой. Теперь говорят с известной достоверностью, что Герценштейн был убит наемным убийцей. Это едва ли меняет существо дела. Можно утверждать с достаточным вероятием, что и революционеры употребляют деньги как средства для убийства и грабежей. Среди множества убийств, совершенных революционерами, несомненно есть убийства, совершенные при помощи подкупа, наемными убийцами. История докажет это несомненными данными. Итальянские брави порождены борьбой политических партий. Наемный убийца тоже может говорить, что он действовал по убеждению. Во всяком случае, для него выгоднее явиться «убежденным», т. е. в некотором роде героем, по крайней мере, у своей партии, чем презренным наемником, грубым мясником. На политические убийства, впрочем, идут люди легко, даже люди самых мирных занятий. Стоит вспомнить сентябрьские убийства во время французской революции XVIII века. В четыре дня сентября 1792 г. было зарезано в тюрьмах до тысячи человек, под влиянием парижской городской Коммуны и Марата. Убийства производил не народ, который оставался зрителем, сочувственником, одобрителем, а вовсе не деятелем, не убийцею. Убийцами были мясники, в значительном числе, мелкие лавочники, фруктовщики, портные, шляпники, часовщики, золотых и серебряных дел мастера, парикмахеры, суровские торговцы. Эти люди самых мирных занятий были призваны к «геройству», которое явилось в виде убийств, совершенно похожих на убийства овец и быков и так же безответственных. Политическое убийство тем ужасно, что оно не знает ни мер, ни весов совести и что у него совсем особые меры и весы, идущие вразрез с установившею и общепризнанною нравственностью. Оно выдвигает свой закон, свою совесть, свои побуждения, и оно же несомненно поощряет обыкновенные убийства среди неразвитой и достаточно дикой части населения. Если политическое убийство одобряется или признается, хотя бы с оговорками, образованною частью населения, преимущественно политическою, задавшеюся целями бескорыстными, то и простое убийство рассматривается с большей легкостью и является более доступным для совести малоразборчивой. Постепенно вопрос сводится к возможной безнаказанности, к совершению убийства так, чтобы скрыться и скрыть концы. Убил и свободен. Сколько таких убийц за этот один год! Правосудие самое тщательное не могло их уловить, а погибли смертью только те, которые попались. Может быть, это и были те, которые убивали, как фанатики, как убежденные «в своем политическом праве», как послушные слуги своей партии, комитет которой посылал их на убийство. Но мы знаем, что и они большею частью старались уйти от наказания, убежать, спасти себя и, спасаясь, убивали тех, которые их преследовали или старались задержать. Они убивали тут, ради спасения своей жизни, ни в чем неповинных людей, иногда прохожих. Собственной жизнью они, конечно, рисковали, но собственная жизнь все-таки была им дороже, чем чужая жизнь, все-таки, решаясь на убийство, они принимали меры и к тому, чтобы не отправиться в неведомые страны, «откуда странники к нам не возвращаются», по выражению Гамлета, и куда убийцы послали свои жертвы, желая остаться в этом лучшем из миров.
Я так много писал об убийствах, так ненавижу их, может быть, отчасти потому, что и в моей личной жизни они сыграли свою роль, что мне незачем распространяться об убийстве журналиста Иоллоса. Я сам журналист, и мне тем более жаль его, жаль не как человека только, но и как журналиста. У всякого журналиста есть враги, и едва ли есть такой мало-мальски выдающийся журналист, который не получал бы анонимных угроз убить его, отмстить ему. Мало клеветы, лжи, насмешки, недостаточно, чтобы отравить его жизнь и жизнь его близких, надо еще отнять у него самую жизнь, убить вместе с ним его талант, чтобы он не тревожил его врагов. Журналист в своем слове такой же авторитет, как и министр, как и оратор на трибуне, иногда даже больший авторитет, — это в зависимости от таланта и степени его популярности. Мне вспоминается известный памфлетист времен реставрации, Поль-Луи Курье. Он был убит на улице, из ружья, когда он спокойно шел, и убийца его остался неизвестен. Это был мститель, может быть, наемный, а может, и «убежденный».
Когда два дня депутаты наши говорили о военно-полевых судах и когда за многими речами их слышалось одобрение политических убийств, мне было глубоко противно читать эти речи. Это, изволите ли видеть, «тактика». Если это только тактика, только средство, только клин, выгоняющий другой клин, то и в этом случае тактика безбожная, тактика, направленная к продолжению революции и ее укоренению во что бы то ни стало. Сегодня в «Речи» целых три статьи об убийстве Иоллоса, тогда как массовое убийство в Севастополе было почти замолчано. В других органах появится, конечно, несколько десятков подобных статей и, если бы эти статьи внушили ненависть к убийству, было бы очень хорошо. Но едва ли именно эти статьи могут сделать такое доброе дело. Они заражены ненавистью и партийною злобою и защищают только своих, а не человека вообще. Чужой человек остается врагом, и нравоучение выходит такое: «Друзей нам жаль и горе убийце! Но наших врагов убивайте! Мы против этого ничего не имеем. Даже, откровенно говоря, это нам полезно».
16(29) марта, №11138
DCXCIII
«Мы — само отечество», — сказал сегодня в Думе г. Родичев. — Мы — жизнь и труд народа, и говорить нам о патриотизме равносильно говорить о любви к самим себе!»
Очень смело, но и очень нелепо. Если каждая палата депутатов — отечество, то с отечеством придется расстаться раз навсегда. Палаты бывают бездарные, ленивые, подкупные и проч. История парламентаризма в Европе это доказывает несомненными фактами. Французские историки на протяжении ста лет указывают только на две палаты, как выразительницы лучших стремлений народа и его способностей. Это 1789 г., или первая палата, и палата, созванная после падения Второй империи. Отечество — это весь народ, вся страна, в их развитии, уме, таланте и природе. Отечество сложилось исторически, и вся история входит в это понятие, весь труд народа, государей, замечательных государственных людей, ученых, поэтов, литераторов, художников литературы и искусства, деятелей просвещения, промышленности, изобретений, открытий, торговли. Палата или Дума зависит от множества влияний, от выборной системы, от агитации и проч. Она — более или менее случайный подбор депутатов, иногда невежественных, некультурных, бесталанных, не умеющих и не могущих работать. Даровитые люди очень нередко только исключения в ней. Самые совершенные системы выборов не дают представителей меньшинства, среди которого могут быть и умные и талантливые люди и настоящие представители своей страны. Таким образом, около половины России, т. е. отечества, никем не представлены в Г. думе.
Русский народ — даровитый народ. Если судить о нем по какой-нибудь Думе, то придется постоянно менять о нем мнения. То он будет талантлив, умен и прилежен, то надо будет считать его бездарным, нелепым, не умеющим ничего создать, но умеющим только ругаться, кричать и повторять чужие общие места. «Отечество — это мы» так же нелепо, как «Государство — это я» — слова Людовика XIV. Отождествлять себя с отечеством могут только великие люди, гении, потому что только гении заключают в себе свойства народные во всем их блеске и правде. Но гении никогда еще не говорили: «Отечество — это мы», потому что гении — не фразеры и не самонадеянные глупцы. Гении служат отечеству и через него всему миру и только потомство говорит о них, что они выражают лучшие силы отечества. Настоящая Дума еще ровно ничем не доказала, что она стоит той любви и преданности, которыми мы обязаны отечеству. Отечество — это Бог. Отечество — это прекраснейшее для всякого гражданина художественное произведение, созданное тысячелетним трудом, всею думою и всенародным вдохновением. Поэтому я говорю, что оно — Бог. Дума — это иногда наскоро сколоченный идол, самомнящий, хвастливый, олицетворяющий себя с народом тем беспечальнее, чем она бездарнее. Выражение г. Родичева: «Отечество — это мы» — фраза, достойная смеха и порицания, а не рукоплесканий. Отечество существует постоянно, как существует человеческая душа. Думу созывают и распускают. Дума должна заслужить перед отечеством, а олицетворять себя с ним — это наглое самозванство.
«Мы — жизнь и труд народа» — такой же вздор. Вы его приказчики, а не сам народ; народ вам платит по 10 р. в день, когда сам не получает и по 10 р. в месяц. «Говорить нам о патриотизме — все равно что говорить о любви к самим себе». Любовь к отечеству не есть любовь к самому себе. Это — любовь к другим, это — самоотверженный труд, это — любовь к ближнему. Кто любит самого себя и воображает, что, поэтому, он любит и отечество — не патриот, а эгоист. Для него отечество — в своем брюхе, в своем доме, в своих интересах, и отечество он охотно продаст.
Г. Родичев, зарапортовавшись в своем бегстве за красивой фразой, смешал эгоизм и патриотизм. Но эгоизм и патриотизм также противоположны, как два полюса.
Дума обязана стремиться к совершенству, обязана выражать собою лучшие силы отечества, а не хвастливость и самомнение. Для Думы отечество должно быть святыней, идеалом, постоянным помышлением, верховным Судьей, перед которым она должна отвечать за каждый свой шаг, за каждое праздное слово, за каждое глупое или вредное действие. Отечество никогда не скажет ей: мы равны. Оно скажет Думе: ты мой слуга, мой доверенный. Отвечай, что ты сделал, отвечай и не лги. Кто говорит: «мы — отечество», в том гораздо больше Держиморды, чем гражданина.
23 марта (3 апреля), №11145
DCXCIV
Докладчик по рижскому вопросу в Думе депутат Пергамент сказал, что тюремная жизнь в Риге такова, что перед нею «бледнеют ужасы Средних веков». Русский образованный человек сравнил бы с прошлым русским или назвал бы это «рижским безобразием», как назвала это газета А. А. Стаховича. Но еврею нужны Средние века, нужна фраза несомненно высокопарная и специально жидовская, злобно придуманная. Естественно, что думские ораторы начали в своих речах повторять эту фразу, как серые попугаи, не имеющие никакого понятия о Средних веках. Если еврей скажет о средних веках, то давай и мы, и столь же бездушно, столь же высокопарно и фразисто, как и г. Пергамент. Никто ничего не прибавил к тому, что сказано в докладе, но десятки ораторов, один бездарнее и наглее другого, всходили на трибуну, чтобы отлить несколько дурацких пуль. Министр юстиции пробовал отвечать и, отвечая, немножко кадил депутату Пергаменту и назвал Думу «высокозаконодательным учреждением», вероятно, по примеру некоторых критиков, которые называют приятных им писателей «высокодаровитыми». Г. дума едва ли нуждается в определениях хотя бы и министра юстиции. Во всяком случае он совершенно напрасно трижды всходил на кафедру и трижды никого не убедил. И убеждать было нечего. Депутат Абрамов совершенно верно характеризовал эту кампанию против правительства словом «месть». Правительство и общество желают, чтобы Дума решилась произнести порицание политическим убийствам, а крайние поднимают навстречу Средние века, ужас убийств, пыток и истязаний в тюрьмах. Эти картины «надолго отобьют охоту у правительства требовать осуждения политических убийств». Это слова того же депутата Абрамова, и в них вся та правда, которая заключается в этих прениях о состоянии тюрем, та правда, которую совершенно не чувствовал г. Щегловитов, трижды входя на кафедру, чтоб объяснить, что в запросе Думы заключаются два вопроса, а не один. Другой с немецкой или жидовской фамилией совсем недвусмысленно поставил вопрос о том, что правительство никуда негодно и что Дума должна занять его место и расправляться, как ей угодно.
Наивные люди говорят, что будто кадеты ведут серьезную борьбу с крайними. Ни малейшей борьбы они с ними не ведут, ибо молчание вовсе не есть борьба. А кадеты все помалкивают, официоз же их только и знает, что грозит разгоном. Наивным и милым людям может показаться, что именно этот прием и есть настоящая борьба с крайними. «Грозите им! Грозите, пожалуйста! Эта угроза подействует». Черта с два. Крайние твердо стоят на своей тактике и смеются над этими угрозами. Они выпускают свои ядовитые стрелы, а кадеты глазеют, как они летят и в кого и куда попадают. Хитрая механика эта так обнажается, что только слепые ее не видят, потеряв зрение. А многие зрячие начинают говорить, что кадеты сами желают роспуска Думы, и их угрозы только хитрый расчет. Они желают потому, что с новой Думой только выиграют, а не проиграют, потому что могут ввести в нее более умных и талантливых людей. В новую попадет и г. Милюков, не говоря о других. Серьезно же поддерживать эту серую, невежественную, фразистую, бестактную Думу не могут мало-мальски умные кадеты. Зачем она им? Что она может им принести, кроме неприятностей, разочарования и сознания своего бессилия бороться с толпой революционеров и людей, фанатически верующих в свою победу. Разве бывали такие исторические примеры, что фанатиков можно убедить. Они непобедимы и будут вечно. Их можно одолеть в законодательном учреждении только значительным большинством, плотным и единодушным. А разве Дума теперешняя что-нибудь подобное представляет? Разве кадеты выдвинули какие-нибудь таланты, ораторов, значительных политиков? Ведь ничего подобного. В первой Думе они могли выставить целое министерство, людей более или менее серьезных и даровитых. А кого представит теперь партия эта, если бы вопрос зашел о кандидатах в министры. Спросите Милюкова, и если бы он захотел быть откровенным, он пожал бы только плечами или сказал бы более или менее уклончивую фразу, которая была бы настолько решительна, что избавляла бы его от дальнейшего разговора. Впрочем, г. Милюков едет за границу, чтоб снять на время с партии свой деспотизм и свою волю…
У нас есть немало людей, которые готовы мечтать о дружбе с кадетами… когда они бессильны. Немало сантиментально настроенных людей, которые воображают, что обессилив кадетов, они тем самым приготовили себе легкую победу.
«Кадеты теперь ничего не значат. Их припирают к стене правые и левые, а мы тем самым выигрываем. Дума, конечно, плоха, но с плохою Думою легче работать. Мы ее оседлаем».
Мне думается, что это совсем не так. С умными людьми легче работать, чем с дураками, с радикалами легче, чем с фанатическими революционерами и тою невежественною толпою социал-демократов, которые воспитаны революционным темпераментом и брошюрным социализмом. Вообще гораздо легче и плодотворнее работать с образованными людьми. Перечтите заседания первой Думы и заседания второй.
Вторая Дума разнесла по России столько темперамента на весь старый режим, что эти 2000 страниц, составляющих стенографический отчет второй Думы, почти сплошь есть только ругательства, отрицание собственности, возбуждение ненависти к землевладельцам и буржуазии, искажение фактов и статистических цифр и презрение и ненависть к правительству. Если г. Муромцев читает эти отчеты, он может только сказать:
— Однако далеко ушли эти мальчики.
Политического такта и серьезного знания было неизмеримо более у г. Муромцева, чем у г. Головина. У нас в «Новом Времени» Валишевский сказал, что во французской палате у председателя парламента есть два чиновника, которые подсказывают ему все то, что он может забыть или не знать. Чиновники эти — специалисты по парламентским обычаям и законам. Г. Муромцев, пожалуй, не нуждался в такой помощи. Но г. Головин решительно в них нуждается, как нуждается в такте и во многих других вещах. Судя по тому, как он ведет прения, можно подумать, что кадетская партия нарочно его поставила, чтоб он своей бестактностью и слабостью скорее провалил Думу. У него, кроме того, очевидный недостаток памяти. Остановив депутата Церетели в первое же заседание за призыв к бунту, он совсем забыл об этом и, остановив другого оратора, сказал, что в Думе никто к бунту не призывал. Вообще, это один из тех председателей, который не умеет политически воспитать ораторов и научился только повторять постоянно: «говорите по существу», точно с такою фразою что-нибудь можно сделать и точно эта фраза уж такая вразумительная. Она дает полный простор председателю говорить левым свободно, а правых стеснять, или наоборот. Ведь парламентская речь не то, что в «огороде бузина, а в Киеве дядька». Да и тут неизвестно, что составляет существо — бузина или дядька.
Что выставило правительство против этой Думы? Двух ораторов, министров Столыпина и Коковцова, в особенности первого, и послало в думские комиссии знающих своих чиновников, которые и сделают три четверти дела. Князь Васильчиков сказал что-то о «гранях», г. Щегловитов старается убедить своими юридическими познаниями, которые адвокаты Думы вывертывают как пустой мешок: «глядите, ничего нет», и Дума, ученостью не страдающая, рада. Правые дали немного. У них есть Пуришкевич, не столько оратор, сколько enfant terrible вроде г. Алексинского; есть граф Бобринский, сказавший несколько удачных фраз и, может быть, хороший оратор в будущем. Самую блестящую речь сказал г. Шульгин с превосходной пародией на аграрные проекты крайних, которые обиделись, но в душе, конечно, сказали:
— Вы правы, сударь. Сначала отберем землю, а потом заводы, фабрики и дома и в, заключение, и деньги. Лиха беда начало. Дураки этого не понимают, равнодушные слишком ленивы, чтоб страдать предвидением, но мы на это и рассчитываем.
В другой речи о «бомбе в карманах» крайних он увлекся и извинился и получил выговор от октябристов, которые в этом случае не знали, что творили. Я вообще того мнения, что октябристы не понимают данного положения и представляют собою некоторое недоразумение. Плохо написанный манифест 17 октября словно отразился на них, и если кадеты стали «декабристами» во многих отношениях, то октябристы пошли за ними в хвосте, разбавив красный цвет водою Москвы-реки у Москворецкого моста. М. А. Стахович от них отстал и упорно молчит. Профессор Капустин занял место графа Гейдена, но без юмора последнего. У них не достает совсем национального чувства, ярко выраженного, того чувства, которое одно могло бы дать им значение и привлечь к ним симпатии. Они как будто боятся выдвинуть национальное чувство, чтобы не смешали их с партией «Русского Знамени»; став между монархистами и кадетами, они качаются, как маятник в испорченных часах, по которым нельзя попасть на необходимый поезд железной дороги, а попадешь совсем на нежелательный, который завезет, пожалуй, к черту на кулички.
П. А. Столыпин сказал в Думе: «Не запугаете». Он — человек мужественного десятка, готовый бесстрашно умереть. Но надо, чтобы не пугалась Россия. В этом самое важное. Измученная войной и революцией, она не только пугается, но имеет право пугаться. В ее жизни вот уже который год нет минуты спокойствия, нет дня, который прошел бы без грозы и обещал бы хороший день на завтра. Цель правительства, которое обязано стоять на страже государства, заключается именно в том, чтобы не пугалась Россия, чтоб Россия окрепла, устанавливаясь в новый режим. Возврата к старому нет и быть не может, но нельзя заставлять страну жить в страхе за завтрашний день, лишать ее всякой уверенности в том, что завтра она не провалится. Отсутствие этой уверенности тяготеет над всеми.
15(28) апреля, №11168
DCXCV
Превосходная книга Менделеева «К познанию России» стала классическою, как и его «Основы химии». Умудренный знанием, наблюдательностью и размышлениями, великий ученый торопился в сжатых чертах передать своим согражданам, что, по его мнению, должно способствовать счастью России. Когда жадно раскупалась его книга, он приготовлял продолжение ее с тою же торопливостью, прибавляя к тексту множество примечаний, которые сами по себе заключают зерна больших статей и будят мысль читателей. Это продолжение начало набираться при жизни автора и теперь является в свет под заглавием «Дополнения к познанию России». Эти «Дополнения» заключают «вполне законченный очерк о народонаселении всего земного шара, исполненный по совершенно оригинальному плану и способом, который своей точностью превосходит обычно употребляемые». Так говорит в предисловии сын покойного.
В первой книге Менделеев говорил о внутренних наших соотношениях, в новой — о внешних сношениях России. В книге много цифр и в этом отношении она сослужит службу справочной книги, а все остальное в ней полно глубоких оригинальных мыслей. Примечаний и здесь много и так же они значительны, отвечая на многие запросы жизни.
Наибольшее и многостороннее внимание Менделеев уделяет шести великим державам: Англии с ее колониями, Франции, Германии, России, Китаю и Северо-Американским Соединенным Штатам. Японию он не включает в число великих держав по тем соображениям, которые у него изложены обстоятельно. Содержание книги, написанной сжато, передавать очень трудно, потому что в ней нет ничего лишнего. Ее можно только рекомендовать читателям. Говорит русский большой ученый, проживший поистине великую жизнь. В нем все русское, и разум, и чувство, и надежды. Он верил в жизнь и оставил после себя то наследство, которое дается всем русским, начиная с юношей, любящих науку, и кончая старцами, кончающими уже свою жизнь. Такое наследство оставляют только те, за которыми деятельное, если можно так выразиться, бессмертие, т. е. то бессмертие, которое постоянно действует на тех, которые живут и будут жить. Я не сумел бы передать читателям все богатство содержания этой книги, украшенной прекрасным фототипическим портретом Менделеева. Но я уверен, что, начав читать эту книгу, читатель прочтет ее всю и будет к ней возвращаться, как к русскому своему другу. Говорить о населении шести важных держав и всего земного шара можно очень скучно, интересуя только статистиков. Но Менделеев нашел в этом предмете такие стороны, которые интересны и поучительны для всех читателей, потому что стороны эти — человеческая жизнь, настоящая и будущая. Цифры управляют миром. Народонаселение и прирост его — это история человечества, это его семья, его дети, исторические устои и тот прогресс, который совершается постепенно. Только в постепенность он и верит, только это развитие он и признает непреложным законом. Утопии социалистические, коммунистические и анархические он считает преходящими, но жизнь возьмет из них то, что взять следует, например, «со временем несомненно станут возможными лишь предприятия, основанные на складочных остатках заработков прямых производителей (изобретателей, техников и рабочих) и т. д.» Но эти утопии повредят жизни, потому что «подорвут семейственные условия развития общего мира и благоденствия». И стоить они будут так дорого, эти искренние и бескорыстные утописты, что Менделеев серьезно советует государствам подумать о том, чтобы предоставить утопистам в полное распоряжение уединенные и свободные места на земле, дав им все запасы. Пусть делают там свои опыты; для этого стоит государствам потратиться, потому что без опытов дело это будет стоить гораздо дороже. В числе таких уединенных мест он считает тропические острова, вроде острова Святой Елены, полярные континенты и т. д.
Я уверен, что очень многие у нас сочтут жестоким это и выдвинутся с своими гуманными чувствами перед Менделеевым. Но я думаю, что он все-таки будет стоять выше их даже по своей гуманности, не говоря уже об уме. Что должно поразить многих, это его уверенность, что земной шар имеет все основания не бояться закона Мальтуса. Через 200 и самое большее через 300 лет на нем будет 10 миллиардов жителей (теперь их к 1 января 1907 г. 1 миллиард 695 миллионов; ежегодный прирост на земном шаре 16 миллионов). Тогда на каждого жителя придется около 1 гектара на душу, т. е. общей тесноты будет не более, чем теперь на о. Яве или в Бельгии, где народ свободно умножается, инстинктивно постигая ложность выводов Мальтуса о близкой необходимости ограничения умножения людей. Не только 18 миллиардов, но и во много раз больше народу найдет пропитание, прилагая к делу этому не только труд, но и настойчивую изобретательность, руководимую знаниями. Когда жителей начнут считать десятками миллиардов, они успеют овладеть и морем для хозяйственного производства всякого рода полезностей, начиная от разведения всяких полезных и подходящих растений и животных и кончая добычею золота, «которого в морях, не только на дне, а прямо в воде — великое количество, вероятно, даже больше, чем на суше. Чтобы жить, надо верить, а для этого даже прямой реализм открывает все возможности. Находить все время только худое (пессимизм), не указывая путей выхода, очень уже легко, но ни к прогрессу приводить не может, ни удовлетворения не дает, только возбуждая злобу и отравляя всякую энергию. Этим грешил Рим, грешит и современность, указывая выходы лишь утопические, с которыми здравый ум мириться никак не может». «Все, чем человечество может гордиться, говорит Менделеев, добыто у народов, дошедших до тесноты жизни. Ни Рафаэля, ни Ньютона, ни Стефенсона или даже Гарибальди и Гамбетты нельзя и представить без народной скученности. Она одна может своими тысячами глаз не упустить из виду все то, что является достойным внимания и что при малолюдье, наиболее внушающем эгоистические стремления, редко возникает, а возникнув, легко может пропадать и зачастую пропадает. С внешней стороны народная скученность настолько сильна и велеречива, что ясно и прочно выдаваться в ней внешнею силою и даже речью очень трудно, а для посредственности почти невозможно. Поэтому эта самая скученность, в конце концов, невольно внушает мысли и направления более глубокие, внутренние, тесно связанные с общими людскими интересами. Словом, постоянная людская теснота жизни дает неизбежно много общих благ и способствует прогрессу».
В «тесноте люди живут», говорит пословица. Оригинальная мысль Менделеева освещает эту пословицу, как мировую истину. Кому это приходило в голову? Наши законодатели, включая сюда и современных «лучших людей», конечно, никогда бы и не посмели выразиться подобным образом. Но большие люди тем и отличаются от маленьких, что они смеют, и их мысль оправдывается обыкновенно историей. Менделеев смеет осуждать и общее обучение, потому что прежде всего надо создать учителей.
В политическом отношении Менделеев упорно советует союз с Китаем, пожалуй, и с Японией. Но прежде всего с Китаем, Англией и Францией, и этот только союз может упрочить всеобщий мир. Он превосходно это доказывает и возвращается к этой теме много раз в своей книге. Замечательно, что пространство и население Европы почти равняется с теми же данными в Китае. В Европе пространство немного более 10 мил. кв. км. и жителей 431 мил., в Китае 11 мил. кв. км. и жит. 426 мил. Я не могу входить в подробности и спешу кончить следующими словами Менделеева, этого нового нашего Ломоносова: «Не по славянофильскому самообожанию, а по причине явного различия «Востока» и «Запада» и по географическому положению России, ее и Великий, или Тихий, океан должно считать границами, на которых должны сойтись всемирные интересы Востока и Запада. Желательно, чтоб и нашему отечеству придано было со временем название Великого или Тихого. Первого названия Россия уже заслужила всею прошлою своей историей, а второе ей предстоит еще заработать».
И она заработает, если будет слушаться своих избранных людей, которых сам Бог избрал, даровав им великие способности.
20 апреля (3 мая), №11173
DCXCVI
Постановка «Горя от ума» гг. Станиславским и Вл. Немировичем-Данченко останется крупным фактом в истории русского театра. Надо было много труда и любви к своему делу, чтобы восстановить в изящных внешних чертах быт и фигуры того времени. Недостатки этой постановки, где внешность почти уничтожает внимание к тексту комедии, указаны в горячей статье г. Беляева. Но интерес публики к этой постановке совершенно понятен: она никогда не видела «Горе от ума» в таких декорациях, в таком убранстве комнат, в таких костюмах. Все тут ласкает зрение и все ново. Это как бы музей домашней обстановки первых двух десятков лет прошлого столетия с движущимися фигурами. Прекрасны первые два акта, особенно первый, и эффектны группы в 3-м акте на балу. Четвертый акт мне показался совсем скучным, и я предпочитаю обстановку старую этой новой.
Не говоря об артистах современных, я помню Сосницкого в роли Репетилова, Каратыгина 2-го в роли Загорецкого, Щепкина и Самарина в роли Фамусова. Это были мои молодые впечатления, и они очень ярки. С ними сравнивать некого в труппе Художественного театра. Начну с Репетилова. Это — прежде всего враль большого света, и из него вышел Хлестаков. Враль более сложный и более интересный, чем Хлестаков. Сосницкий не снимал шубу и не надевал ее несколько раз, как г. Лужский в труппе Художественного театра, не садился то на одно место, то на другое, не бросался из стороны в сторону, как все это делает г. Лужский. Спустив шубу с одного плеча и только изредка ее поправляя рукою или движением плеча, Сосницкий брал эту сцену своим талантом. Он говорил свои монологи выразительной скороговоркой, сам заслушиваясь ими, как соловей своей песнью, и давая понять, что он много выпил шампанского, которое искрилось в его монологах и в этой полупьяной скороговорке. Хлестаков врет тоже вполпьяна — это еще точки сравнения между Репетиловым и более мелким, Хлестаковым. Сцена шла быстро и увлекательно. Г. Лужский сделал ее скучною и только конец ее с Загорецким вышел несколько лучше. Великие поэтические произведения непременно требуют талантов для своего исполнения.
Г. Станиславский — актер гораздо большего размера, чем г. Лужский, но и он не дал Фамусова. Он дал несколько интересных костюмов, несколько хороших движений и хорошо сказанных фраз, но не дал этого олицетворения умного, лицемерного и фальшивого бюрократа, который жив до сих пор, хотя носит другие костюмы. Он по-своему либерален, ибо Верховную власть он обманывает и не уважает ее: это ясно из рассказов его Чацкому о Максиме Петровиче и о «Высочайшей улыбке». Перед этой властью надо лицемерить, надо льстить, кувыркаться перед ней, и она дает за это чины, ордена и всякое благополучие. Он совсем не думает, что это хорошо, но таков порядок вещей, очень полезный для карьеры. О Максиме Петровиче он говорит, что он был «смышлен», то есть умел подделаться, льстить, лицемерить, вызвать «Высочайшую улыбку» и, жертвуя своим затылком, не думать о достоинстве и власти своего государя. Фамусов весь фальшив, и с Лизой, и с Чацким, и с Скалозубом, и с Софьей. В душе своей он понимал либерализм Чацкого; для него он вовсе не был новостью, но либерализм был на худом счету и мог повредить самому Фамусову. Есть очень заметные оттенки в его речах с Чацким, с Скалозубом, с Хлестовой. У г. Станиславского этого нет. Он старается произнести некоторые фразы с эффектом, он обдумал каждый стих, каждый жест, каждый костюм, но характера он не дал. Работая над деталями, он упустил важное и даже совершил непростительные ошибки относительно характера, гоняясь за деталями и реализмом. Так, в заключительной сцене комедии он уходит вскоре после своих слов, кстати, оригинально и хорошо сказанных: «в сенат подам, министрам, государю», оставляя Чацкого, Софью и прислугу. Разве Фамусов мог это сделать во время такого скандала? Грибоедов этого не допускал. У него Фамусов остается на сцене до конца. Но г. Станиславский поправляет Грибоедова. Он находит, что Фамусову необходимо уйти куда-то с фонарем и явиться из швейцарской как раз в то время, когда Чацкий, проговорив половину своего монолога Софье, обращается к Фамусову: «А вы, сударь, отец… вы, страстные к чинам» и т. д. По-моему, со стороны Фамусова это было бы глупо, и Грибоедов это прекрасно понимал, но г. Станиславский нашел, что со стороны Грибоедова и Фамусова это глупо, а потому требует поправки. Надо было осмотреть, нет ли где бомбы и нелегальной литературы, и он пошел обыскивать. Так, что ли? Или Фамусов, по примеру короля Клавдия в «Гамлете», прячется в швейцарской, чтобы подслушать разговоры дочери с Чацким? Возможно и это, ибо Чацкий говорит Софье почти шепотом. Во всяком случае это совсем нехорошо.
Что сказать о Чацком? Мне жаль талантливого артиста, г. Качалова. По своей или по режиссерской указке он играет, не знаю. Но с самого появления на сцене он чувствует себя не в своей тарелке. Я того мнения, что Чацкий — личность героическая, романтик, байронист, большой и оригинальный ум. Замечательно, что Грибоедов назвал свою комедию сначала «Горе уму», а потом сверху написал от и у поправил на а. Горе уму, т. е. непременно большому вдохновенному уму, а не рассудку, не рассудительности, практичности, которых у него не было. Он целой головой выше всех, он увлекается, бичует, проповедует в пустыне, как пророк. В большом этюде я доказывал, что Пушкин был не прав, сказав, что Грибоедов умен, а Чацкий не умен. Нет, Чацкий вдохновенно умен, он — поэт, сатирик, он — пророк. Г. Качалов, очевидно, взял в основание слова Пушкина и старался сделать Чацкого умным. Средства для этого оказались очень дешевые, именно Чацкого надо обратить в весьма обыкновенного смертного, который говорит то боязливо, то плаксиво, то шепотом те самые монологи, которые написаны лучшей кровью поэтического дарования Грибоедова, блистательным, горячим стихом, который так и просит вдохновенного голоса и всего темперамента артиста. Ничего, что монологи пропали, что они не производят никакого впечатления на публику, но зато Чацкий умен, он знает, что в большом свете не возвышают голоса, что всякое умное и горячее слово надо так говорить, чтобы его не слыхали, чтобы оно было, так сказать, про себя. В большом свете говорят только глупости и каламбуры, соблюдая меру, а все остальное неприлично. Пушкин именно с этой стороны критиковал Чацкого, как человека, который не умеет себя вести в обществе Фамусовых, князей Петр Ильичей, Тугоуховских и т. д. Только потому он сказал, что Грибоедов умен, а Чацкий не умен, т. е. не практичен, не рассудителен, теряет слова свои даром, бросает бисер свиньям. И вот Художественный театр сделал Чацкого умным, т. е. совершенно бесцветным. И по моему мнению, Чацкий мог бы обратиться к г. Станиславскому или к г. Вл. Немировичу-Данченко, как режиссерам, с теми самыми словами, с которыми он обращается к Софье:
Вот я пожертвован кому! —жалкому, слабому человеку, неврастенику, истеричному. Какой он имеет смысл? Ведь без него нет комедии, нет ее бьющей сатиры, нет смелого и горячего героя, который заставил бы усиленно биться сердца публики. Даже первое свидание Чацкого с Софьей лишено всякого одушевления, а он сам в конце комедии характеризует это свидание как «страстное расточительство нежных слов». По-моему, в этом свидании весь Чацкий. Он приехал с радостью, с восторгом, он мечтает, что и встретят его так же. А она смущена, молчит, едва может скрыть досаду. И вот он напрягает весь свой ум, все чувство. Говорит о себе, о своем нетерпении видеть ее — не действует. Вспоминает прошлое, шутки, игры, ласки — не действует. Начинает характеризовать московское общество, с блеском и остроумием, которое должно же показать Софье, какой блестящий молодой человек перед нею — не действует и с той стороны. Но он уж не останавливается. Ее замечания только подзадоривают его. Он несется, как конь, закусив удила, и не пощадил Молчалина. И Софья злится явно, и он это замечает. Что же сделал г. Качалов? Он все это проговорил вяло, прилично, почти не возвышая голоса, не одушевляясь, как может только говорить тот «умный» человек, которого Грибоедов и не думал создавать.
Софья в лице г-жи Германовой была красива, изящна, очень мило одета, в душегрейке или пальто, отороченном мехом, очень хорошо ходила, мелкими шажками. Выразительно проводит она сцену с Чацким перед балом, сидя у колонны, когда говорит о Молчалине. Это лучшая ее сцена. Все остальное посредственно.
Гончаров мне говорил после своей превосходной статьи «Мильон терзаний», что он собирается написать статью о Софье, которую никто не понимает. Софья «Горя от ума» такое же значительное лицо в русской литературе, как и Татьяна «Евгения Онегина», по его мнению. «Они должны быть поставлены рядом», сказал он. Статьи этой он не написал, и ни одной артистке не удалось доселе осветить это лицо какими-нибудь новыми чертами. Софья в исполнении г-жи Германовой как будто намекает на черту искренности в ее характере именно в той сцене, которая у нее лучшая.
Скалозуб (г. Леонидов) не представляет ничего нового; фигура его задумана по-старому, но интересна в некоторых деталях и жестах, например, выбивание дроби рукой на столе, когда он говорит с Софьей после ее обморока. Скалозуб вовсе не глуп, и дурацкий смех исполнителя я считаю неудачным. Он и моложе. Он служит с 809 г., по его словам; действие комедии было около 821 г. В службу тогда вступали рано, лет 16–17, стало быть, Скалозубу лет 26–27, не более. Начало сцены его с Фамусовым, когда они сидят друг против друга на превосходных диванах с трубками, очень хорошо и у г. Станиславского и у г. Леонидова, потом несколько слабее.
Но зато в активе сценической постановки Художественного театра стоит — знаете, кто? — Лиза. Я видел не г-жу Лилину, которая вчера не играла, а г-жу Косминскую. Но г-жа Лилина — талантливая артистка и не могла играть хуже. Во всяком случае, г. Станиславский создал им прекрасную раму и в ней они, вероятно, обе хороши. Это — русская Лиза, крепостная горничная, ухаживающая за своей барышней, как за ребенком, вечно занятая, вечно находящая себе работу, умненькая, миловидная, хитрая, бойкая. Она не противится барину, когда он ее обнимает, но не противится с тактом крепостной; она вытирает зеркало, покрывает салфеткой столик, подает барышне пузырек с солями и платок, когда отец барышню бранит и барышня плачет, она выносит изящную юбку барышни и начинает ее штопать, она брызжет на барышню целым ртом воду, когда барышня падает в обморок, она ловко зовет Молчалина, прекрасно слушает, когда он рассказывает ей, что у него для нее «есть вещицы три», выразительно говорит о Петруше, сидя на полу и что-то вытирая. Она так выразительно поставлена, что весь первый акт вертится около нее, хотя Грибоедов меньше всего это ожидал. Лучшей и более милой Лизы я никогда не видал, хотя она, может быть, и не Лиза Грибоедова. Но мне это все равно, ибо я думаю, что «Горе от ума» не устарело и в талантливом исполнении его можно давать и в костюмах нашего века. Почему режиссерам Художественного театра удался тип Лизы? Потому что он им очень хорошо известен, тогда как другие пришлось сочинять и отгадывать, а это очень трудно, так как актер живет психологией и наблюдательностью настоящего, изучает человека по себе самому и по своим современникам. Даже внешний вид прошлого трудно передать, походку, поклоны, манеру носить костюм, жесты и т. д. При выборе костюмов прошлого надо много вкуса, чтобы не остановиться на исключительных костюмах и не впасть в оригинальничанье. Костюмы Чацкого мне кажутся изысканными. Ведь важно уловить стиль костюма, а не точную его хронологию. Женские костюмы лучше подобраны, чем мужские. На балу у Фамусова — прямо модная выставка. Замечу, что на этом балу я не видел женщин, нюхающих табак. А тогда они нюхали и табакерками щеголяли. У Пушкина есть стихотворение, обращенное к красавице, нюхающей табак. Это была княжна С. М. Горчакова, впоследствии Хвощинская, сестра нашего канцлера и товарища Пушкина по лицею. Стихотворение написано в 1814 г. Пушкин выражал желание обратиться в табак,
Рассыпаться на грудь, под шалевый платок.Если были нежные барышни, княжны, нюхавшие табак в 14 году, то все вероятия за то, что они нюхали и позднее. Конечно, на балу они не нюхали, но старухи не расставались со своими табакерками и на балах. Тогда было убеждение, что нюханье табаку сохраняет зрение.
Что, если бы Художественный театр заставил Софью нюхать табак? Я говорю это потому, что Художественный театр стремится к реализму своими деталями уж слишком усердно, а иногда и противно. Князь Тугоуховский (г. Вишневский) показывает, например, язык, ворочая им во рту, сидя перед публикою. Это очень грубо, если даже г. Вишневскому доподлинно известно, что Тугоуховский имел эту привычку. Мало ли какие привычки и потребности бывают. Пушкин был очень дружен с княгиней В. Ф. Вяземской, женой друга его и поэта, князя П. А. Вяземского. «Бывало, рассказывает современник, зайдет к ней Пушкин поболтать, посидит и жалобным голосом попросит: «Княгиня, позвольте уйти на суденышко!» и, получив разрешение, уходил к ней в спальню за ширмы» и затем возвращался и продолжал болтать. Это в большом свете даже. Но ведь такой реализм не был бы удобен на сцене. А верченье языком перед публикою г. Вишневским еще хуже этого, ибо совсем никому не нужно и только противно. А если это позволительно, то отчего и Софье не нюхать табак, когда нюхала его даже красавица княжна Горчакова…
Об этом следует подумать… в интересах реализма.
29 апреля (12 мая), №11180
DCXCVII
Позвольте мне это семисотое[30] письмо посвятить самому себе. Я когда-то сказал: «Нигде так не лгут, как на юбилеях. Я предпочел бы такие юбилеи, где юбиляру говорили бы правду и где он каялся бы во всех своих прегрешениях публично. Это, по крайней мере, было бы интересно». Вечер 30 апреля, устроенный мне, был интересен, может быть, потому, что я не каялся. Впрочем, я и не считал этот вечер юбилеем. Говорили, что это сорок лет моей критической деятельности по театру.
Но это неправда. Я пишу о театре более сорока лет, а через год будет ровно пятьдесят лет, как я в литературе. Тогда я приготовлю покаяние, если раньше этого не отправлюсь в последнюю поездку, из которой не возвращаются. Но, грешный человек, относительно покаяния меня берет раздумье: мне кажется, что только покаяния великих людей интересны и только им было бы не трудно покаяться, потому что ими так много сделано превосходного и вечного, что ничего не значит рассказать и про свои гадости, как сделал это Ж.-Ж. Руссо и в некоторой степени граф Л. Н. Толстой. Но надо ли и тут это покаяние? Ведь гадости особенно любят рассказывать о людях замечательных. Демократическая черта. В конце концов, пожалуй, и нечего каяться, ибо искренности и полноте покаяния, во-первых, не поверят, а во-вторых, прибавишь только материал для пущей ругани…
Итак, никакого юбилея не было. Просто актеры Малого театра хотели мне сделать милую любезность, а я, вместо того, чтобы отказаться от этого, как подобало бы скромному человеку, принял ее. Да «подобало» ли? Это еще вопрос, но только в зависимости от того, весел ли был праздник? Он был бесспорно весел, и я чувствовал себя прекрасно, как в родной стихии, среди людей, которые относились и ко мне, как к родному. Актерская душа и душа журналиста — родные души. Они живут ежедневными интересами, минутными успехами, рукоплесканиями того же самого общества. Газета и сцена — общественные трибуны. У журналиста нет такого непосредственного удовольствия от своего успеха, как вызовы, рукоплескания и проч.; он, кроме того, и ездит на актере, иногда жаля его и бичуя без сострадания, а иногда возбуждая общество к рукоплесканиям ему. Но и он такой же актер, как и те, которых он освистывает или которым рукоплещет; он так же прислушивается к обществу, к его порицаниям и похвалам и так же иногда льстит ему, как актер. Общество пользуется и тем и другим вволю, почитывает одного, посматривает другого, находит удовольствие, даже любит; но тем не менее надо заметить такую черту: и с тем и с другим оно еще недостаточно примирилось; в нем еще есть некоторая грубая или некоторая аристократическая вражда и к журналисту, и к актеру, вражда затаенная, где-то в особом уголке мозга, но она есть. Все еще это гистрионы, в некотором смысле рабы, рабы бунтующие более и более, требующие более и более дани с этого самого общества за свой труд, но все еще рабы. Журналист, конечно, освободился шире, чем актер, но зависимость его существует и вражда к нему, конечно, тоже. Без журналиста и актера — я в этом названии разумею все роды актерства, т. е. и оперу и балет — общество не может обойтись ни теперь, и никогда после, даже во времена какого угодно режима, хотя бы и анархического. Без этих талантов публициста, фельетониста, критика, рассказчика, без этих талантов актера, актрисы, певца и певицы, танцовщика и балерины общество лишилось бы прежде всего развлечения, интересного, забавного или вдохновенно-чудесного отдыха. Актерство и журнализм вечны и, когда земной шар станет замерзать при потухающем солнце, журналист и актер будут последними силами служить замерзающим братьям своим, будут сквозь слезы смеяться и смешить, последними нервами бодрости будут возбуждать в своих братьях бодрость и надежду, развлекать их на сцене и в газетной болтовне, и тем не менее и тогдашние властители и аристократы будут поглядывать на них косовато, как на что-то не совсем им равное, неуравновешенное и, замерзая вместе с другими, будут подписывать приказы о награде обер-полициймейстера за устроенный им порядок. Это важнее даже при замерзании.
Эту тему можно развить примерами, но, находясь в благодушном настроении, я никого не хочу обижать, и менее всего журналистов и актеров, которым, пожалуй, тоже могло бы достаться.
Сердце мое преисполнено благодарности ко всем тем, кто так или иначе принял участие в маленьком празднике, всем, кто в письмах, телеграммах или простом рукопожатии выразил мне свои симпатии. Согласитесь, что, прожив так долго, я все-таки кое-что сделал доброго и совершенно бескорыстного для своей родины. Очень возможно, что я мог бы сделать больше и лучше, и, вероятно, потому в печати меня так много и так неустанно бранили, и я не могу сказать, чтоб эта брань не приносила мне некоторой пользы. Человеку необходимо чувствовать над собой какой-нибудь контроль, иначе он быстро балуется и забывается. Но есть одна область, в которой я могу говорить о себе с несокрушимой гордостью. Это — область труда. Я неизменно исполнял ту Божью заповедь, которая говорила человеку о необходимости трудиться. Я всегда был и остаюсь доселе, несмотря на свою преклонную старость, превосходным работником, именно превосходным в своем неизменном прилежании. Я не знал праздности, и отдых в моей жизни был не правилом, а только исключением, счастливой случайностью. Вероятно, этим я в очень значительной степени обязан моим отцу и матери, которые были бедные, но здоровые, религиозно-нравственные и благородные люди. Это великое счастье иметь таких родителей.
Вы скажете, с какой стати я распространяюсь о том, что я превосходный работник. А вот с какой стати: ни хорошим журналистом, ни хорошим актером нельзя сделаться без особенного прилежания. И актеры, по самому ремеслу своему, превосходные работники, ибо это искусство, как, впрочем, всякое искусство, требует прежде всего огромного и постоянного труда. Близко стоя к театру, я очень хорошо знаю тот большой труд, который требуется от актера, и я хотел упомянуть, что в этом отношении я от него не отстал.
Повторяю: мое сердце преисполнено благодарности за те выражения симпатии, которые получил я 29 апреля, в последнее представление моего «Вопроса», от публики, наполнявшей Малый театр, и 30 апреля от всех тех, которые удостоили меня своим приветом и устроили веселый и интересный вечер. Мне приятно прежде всего поблагодарить графиню Апраксину, которой принадлежит Малый театр и которая всегда, как и ее покойный супруг, относилась ко мне с величайшим вниманием и делала все то, что способствовало наилучшему устройству ее театра. Я благодарю комитет, который взял на себя тяжелый труд устройства праздника, и всех тех артисток и артистов, которые приняли участие в спектакле в этот вечер. Я жалею о том, что сценировали мой старый рассказ «Гарибальди», и он был выслушан только благодаря бесподобной дикции Давыдова, который сохранил свой блестящий талант таким свежим и здоровым. Г. Дальский оделся для меня маркизом Позой, и хотя дело происходило в Испании, при Филиппе II, но прошло с аплодисментами. Г-жа Славина, наша оперная дива, пропела несколько романсов с тем увлекательным искусством, которое дало ей такое прекрасное положение в нашей опере. Г-жа Кшесинская, бесспорный талант, теперь редко показывающаяся на сцене, протанцевала вместе с г. Кусовым русскую и повторила ее по требованию публики. Я редко посещаю балет, но всегда с удовольствием, и г-жу Кшесинскую особенно помню в «Эсмеральде», где она трогает своей драматической игрой. Г-жа Миронова, в своей блестящей речи, сказанной с таким ораторским подъемом, что она заняла бы в Думе выдающееся место, сказала, что я любил всегда не женщин, а женщину. Это правда. Любить многих женщин — значит терять на них много той благородной силы, которая так нужна в жизни для энергии и настойчивости труда. Для Дон Жуана у меня не было никаких способностей, но женщину я так высоко ставил, что нахожу, что от нее многое зависит в здоровом развитии поколений и многое с нее спросится даже в той анархии, которую мы переживаем. Я говорю это по поводу «Эсмеральды», потому что я и в драмах и на сцене наиболее интересовался героинями и актрисами. Это, вероятно, мой прирожденный недостаток, ибо говорят, что героинь легче писать, чем героев, и актрис легче понять, чем актеров. Вероятно, поэтому мне так понравилась игра на скрипке г-жи Парло, которая из Америки приехала к нашему Ауэру, чтоб поучиться. Она извлекала из скрипки такие нежные, увлекающие звуки, какие дают только настоящие артисты, вполне сформировавшиеся, и перед ней, молодой девушкой, прекрасная карьера. Успех ее был блестящий и бурный.
Я искренне благодарю г. Архангельского и его прекрасный хор, так часто принимавший участие в пьесах нашего театра. Г. Андреев со своими балалаечниками — не правда ли, какая это прелесть. Этот человек создал особый, исключительно русский инструмент и заслуженно пользуется своей прекрасной известностью, которая далась ему после упорного труда. Раз я видел, как он плясал русскую. Теперь он не пляшет, но смело скажу, что он мог бы с успехом конкурировать с хохлами. Мой сердечный привет хохлам и хохлушкам за их пение и пляски и за их душевные и искренние приветствия в театральном фойе. Они отлично говорят по-русски, лучше петербуржцев, и мне продолжает казаться, что наша артистическая сила в соединении с хохлами, а не в разъединении, даже в языке. Я помню, что «Москаля-чаривника» и «Наталку-полтавку» играли на императорских и провинциальных театрах русские актеры. Произношение было, конечно, не совершенное, но это указывало на великорусскую симпатию и сближало, а язык упомянутых пьес был ближе к русскому, чем тот, который вырабатывается хохлами теперь с явной целью разделения двух великих отраслей русского племени.
Савина, просто Савина, а не М.Г., не г-жа, выписала из Одессы г. Сладкопевцева специально для этого праздника. Это — маленький человек, но большой рассказчик. Он морил со смеху своими рассказами, в которых, при отсутствии шаржа, было столько юмору, столько выразительности, что ему можно предсказать артистическую карьеру. Он — помощник присяжного поверенного, но я думаю, что для этого у него мало серьезности и апломба. Он — артист, оригинальный, с художественным чутьем и литературным талантом.
Прошу простить, если кого я забыл. Мне одинаково милы все те, которые «славили» меня или развлекали моих гостей. Меня глубоко трогали приветствия театральных рабочих и рабочих моей типографии, которые прочли такой оригинальный, такой задушевный адрес.
А Шервуд, талантливый скульптор Шервуд? Да ведь он сделал что-то невероятное, вылепив из глины и отлив в гипсе мою огромную статую в несколько дней по моей фотографической карточке. Это был сюрприз, устроенный для меня любезною мне труппою Малого театра. Я открыл этот сюрприз случайно и с час позировал всего один раз. Скульптура у нас не в авантаже. Любят еще бюсты. Но фигура выше человеческого роста — это редкость. Я ли это или не я, — все равно. Может быть, это — фантазия таланта, но тем лучше. Я хотел бы, чтобы эта статуя и осталась, как художественная фантазия, для которой я служил, как простой натурщик.
В заключение… Но заключение было на ужине в болтовне, в разговорах, в шутках с артистами и в особенности с артистками и, разумеется, с шампанским. Солнце давно взошло, а оживление продолжалось…
А я ведь пропустил сцену из «Татьяны Репиной» из первого действия, между актрисой (Савина) и журналистом (г. Новицкий). Разве это возможно? Но я не забыл.
Я смотрю на Савину как бы вне всякой труппы, вне времени. Она стала как бы отвлечением от существующего, символом актрисы, вечной феей театра. И она явилась на подмостках Малого театра веселою, жизнерадостною, с своей чарующей улыбкой, быстрыми изменениями лица, сверкающими глазами и теми очаровательными интонациями, которые отвечают всякому настроению и чувству. У таланта душа необыкновенная, она тройная, четверная, удесятеренная, а потому она живет, несмотря на годы, и загорается, светит и блестит, как только коснется прошлых своих созданий. Было молодое время, когда эту очаровательную фею я очень огорчал своей придирчивой критикой. На 25-летнем юбилее ее Далматов, блистательный артист, под влиянием вдовы Клико, в которую он влюблялся, в застольной речи напомнил об этом. Савина быстро вскочила с места, подбежала ко мне и шепнула:
— Может, потому я и стала такой артисткой, что вы меня ругали.
Конечно, это случилось не потому, а по Божьему повелению, по божественному дару, но части правды в ее словах отчего и не быть? Критика нужна, даже задорная и злая не мешает, но лишь бы она была согрета искренним чувством и чужда вражды.
Я очень обязан успехом «Татьяны Репиной» Савиной и другой фее театра, Ермоловой, которая меня вспомнила 30 апреля, как и артисты и артистки московской и петербургских императорских сцен, и артисты народного театра, и провинциальные. Мой глубокий поклон им за память, как и всем иностранцам, англичанам, немцам и французам, певцам Баттистини и Маркони и великолепному старцу-артисту Сальвини, с которым я провел много художественных вечеров на сцене Малого театра, любуясь не только его игрою, но и его репетициями, и Эрмето Цаккони, в полном мужестве своего таланта украшающему итальянскую сцену: два года назад, в Риме, я видел его в «Demi Mondes» и наслаждался той художественной простотой его исполнения, которая усвоена и лучшими русскими артистами.
И Саре Бернар глубокий поклон. Оцените вы этих республиканцев, которые вот уже сколько времени не решаются дать ей орден Почетного Легиона. А она заслужила его больше множества мужчин, которым его дали просто за то, что они не женского пола. Талантливые люди не имеют пола, т. е. они имеют его для собственного удовольствия, как и все люди, но талант дается для того, чтобы он служил всемирному искусству, сближал народы и способствовал общему счастью, которое без талантов и искусства немыслимо.
3(16) мая, №11184
DCXCVIII
Бедный русский министр! Бедный г. Кауфман! Независимый ставленник государя, он ходатайствует перед Г. думой «о желательности и даже необходимости скорейшего рассмотрения целого ряда проектов». Он ходатайствует и перед комиссией, куда эти проекты перейдут. Бедный ходатай! Он, впрочем, старается быть красноречивым и даже отправляется в древнюю Грецию, к «отцу педагогии», Платону, который уверял, что человек от природы кроток, но что только благодаря воспитанию он становится «лучшим из тварей». Хотя я твердо убежден в том, что министр народного просвещения «кроток от природы» и что эта кротость еще возвышена воспитанием, но все-таки мне кажется, что он мог бы предлагать Г. думе и комиссии, а не ходатайствовать. Предлагать или просить. «Прошу вас садиться», «прошу вас помочь» — эта вежливая форма употребляется всеми, и властными к безвластным, и безвластными к властным. Это — культурная форма. Но ходатайствовать — это невозможная форма в данном случае. Ведь министр народного просвещения действует от имени государя, о чем и упоминает в своей речи, а государь не может ходатайствовать перед Думою и посылать туда министров ходатайствовать. Прошу извинить некоторую смелость скромному журналисту, но я бы советовал г. Кауфману, будучи кротким и воспитанным, что ничему не мешает, все-таки помнить, что он представляет собою не униженного просителя и не канцелярскую крысу, дрожащую перед начальством, а одного из членов высшего правительства, назначаемого Главою Государства. Я бы советовал ему взять урок независимости у г. Бриана, министра народного просвещения во Французской республике, ответственного перед Палатою депутатов, и поучиться у него тем твердым приемам, с какими он объясняется перед представителями своей страны. Ведь — не правда ли? — совсем не надо быть социалистом, как Бриан, чтобы соединять в лице министра ум, достоинство и твердость.
Наши министры, очевидно, еще неопытны и конфузятся в этой не великосветской гостиной, которая называется Г. думою и не знают, как себя вести, опасаясь грубых окриков левых и не надеясь на защиту г. Головина, характер которого, кажется, соединяет черты Манилова относительно евреев и левых, и черты Держиморды относительно правых.
Надо сказать, однако, что и некоторые из правых не уступают в грубой энергии г. Головину. Но ведь председатель — не депутат, и что депутату извинительно иногда, то председателю отнюдь нет. От председателя очень многое зависит. Он может направить Думу на доброе и на злое, может сделать ее беспутно-говорливой, крикливой, дурацкой и может сделать более или менее разумной, воздержной и работающей. Ведь 500 депутатов — это толпа, а с толпою надо уметь обращаться, знать ее психологию. При демократическом составе Думы, при неравенстве образования, воспитания и развития, думская толпа напоминает уличную толпу. Она может быстро менять настроения, увлекаться, браниться, бесноваться и доходить до чертиков, если председатель человек ничтожный, которого никто не уважает.
Я много раз был во французской Палате депутатов, но в Г. думу как-то не удается попасть, — столько нужно для этого хлопот и просьб. Я присутствовал во французской Палате при очень бурных заседаниях, например, в том заседании, где Клемансо был истерзан речами депутатов, бранью и потрясанием кулаков. Очень нередко депутаты вскакивают с мест, кричат, бранятся, угрожают друг другу и, как известно, даже дерутся, и надевают кастрюлю на голову министра. Вместе с Чеховым мы были в Палате в тот день, когда обсуждался вопрос о стрельбе в рабочих-угольщиков по приказанию префекта или помощника его, Израэля, если не ошибаюсь в имени. Заседание было тоже бурное и крикливое, и один из ораторов, очень молодой человек, защищавший рабочих и очень резко бранивший правительство, был удален из Палаты на несколько дней. Молодой человек пошел на место, собрал свой портфель и вышел под смешки депутатов.
Я считаю бурность и даже скандальность некоторых заседаний делом неизбежным и не могу себе представить Палату в виде спокойно рассуждающих или сонных людей при гробовой тишине, нарушаемой только голосом оратора.
Когда вопрос или речи задевают за живое, невозможно молчать и сидеть, как статуя; если даже набрать себе в рот воды, то и тогда не выдержишь и брызнешь ею. Поэтому крики с места, замечания, смех, «браво», рукоплескания — дело обычное. Невозможно говорить только с кафедры. Это значит дать председателю такую власть, что он может, по желанию, обратить Думу в такое собрание, где будут проповедывать без конца революцию или контрреволюцию. Это значит, например, дать г. Головину, при помощи кадет, у которых он состоит на службе, обратить в ничто всякую немногочисленную партию и даже выгнать ее совсем из Думы. Это значит дать ему право террора над Думой и обратить ее в Бабу-Ягу или в Конвент при помощи господствующей партии. Официозная «Россия» говорит сегодня по поводу изгнанных депутатов: «Нельзя таким простым и легким способом отделываться от своих политических противников. Иначе все возможно». Разумеется, все возможно и притом именно простым и легким способом: для способов недаром существует партийная «тактика», т. е. некоторый тайный заговор. У Головина достаточно лукавства, если нет ума, и лукавство это он выказал наглядно в своих официальных поездках до случая с депутатом Зурабовым, во время его, в Думе и вне Думы, и после него, когда министры наши были так довольны его извинениями, хотя, по моему мнению, тут радоваться вовсе было нечему, а гордиться и подавно. Выиграли совсем не министры, а г. Головин и его партия. Это слепому ясно, и министры сыграли ему в руку своим недальновидным благодушием.
История изгнания трех депутатов вышла из-за грошовой свечки, как большая часть таких историй. Нельзя говорить с места, нельзя отдельными замечаниями прерывать депутата. Это может делать только председатель да его политические друзья. Но если допускать такой абсурд, то прежде всего должно уничтожить рукоплескания и другие слова одобрения, потому что, если рукоплескания дозволительны, то и свист дозволителен; если дозволительны слова одобрения, то дозволительны и слова порицания и неудовольствия; если довольная часть Думы рукоплещет, то другая, недовольная, имеет право свистать или шикать.
Надеюсь, это правильно. В старое время, которое я очень помню, дирекция императорских театров не позволяла шикать, но рукоплескать позволяла. Шикающих полиция выводила, а рукоплескающих приветствовала. Очевидно, г. Головин хочет в Г. думе завести такие же порядки. При своем обширном уме, который он ничем не обнаружил, он, очевидно, считает это возможным. Присутствуя во французской Палате, когда председателями были Перье, Дешанель и Дюпюи, я наблюдал, как они умели справляться с беспорядками. Звонят, звонят, а шум и крик продолжаются. Но вот большею частию депутаты сами угомоняются, шум переходит в кружковую перебранку, потом в перебранку отдельных лиц и наступает тишина — тем скорее, что спокойные элементы Палаты употребляют свои усилия для восстановления порядка. Я думаю, что это правильно, ибо невозможно во время взрыва страстей разобраться, кто виноват, кто прав; кто виноват более, кто менее. Тут только Господь Бог может разобраться, а отнюдь не председатель. Поэтому он и поступает разумно, выжидая, насколько можно, чтобы шум прекратился, или прерывает заседание. Председатели, кроме того, избегают резких приговоров по своему убеждению, а ожидают протеста самой Палаты, когда она начинает требовать «la censure». Я отлично понимаю, что дисциплина необходима, но она достигается не таким бестактным поведением, какое много раз уже обнаруживал г. Головин. Г. Пиленко много раз указывал на промахи председателя, очевидно, мало знакомого с парламентскими обычаями. Но этому можно научиться. Сделаться же хорошим, беспристрастным председателем, угадывать и чувствовать везде меру, заслужить общее уважение и, следовательно, авторитет — это гораздо труднее.
Случай с г. Пуришкевичем, хотя и отдаленно, напоминает случай с известным публицистом и атеистом Брэдло. Избранный в парламент, он тоже не хотел оставлять парламента, хотя и не по такому побуждению, как г. Пуришкевич. Это было в 1880 и 1881 гг. Брэдло был атеистом и отказался принять депутатскую присягу, где упоминалось о Боге, а предлагал дать торжественное обещание; когда комиссия разобрала это и нашла эту замену невозможной, Брэдло согласился принять присягу; опять отдали новой комиссии разобрать это; новая нашла, что атеисту нельзя дозволить произносить присягу. Брэдло отказался уйти из парламента, его взяли под стражу и продержали один день под арестом. Дело о присяге перешло в суд; суд согласился с комиссией. Брэдло опять отказался уйти из парламента, настаивая на своем праве произнести присягу, хотя и не веруя в Бога. Тогда служители, при огромном скандале, вынесли его из парламента на руках. Брэдло получил большую европейскую популярность за свою настойчивость. В следующую сессию, в 1886 г., его снова избрали в депутаты, и произнесение присяги ему было позволено. Он победил, но затем значительно поправел под влиянием парламентской деятельности. Так как г. Пуришкевич очень правый, то популярность он едва ли получит, но говорить будут и в Думе, и у министров, и в обществе…
Если взять начало о «кротости» г. Кауфмана и конец о воинственности г. Головина, гг. Пуришкевича, Келеповского и Сазоновича и если всю кричавшую и бесновавшуюся Думу причислить к воинам, что совершенно справедливо, то можно сделать такое заключение: «Блаженни кротции, яко тии населят землю».
Но это едва ли может относиться к министрам вообще и к г. Кауфману в особенности. Он должен пожалеть о своем ходатайстве, ибо вышло так, что оно сделалось причиной большого скандала. Но этот скандал сделал заседание интересным. Итак, нет худа без добра. Мне даже кажется, что случай этот имеет даже некоторое провиденциальное значение. Г. Пуришкевич произвел в некотором роде бунт или такой беспорядок, который «мешает правильной работе Думы», как выразился г. Головин, не только порицал его, но и наказал. Революция производит постоянные бунты и беспорядки, «мешающие правильной работе мирных жителей», которые ждут, что Дума заклеймит убийства, экспроприации и «иллюминации» усадеб если не проклятьем, то порицанием. Так вот это порицание и наказание г. Пуришкевича есть хороший прецедент для порицания террористических убийств и бунтов, которые когда-нибудь будут разбираться в думе. Крайние дали понять, что они не согласны удалять г. Пуришкевича, и никому поэтому не придет в голову ожидать от них, чтобы они стали порицать террористические убийства и прочие беспорядки. Но большинство, удалившее г. Пуришкевича, очевидно, выскажется и за порицание тех, которые мешают правильной жизни. И потому нет, кажется, сомнения, что г. Пуришкевич и г. Головин устроили благожелательный прецедент, а потому слава Богу, слава вам, Туртукай взят… или будет взят, т. е. порицание состоится. Туртукай — крепость не важная, но все-таки взять ее надо.
6 (19) мая, №11187
DCXCIX
Какая это почтенная и какая бесплодная партия октябристов. Какие это солидные и почтенные люди гг. октябристы, и как они глубоко несчастливы, что не могут понять причин своего бессилия. Если бы я не был журналистом, но питал бы страстное стремление к политической деятельности и чувствовал бы в себе талант к ней, я не пошел бы в партию 17-го октября, несмотря на мою глубокую и искреннюю симпатию ко многим членам этой партии. На выборах я подавал свой голос за октябристов, как за людей безусловно честных и почтенных, хотя знал наперед, что в Петербурге октябристы не могут пройти. Я подавал за них свой голос, как за русских людей, которые будут отстаивать русское конституционное дело против партий, которые берут слишком широкую программу, как кадеты, или слишком узко-социалистическую, как партии, убежавшие от голосования 7 мая по поводу выражения негодования к ненавистному мне заговору и убийству. Признавая независимость мнений, я не могу без вражды относиться к тем попам, которые 7 мая публично продавали Христа, которого они обязаны защищать. Нося крест на своей груди, они не желают на нем распяться за учение Сына Человеческого, а желают распять других, если выражают своим бегством от голосования сочувствие заговорщикам против жизни государя, за которого они обязаны самим саном своим молиться. Сними эту рясу, этот крест со своей груди, и тогда делай, что хочешь, будь социал-демократом или хоть самим чертом, если тебя выбрали в Г. думу. Но пока ты не только депутат, но и поп, ты не имеешь никакого права освящать мечи на убийство; ты не имеешь никакого права скрываться в подполье, когда тебя спрашивают: осуждаешь ты убийства или нет? Осуждаешь ты намерение убить или нет? Такие попы бывали у Пугачева, такие попы участвовали в грабежах помещичьих усадеб…
Извиняюсь за это отступление, которое вырвалось невольно. Октябристы называют кадетов иезуитами, они отрекаются от них, считают их комедиантами и даже хуже. Их тактику они считают чуть ли не самою предательскою, или, по крайней мере, самою лицемерною. Но то, что я сегодня слушал на заседании октябристского съезда, приводило меня в полнейшее недоумение относительно ответа на вопрос, что такое октябрист?
Разговор шел о политической программе октябристов. Обсуждались 9, 10 и 11 параграфы этой программы. В двух словах параграфы эти заключались в том, что министры должны быть ответственны перед государем императором и народным представительством; народное представительство имеет право выразить им всем вместе и каждому отдельно свое недоверие и предать их тому суду, который обязан разбирать дела подобного рода. Государь не имеет права амнистировать министров. Последнее, впрочем, отвергнуто голосованием, т. е. государь должен сохранять это право амнистии. Говорили за и против этих параграфов. В конце концов, эти параграфы приняты значительным большинством.
По-видимому, это что-то новое и приятное. Большинству съезда, очевидно, так это показалось. Но мне думается, что это нечто иное, как усерднейшее искание середины в середине, искание исключительно для того, чтобы не походить на кадетов и указать якобы на истинный смысл манифеста 17-го октября. Возражатели против этих параграфов говорили, что это «парламентаризм», тот парламентаризм, непринятием которого так счастливо отличаются октябристы от кадетов. Стоятели и редакторы этой программы говорили:
— Помилуйте, господа, это вовсе не тот жупел, который называют парламентаризмом. Парламентаризм значит вот что: Милюков и Гессен выбирают министров из большинства Думы и управляют без государя; они сейчас же согласились бы с нами, если бы мы поставили: «министры ответственны перед народным представительством» и вычеркнули бы из своей программы фразу «перед государем императором». А мы стоим на этой фразе. Не Милюков и Гессен выбирают министров, а государь из кого ему угодно, но они ответственны и перед государем и перед народным представительством. Допускаем, что парламентаризм есть совершеннейшая форма; но мы для нее еще не созрели; она когда-нибудь несомненно будет, но теперь она совершенно неудобна.
Передаю ораторов в самой сжатой форме, но за смысл речей отвечаю и даже за Милюкова и Гессена, которые были упомянуты именно так, как я написал.
Я думаю, что это есть важнейшее и зловреднейшее недоразумение гг. октябристов, ибо это значит искать в сущности точку в середине. В политике нет точек («черные точки» на горизонте находил Наполеон III), а есть площади, платформы. Я принял бы площадь той конституции, где государь избирает министров из какой ему угодно среды, и министры ответственны перед ним и тем самым и перед Думою, которая имеет право делать министрам запросы и ставит их перед общественным мнением, т. е. перед народом, к ответу. Государь судит, кто прав и кто виноват, и оставляет министра или увольняет его. Государь может ошибаться и брать на себя слишком большую ответственность. Чтобы снять эту ответственность с государя, существует парламентаризм, выражаемый фразою: «государь царствует, но не управляет». Управляют министры с Думою (якобы с Думою). Наделали министры вздора или не понравились Думе, она их увольняет голосованием недоверия. Составляется новое министерство. Министров предают суду чрезвычайно редко, уж разве учинит какое-нибудь слишком наглое воровство. Но и депутаты берут взятки и даже большие — я это говорю о Европе. Нередко рука руку моет, но ведь совершенства нигде нет.
Я предпочитаю парламентаризм выдумке октябристов, если надо выбирать одно из двух, и вот почему.
Октябристы выбрали нечто такое, что постоянно будет сеять непримиримую вражду между Г. думою и государем. С государя ответственность не слагается, как она слагается при парламентаризме, но он несет ее вдвойне, и за то, что выбрал негодных министров, и за то, что они наделали. Государь постоянно еще должен думать о том, как бы не рассориться с Думою, как бы ей угодить, какова бы эта Дума ни была, какое бы ни было ее большинство, хотя бы социал-демократическое или ретроградное. Государь становится зависимейшим человеком, самою жалкою фигурою, даже без того царственного обаяния, которое остается ему при парламентаризме, где он не отвечает за своих министров. Всякой Думе ничего не стоит поднять агитацию против министра, который ей не угоден. Это мы знаем по своей Думе. Во всякой европейской парламентарной думе партии с особенным увлечением берутся за запросы, чтобы свергнуть министерство; министерские места — это цель стремлений и постоянная язва; партии вечно борются за власть. Что же будет при октябристской программе? Какую роль будет играть государь во всей этой сложной сутолоке, сколько случаев уронить окончательно монархическую власть и повергнуть ее в кипень политических страстей, думских обвинений, судебных разбирательств, интриг, кляуз, прямых и косвенных нападений. Какой злой дух подсказал эту нелепую программу, которая вреднее всякой кадетской. Достаточно иметь малую долю воображения, чтобы ярко себе представить, кто больше всех проиграет в этой политической игре. Я уж не говорю про положение министров. Какой независимый человек возьмет на себя бремя этой двойной ответственности? Спросили бы октябристы П. А. Столыпина, считает ли он возможным эту двойственную роль? Это прямой человек, твердо стоящий за государя и за его реформу. Конечно, не согласится потому, что роль министра в этом положении не только двойственная, но лукавая, интригантская, иезуитская, как раз под стать роли кадетов, как ее изображают октябристы. Он принужден будет служить вашим и нашим, лгать, притворяться, лицемерить, примирять непримиримое, путаться и хитрить. Недостойнее такой роли трудно себе представить. При парламентаризме положение государя во сто раз лучше; при октябристской выдумке анархия может только усилиться и погрузить страну прямо в бездну зол.
Нечего сказать, умные люди состряпали эту программу. Но так и должно быть в партии, которая гонится за кадетами и старается их перещеголять. У них ответственность министров перед Думою только, а у нас будет перед Думою и государем. Вот какие мы. У нас всем сестрам по серьгам. Один восторг!
Какая же это партия? Это скука, а не партия.
10(23) мая, №11191
DCC
Сгущается или разряжается электричество? Собирается ли гроза с громом, молнией и бурей, или это просто осенние темные тучи, после бурной весны и жаркого лета нашей революции? Г. Демчинский иногда угадывает погоду. Политическая погода зависит от стольких сложных причин, что угадать ее мудрено. Но выясняются взгляды правительства. Оно, кажется, решается продолжать работу с этой Думой, и все толки о «разгоне» Думы — это деликатное слово пущено в оборот левыми партиями — являются, по крайней мере, преждевременными. Поступить более резко и неприлично, как возблистать своим отсутствием при голосовании порицания заговора о цареубийстве, — едва ли возможно. И в самой Думе думали, что это не пройдет ей даром. Говорили, что министр юстиции потребует от Думы или станет «ходатайствовать» перед нею об аресте двух или трех десятков ее членов, будто бы замешанных в упомянутом заговоре более или менее близко. В связи с этим говорилось, что существует намерение изменить закон о выборах, так как опыт дважды показал, что система выборов, сочиненная при г. Булыгине, скромной памяти, и дополненная при графе Витте, шумной памяти, не может дать разумного представительства страны. Об этом говорили еще после роспуска первой Думы, но считали это некоторым coup d'état. Государь даровал новый порядок, государь и имеет право его видоизменить, говорили одни совершенно правильно. Другие утверждали, что изменять или сочинять новую систему выборов может только Дума, тем более, что в основные законы попала статья, специально упоминающая о том, что система выборов не может быть изменена. Статья, говорят, попала случайно и непредвиденно, и это возможно, ибо случайность и непредвиденность в жизни, в нашей в особенности, играют большую роль. Одно забыли, другое пропустили, третье проморгали, четвертое проспали, пятое пропировали, и думали, что это ничего, но оказалось, что это очень важно. Как скоро coup d'état сорвалось с языка и стало ходить по государственным людям в виде черного таракана, стали придумывать, как бы поступить возможно менее «кудетатисто». Осмеливаюсь пробовать ввести это слово в русский язык. Оно довольно звучно и напоминает слово «раскатисто», и вполне гармонирует с комедийным словарем нового режима и освободительно-революционного принижения Русской империи. В этом русском написании оно, кроме того, получает совсем невинный вид, как все эти слова: кадеты, эс-эры, эс-деки, эн-деки и т. д. Только «монархисты», «октябристы» и «трудовики» называются открыто, все остальные партии называются по буквам совершенно невинным. Является как бы новое масонство и принимается всеми с удовольствием. Говорят, что масонство и действительно участвует в наших невзгодах незримо, но сильно. Будущее разберет все то, что теперь не ясно или загадочно.
«Принижение Русской империи» сорвалось у меня случайно, но оно несомненно важнее всякого coup d’état, так сказать, кудетатисто в высочайшей степени. О возвышении ее только и может быть речь. Русская земля криком кричит, и все то, что может ее успокоить и направить на путь постепенного, но беспрерывного прогресса, и должно быть предпринято прямо и просто, без всякой боязни. Нам грозят из Франции, что России денег не дадут, что наши финансы чуть ли не вполне зависят от г. Клемансо и его министра финансов. Грозят из Англии ее радикалы и наши революционеры в то время, когда наш министр г. Извольский ведет переговоры о союзе с английским кабинетом, в котором очень деятельное участие принимает сам король Эдуард VII. Удивительная страна. Во время французской революции ее правительство пакостило Франции так, что Конвент в торжественном декрете изобличал его перед «человечеством и перед английским народом» в предательстве, лживости и жестокости, направленных против Франции. Нам она пакостила в крымскую кампанию, в турецкую и японскую. Все усилия ее правительства были направлены к тому, чтобы наделать России как можно больше мерзостей и как можно более ее унизить. Когда она этого достигла, начались союзные сближения единственно потому, что ей самой грозит Германия. В Лондоне спят и видят, как бы поставить Россию во враждебные отношения к Германии и под рукою пугают и оружием, покупаемым для русской революции, и конгрессами русских революционеров, и множеством других средств. Внутри угрожают революционные партии и инородцы, сомкнутым кольцом действующие на западе, юге и востоке; в Думе гремит картавое революционное красноречие, тщательно выправляемое для печати, и даже попы вместо «во имя Отца, и Сына и Св. Духа» стали благословлять «во имя революции и дочери ее, конституции, и святого Эс-дека», когда г. Головин подходит к ним под благословение. Впрочем, он под благословение не подходит. Два дня назад я сказал, что они должны снять рясу и потом могут быть чем хотят, хотя чертями. Не думаю, что они могут сделаться чертями, хотя и любят ладан, о котором говорят, что будто черт его не любит. Насчет черта я, впрочем, мало осведомлен и не верю любезнейшему А. А. Столыпину, который вчера, отвечая мне, сказал, что «черт крепко боится русского богатыря», не верю ни тому, что Александр Аркадьевич вполне осведомлен насчет черта, ни тому, что черт крепко боится русского богатыря. Умалчиваю о том, что дело шло об октябристах, а не о русских богатырях, остающихся теперь, кажется, только в хрестоматиях и сборниках песен. Между октябристами, если не считать г. Капустина, одного из корректнейших членов Думы, даже в Думе были только молчальники. Может быть, они-то и есть богатыри вроде Ильи Муромца, если Думу считать тою печью, на которой сидел этот богатырь. Давай Бог, но мне думается, что октябристы более всего напоминают собою Манилова, который мечтал о «благополучии дружеской жизни под одною кровлею» с кадетом, если смею так выразиться, Павлом Ивановичем Чичиковым, и о том, как, узнав об их тесной дружбе, «самое высшее начальство» пожалует их министрами. Маниловщина так и прет из октябристов. Сам граф Витте, в некотором роде автор 17 октября, по характеру совсем не Манилов, мечтал, как Манилов, о благополучии России и о дружбе с кадетами. История идет мимо Маниловых, и общество им не верит даже в том случае, когда они мечтают об ответственности министров перед двумя господами и готовы лишить государя права амнистии министров. Чего кажется радикальнее, но это — маниловский радикализм, это — тот маниловский дом «с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву». Мечтать о глупостях и несообразностях вовсе не значит совершать подвиги «великой любви». Не сметь ни одного вопроса русской жизни поставить ребром, ярко и привлекательно, без противной ужимки, завернуться в какое-то одеяло из кусочков ситца и шелка, какие любили в купеческих и мещанских семьях, и полагать, что это одеяло из драгоценной и прочной материи, значит проповедывать авось и рассчитывать на московских святителей Петра, Алексея и проч., да на Андрея Первозванного и Николая Угодника. Кстати, я никогда не слыхал, что эти святые — насмешники, как уверяет тот же защитник октябристов. Однажды малолетняя девочка спросила меня: «Смеялся ли Христос?» Вероятно, смеялся, но Евангелие говорит только, что он учил, учение его отличалось возвышенностью, проклятья, которые он произносил, — необычайной выразительностью сильной души, страдания — великой скорбью и великим поучением. Только сила духа действует, а в революционное время цена насмешки очень мала. Только тот смех действует, который заставляет дрожать преступление и порок, но я думаю, что московские святители обладали совсем другими дарами, за которые их признали святыми.
Мне думается, что у нас теперь довольно законных свобод, но мало русских людей, даровитых, деятельных, убежденных в своем русском сознании и в своем праве работать во имя его. Если я угодил левым и кадетам, высказав свое мнение об октябристах, я этим не смущаюсь, ибо хочу только добра этой партии, по-моему, все еще доселе вялой, непроизводительной и принявшейся сочинять новую программу, которая ни Богу свечка, ни черту кочерга. Самое название партии курьезно и ничего не выражает, кроме даты, и ничего не будет выражать, кроме октябрьской пороши, когда помещики охотились на зайцев.
О чем-то я хотел сказать важном. О чем, бишь?
13(26) мая, №11194
DCCI
На председательском месте сидит г. Головин, похожий на мумию Рамзеса I. Издали не видать его усов, и потому сходство разительное — у Рамзеса усов не было. Мумия сидит, как надлежит мумии, неподвижно. Ужасно скучно. Рамзес I считает минуты; когда прибежит время, данное оратору, к 10 мин., он подает один звонок, единственный, — «динь». Оратор торопится досказать свои великолепные мысли и, может быть, еще более великолепные остаются в его голове, ибо предательский «динь» их прекращает. Иногда он выражает сожаление, что попал в десятиминутные ораторы, иногда произносит совсем бессвязную фразу, которую великодушные стенографистки поправят, а иногда и просто сходит с кафедры. Надо много денег давать председателю, чтоб четыре часа, не сходя с места, сидеть и стараться показываться бодрым. Если б еще можно было читать председателю «Рокамболя» или Поль де Кока, — а без этого — мука.
Депутаты ходят, разговаривают друг с другом, выходят в буфет или в кулуары, зала наполовину пуста, и в ней как бы жужжание огромного роя летних мух, которые, как известно, составляют одно из ярких доказательств нашей культурности. Ораторы редко отличаются звучным голосом и это, может быть, к счастью, ибо в противном случае речи их сильно проигрывали бы, надоедая слуху сильным звуком, ничего не выражающим. Теперь же скромное или ничтожное их содержание находит и соответствующий голос и смешивается с жужжанием мух.
В театре гораздо лучше. Там публика невольно слушает пьесу, какая бы она ни была. Если б зрители позволили себе такое неуважение к актерам, какое явно показывают депутаты друг к другу, то их бы большинство залы заставило сидеть смирно и молчать. Даже кашель зрителя вызывает шипенье, а если кто выходит из партера, на него устремляются прямо враждебные взоры. Это жуткое чувство я сам испытывал в былые годы, когда, будучи не в состоянии слушать скучную пьесу, уходил среди действия. Хорошо ли это неуважение к парламенту, эта свобода депутатов делать что им угодно, проходить в буфет, переходить со своего места к месту своего знакомого, говорить и производить в зале мушиное жужжание? Мне кажется, что это нехорошо. Речи как будто говорятся только для печати, для самого себя, а вовсе не для благородного собрания законодателей. Но кажется, что так везде, и это «так» кладет печать какой-то пошлости на эти заседания, какой-то канцелярской распущенности. Не достает только, чтоб пристава разносили пиво и коньяк. Когда-нибудь кафешантан ворвется в парламентские заседания, и это, может быть, к лучшему, ибо тогда заседания будут полнее и оживленнее.
Слушая ораторов — какие это ораторы? — я думал: какая страшная по своей огромности и ответственности задача возложена на Г. думу. Можно ли ее исполнить? Ведь это полное переустройство русской жизни, слагавшейся целые века. Если правительство видело, что реформы необходимы, если оно в несколько месяцев внесло в Г. думу несколько сот законопроектов, то почему оно само не ввело всего этого и потом собрало бы Думу? Дума вступила бы в свои права на новой почве и могла бы совершенствовать законодательство постепенно, не торопясь, хладнокровно, вдумчиво. К прошлому нечего было бы возвращаться, и значительная часть злобы на прошлое исчезла бы, и не было бы этих бестолковых и злобных речей и этого стояния на ножах как правительства, так и представительства. Может быть, это мечтание пустое, может быть, вводить реформы Учредительным собранием лучше? Но если так это, то нужно Учредительное собрание, такую Думу, которая была бы всевластна, и г. Головин был бы настоящим Рамзесом I, а не мумией его. Если представительство может реформировать страну, то оно должно быть превосходным, должно заключать в себе первостепенные таланты, первостепенных техников по всем знаниями и отраслям жизни, и такому представительству должна быть отдана полная власть писать законы. Почему случайный сбор депутатов, избранных по какой бы то ни было системе, способен сделать то, что необходимо и разумно, что действительно отвечает нуждам страны? Конечно, и бюрократия тоже не отвечает этому идеалу, и единственное средство ввести ее в необходимую колею — это заставить отвечать за каждый свой промах. Но в таком случае парламентаризм — только некоторое соглашение, компромисс, некоторая комедия, разыгрываемая известною труппою актеров, которые, при всем желании своем, могут дать только то, что имеют.
Что это за Дума? В своем роде она превосходна и даже представляет собою часть страны. Она превосходна в том отношении, что в большинстве своем социалистична. Кто теперь не социалист? Разве кадеты — не социалисты, черносотенники — не социалисты? Я беру избранные души. Вся литература, все искусство проникнуты социализмом. Богатые люди очень склонны к социализму, ибо хорошо знают, что это выдвигает их независимость и ни к чему не обязывает. Есть бельгийская принцесса-социалистка. Ротшильд, конечно, не боится социализма, потому, что под его знаменем можно жить очень долго, накапливая капиталы и пользуясь своим богатством самым широким образом. Дума в большинстве своем интернациональна, а интернационализм есть высшее проявление патриотизма, это — всечеловечность, братство.
Еще в прошлой Думе патриотизм был грубо обруган г. Петрункевичем. Он мог бы, конечно, анализировать это понятие, начиная с его основ и кончая постепенным развитием его, в котором можно отметить несколько периодов. Но бранное слово понятнее, и оно отвечает большинству. Есть патриотизм местный, польский, хохлацкий, армянский, грузинский, татарский и т. д., но общего русского понятия нет, как русской индивидуальности. Она дробится и пропадает в дробях. И большинство Думы не найдет себе отпора в этих дробях. Будучи социалистическою и интернациональною, Дума отвечает самым передовым стремлениям европейской мысли. Конечно, она сама ничего бы не создала и ничем не показала, что может создать, но она является представительницею именно этих передовых стремлений в Русской империи. В 60-х годах была обличительная литература, теперь обличительная Г. дума.
Стоя на высоте своих принципов, она только обличает и только способна обличать. Создать социалистическое государство невозможно, но обличать государство есть полная возможность. Кто не ругается теперь буржуазией, дворянством? Век борьбы уже есть против этого, и критика доступна даже гимназистам. Всякая брошюра, мало-мальски грамотно написанная, даст содержание целой речи и вызовет горячие рукоплескания. В таких двух словах, как Земля и Воля, заключается целый рай, более понятный и привлекательный, чем тот, который ожидает кого-то на небе. У нас, при нашей бедной культуре, бедном климате, едва устанавливающихся понятиях о собственности, фантазия разыгрывается быстро и грубо, грубо и жестоко. В русском человеке непочатый угол особого идеализма, мистики и неограниченной свободы. Если б татары и история не выгнали нас с юга, мы, вероятно, внесли бы во всемирную историю нечто очень ценное, потому что мы несомненно даровитый народ. Но история нас не баловала и открыла двери свободе тогда, когда европейская история прошла уже все революции, дала примеры для подражания, вырастила рабочий вопрос, облекла не только социализм, но даже анархизм научной системой, утвердила у себя законную борьбу с существующею цивилизацией, разбивая не только идолов, но даже Бога и религию. Мы начали свою революцию в самый кипень развертывающейся европейской революции, и потому естественно, что наша Г. дума не могла быть иною, чем она есть.
Она этого отнюдь не скрывает. В сегодняшнем заседании, как почти во всяком, она оживляется только при запросах. А запросы — обличения, запросы — публичное следствие над администрацией. Один из ораторов сказал сегодня, что Дума должна преимущественно заниматься запросами, что это — настоящая, самая плодотворная ее задача. Дума отвела четверг для запросов, к большому сожалению социал-демократов.
Классические представления Шекспира, таким образом, будут по четвергам. По остальным дням — водевили без пения и комедии, более или менее скучные. Но Шекспир, с его страстью, с его монологами, с его трагическим пафосом, только по четвергам.
Порицание террористических убийств снято с программы большинством очень значительным, если принять в соображение, что в числе 146 меньшинства находились значительные по численности крайние партии, стоявшие за обсуждение не для того, чтобы порицать террор. Большинство 215, пожалуй, при этом дойдет до 300, и останется за порицание едва ли полная сотня.
Меня это нимало не удивляет и не тревожит. Это очень естественно и возвращает нас только к известной речи Родичева в первой Думе, когда она отвергла предложение г. Стаховича, выраженное тогда и с чувством и красиво.
Наше время далеко от красоты.
16(29) мая, №11197
DCCII
Нравится ли вам кровь?
«Кровь никому в Думе не нравится», — сказал сегодняшний председатель Думы, г. Познанский, и Дума рукоплескала в знак согласия. Удивительное изречение по своей детской наивности…
— Нравится ли тебе кровь, дитя мое?
— Нет, мне кровь не нравится.
Точно дело шло о каком-нибудь безвкусном кушанье или о платье, плохо сшитом и не идущем к лицу барыне. В этом выражении председателя, по-видимому, сказалась особая психология, если не современного русского человека, то «отечества — Думы». (Г. Стахович повторил сегодня это выражение г. Родичева). Но на самом деле около крови произошло одно из самых бурных и самых продолжительных заседаний второй Думы. Оно окончилось в 8 час. и было поистине боевое и страдное. Запрос о «незакономерных действиях» правительства в прибалтийских тюрьмах, на который отвечали министр юстиции и представитель министерства внутренних дел, сам собой перешел на кровь, пролитую террористами. Насилия над преступниками, на которых настаивали одни, невольно вызвали других на воспоминание террористических убийств и всяких иных безобразий революции. Были сказаны страстные речи депутатами. По моему мнению, это хорошо, ибо доказывает, что остается в депутатах живая кровь, волнующая, приливающая к мозгу, вызывающая горячие чувства и речи. Это — бой, и бой нужен. Вопрос о крови не может не быть страстным вопросом, не может обратиться в рассуждение под заглавием «кровь мне не нравится». И бой был шумный, с резкими словами, пламенным языком выраженными, с обидами и горечью, с криками, шипеньем и свистом. Правительство отвергало большею частью обвинения, но оправдывало тех, которые поступали «незакономерно», теми ужасами, которые творили в Прибалтийском крае жестоковыйные революционеры. Мщение шло против мщения. В голове и сердце депутатов поднималось то же чувство, похожее на мщение. Они делились на два враждебные лагеря, которые не только шумели, но «смеялись и хохотали». Очевидное живая кровь побеждала мертвую и давала трагическому предмету все его оттенки, оттенки душевного гуманного чувства, злобы, ненависти, иронии, насмешки и смеха. Осудить политические убийства надо. Это, вероятно, являлось в головах большинства депутатов, но страстность речей мешала установиться этой мысли. Вражеское чувство, соперничество, ложный стыд покориться, уступить, надежда победить — все это бурлило и сказывалось. Депутат Кузьмин-Караваев произнес примирительную речь, полную силы по своему внутреннему содержанию. Он говорил во имя спокойствия России, убеждал отдаться «непосредственному чувству», «влечению своего сердца»:
— Долой насилия, долой террор! Да здравствует у нас спокойствие! — возглашал он. Дума рукоплескала продолжительно и единодушно. Это был момент победы, но только момент.
Раньше его на ту же тему говорил граф Бобринский, резко и сильно осуждая террор не только слева, но и справа. «Прежде всего и скорее всего я осудил бы так называемый террор справа… Вспомнив Бога и нашу совесть, скажем пред лицом всей России: стой, насильники, довольно крови, пора идти России по пути прогресса, который ей указал ее император». Ему аплодировала правая, а депутат Родичев перебивал его, и слева кричали: «Эти насильники сами министры!» Депутат Кузьмин-Караваев своею речью усилил речь графа Бобринского. Но епископ Платон расхолодил настроение, призывая Думу «следовать по стопам своего Учителя, своего Спасителя» и закончив речь напоминанием о голосовании 15 мая, как об «акте общего благословения политическим убийствам и террору». За епископом выступил депутат Шульгин с резкой речью, в которой предсказывал ужасы междоусобной войны, если Дума будет продолжать свою обычную политику. Когда он выговорил, что эта кровь «падет на позорное заседание 15 мая», г. Познанский сказал новую наивную фразу:
— Замечу оратору, что он позволил себе оскорбление заседания Думы.
Можно, пожалуй, оскорбить Думу, но оскорбить «заседание» ее — дело мудреное. В парламентах говорят иногда глупости и гадости, ссорятся, оскорбляют друг друга и дерутся, и я не думаю, что заседания можно оскорблять.
Левые закричали «вон», но г. Познанский не послушался, несмотря на то, что депутат Шульгин после этого «вон» сказал, что он от своих слов не отказывается. Депутат Карташев начал громить правительство за его «беззастенчивые и наглые ответы необузданным террором на террористические акты» и повторил депутата Шульгина, но с левой стороны, что дело может придти к тому, что правительство «схватится с народом».
Наскоро набрасывая эти строки, отмечу убедительную фактическую речь г. Стаховича, который привел цифры: 6580 погибших от террора, причем на классных чинов приходится 270, а 6000 с лишком — на нижних чинов, кучеров, кухарок, прохожих и проч., которые ни в какой политической жизни не участвовали. Он закончил ее с большим чувством об обязанностях Думы, которая, не осудив политического убийства, «совершит его над собою». Шиканье слева, аплодисменты справа, и г. Дмовский взошел на кафедру, как поляк, ничего не забывший, но готовый управлять не только Польшей, но и Россией, в которой царствует «азиатская государственность». Депутат Пергамент закончил эти прения парламента о крови. Многочисленные резолюции проваливались, даже кадетская. Принята левая, когда в Думе оставалось только 232 человека. Все устали, кровь отливала от головы, заговорил желудок, стали перебраниваться, и заседание кончилось, как самое прозаическое заседание какой-нибудь канцелярии.
К добру это или к худу? Был бой, но воюющие отошли на свои позиции и стали варить кашу очень спокойно, ибо ни убитых, ни раненых не было.
Да, это обличительная Дума, как была обличительная литература в 60-х годах. Мы тогда думали, что эта литература возродит отечество к новой жизни и произведет чудеса. Ничего подобного не вышло, и обличение только мельчало и переходило в террор. Так и от обличительной Думы ничего мы не дождемся, пожалуй, кроме обличений.
18(31) мая, №11199
DCCIII
Кадетский орган говорит про меня, что хотя я стар, но душа у меня «кудетатистая». Благодарю душевно за пропаганду пущенного мною в оборот слова и за комплимент. Комплиментом я считаю эту фразу потому, что руководитель кадет г. Милюков тоже имеет несомненно кудетатистую душу. Все его поведение кудетатисто. Везде и всегда он обдумывает кудета.
Не правда ли, синьор? Не правда ли, синьоры кадеты?
Разве первая Г. дума не была кудетатиста с самого своего открытия? Вопреки основным законам, она постановила недоверие министрам и затем стала их гнать просто взашей, как гоняют пьяных лакеев. Вопреки основным законам, она стремилась установить парламентаризм, т. е. сделать министров ответственными перед Думою и сменять их по своему хотению. Разве обращение к народу не было кудетатисто? Разве выборгское воззвание не призыв к кудета? Разве интриги с левыми предпринимаются и созидаются не для кудета? О, вся душа г. Милюкова говорит кудетатистой мыслью, и если бы этого в нем не было, то цена ему была бы грош, как руководителю партии.
Не правда ли, синьор? Не правда ли, синьоры?
Благодарю вас за комплимент, фютюр-министр. Мне приятно это свидетельство ваше о том, что душа моя еще жива.
А пока она жива, будем говорить в этом мраке анархии, грабежей, погромов, убийств, адских заговоров, даже таких, которые напоминают роман Золя «Bête humaine», кончающийся тем, что паровоз, как бешеный, летит, наводя ужас и грозя разрушением. Такой паровоз пустили навстречу курьерскому поезду, в котором ехал и великий князь Константин Константинович. Какая была бы это страшная катастрофа и сколько жизней было бы погребено, сколько людей искалечено и сколько слез пролито! Сегодня убили в Петербурге двух инженеров, завтра и послезавтра новые убийства, и так без конца. Кто, счастливый, предвидит конец этому?
Фютюр-министр и его кадеты недовольны как тем, что они потерпели поражение 17 мая, когда Рамзес I не председательствовал, а его место занимал первый его министр, так и тем, что прения опять направились на порицание убийств. Они думали, что этот вопрос они похоронили «гордым ответом» Думы. А вопрос жив и требует себе ответа. Но найдет ли его, сказать мудрено, ибо даже те, которые третьего дня призывали к примирению всех, вчера глумились и балагурили о том, можно ли проповедовать убийства безнаказанно?
Я разумею депутата Кузьмина-Караваева.
Не будучи юристом, я не могу судить ни об юридических познаниях депутата Кузьмина-Караваева, ни о таких же познаниях г. Люце, товарища министра юстиции, защищавшего одну уголовную статью такого содержания:
«Виновный в восхвалении преступного деяния в речи или сочинении, публично произнесенной или прочтенной, подвергается заключению в тюрьме на время от 2 до 8 месяцев, или аресту не свыше 3 месяцев, или денежному взысканию не свыше 500 руб.».
Но не надо быть юристом, чтобы знать, что «восхваления преступления» совершенно не то, что восхваление свежей телятины, вкусно приготовленной. Я не стану касаться редакции упомянутой уголовной статьи, возможности злоупотреблений ею и всех других юридических тонкостей. Меня не интересует и речь г. Люце, в которой упоминается местоимение сей, как в канцелярской бумаге. Меня интересует только речь депутата и его литературный прием.
Г. Кузьмин-Караваев хотел не анализировать речь г. Люце, чего она стоила уж по важности предмета, а высмеять этого товарища министра и сказать в формах некоторого приличия, что упомянутая статья есть произведение идиотское и что только идиоты могли ее сочинить. Люди же такого ума, как депутат Пергамент и депутат Кузьмин-Караваев, могут только отвергнуть ее. Для этого, обходя «преступления», он пускается в остроумие насчет наказания за восхваление октябриста, преступно переходящего в партию Союза русского народа. Далась им эта партия! «Представьте себе, — говорит он, — что кто-нибудь возведет на пьедестал октябриста за переход в Союз русского народа. Неужели мы допустим, чтобы такое лицо было наказано восемью месяцами тюрьмы». Дума аплодирует такому остроумию, дозволительному, конечно, генералу Кузьмину-Караваеву среди подвластных ему подпоручиков, которые из учтивости могут встретить это остроумие звуками га-га и хе-хе, но, непозволительному даже в такой Думе, которая может аплодировать всякой пошлости. В самом же деле это пошлость, генерал. Другой пример его обращения еще остроумнее. Он спрашивает, неужели можно наказывать «за восхваление несоблюдения правила опрятности при продаже съестных припасов»? Ха, ха, ха! Отчего нельзя, генерал? Не говоря о степени наказания за такие неопрятные восхваления и о том, что этот пример притянут для того, чтобы вызвать, по крайней мере, смех у продавцов съестных припасов, — я мог бы заметить, что ведь неопрятная продажа этих продуктов бывает причиною серьезных болезней и даже смерти покупщиков. Тут, право же, смеяться нечему, если он подумает о том, что может накушаться рыбьего яда, вследствие «неопрятности» торговца. А г. Кузьмин-Караваев о себе весьма заботится. В своей речи третьего дня о необходимости голосования осуждения убийств, которую я считаю хорошей его речью, он с пафосом воскликнул:
— Граф Бобринский говорил с кафедры, что он осуждает террор справа. Приветствую его слова! Но знает ли он, как глубоко, как широко пошел этот террор справа; знает ли он, что на другой день после того, как говорили здесь, в Думе, в пользу отмены военно-полевых судов, я получил угрозу — мне грозили смертью за то, что я требовал отмены смертной казни! (Аплодисменты в центре и части левой.)
Вот оно что. Так «глубоко и широко» простерся правый террор, что даже до него, Кузьмина-Караваева, дошел. Дамы, вероятно, попадали в это время в обморок, если генерал еще молод и может представлять для них некоторый интерес. А иной социал-демократ, пожалуй, усмехнулся в свои усы и подумал: «Эге, вот почему вы, ваше превосходительство, против террора? За себя изволите беспокоиться?»
Молодежь иногда совершенно некстати и совершенно несправедливо насмешлива и догадлива.
Но дело не в этом, не в октябристе, не в опрятности торговца. Все это юмористика. В речи его есть вот какая серьезная общественная сторона. Может быть, и Уголовное уложение тут несколько замешано, так как депутат находит противоречие между ним и циркуляром председателя Совета министров г. Столыпина. Дело это заключается в том, наказуемо ли восхваление только преступления конкретного, т. е. убийства такого-то лица таким-то лицом, например, убийства Иоллоса, или вообще наказуемо восхваление преступления, как теоретическая возможность, т. е. восхваление просто убийства во всей его привлекательности и пользе?
Я выделяю именно вопрос об убийстве и говорю только об нем, ибо в той уголовной статье, которая приведена выше, разумеется прежде всего наказание за восхваление убийства, а не та юмористическая чепуха, которою г. Кузьмин-Караваев сорвал рукоплескания в Думе.
Почтенный генерал — юрист — депутат, по-видимому, допускает безнаказанность теоретического восхваления убийства, ибо, приводя выписку из циркуляра г. Столыпина, которым запрещается восхваление вообще всех преступлений, «в виде теоретической возможности», говорит: «При таких условиях законопроект должен быть отклонен».
Слава Богу. Значит, теоретическое прославление убийств дозволительно. Зачем же почтенный генерал — юрист — депутат с таким пафосом объявил в Думе, что ему кто-то грозил смертью? Предполагается, что этот кто-то не шутник, а убежденный теоретик и практик убийства вообще и г. Кузьмина-Караваева в особенности. Зачем? О, зачем? Может быть, этот грозило пишет статью о пользе и необходимости террористических убийств справа в то самое время, когда и социал-убийца (выражение депутата Шульгина) пишет глубокую и широкую статью о пользе и необходимости убийства слева. И когда эти сочинения, может быть, превосходно и убедительно написанные, появятся в печати, то закон не должен препятствовать их распространению; но если кто-нибудь убьет кого-нибудь и будет доказано, что убийца был подвинут к этому преступлению упомянутым превосходным сочинением, тогда только, вероятно, будет призван к ответственности и автор этого превосходного сочинения о пользе и необходимости убийства. Говорю «вероятно», ибо, не будучи ни убийцей, ни юристом, я не думал об этом предмете «глубоко и широко». Рассуждаю по здравому смыслу, тогда как убийцы и юристы по здравому смыслу никогда не рассуждают, первые потому, что поступают вопреки здравому смыслу, а вторые потому, что нет преступников в современном преступном и нелепом обществе.
Я ненавижу убийство и доказывал много раз почему. Мне глубоко противно поведение Думы, которая с упорством, достойным лучших целей, продолжает с благосклонной улыбкой смотреть на террор, как пьяный смотрит на выставленные мерзавчики в кабаке, чтоб добраться до них и напиться.
Мне глубоко противна, поэтому, и пьяная речь г. Кузьмина-Караваева, совершенно противоречащая его речи 17 мая. Она именно пьяная, пьяное балагурство в этой пьяной революции и пьяной Думе. Депутаты в Думе 17 мая называли эту революцию «кровавым бредом», «полосой крови», «анархизмом и революционным произволом», «кровавой заразой», «кровавым угаром». Будем называть правильнее.
Это — пьяная революция в пьяном вырождающемся обществе, из которого я не исключаю, разумеется, и администрацию, статскую, военную и духовную, и в представительстве этого общества, пьяной Думе. Кровавый бред пьяниц и вырожденцев, анархия пьяных тупиц, кровавый угар от алкоголя, наследственность лени и безволия, тупое упрямство и бессилие с похмелья и юмористическое отношение к убийству и анархии. Все это пьяное — и в прямом, и в переносном значении этого убожеского состояния, выписывающего мыслете и потерявшего путь.
Не есть ли «всепьянейший собор», учрежденный Петром Великим, символ нашей революции и нашего пьяного движения к анархии и разорению?
Вы скажете: а сам Петр Великий, учредитель этого «собора»?..
Ну, богатыри в счет не идут.
20 мая (2 июня), №11201
DCCIV
Пребывая в Венеции и раз принятый почему-то на пароходе за сиамского короля, князь Мещерский вообразил себя им действительно и начинает читать русские газеты в переводе, на сиамском языке. Говоря о съезде октябристов (№11191 «Нового Времени»), я остановился на новой их политической программе, в которой предполагается наивно хитросплетенная ответственность министров перед государем и перед Думою. Я старался доказать, что это нелепо и гораздо хуже парламентаризма, который устанавливает ответственность министров перед парламентом. В конституционном режиме — ответственность министров перед парламентом или перед государем. Другого выбора нет.
Что такое парламентаризм, это хорошо всем известно, и я ограничился фразою: «Государь царствует, но не управляет». Сначала «Слово» прочло мне по этому поводу нотацию, из которой было ясно, что оно не хотело понять то, что я говорил, а теперь князь Мещерский читает нотацию, которая доказывает, что он говорит сам не зная о чем, и заключает уверением, что я «мечтаю о парламентаризме». Мечтать о парламентаризме с настоящей Думою не станет даже г. Милюков, убежденный парламентарист, а не то что я. Я того мнения, что парламентаризм и на Западе переживает некоторый кризис, как и всеобщая подача голосов. Если нам до него далеко или близко, то это смотря по тому, остановится ли наша революция или пойдет дальше по той наклонной, по которой она катится теперь, играя головами как шарами. Добродушные и мистики утешаются какою-то «кривой преступлений» и тем, что революция наша не идет вглубь и не расширяется, а только «захватывает новые площади, но те участки которые переболели революцией, быстро оздоравливаются». Во-первых, народ справедливо говорит, что «на кривой не объедешь», во-вторых, «участки» Российской империи столь многочисленны и обширны, что если ждать, пока все «участки» переболеют революцией, то можно попасть из огня в полымя. Ведь даже заразные болезни, холеру, чуму, стараются, обезвредив атмосферу и почву, локализировать и не пускать ее дальше, и надо думать, что так следует поступить и с революцией, если предположить, что она подчиняется законам эпидемий, а не ждать, пока вся Россия ею переболеет. Кроме того, надо принять в соображение очень важное обстоятельство при этом сравнении: на холеру и чуму все смотрят, как на врага, как на чудище, тогда как на революцию совсем так не смотрят. Ее считает полезною довольно многочисленный класс интеллигенции, и ей сочувствует недовольная масса. Еще года полтора тому революцию считали необходимою даже люди солидные, ибо полагали, что их она не обеспокоит. Год тому один государственный муж говорил мне:
— Революция была необходима. Но революция политическая, а не социальная. Социальную допустить невозможно.
А она не слушается и говорит: коли я пришла, то отворяйте ворота, а то я не только ворота, но и дом снесу. Очень беспокойная гостья и справиться с нею — очень трудная задача для правительства.
Что касается приведенной мною фразы: «Государь царствует, а не управляет», то она приведена в кавычках, а кавычки значат, что это фраза принадлежит не автору статьи, а заимствована. Она именно сказана Тьером в основанной им в начале 1830 г. вместе с историком Минье и известным публицистом Арманом Каррелем газеты «Le National» (19 февраля). По-французски она цитируется так:
Le roi règne et ne gouverne pas.
Фраза эта стала знаменитою и должна бы быть известна и «Слову» и князю Мещерскому. Приведенная мной фраза есть перевод этого изречения Тьера, я только вместо «король» поставил «государь». Вокруг этой фразы загорелась тогда горячая полемика, в которой принимал участие Гизо. Этой фразой вкратце и выражается сущность парламентаризма. Тьеру возражали, что
Le roi règne, gouverne et n’administre pas. Конечно, нет правила без исключения. Вот все, что я хотел сказать, т. е. я хотел краткой фразой характеризовать парламентаризм, о котором я не мечтаю — до мечтаний ли теперь? — но который все-таки считаю разумнее того авантюризма, который придумали октябристы.
26 мая (8 июня), №11207
DCCV
Я не думаю, что правительство держит Дамоклов меч над Думою и что жизнь ее есть «тяжелый некий шар, на нежном волоске висящий», по выражению Державина. Ведь само положение правительства очень тяжелое и даже совершенно нелепое, если верить официозной «России», которая сегодня возглашает, что «общественная мысль вдруг резко оживляется, когда осведомляется о новых и новых злодеяниях, являющихся в результате все тех же разрушительных замыслов». Какая жалкая общественная мысль, способная оживляться только при «осведомленности» о новых злодеяниях! Для ее действительного и действующего оживления, как видите, необходимы все новые и новые злодеяния. Остановись они, и она заснет. Вообразите себе положение правительства, которое в Думе побивается, а в общественной мысли находит поддержку только при злодеяниях. Можно ли думать тут о Дамокловом мече?
Трагичнее такого положения выдумать нельзя.
Очевидно, кадеты, не желающие осуждать террор, в этом отношении вполне сходятся с «Россией» — и вопрос: для чего надобно правительству осуждение Думою террора, когда он «оживляет общественную мысль»?
Разве для того, чтоб пошатнуть свой авторитет? Она осудит террор, а он будет продолжаться. Следовательно, Думу так же мало слушают, как и правительство. А у Думы ведь только и есть что нравственный авторитет, материальной силы у нее нет, нет ни своих министров, ни своих губернаторов, ни войска. О Думе говорят, что она неработоспособна, а тогда скажут, что она ничего собой не представляет, ни даже революции. Теперь же этого последнего представительства никто отрицать не может. И в этом отношении нет более глупого слова, как «работоспособность». Ведь нельзя же это слово определить так: «работоспособность есть качество депутата способного работать вместе с правительством». А если нельзя, то Дума совершенно работоспособна, и в особенности революционные партии, ибо эти партии достаточно доказали, и до Думы и во время ее, такую настойчивую работоспособность, что все усилия правительства, вся его работоспособность не может победить работоспособности революции.
Если это ирония, то ирония не моя, а судьбы. И в этой иронии трагизм правительства и Думы, и трагизм всей России. Работоспособность, очевидно, или в самом деле глупое слово, или мы даем этому слову неточное объяснение. Почему революция не уменьшается, если правительство работоспособно? А революция, как бы кто ни убеждал в противном, не уменьшается. Самочувствие русского человека говорит ему, что в России идет как бы партизанская война, что револьвер необходим не только во время поездок и прогулок, но и у себя на квартире, в городе и в особенности в деревне. В прошлом году было менее вооруженных, чем ныне, и чувствовать у себя в кармане револьвер так противно, что я гоню от себя даже мысль об этом. Жить под вечной охраной, везде ожидать опасность для жизни и имущества, под набат социальной революции, словом и делом, неужели это значит жить в стране, где революция уменьшается? Я встретил в Думе М. А. Стаховича. Он подымался по лестнице оживленный и бодрый.
— Правда ли, что в Пальне ваш дом сожгли?
Этот вопрос болезненно передернул его лицо. Дом в 60 комнат, служивший пяти поколениям, где были сосредоточены самые драгоценные вещи и воспоминания, был уничтожен поджогом.
— Подозреваете кого?
— Нет. Да не все ли равно кто?
Действительно, не все ли равно. Революция касается всех. Она идет в глубины нетронутые, разрушает все традиции, всю нравственность, все отношения. Все не так. А как? Это еще неизвестно. Слушая прения в Думе, невольно поражаешься каким-то бьющим противоречием вчерашнего с сегодняшним и каким-то наивным отрицанием всего прошлого, без всякого разбору. Точно стоит это прошлое каким-то злодеем, которого необходимо уничтожить, с которого надо «шкуру содрать», как сказал один депутат г. Пиленке. Прочитайте в «Русском Богатстве» разговоры г. Тана с некоторыми революционными депутатами. Это из времен пугачевщины, сдобренной социализмом и бомбами. Ненависть точно грызет всех, и они ее насилу сдерживают.
Когда слушаешь четыре часа сряду депутатов из «страшных» партий, как социалисты-революционеры, с. — демократы, трудовики, народные социалисты, и кроме оглушения кудетатистым переворотом, которого требуют эти ораторы, ничего не испытываешь, то невольно толкается в голову мысль: да неужели это — представители «великой русской буржуазной революции», как выразился г. Церетели в субботу? Он — большой охотник до слов «великий»: «великая волна», «великая революция», «великое движение», «великая забастовка». Неужели для революции только и надо, что прокламации и эти речи грубой ненависти и злобы?
Или революции и делаются такими господами, или такая страна наша матушка Россия, что ее революция только и может делаться такими людьми?
В слове «революционер» слышится что-то гордое, непреклонное, внушительное. Когда читаешь историю революций и встречаешь речи и дела революционеров, то получается о них именно такое понятие. А у нас это — по виду и лицам какие-то калики-перехожие, которым только бы петь Лазаря. Я слышал в субботу такого революционера, что хотелось ему закричать:
— Голубчик, откуда ты? У тебя и язык суконный, и выражение мыслей такое, что кажется, они из толокна. Поди, сядь.
Он был, однако, заместителем другого «страшного» человека, у которого заболело горло и который носит звериную фамилию.
Очевидно что-то такое тут есть приятное, раздражающее, льстящее, подающее надежду на быстрое и кудедатистое осуществление неосуществленного еще нигде. Собственность надо уничтожить, уничтожить, уничтожить. Она всему преграда. И даже кадеты готовы на это, но постепенно и осторожно.
— Да вы этой постепенностью только новую петлю надеваете на народ и обрекаете на гибель государство и его финансы, — кричат им революционеры.
— Ничего. Мы знаем свое дело. А вы лайте сильнее и делайте, что хотите. Террор необходим. Без «иллюминаций» и погромов помещики и не подумали бы продавать своих земель. Вы — застрельщики, а мы — главный штаб. Вас будут вешать, а мы будем управлять.
Г. Церетели своим звучным и приятным голосом в речи, которая построена в литературном отношении гораздо лучше, чем речь г. Кутлера, говорит:
— Сначала отобрать всю землю. А потом дома, фабрики и заводы. Но для этого мы еще не готовы.
Но если теоретики социальной революции не готовы, то практики ее готовы и в последнее время убили и ранили целый ряд инженеров, директоров, начальников заводов. Практики расчищают дорогу теоретикам с таким варварским самосудом, о котором в прошлом году и помину не было.
Вот горный инженер, г. Мушенко. Организатор крестьянских митингов и заведывавший земской сапожной мастерской в какой-то слободе, как сказано в его биографии. Я его слышал. Он рекомендовался, как социалист-революционер, но то, что говорил он, была юмористическая статейка для уличной газетки. Он «разносил» Столыпина. И не понимает он ничего, и не дорос он до понимания, и представитель он будочника Мымрецова с его «политической философией: «держи и не пущай», и хочет он «бочком присоединиться к слову «социалист», называя себя «государственным социалистом», и слеп-то он, и глух-то он. А ведь стоило бы г. Столыпину послушать г. Мушенка и поглядеть на него — от страха он в каменный столб обратился бы. Ей Богу, так думает о себе г. Мушенко, организатор крестьянских митингов и смотритель за сапожной. Не социал-революционные ли это балалайки, он, г. Караваев и другие подобные; но если это так, то балалайки производят ли революцию? Г. Андреев преобразовал балалайку и сделал из нее оркестр, который с удовольствием слушается и производит впечатление. Не то ли делается и с революционной балалайкой, когда другого оркестра, столь же сыгравшегося, не имеется. В Думе именно нет оркестра из людей образованных, сильных, повинующихся талантливым вождям и композиторам. Балалайка играет, бьет барабан и, чем резче речи, чем более обещают, чем резче звучит балалайка и бьет барабан, тем с большим наслаждением они слушаются, и все эти революционеры потому так и балалаечно серы, что по Сеньке — шапка, по Еремке — колпак. Это — не законодатели, не творцы, а пропагандисты, разрушители и ругатели. Они со дна, с примитивных воззрений, от горя, бедности и пьянства, от всех бед, которым нет человеческой возможности помочь быстро, путем обыкновенных реформ, а потому предлагается отрицание всего, произвол и разрушение. Вся задача только в этом. Поэтому все намеки их на постройку «нового государства» так детски-наивны и так туманны. Отобрать землю и баста. А там рай, раздевайся, выбирай себе Еву и блаженствуй.
— Что за важность отобрать ее у 130 000 помещиков? — Эта цифра так и летает по думскому залу.
Естественно, что каковы теоретики, таковы и творцы, А творцы — это экспроприаторы, убийцы, бомбисты, поджигатели и громилы. Революция пьяная, беспутная, в огне и пламени. С таврической кафедры раздавались в первой Думе и раздаются во второй «идеи» именно в этом смысле.
— Правительство в борьбе с народом себя и народ толкает в пропасть. Но еще не было в истории примера, чтобы в пропасть падал народ, но были примеры, что в пропасть низвергались правительства.
Хочется сказать: успокойтесь, г. Мушенко, который произнес эти слова: были примеры, что и народы падали в пропасть и даже так основательно, что о них забывало человечество. Все бывало. Это и не так трудно, как кажется думским реформаторам. Весь вопрос в приготовительном шествии, которое идет медлительно, а самый полет в пропасть совершается обыкновенно довольно быстро.
30 мая (12 июня), №11211
DCCVI
Третьего дня в Г. совете графа Витте осенила блистательная мысль. Он сказал, что «с 12 декабря 1904 г. по 17 октября 1905 г. мы прожили не год, а полстолетия». Таким образом, самому графу Витте теперь 108 лет, а мне 120. Прибавим себе, господа, по 50 лет и скажем откровенно, что года эти мало удобные для напряженной борьбы.
Борьба ведется у нас порывами, а не системой, и если что рекомендуется, то диктатура, которая есть тоже порыв. От этих порывов ожидаются немедленные результаты. Если окажется, что начинают убивать вместо 20 человек ежедневно только 10, сейчас же кричат, что революция уменьшилась, что революция — «накипь», что не нынче-завтра эта накипь исчезнет и «все образуется», согласно политической системе слуги Облонского в «Анне Карениной» и системе октябристов. Я отнюдь не критикую эту систему, ибо именно таким образом образовался земной шар в своей геологической истории, стало быть, эта система заимствована от самого Творца Вселенной, и критиковать ее — значит ничего не значит, ибо из ничего только Бог творил, а не люди.
По расчету графа Витте мы слишком стары для каких-нибудь решительных действий и непреклонных систем и он сам на себе это испытал, когда ему пришлось бороться не с процентными бумагами, а с людьми и их характерами.
Примите в соображение, что прожить в год 50 лет значит, конечно, приобрести огромный опыт и большую мудрость; но, увы, события мелькали, как молния, и гремели, как гром, люди бросались спасаться, очертя голову, крестились со страху, гадали, обвиняли друг друга, грызлись, бесновались, теряя всякое соображение и старились ужасно, старились мыслью и энергией. Когда они переживали естественно 50 лет со времени детства, и опыт естественно нарастал, происходила самокритика и поверка пережитого и слагались и ум, и характер, и воля. Быстрый опыт, оглушающий, как гром и ослепляющий, как молния, не мог дать такого результата, а мог только угнести душу и состарить ее в дряблую ветошь…
Так началась наша революция. Но ведь все постарели на 50 лет, и зрелые люди и молодые?..
Нет, совсем нет. Те, кому было три года назад 20, не прожили 50 лет в один год. Граф Витте, говоривший в Г. совете, очевидно, имел в виду своих сверстников, вообще людей, стоящих у власти, и около нее, приблизительно от 45 до 65 лет. Когда кровь кипит и сил избыток, столь быстрое переживание невозможно. Но молодые видели погром старших, видели чудеса военного падения великой державы и падения ее внешнего и внутреннего авторитета. При молодом зрении они и видели это яснее, при молодых чувствах они и воспринимали бодрее эту радость крушения старших, у которых не оказалось ни силы воли, ни силы таланта и даже не оказалось и силы патриотизма. Они видели, как старшие трепетали перед мальчишками, перед гимназистами, не говоря уже о студентах, они видели, как им повиновалось все правительство и как трусили министры и государственные люди перед забастовками и перед организацией вооруженного восстания. Они чувствовали в молодой самоуверенности, что государство разваливается, что спасти его могут только эти молодые свидетели погрома. Они тоже пережили много, не 50 лет, конечно, но втрое, вчетверо против обыкновенного течения жизни наверно. И в них выросла самоуверенность неотразимая в том, что если дать им волю, то они все немедленно переустроят, не останавливаясь перед самыми сильными террористическими средствами, чтобы запугать малодушных, бессильных и бездарных, и Россия воспрянет в новом величии и в блеске счастия, никогда небывалом. До той даты, которая дана графом Витте, т. е. до 17 октября 1905 г., они так не думали, так не были самоуверенны, но когда старшие так опростоволосились, так постарели в один год, они получили стальную твердость уверенности в своих силах и в чудесах быстрого совершения событий. Они думали, что рост и возрождение так же быстро, как падение, совершается, и переуверить их в противном может только такая же стальная уверенность в победе государственности и мирных реформ и сильные государственные способности и мужество в борьбе за авторитет власти.
Неужели наше будущее только за теми, которые родились до 12 декабря 1904 г. и за теми, которые родились немного раньше, например, в самом конце прошлого столетия? Неужели все то, что созрело в XIX веке, в самом деле бессильно и не может остановить разбушевавшуюся волну, на гребне которой являлось и является столько грабителей, разбойников и убийц, против которых отказывалась Г. дума произнести приговор осуждения? Чего она ждала? Разве от нее просили, не требовали, а именно просили чего-нибудь бесчестного, каких-нибудь новых цепей и оков? От нее просили, чтобы она назвала убийство убийством, а не подвигом, грабеж грабежом, а не экспроприацией на «освободительные цели», на помощь революции.
И это в то время, когда русская трагедия шла ближе и ближе к кровавой развязке. В Г. думе кричали уже не против правительства, не против министерства, а против всей русской истории, против всех завоеваний русского мужества и русского гения. Поднималась и укреплялась волна отторжения целых областей и «освободительное движение», топча авторитет власти, топтало объединение Русской империи, работу целых веков. И вот сегодняшний день настал, когда от Г. думы уже потребовали выдачи целых 55 депутатов, которые обвиняются в тяжком государственном преступлении.
Конец ли это нашей трагедии или начало ее конца — я не знаю. Но трагедия продолжается, и влиятельная думская партия еще медлит дать ответ, который уж ни в каком случае не может быть «гордым».
2(15) июня, №11214
DCCVII
Была Дума весенняя, апрельская, была Дума зимняя, февральская, будет Дума осенняя, ноябрьская. Я думаю, что будет и летняя Дума, августовская, например. Так по всем временам года будем Думу думать и до чего-нибудь, наверно, додумаемся. Я не слишком верую и в будущую Думу. Какая она будет? Кадетская, октябристская, правая, пестрая? Нельзя предугадать. История идет своим чередом, по своим законам, которые пишутся не заранее, а после того, как события совершились.
Октябристы в Г. думе высказывали свое мнение молчанием. Может быть, это и красноречие, а, может быть, это просто неимение никаких мыслей. Если принять в соображение, что их новая конституция с министрами, которые будут учиться служить двум господам с одинаковым совершенством и нелицемерною преданностию, то можно придти и к такому положению, что в этом и заключается русский характер, — служить непременно двум господам и изощряться в том, чтоб вылезать сухим из воды. Как отнеслись октябристы к новому закону о выборах? Я могу положительно утверждать, что они очень рады роспуску Думы и новому закону о выборах, благоприятному для них, но в своем воззвании, напечатанном у нас третьего дня, они сделали гримасу, как люди, поступающие по формуле: с одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой стороны, должно признаться. Нельзя не сознаться, что основные законы должно менять путем, основными законами установленным, но нельзя не признаться, что другого выхода не было, а потому они очень рады, и если шампанского не пили, то единственно потому, что хотели показать, что они «очень огорчены».
Я не понимаю, почему они октябристы? Если бы манифест 17 октября был издан, например, в июле, наверно, никому бы не пришло на ум составить партию «июлистов», ибо это, во-первых, звучало бы странно, и, во-вторых, напоминало бы юлу, а не июль. Октябристами они стали в подражание декабристам. Но декабристами называются люди, которые сами хотели произвести переворот 14 декабря. Октябристы же и во сне не видали октябрьского переворота и ничем и никем в нем не участвовали. Так как новая Дума соберется 1 ноября, то, может быть, октябристам следует себя переименовать «ноябристами». От этого ничего в их партии не изменится. Ноябристы так ноябристы. Не все ли равно, какой месяц. А назваться ноябристами даже выгодно, ибо возможно, что в ноябрьской Думе октябристов будет больше. Наверное, попадет в нее А. И. Гучков, который, конечно, предпочтет Г. думу Г. совету и, пожалуй, будет председателем ее или министром в новом или подновленном кабинете.
Октябристы — европейцы. Но европейцы — не октябристы. Это замечательно.
По-моему, русский образованный человек, если он действительно образованный человек, имеет право на то, чтобы его другие называли европейцем, а не он сам себя. Англичане, французы, немцы никогда не говорят:
— Мы — европейцы.
Они говорят только: мы — англичане, мы — французы, мы — немцы.
Что они европейцы, это само собой разумеется. Но русские непременно желают, чтобы их считали европейцами, а не русскими. Они потому так и любят говорить по-французски без всякой надобности.
Г. Дмовский в Думе сказал, обращаясь к русским:
— Вы, господа, европейцы. Мы (поляки) готовы это признать.
— Да вы-то, г. Дмовский, почему европеец? Вы просто зазнавшийся поляк.
Если бы русские считали себя русскими, как считают себя японцы японцами, французы — французами, немцы — немцами, англичане — англичанами, то у нас не было бы Портсмутского мира и не было бы даже октябристов, а была бы просто Русская партия, которая показала бы, что она в себе заключает, какие у нее стремления и идеи, какое у ней понятие о России, об ее исторических судьбах, какое у нее просвещение, т. е. она показала бы свое «я, свое право на существование, свою философию, логику и политику. А нахватать из французского «Drois de l'homme» отрывки и развесить над собой 17 октября, ей богу же, еще ровно ничего не говорит о партии, как о партии. Почему октябристы — русская партия, а не абиссинская? На этот вопрос очень трудно ответить определенно. А русская партия могла бы заключить в себе всю квинтэссенцию конституционизма и всего того, что составляет существеннейшие черты русского народа. Я прекрасно понимаю программу партии народной свободы, т. е. кадетов. Это — прямо интернациональная партия, учение которой заключает в себе все политические и социальные свободы, в их развитии хоть до социал-демократии. Но партия берет их на известной стадии для данного момента и действует. Она отвергает старый патриотизм и ищет нового, который должен образоваться с проведением их кадетских идей в жизнь. Они — убежденные парламентарии, и вся их борьба сводится к этому.
Парламентарии ли октябристы или нет, этого они еще не знают. Националисты ли? — Этого они не знают, но подозревают, что им, как европейцам, это неприлично. Антисемиты ли? — Они европейцы и христиане, а потому не могут быть антисемитами. Что же они по отношению к евреям? — Сумлевающиеся и недоумевающие или рассчитывающие идти с ними, как кадеты? — К рабочему вопросу? К аграрному вопросу? — Сумлевающиеся и недоумевающие европейцы. Главное для них, что они — европейцы и прежде всего европейцы.
А надо быть русскими, надо работать, как русские, надо чувствовать, как русские. Когда русская работа вольется в европейскую работу, тогда европейское клеймо придет само собою.
Дума была не русская в оба раза и потому она провалилась.
Какие таланты были во второй, почти все были не русские, а самый талантливый и искренний человек в ней был грузин Церетели. Это — горькая правда, и ее нечего скрывать.
Если бы у него было столько же ума, сколько таланта и чувства, он не попал бы на скамью подсудимых.
6(19) июня, №11218
DCCVIII
Газета «Times» сказала, что третья Дума будет еще более «оппозиционная, чем вторая».
А почему бы и не быть ей такою? Попробуем маленькое, может быть, фельетонное рассуждение не для решения вопроса, а просто для догадок.
Избирательный закон уменьшил демократический элемент и увеличил дворянский и буржуазный. Так говорят в газетах. Но демократический элемент в своей яркой окраске заключается не в одном крестьянстве, не в одной «интеллигенции», а в дворянстве и буржуазии, т. е. у кадет и октябристов. Кадеты в значительном большинстве своем — состоятельные и даже богатые люди, и сама эта партия богатая. Откуда у нее деньги — этим вопросом занимались немало, и совсем напрасно. Важно то, что у нее были всегда деньги и что она выставляла деятельных людей. У октябристов тоже много богатых людей, вероятно, больше даже, чем у кадетов, но у партии октябристов не было денег до того, что она, собрав свой съезд, брала за вход на него деньги. В прошлом году один из московских октябристов мне рассказывал:
— Нас сидело за столом человек десять. Рассуждали мы о своей партии и о средствах ее существования. Я мысленно прикидывал, какой капитал представляют собою сидящие за этим столом? Капиталы друг друга мы хорошо знаем. Я насчитал 45 миллионов руб. При этом я знал, что в случае большой забастовки или усиления революции вот этот потеряет миллион или два, а этот, пожалуй, окажется банкротом. Стали собирать подписку… Нет, я вам не скажу, какую сумму дала эта подписка. Богатые люди составляют бедную партию…
Б Петербурге было еще хуже. Тут богатые люди обещали деньги и за то, чтоб попасть в выборщики, и за то, чтоб попасть в депутаты по октябристскому списку, и давали шиш.
Богаты ли октябристы духовно, дали ли они таких же деятельных людей, как кадеты? Этот вопрос, я думаю, решен довольно основательно думскою деятельностью и съездом.
— Почему г. Хомяков не раскрывал рта в течение трех месяцев в Думе? А его ведь предлагали в председатели Думы, как человека выдающегося.
— Он — барин. В обществе он хорошо говорит и человек совершенно хороший и независимый. Но в Думе… мне кажется… он был в этой Думе брезглив, как барин.
Так, ища выражения, говорил мне человек, принимающий большое участие в партии октябристов.
Я слышал, как г. Капустин говорил на съезде. Это был самый деятельный член партии и очень корректный человек. Когда он произнес, что «партия должна быть патриотична», съезд горячо ему аплодировал. Очевидно, это слово было всем понятно и близко. Но когда он стал объяснять, что такое патриотизм и в чем он заключается, настроение сейчас же упало до полного равнодушия к этому объяснению, которое патриотизм этот развеивало по всей империи в виде пыли из тончайшего, бесплодного песку.
Кадеты останутся в оппозиции, и октябристы норовят в оппозицию, судя по их недовольству изменением основного закона. В своем воззвании они как бы нехотя только едут в этом новом поезде к третьей Думе. М. А. Стахович тоже печатно объявил, что он и к роспуску Думы и к нарушению основных законов относится «с решительным и одинаковым несочувствием».
Говорят, левые члены партии октябристов и правые кадетов имеют стремление к слиянию. Говорят, что об этом идут разговоры. Некоторый раскол в кадетской партии и в октябристской. Кадетская будто бы считает себя значительно побитой новым избирательным законом, который отнимает у нее городских депутатов, которыми она была богата. Тот же закон дает некоторые преимущества октябристам, если от них не отколется партия торгово-промышленная, образовавшаяся перед первой Думой и провалившаяся так бесследно на выборах 1906 года, что о ней в 1907 году совсем не упоминалось. Что будет с этими партиями, если действительно обе они накануне переформирования, гадать мудрено. Но гадать все-таки можно и именно в смысле оппозиции.
Предположите, что отколются от обеих партий деятельные люди, даже эти последние будут только в отколовшихся кадетах. Естественно, что деятельные овладеют недеятельными и поведут их за собой. Избавляет ли новый закон от крайних левых, трудно предвидеть, ибо не только кадет, но октябрист могут оказаться в Думе гораздо левее тех, которые дали им свои голоса. Мы, россияне, не должны скрывать от себя, что в существе дела радикализм у нас в натуре, радикализм недостаточно определенный, часто сумбурный, часто радикализм просто ради радикализма, как искусство для искусства. Все условия нашего существования, начиная с климата, таковы, что нас тянет к прыжку в пространство, где есть какая-то манящая неопределенность, как в наших славянских душах, симпатичных, но неуравновешенных.
Недаром величайший русский царь, Петр, был радикалом и революционером; а радикализм и революционность деспотичны или в ту, или в другую сторону. Деспотизма достаточно в купеческой крови, образовавшей «самодуров», и в дворянской, служилой и рабовладельческой. Бакунин был анархист, может быть, именно потому, что в нем обращалась деспотическая кровь. Князь Кропоткин тоже анархист, графа Л. Н. Толстого считают анархистом, и сам он от этого не отказывается, да это и правда. Вот вам три дворянина-анархиста, три аристократа, имена которых всем известны. А сколько из дворянства вышло революционеров и революционерок, начиная даже не от декабристов, а гораздо раньше! Великий представитель русского племени Пушкин записал в своем «Дневнике» от 22 декабря 1834 г. следующее: «Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много».
Присоедините к этому чиновничество, тоже ведь в значительной степени дворянское, потомственные или личное, и сообразите, как быстро меняются убеждения в этом классе.
Я прочел «Записки губернатора» князя С. Д. Урусова. «Записки», «мемуары» — это по большей части преднамеренная ложь, панегирик собственной особе или самооправдание. Князь С. Д. Урусов — депутат первой Думы, сказавший памятную речь об еврейских погромах, якобы несомненно приготовляемых правительством. Теперь он славословит себя в «Записках», как замечательного губернатора и превосходного человека во всех отношениях, в особенности в юдофильском.
— Заставьте своего героя хоть курить, — сказал раз мне А. П. Чехов о герое одной пьесы, которую я было начал. Героя я рисовал совершенством.
А князь Урусов сам себя рисует совершенством.
Но о «Записках» в другой раз.
Я упоминаю о князе Урусове, как о человеке, который из губернаторов пошел в кадетскую оппозицию. Зять его, г. Лопухин, из директоров чрезвычайного охранного департамента тоже пошел в оппозицию и печатает свои «Записки» о старом режиме, в котором он играл весьма деятельную роль. Мне принесли пьесу «Русский Шерлок Холмс» для Малого театра, но я боюсь, что цензура подумает, что в пьесе выставлены живущие люди из департамента, которым управлял г. Лопухин, или даже он сам, и она ее не пропустит…
Сколько же людей, так или иначе обиженных, тем или другим недовольных, которые пойдут в оппозицию то за себя самих, то за родных и т. д. Личное чувство, эгоизм, конечно, играет роль в политике и делается кудетатистым в большой степени, в особенности при неустановившихся политических убеждениях и партиях. Наши партии, что ни говорите, только что еще образуются, а не то чтобы окончательно сладились так, что мы можем твердо веровать в умеренную Думу, которая как только соберется, так и начнет работать в самом благоприятном для правительства смысле.
Мне нетрудно было бы пройтись и по партии Союза русского народа, но явилось неодолимое препятствие для меня: г. Дубровин объявил сегодня в «Русском Знамени», что Союз русского народа стоит за «свободу в Бозе». Я подожду объяснения почтенного председателя союза, что значит эта фраза. Я знаю, что во время панихиды обо мне будут говорить, как о «в Бозе почившем» и тогда я буду действительно свободен от всех земных уз, от всех монархий и республик, конституций и революций. Но, живя еще на земле, в городе Санкт-Петербурге, я совершенно отказываюсь понять это политическое изречение: «свобода в Бозе». Г. Дубровин, конечно, лучше знает Св. Писание, чем я, так как он обличал даже митрополита Антония, тоже знатока Св. Писания, но я в этом отношении большой невежда и не могу найти никаких соотношений между «в Бозе почившим» и «в Бозе свободным». По-моему, даже самый славянский язык, чудесный и выразительный в Евангелии и в церковных песнях, является совсем комичным и противно лицемерным в политических статьях.
Повторяю, я говорю только о возможностях оппозиционной Думы среди того анархического брожения, которое, как полая вода, все еще держится на высоком уровне. В это время надо много труда и энергии не только правительству, но и партиям, которые желают скорейшего наступления мирной и рабочей жизни.
Рекомендую это октябристам, недовольным мною. Они любят песнопения о хороших и милых людях, которые, и ничего не делая, способны сидеть в Думе и быть министрами. Но я критикую их партию из желания им добра и в ожидании, что они станут национальной русской партией и хорошенько поищут депутатов в будущую Думу не за своим только столом и не около него.
8(21) июня, №11220
DCCIX
Г. Маклаков сделал себе имя оратора во второй Думе. Он, очевидно, обладает и темпераментом, если позволил себе сказать в кулуарах:
— Это не Дума, а кабак.
Когда приставали к нему, чтобы он объяснил, каким образом сорвалось у него это выражение, он совсем не был таким сильным адвокатом самого себя, каким сильным обвинителем он явился против военно-полевых судов. Защищать себя самого гораздо труднее, чем нападать на других. Я мало знаю его, как адвоката, но склонен думать, что он не принадлежит к числу тех немногих адвокатов-художников, к каким принадлежит, например г. Андреевский, речь которого в защиту г. Андреева, убившего свою жену, представляет собою по яркому, но спокойному анализу, по отсутствию всяких криков и фальшивого пафоса, по чувству, благородно и скромно выраженному, один из шедевров адвокатского красноречия. Мне кажется, что у г. Маклакова этого совсем нет, по крайней мере, этого не было в его думских речах, хотя он был там запевалой. «Я юрист и насквозь законник», сказал он одному репортеру, который зондировал его по поводу роспуска второй Думы. «Насквозь законник» — это или адвокатская привилегия, или печальное недоразумение. Ни адвокат, ни политик не могут быть «насквозь законниками». Им обоим приходится рассуждать и даже «поступать» в той области, которая в значительной степени стоит вне писанного закона. Они держат в руках закон, но совсем не для того, чтобы быть насквозь законниками. Если бы г. Андреевский был «насквозь законником», Андреев угодил бы в Сибирь. Адвокат и политик, — разумею их, конечно, во всеоружии таланта и знания человеческой природы, — могут сказать о себе, что они делают закон, закон своей воли, своего таланта и ума. В сущности, адвокаты и политики, — самые завзятые беззаконники и все дело в том, как они проповедуют и заставляют себе подчиняться. В силе таланта и ловкости все их обаяние и значение, даже значение таких людей, как революционеры, как, например, г. Церетели. Он начал Думу искренней революционной речью, и он же кончил ее такой же искренней речью, среди которой была только одна ненужная фраза — «красиво умереть» — отзывающаяся шаблонным романтизмом. Он дал направление Думе, как композитор дает направление своей опере увертюрой. Он дал ей и финал, после которого Думе ничего не осталось, как мирно разойтись, без всякого протеста, без всяких поездок в Выборг или Гельсингфорс. Он побил своей речью всю кадетскую увертливую, неискреннюю тактику и возбудил даже у правых одобрение своей прямотой, идущей против всего существующего. Кадетам ничего не оставалось, как отложить решение вопроса о выдаче г. Церетели и других до понедельника. Никто и ничто им не мешало сказать в субботу «выдаю» или «не выдаю», но отложив ответ до понедельника, они якобы выигрывали перед общественным мнением, которое могло возмутиться тем, что правительство не подождало мудрого их решения. Решение это дал г. Церетели, и надо было или идти с ним в революцию, или разойтись, так как в понедельник Мирабо не мог родиться из Родичева…
Только искренние, одаренные талантом и глубоко верующие в свои убеждения люди могут действовать на общественное мнение и вести за собой Думу. Именно таких людей хотелось бы видеть в той русской национальной партии, которую мы желаем и которая поставила бы вопросы ясно и просто, без всяких виляний и фокуснических приседаний вправо или влево. «Я законник насквозь» г. Маклакова и «скорбь» октябристов о роспуске Думы и о нарушении основных законов — все это из области лицемерия и «тактики», а не из законности.
Не говоря о том, хорош был бы, например, Бисмарк, если б руководился принципом быть «законником насквозь», как можно быть человеку партии, имеющей свою дисциплину и свою «тактику», «законником насквозь»? Тактика есть искусство побить своего противника, подойти к нему поближе, хорошо рассмотреть, изучить его достоинства и с особенным вниманием его недостатки, чтобы ударить именно на них и сбить его с толку. Тут и законы, и беззаконие, и сверхчеловечество, и добро и зло по ту сторону, где сидит черт, интриги и заигрывание. Тут всякие «каналы» хороши, и когда они оканчиваются победой, то трубные звуки ее заглушают всякие протесты.
Зачем же рядиться в «законника насквозь», когда законы для того и существуют, чтобы нарушать их, как кто-то сказал. Даже самые простые законы десяти заповедей, начиная с «Аз есмь Господь твой» и кончая «Не пожелай жены ближнего твоего» свободно нарушаются. Не убей — читай: «убивай во имя освободительного движения», не укради — грабь и надейся на свою ловкость и силу; не прелюбы сотвори — прелюбодействуй и чем больше, тем легче тебе простится. Г. Маклаков хорошо знает, что из «законника насквозь» вышел бы только сквозной ветер.
Эти «законники насквозь» выдвигают вперед старые теории, чтоб прикрыть свое беззаконие или напасть на беззаконие других. «Общество поправело», а потому следовало предоставить дело своему течению. «Стихийной революции» никакой нет, говорит г. Маклаков, точно бывают какие-то «стихийные» революции и не стихийные. Великая французская революция стихийная или не стихийная? В ней много было роковых ошибок власти, которая или не понимала, с чем она имеет дело, или развешивала губы, путалась в противоположных решениях — ordres et contre-ordres и ordres hésitants — бросалась то вперед, то назад и не обнаруживала ни характера, ни воли. Французские мужики разрушили 10 000 усадеб. Наши, кажется, до этого числа еще не дошли, но наша революция в ее острых проявлениях, при сочувствии значительной части интеллигенции и толпы, продолжается непрерывно вот уж два недобрых года. Она уже пожрала многие тысячи жертв, стоила России миллиарда денег, приостановки труда, промышленности, торговли и проч. и проч. И она не стихийна! Бессмысленное, адвокатское слово, рассчитанное на добрых оптимистов, которые забывают, что народились совершенно новые явления. Не говорю о бомбах, являющихся грозным оружием, государству угрожает осадой не прежняя революция, а новая, социальная, действующая средствами, которых не было ни в XVIII, ни в XIX веке, в течение которых они только приготовлялись. Правительства, не наше одно, осаждаются сплоченным рабочим классом, союзами, забастовками, пропагандою в армиях, погромами, восстаниями и социалистическим учением, выросшим в боевую систему. «Законники насквозь» не стараются ли показать, что умеют пролезать сквозь игольное ушко закона, становясь из жирных коров фараонова сна телятами, которые сосут двух маток, революцию и конституцию, и превосходно себя чувствуют?
Дай Бог, чтобы прав был А. И. Гучков, сказавший во время земского обеда 113, что «революция делает последние потуги, и скоро ей конец».
И Саул бывал во пророках.
15(28) июня, №11226
DCCX
Почему «опасность грозит самой конституции»? Почему этот московский съезд так ненавистен всем кадетам, товарищам, их приятелям и родным? Не посылайте в Таврический дворец «людей, все государственное творчество которых исчерпывается щедринскими: «сокрушу, не потерплю», восклицает «Речь». А разве вторая Дума не заключала в себе этих самых людей, которые только и говорили и в публичных заседаниях, и в комиссиях, и в частных беседах: «сокрушу, не потерплю»? Разве на скамьях в Думе не сидели заговорщики, рядом с теми, которые сами о себе говорили, что они «законники насквозь»? Кадетский орган ухватился за мои заметки об этой фразе г. Маклакова и причисляет меня к беззаконникам. А я сказал только правду. Всякий талантливый адвокат и талантливый политик непременно стремятся к тому, чтобы внести в закон свою мысль, свои убеждения, свое толкование, и каждый из них кричит, что он «законник насквозь». Это — тактика борьбы, и «Речь» знает это лучше меня. Законы потому и меняются, что об них ежедневно кричат, что они беззаконны, и стараются обойти их всевозможными путями или лезть на них, как на стену, очертя голову, не жалея ни себя, ни случайных жертв, которые попадаются в свалку. Мирные конференции могут вырабатывать самые чудесные законы о войне, самые гуманные средства для истребления врага, а когда война настает, вся эта дипломатическая гуманность уходит в подполье, и прав остается тот, кто сражается всеми средствами, забывает все правила мирных конференций и одерживает победу. Никогда еще не бывало, чтобы победителю сказали:
— Ты сражался не по правилам мирной конференции, а потому твоя победа не считается. Изволь начинать сначала.
А если бы кто сказал это, победитель рассмеялся бы ему в лицо или показал бы такой кулак, который виден был бы в Гааге на расстоянии десяти тысяч верст и все гуси с криком «га-га-га» бросились бы врассыпную.
Я и говорил, если вы «законники насквозь», т. е. в существе дела беззаконники, то и против вас следует быть «законниками насквозь», т. е. беззаконниками в том же смысле.
Говорят, московский земский съезд есть олицетворение третьей Думы. Что ж тут дурного? В ней будет борьба, и даже упорная. В ней будут и правые и левые, и крайние правые и крайние левые, и равнодушные и серединные. Это наверное так будет. Наверно будут спорить, наверно будут скандалы. Это полезно во всяком случае, ибо без резких столкновений и объяснений нельзя узнать друг друга. Можно быть уверенными, что третья Дума поторопится выработать несколько законов, и эти законы будут лучше существующих уже потому, что само правительство представляет законопроекты прогрессивные. Бояться отступления назад — детство. Россия пойдет по новому пути, как пошла она при Петре Великом. В сущности, и Дума нужна преимущественно для того, чтоб побольше лучших людей явилось на виду у всех и чтоб они показали, какие они умные и способные люди и как умны и способны те, которые их послали. Вот, наше золото, вот русский ум, вот красота русского племени!
Не правда ли, ведь так? Было ли так, другое дело. Не об этом речь. Речь о будущем.
Боятся, что Дума будет дворянская. Я сомневаюсь в этом уж потому, что боятся этого сами дворяне, т. е. самая либеральная часть их. Но есть ли причины бояться даже Думы дворянской? Разберем этот вопрос с беспристрастием, но не сегодня, а завтра.
18 июня (1 июля), №11229
DCCXI
Итак, предположим, что Дума будет дворянская. Но как же это предположить? Ведь и первые две Думы были дворянские в своих выдающихся лицах. Много дворян в кадетах, в октябристах и в правых. Вопрос, стало быть, идет о том, что третья Дума грозит быть правой дворянской Думой?
— Конечно, об этом, — сказал мне… Некто.
— А октябристы не заподозрены? — спросил я.
— Пожалуй, и они заподозрены в… неопределенности. Вообще дворяне опасаются дворян. На обеде участвовало 113 человек. И этот обед напомнил дореволюционные обеды патриотическим настроением и тостами. Давно таких тостов не было и не было таких речей. Это примирение с правительством и желание идти с ним вместе.
— Так в этом все дело?
— Почти в этом все дело. Потому съезд так и ругали и кадеты, и «товарищи». Товарищи даже взяли совершенно такой же тон, как «Вече». «Подлецами», «мерзавцами» и «мошенниками» не ругались, как «Вече», но эти слова были заменены равнозначащими, и общий тон отчетов носил все признаки какого-то экстаза ненависти и злобы.
— Ваше мнение об этом дворянском съезде? Ведь он был дворянский?
— Конечно, дворянский. «Посторонних» было мало. По-моему, дворянство было скромно и даже конфузливо; оно провозглашало принцип «государственного демократизма» и повертывало спину к аристократии. Кажется, только один Марков, курский дворянин, которого газета Гучкова называла «бардом дворянства», не одобряя, само собой разумеется, этих песен, прямо назвал себя черносотенным и даже «с гордостью». Дворянство или доживает последние годы, или оно должно стать впереди реформаторского движения, совершенно отказавшись от всякого революционного и даже кадетского якобинства. Я имею основание думать, что те времена, когда дворянство резко делилось на две части — прогрессивную и реакционную, — миновали. Краски изменились, и сближение совершается. Дворянство пойдет с государем, который желает иметь в Думе «лучших людей» и «русских людей». Он несомненно за представительство. А историческое прошлое дворянства связано с представительством. Еще в Смутное время оно поговаривало о конституции, хотя этого слова и не произносилось. Со времени Анны Иоанновны оно не переставало производить «революции», как назывались по-французски дворцовые перевороты. Они достаточно известны. Декабристы все были дворяне. Они и конституцию написали, хотели освободить крестьян, несколько из них поплатились жизнью, другие целую жизнь провели в Сибири, твердо вынося испытания. Я знаю такой характерный анекдот из времени Александра II. Известный Ф. В. Чижов, умный и просвещенный дворянин, финансист, писатель и промышленный делец, беседуя со своими приятелями-купцами, загорелся пламенным негодованием, когда купец М–в стал глумиться над дворянством. Стукнув кулаком по столу и выругавшись по-русски, он закричал:
— У нас, у дворянства, были декабристы, а у вас кто?
«Люди сороковых годов» в царствование Николая I были дворяне. Александру II они помогали в реформах, они же заговорили о конституции и отказались от рабства, пожертвовав не малой частью своего достояния. Предводительство освободительным движением в 60-х годах принадлежало дворянской молодежи, мужской и женской. С этого времени идет постепенное разорение дворянства, несмотря на поддержку правительства. Они же на двух съездах, за которые печать хвалит их теперь, выработали нечто вроде декларации прав человека, т. е. опять же становились во главе конституционного движения. Но когда оно обернулось в революционное… когда стало трудно отличить революционера от земца, дворянина и даже бюрократа… Когда наши дети ушли в революцию, когда нас стали расстреливать и взрывать за нашу службу государю, когда началась междоусобная война, в которой погибает гораздо больше каждый день, чем в войну буров с англичанами…. когда запылали наши усадьбы — в это не верили два года назад ни Родичев, ни Петрункевич… когда хозяйство стало невозможным и полное разорение грозило и грозит нам теперь… когда Дума сделалась местом революционной пропаганды и самой злобной и беспощадной ненависти к помещикам и земельной собственности, — какое наше положение? Пристать к левым и идти в революцию? Признать себя ни к чему негодными и протянуться по полу и подставить свою голову и головы своих жен и детей под обух революционной демократии, чтоб она отсекла дворянские головы и, схватывая их за волосы, бросала в корзину, как кочаны капусты? У адвоката не отбирают дома, у фабриканта не отбирают магазина, лавки, фабрики, завода, у биржевика не отнимают процентных бумаг и денежных знаков, а дворянству говорят:
— Прочь из усадеб, из деревень! Это не ваше. Нажили ли вы их сами, или получили по наследству, все равно необходимо отобрать у вас землю и передать народу.
Поверите ли вы мне, если я вам скажу, что один из государственных людей, сам помещик, теперь не у дел и, кстати, это не граф Витте, — на которого все валят без разбора, — говорил мне в прошлом году:
— Ничего, что помещиков пожгут и пограбят. Их надо поучить и прижать. Пусть узнают, что это за революция, которой они не прочь были подыгрывать.
Провинциальная власть смотрела на погромы усадеб во многих местах или с равнодушием, или трусливо. Министерство финансов предписывало земельным банкам прижимать дворян-землевладельцев. И это правительство!? О Думах нечего и говорить. Во второй Думе тени Пугачева и Стеньки Разина все время летали, утешенные и довольные.
Революция, говорят. Да черт с ней, с революцией. Если б разом не поставили Россию в рамки народоправства, никакой революции не было бы. А то не было ни гроша — и вдруг алтын. Разбудили все инстинкты и поощряли их с легкомыслием ребенка, не думая о последствиях. Правительство, работавшее над реформой, было по плечу самому обществу, т. е. так же невежественно и легкомысленно. Оттого и получилась анархия, которую развили еще больше обе Думы, в особенности вторая…
Уж если по революции надо отвергать собственность, то всю; если разорять собственников, то всех. Когда станут отбирать дома, заводы и фабрики, все собственники завопиют непременно, но пока жребий выпал на землю, все другие собственники довольно равнодушно к этому относятся и даже сочувствуют этой экспроприации, потому что она касается преимущественно нас, дворян. Не будь социал-демократов, которые прямо заявляли в Думе и в своих газетах, что сначала надо отобрать землю, а потом все прочее, не будь погромов и грабежей, мы бы еще не скоро очухались. Наш традиционный либерализм, уживавшийся с крепостным правом, любезно готов был уживаться и с романтизмом революции. Эти романтики есть и теперь. Им хочется найти такой красивый и удобный экипаж, на котором можно было бы ездить в гости к революционерам, посещать вместе с кадетами женщин, скучно говорить об охоте с октябристами и показывать издалека кулачок правым.
Кадеты вели дело хитро и тонко, но им не удалось скрыть, что кадетская буржуазия — это денежная буржуазия по преимуществу, буржуазия в значительной степени интернациональная и даже якобинская. Они хорошо знают, что до денег добраться мудрено. Они в конце концов сосредоточатся у евреев, и они будут продолжать давать их в рост и социал-демократам, и анархистам, и республиканцам. Потому евреи — союзники революции и террора, потому обе Думы и не хотели осуждать «террористические деяния», или «акты». Какая деликатность — «акты» и «деяния»! В Думе называли нас грабителями и разбойниками и не только кадеты, но и октябристы барственно молчали. Многие продали свои имения выгодно и потому стали радикалами. У нас ведь это не исключение, а чуть ли не общее правило. Коли деньги в кармане — все страны тебе открыты. У кого земельная собственность и кто стоит за нее, как другие стоят за фабрики и заводы, тот за порядок и мирные реформы. Сколько я могу судить по своим наблюдениям, дворянство проснулось от революционных сновидений, но все оно, почти поголовно, за реформу, за лучшие свои традиции и против революции. Оно очень хорошо увидало, что его хотят сделать козлом отпущения, ограбить, разогнать и выбросить в окно, как выжатый лимон. Некоторые бюрократы были весьма в эту сторону и довольно цинично, забывая культурные и государственные заслуги дворянства, забывая, что армия держится дворянским офицерством. За Столыпиным большая заслуга, когда он явился в Думу со своей речью. «Меня окружили на трибуне, депутаты встали с мест, слушали явно с неприятным чувством, — я это видел по выражению лиц, напряженно ко мне обращенных, — но слушали внимательно». Так он говорил одному знакомому про свою аграрную речь. Те 130 тысяч помещиков, над которыми измывалась Дума и печать после речи Столыпина, в сущности то же, что 270 тысяч голов, которых требовал Марат для благоденствия Франции. Травля эта продолжалась и во время нашего съезда. Если б он был ничтожен, на него не вылили бы столько ненависти и злобы. Дворянство или земство — все равно — сыграло хорошую роль.
— Итак, вы рассчитываете, что третья Дума будет дворянская?
— Если соберется дружная компания, дворянство может много сделать.
— А в Крестьянском банке, думается, много материалов для того, чтобы судить о возможности этой компании. Спросить бы об этом у А. В. Кривошеина. Он близко стоит к помещикам, как директор земельных банков.
— Дело не в численности землевладельцев, а в отборе их. Пусть слабые продают имения и уходят, по воле или неволе. Сильные останутся и объединятся. Другого такого благоприятного момента для выступления не будет.
Кто знает? Может, дворянству и суждено ввести новый режим, может быть, именно оно и поможет правительству утвердить реформу 17 октября. Оно начало борьбу за освобождение, оно дало отечеству много талантливых слуг, оно и докончит это дело вместе с государем. Может быть, в нем сохранились черты благородства и творческих традиций. Не говоря о живущих, хвалят же после смерти графа Гейдена. А он не Пестель, не Родичев и даже не Шингарев. Г. Родичев вспоминает чистых людей из дворянства, Ю. Самарина, князя Черкасского, Н. Милютина, противопоставляя им тех, которые затравили Пушкина и Лермонтова и о которых Лермонтов с негодованием выразился в чудных стихах своих на смерть Пушкина. Но эти — не дворянство, эти — интернационалы, придворные льстецы и карьеристы, эти — сверхдворяне, свысока смотревшие на все действительно даровитое и славное и помнившие только о себе. Это те, которые говорили, подобно г. Родичеву: «Отечество — это мы». Ни Ю. Самарин, ни князь Черкасский, ни Н. Милютин не пошли бы вместе с кадетами, не поехали бы вместе с г. Родичевым, князем Долгоруковым и князем Шаховским в Польшу, чтобы искать себе там союзников и обещать раздробление России.
Ни за что и никогда бы не поехали…
Может быть, история оправдает именно тех, которые теперь осмеливаются твердо заявлять свои умеренные убеждения и отстаивать постепенную реформу, а не валить все набок и в пропасть. Во всяком случае, дворянство имеет право на борьбу и пусть оно борется, пусть оно выставляет из своей среды настоящих борцов. Беда, если их нет, если дворянство совершенно оскудело и не может против борцов выставить своих борцов и поневоле склонит голову, и ее отрубят, и опустят в корзину беспощадной истории. Во всяком случае, дворянство выступает на окончательный экзамен — пан или пропал. Оно должно заботиться не о том, к какой партии принадлежать, к кадетам, октябристам, правым или революционерам, а о том, сколько в нем в наличности государственного смысла, сколько у него действительно дельных, просвещенных и крепких душою людей, готовых бороться словом и делом с анархией, и велика ли у него любовь к отечеству. Опыт революции — огромный опыт, и совсем неумно и нечестно упрекать московский земский съезд первыми двумя съездами, когда этого опыта ни у кого не было, и когда в головах бесшабашно царствовал революционный романтизм, и когда иные дворяне кричали: «мы — революционеры».
20 июня (3 июля), №11231
DCCXII
Обвинительный акт против гг. Стесселя, Рейса, Фока, как главных виновников сдачи Порт-Артура, ударил как обухом по голове. Нерусские имена этих трех генералов, конечно, ничего не значат, ибо среди истинных героев русской военной истории есть дорогие русскому сердцу имена иностранные; но Румянцев, Суворов, Кутузов, Скобелев всегда будут сиять ярче и теплее у русского человека, чем имена иностранные. Это особенная, но совершенно понятная народная психология. Поэтому имена Стесселя, Рейса и Фока звучат особенно неприязненно, а имя г. Смирнова, четвертого обвиняемого, как имя скромного русского человека, которого заели немцы. На стороне г. Смирнова есть несомненные симпатии и, если его обвинять, то только за то, что он не арестовал Стесселя и не расстрелял его, когда он, вопреки военному совету, послал г. Рейса в японский лагерь даже не для переговоров о сдаче, а для принятия от японцев условий сдачи. Что они назначили, то и было принято. Я слышал это еще в то время, когда явились в Петербург первые участники сдачи Порт-Артура.
Обыкновенно обвинительные акты обнародываются в первый день заседания суда, когда они прочтены перед судьями и обвиняемыми. К этому порядку мы привыкли. В данном случае этот порядок нарушен, но не нарушен закон: обнародование обвинительного акта может быть сделано, как только его получили подсудимые. Суд будет осенью, как говорят, в слякоть, в изморозь, среди осенних эпидемий. Может быть, так оно приличнее. Без солнца, во мраке тумана, осеннего дождя и пронзительного ветра…
Обвинительный акт против г. Стесселя поистине ужасен. Ведь это измена, это напоминает в некоторых отношениях, конечно, только в некоторых, генерала Базена с его сдачей Меца. Нельзя читать без негодования тех фактов и заключений, на основании которых построены обвинения. Эти обвинения превышают все то, что можно было себе представить. Левые газеты после сдачи Порт-Артура увенчали г. Стесселя венцом «гражданского мужества» и поставили его, таким образом чуть ли не во главе русской революции. И это «гражданское мужество» действительно достойно было венца, ибо оно нанесло страшный удар военной славе России. Прославляя доблести защитников Порт-Артура, иностранные газеты в один голос говорили тогда: «Защита Порт-Артура была блистательная. Генерал Стессель отныне громкое историческое имя». И за этими словами следовало: «Россия потеряла свое значение не только на Востоке и в Китайской империи, но и в Европе». И эти слова стали пророческими. Порт-Артур пал, и России ничего не осталось, кроме «мира, конечно, невыгодного, но не позорного», как прибавляли газеты. За Порт-Артуром следовали Мукден и Цусима. Но не сдай г. Стессель крепости, может быть, не было бы ни Мукдена, ни Цусимы. Будь он так же мужествен, как его солдаты, война могла бы получить другой исход. Говорили тогда, что даже Л. Н. Толстой негодовал на эту сдачу и говорил: «Надо было взорваться и погибнуть».
После этой сдачи Порт-Артура высоко взвилось над Россией красное знамя революции, а генерал Стессель торжественно проследовал в Японию и затем в Россию в венце «гражданского мужества».
Когда приехали в Петербург первые очевидцы и участники этой сдачи и стали рассказывать подробности военного совета, передачи крепости, орудий, снарядов, продовольствия, настроения десятков тысяч пленных, их пешего похода, их обиды, унижения и слез, рвало сердце от какого-то смешанного чувства ужаса, злобы и отчаяния. И тучи сгущались и сгущались и заставляли полузабывать этот прошлый позор, и загоралась надежда на успех эскадры адмирала Рожественского. Когда генерал Стессель явился в Петербург, его не забросали каменьями и гнилыми огурцами. Сдача Небогатовым кораблей более возбудила негодования, чем сдача Порт-Артура, потому что защита его войсками была действительно блистательная и не поднималось голосов для того, чтоб обвинять вождя, имя которого прогремело в мире. Общество, мало осведомленное благодаря цензуре, более верило мужеству защитников, чем трусости начальников, и имя генерала Кондратенко взвилось, как символ мужества и таланта, над павшим Порт-Артуром. Цусима и Портсмутский мир покрыли густым облаком позор сдачи этой крепости.
И вот история раскрывает книгу этой ужасной войны, запечатанную отчаянием, бесталанностью, корыстолюбием, попрошайством протекции, отсутствием не только любви к отечеству, но даже приличия, общей растерянностью и распущенностью вождей, неизвестно по каким причинам ставших вождями. Рука истории ломает эту крепкую печать и медленно, судорожною рукою, раскрывает книгу, страницы которой залиты благородною кровью павших, страданиями раненых, стоном и слезами по городам и селам России, и между строками, по широким полям книги, всякой мерзостью и гнилью.
Раньше Порт-Артура происходит сражение при Цзиньчжоу, где командует генерал Фок, являющийся в обвинительном акте бездарнейшим человеком, получившим Георгия 3 ст. за то, что он проиграл сражение, которое мог бы выиграть всякий даровитый поручик. Вожди лгут друг другу, лгут войскам, лгут в Петербурге, лгут на весь мир и навешивают на свои груди знаки Георгия Победоносца. Японцы имели дело с такою бездарностью, глупостью и трусостью начальства, с чем-то столь пошлым и отвратительным, что сердце снова болит от заживавших уже было ран, и ненавистнические слова просятся с языка, как бессильные проклятия.
Слава отечества, века военной ее славы, блестящие планы на Великий океан, через который русский народ мог подать братскую руку американскому народу, — все погибло. Подгнило то, что когда-то было крепко и сильно, зашаталось и повалилось с шумом, подняв тучи ядовитой пыли и напоив землю кровавым наводнением. Точно злой рок, обнажив ядовитые зубы, нарочно вытаскивал ими наверх всякую посредственность и, вливая в нее свой медленный, но действительный яд, давал ей распоряжаться Россией, а все благородное, даровитое и мыслящее корчилось в отчаянии, кричало со стоном и проливало слезы.
Эти бездарные и пошлые люди, эти гнилостные отложения в организме великой державы, ничего не видели, ничего не чувствовали и только гнались за жалованьем и орденами, готовые плевать на всякую ответственность, потому что не могли себе вообразить, что эта ответственность настанет, что она может настать для таких высокопоставленных вождей. Кто посмеет их тронуть, кто закричит на них гневом многострадального народа и позовет их на праведный суд? А вот же он будет, будет, будет! Он не утешит, не смягчит горя, не воротит потерянного, но он оправдает мужество, он отделит, как на Страшном суде, добрых от злых, преступных от благородных.
Ужас этого обвинительного акта поднимает все воспоминания о несчастной войне, раскапывает заросшие травой забвения могилы, поднимает тени погибших, поднимает бледный и величавый призрак русской военной славы, окруженный сонмом почивших героев. «Что вы сделали? Что вы похоронили? Через год двухсотлетие Полтавской победы, и над ней, как близкая звезда, уже загорался славный Ништадтский мир, включивший Россию в Европу. Куда вы шли и о чем вы думали, жалкие потомки наши?»
Президент Соединенных Штатов, Рузвельт, пошептавшись с японцами, является посредником и «честным маклером», более зловещим, чем Бисмарк, для мира, который не идет ни в какое сравнение с Берлинским конгрессом.
Японцы насмеялись над ним и развенчали этого «честного маклера» к концу его карьеры. Может быть, и на солнце великой республики явилось черное пятно, проделанное этим маклерством…
Кто знает? История полна тайны. Люди и народы умирают. Люди и народы нарождаются. Взят ли кем тот заступ, которым должна быть вырыта могила России? Или все это испытания и бури перед зарей нового дня?
Дай, Господи, чтоб засиял новый день и вырастил мужество и силу жить благородной и великой жизнью.
8(21) июля, №11249
DCCXIII
Я считаю, что наша статья о франко-русском союзе явились как раз вовремя и сделала очень хорошее дело. Она вызвала полемику во всех европейских газетах и заставила тишайшую русскую дипломатию и французское правительство несколько подумать и встрепенуться. Вместо угроз французских радикалов в палате, вместо заявлений со стороны некоторых членов французского правительства по отношению к России, заявлений, радостно и с торжеством принятых левыми газетами и партиями, появились дружественные заявления известных политических деятелей Франции, что франко-русский союз необходим, что его необходимо поддерживать и оберегать. Оба правительства сделали то же. Брань на «Новое Время» доказывала только, что стрела, пущенная им, попала в цель. Если Октав Мирбо обратился в «Neue Freie Presse», в Вену, со статьей, враждебной России, то даровитый этот писатель не может забыть своего еврейского происхождения. Оно его толкает, и оно кладет на его произведения семитическую печать вражды. Русская дипломатия, при своей тишайшей политике, была недовольна нашей статьей. Зять Карла Маркса, француз Лафарг, пришел от нее в негодование. Все эти «негодования» и «неудовольствия» совершенно понятны. Наша статья растолкала и друзей и врагов России и заставила их высказаться. Призрак Германии сам собой появился на горизонте в таком виде, что незачем было его пояснять и на него указывать. Заигрывания нескольких парижских газет с Германией нимало не ослабили германской тени, прошедшей по Европе. С самого вступления на престол Вильгельма II я чувствовал уважение к германскому монарху, к его таланту управлять и пользоваться обстоятельствами. Я всегда думал, что от самой России, то есть от русского правительства, зависит та политика, которая сумела бы жить со всей Европой в мире и сохранять франко-русский союз в его живой и деятельной форме. «Новое Время» пропагандировало этот союз еще в то время, когда к нему относились наши сферы недоверчиво и боязливо. Я лично участвовал в празднествах парижских, когда союз был заключен, и был свидетелем того живого и яркого энтузиазма, который тогда проявлялся. Покойный наш посол барон Моренгейм рассказывал мне в Биаррице о заключении этого союза:
— В докладе министру иностранных дел Гирсу о союзе с Францией я написал: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Государь Александр III написал около этих слов: «И моему», и этим решен был вопрос о союзе.
Граф Пав. А. Шувалов, тогдашний наш посол в Берлине, рассказывал мне, когда я возвращался с парижских франко-русских празднеств, что немцы, с императором во главе, с большим тактом отнеслись к этим празднествам. Император увеличил свою любезность к нашему послу, к которому он всегда относился к уважением и нередко попросту заходил к нему и беседовал с ним.
— Если я что знал о политике нашего министерства иностранных дел, — говорил граф Шувалов, — то только из этих бесед с императором, который, конечно, получал сведения от своего посла. Петербург по большей части молчал и оставлял меня без всяких инструкций и ответов на мои вопросы.
Когда наши несчастия разразились, во Франции естественно упала вера в союз. Наша дипломатия наделала пропасть ошибок до японской войны. Если граф Муравьев был бездарен и самонадеян, то граф Ламздорф не уступал ему в этом отношении. Российская дипломатия велась, в сущности, военным престижем и престижем императорской власти, а вовсе не дипломатией, которая и в данное время плетет какое-то вологодское кружево, вероятно, очень искусное, но малопонятное. Может быть, так и надо, чтоб никому не было понятно то, что делается. Сфинксом быть приятно, но не все — сфинксы, для которых необходим мудрый Эдип. Российские сфинксы сильны были только тем, что не позволяли никому себя разгадывать, и даже разгадчики подвергались наказанию, ибо, по мнению сфинксов, они всегда необыкновенно премудры и все сделали бы великолепно, если б им не мешала печать. Она мешала их премудрости и в подцензурное время, мешает и теперь.
Но, повторяю, статья «Нового Времени» о франко-русском союзе была очень полезна именно для этого союза, для его поддержания и важности. Она напомнила об нем, ибо он стал забываться. Надо было сказать, что Россия не quantité negligeable, что, несмотря на свои поражения и свою революцию, которая хуже этих поражений, это все-таки великая страна, способная дождаться своего возрождения и занять в мире подобающее ей место. Она способна дождаться, если правительство русское проникнется сознанием, что оно не само по себе только — «мы ваши господа, а вы наши дети», — но что оно — представитель великого народа и должно дело делать, а не сочинять легион законов и ждать, когда эти законы будут введены. Дело делать — значит вникать во все вопросы, во все нужды России, исследовать их, помогать всем, кто хочет работать, и тем возбуждать к работе и мало или вовсе не думающих о ней. Никакая Дума ничего не сделает, если само правительство будет сидеть по-старому у моря и ждать погоды. Непогода-то и требует усиленной работы и энергичной инициативы.
15(28) июля, №11256
DCCXIV
«Когда-то А. С. Суворин довольно зло шутил над переговорами между правительством Витте и правительством Хрусталева и даже, помнится, держал пари, кто кого арестует. Это было в «первом периоде». Теперь «тем серьезнее вздымаются противоположные волны», и… тем грознее звучат голоса Булацеля и Дубровина».
Это из «Речи», которая несколькими строками выше говорит, что в «Русском Знамени» «по адресу министерства раздаются речи, подобные которым министры слышали… разве только с кафедры первой Думы. «Уйдите с ваших постов, вы, у которых дремлет совесть, вы, которые»… и т. д. «В чем выражается «ясный ум» и «решительный характер» Столыпина? В том, что, когда ему, наконец, приказали распустить Думу, он, скрепя сердце, исполнил обещание?.. Имена Столыпина, Арбузова (?), Щегловитова, Кауфмана и некоторых других сотрудников Столыпина стали настолько ненавистны всему русскому народу, что надо удивляться властолюбию этих господ, остающихся на своих местах, несмотря даже на недоверие, которое к ним питают миллионы русских людей»…
Очевидно, кадетский орган сравнивает министерство Столыпина с министерством графа Витте, и Союз русского народа, во главе которого стоит Дубровин, с Советом рабочих депутатов, во главе которого стоял Хрусталев. Мне бы теперь, поэтому, следовало посоветовать г. Дубровину арестовать П. А. Столыпина, как советовал я Хрусталеву арестовать графа Витте, чтоб таким образом существовало не два правительства, а одно.
Не знаю, желает ли г. Дубровин сыграть роль Хрусталева и учредить второе правительство, но его газета изъявляет сожаление по поводу того, что для охраны дачного помещения первого министра истрачено 65 тысяч. Неужели он жалеет об том потому, что арестовать или убить П. А. Столыпина не так легко, как в прошлом году, когда он жил более открыто: тогда взорвали его дачу, искалечили его детей и убили несколько десятков человек, приехавших к нему на прием? Вообще подобные упреки я считаю большим свинством со стороны г. Булацеля, редактора «Русского Знамени». Когда г. Дубровин или его присные станут на место П. Столыпина, они ведь тоже принуждены будут охранять свои жилища в такое время, как наше. И во всех странах делалось и делается это, когда тревожное состояние общества к тому принуждает. Самое «Русское Знамя» грозит расправою с теми, которые не разделяют убеждений его редакции или которые покажутся ему подозрительными…
Вспомним прошлое для назидания настоящему, то прошлое, которое дало России два правительства. Это было не за горами, а в самом начале так называемого освободительного движения, которое разбросало столько трупов по России, столько разорило людей и осветило проклятыми «иллюминациями» усадьбы.
Граф Витте никак не мог думать, что манифестом 17 октября воспользуется революция. Он думал, что манифест этот — начало торжественных манифестаций спокойной части русского общества, которое своим восторгом задавит революцию и она не посмеет и цыкнуть. Кажется, он рассчитывал на кадетов или поверил им, а, может быть, верил своему собственному чувству и своей проницательности во тьму времен. Когда он увидел, что революция овладела движением, он не обеспокоился особенно и сказал сам себе и своим министрам: «laissez faire». Пусть побалуются. Пусть потреплют друг друга и сами потреплются, а мы притворимся сильными и станем сочинять временные законы. Когда общество увидит, как его треплют и что такое свободная печать без закона, взывавшая к бунту и к погромам, к провозглашению святыми убийц, и проч., и проч., тогда оно закричит: «Спасите нас, мы погибаем».
И тогда начнется благополучие. Но граф Витте опоздал и опоздал не потому, что хотел опаздывать, а потому, что не знал, что такое Совет рабочих депутатов и его голова, Хрусталев-Носарь. Он, полномочный министр финансов, почти диктаторски управлявший Россией в течение чуть не десяти лет, когда все министры пред ним пресмыкались, пред ним, у которого находился государственный кошель, — не был в состоянии понять, что какой-нибудь там Носарь-Хрусталев может управлять Россией. Что такое этот самозванец? Он даже не самозванец. Он не выдавал себя за кого-нибудь другого, не носил какое-нибудь важное и священное имя. Он был просто Носарь. Русскому бюрократу, поклоннику самодержавия — а граф Витте был таким, могу вас уверить, — казалось диким, что такая ничтожная величина может управлять. Стоило графу Витте поднять палец в прежнее время — и трепет распространялся, и тридцать тысяч курьеров готовы были действительно скакать от Петербурга до Эривани, от Петербурга до Берлина, Парижа, Лондона и Пекина. Обольстительно. Как не верить своей власти после такого опыта.
А между тем секрет заключался в том, что у графа Витте никого не было, кроме «собственных» министров, а у Носаря-Хрусталева были и министры и Дума. Да, он догадался открыть Думу раньше, чем граф Витте. Совет рабочих депутатов — это именно была Дума, и притом парламентарная, избиравшая себе министров. Носарь был первым министром. Армия его была рабочие и интеллигенты. Дума его сообщала прения своим газетам, и они их печатали. Я говорил тогда, что это времена Смуты, когда царь сидел в Москве, а Тушинский вор в 60 верстах от Москвы. Но мне говорили: «Вы шутите, вы иронизируете. Откуда это вы взяли?» Когда я советовал Носарю арестовать графа Витте, смеялись тоже. Только французский посол, г. Бомпар — извиняюсь перед ним за эту нескромность, но ведь это прошлая история, — делал жест удивления и говорил:
— Что же это такое? Неужели Витте ничего не видит, он, такой властный человек?
Граф Витте не видел, искренно не видел. Если бы он видел, он открыл бы Думу в декабре, он объявил бы выборы на конец ноября и Г. дума покрыла бы Думу Совета рабочих депутатов. Будь она хоть разрадикальная, она была бы лучше Думы Хрусталева. Если этого нельзя было сделать так скоро, он должен был проявить сильную власть и заставить себя слушаться. А он взялся за ум, когда появились манифесты, подписанные революционными партиями, приглашавшие население брать свои сбережения из государственных сберегательных касс и объявлявшие о банкротстве правительства. И население слушалось. Кассы опорожнились на сотни миллионов, бумаги летели вниз, распространялась паника. Заговорили даже о приостановке размена на золото. Начался бунт в Москве, а когда его укротили, начались восторженные описания этого бунта.
Таково следствие двух правительств. Если дело идет о сравнении Витте-Хрусталевского момента с моментом Столыпино-Дубровинским, об этом можно серьезно подумать и разобраться в таком странном приключении. Но я убежден, что г. Дубровин — не Носарь, а у г. Столыпина есть уже опыты и пример графа Витте. Это — во-первых, а что будет во-вторых, об этом в другой раз.
20 июля (2 августа), №11261
DCCXV
Я с большим интересом читал подробности свидания двух императоров. Самая торжественность, какою оно было обставлено, производила впечатление. Мы начали отвыкать от подобных торжеств. Революция сузила свободу в этом отношении, расставив заговорщиков и убийц, как своих часовых, на всех путях, которые до нее были свободны для Верховной власти и населения, всегда с сердечным чувством встречавшим государя в его столице.
О чем беседовали два императора наедине, об этом мы не скоро узнаем. Разговоры министров более или менее известны, да и то на языке общих мест о поддержании мира и о дружбе двух народов. По-моему, особенный интерес этого свидания заключается именно в личностях двух монархов, которые не видались более двух лет — и каких лет! Оно не лишено было волнения с обеих сторон и внутреннего, глубокого драматизма. Как наш государь, так и император Вильгельм II не могли встретить друг друга без повышенного чувства, очень сложного, не только как представители двух царствующих династий, как частные люди, если можно так выразиться, но и как монархи двух великих народов, много испытавшие в последние годы. Я думаю, что это свидание должно оставить в душах обоих государей искреннее, теплое чувство, более сильное, чем оно могло выразиться в обеденных тостах, и потому-то это свидание должно иметь особенную историческую ценность.
Будущее никому неизвестно. Но каждый шаг настоящего должен быть учтен с особым вниманием. Ежедневные события не проходят без следа для истории; судьба народов — влажная почва, на которой остаются отпечатки всего живущего. Счастливый немецкий император встречал своего русского собрата, который перенес столько волнений и горя, что их достало бы на долгую жизнь. Но счастье — родная сестра несчастья, и потому в благородных душах всегда растет сочувствие и укрепляется сердечная близость.
Мне кажется, что та кошка, которая бегала между Англией и Германией, не была особенно злобной кошкой и бегала без определенного намерения; в настоящее время она убежала в какое-нибудь место, может быть, туда, где Великий океан разделяет Японию от Америки. Если для Америки неизбежна война с Японией, то возможно, что Америка станет искать союза в Европе и, может быть, найдет его в Германии. Для этого союза есть уже данные, как нравственного, так и матерьяльного свойства. Дальний Восток не перестанет играть роль в судьбах Европы и Америки, и вы еще можете дожить до таких неожиданных сцеплений с фантастическими результатами, о которых теперь никто не думает. «Желтая опасность», которую император Вильгельм пропагандировал и словом, и своим известным рисунком, не может быть им забыта и может повести его или его наследника к комбинациям, о которых дипломатия теперь и не мечтает. Может быть, вы увидите японцев в Европе. Говорят же, что будто в соглашении Франции с Японией существует тайная статья, по которой Япония обязуется высадить в Марселе добрую сотню тысяч или более своего войска, для чего Англия дает свои транспортные корабли, в случае войны Франции с Германией. Со своей стороны Франция отдает Японии свой Тонкин и, конечно, много денег. Это — ахинея, но одна из тех ахиней, которые свидетельствуют о необыкновенном повышении фантазии в международных отношениях. Блеск японских побед ослепляет мир, но японцы — только малая часть Азии, самой населенной части света, пробуждающейся в дыме и громах японских побед. На всем земном шаре живет 1530 мил. душ. В Азии 830 мил. душ, то есть более половины всего человечества. Из Азии пришла цивилизация в Европу, и из Азии пришли народы, разрушившие ее. Что будет, когда эта страшная масса миллионов совсем проснется, станет цивилизоваться, заводить свои фабрики, приготовлять у себя дома все то, что теперь для них приготовляет Европа? Что будет даже через 20 лет, когда Китай будет иметь двухмиллионную армию, трудно себе представить. Международная роль России, благодаря ее обширным владениям в Азии, может быть, только начинается, как начинается ее народно-политическая роль. Кто знает, может быть, не за горами то время, когда Соединенные Штаты пришлют своего Витте в Петербург для мирного договора с японцами после войны с ними, которую так неустанно предсказывают.
Фантазия, скажете вы. Кто знает, что это фантазия? Ведь мы начинаем жить в фантастическом веке, каким обещает быть этот 20 век!
27 июля (9 августа), №11268
DCCXVI
Еще о лейб-еврее. Дело это, оказывается, имеет серьезное значение. «Бюро» быстро опровергло извещение о лейб-еврее, которому вручено рыбное царство. Но это опровержение заслуживает разбора.
«Осведомительное Бюро» есть только передаточная инстанция, так сказать, курьер для всех министерств. Сведения о лейб-еврее оно получило из департамента земледелия в министерстве князя Васильчикова. А этот департамент, конечно, получил эти сведения из 4-го своего отделения, которым управлял Кузнецов, уехавший на Байкал, а теперь управляет лейб-еврей. Оказывается, этот департамент сам не знал, как не знал и лейб-еврей, председателя рыбного комитета, образованного при этом департаменте, и назвал второпях бывшего члена Г. совета по выборам X. Н. Хвостова. Когда это осведомление явилось в печати (№11269 «Новое Время»), то кто-то сообщил в министерство, что управляет рыбным комитетом не X. Н. Хвостов, а X. Н. Хлебников. Тогда князь Васильчиков велел снова опровергнуть уже самое опровержение своего департамента, которое и явилось у нас вчера (№11270). Отсюда видно, что этот рыбный комитет есть именно то учреждение, которое самому департаменту земледелия так мало известно, что он не знал, кто председательствует в этом комитете.
Затем, кто же этот лейб-еврей? Я бы не стал злоупотреблять этим словом, если бы департамент земледелия назвал своего чиновника по фамилии. Он скрыл это имя. Об нем только сказано, что он еврейского происхождения, университетского образования, деловит и энергичен, и что он сын чиновника министерства иностранных дел. Но разве это министерство состоит при рыбном промысле? Дипломаты его, по мере сил, конечно, ловят рыбу в мутной воде политики, но это не та рыба, о которой идет речь, и департамент не сообщает никакого научного труда по рыбе или рыбным промыслам, принадлежащего заместителю г. Кузнецова. Он — усердный канцелярист, и только. Неизвестно даже, по какой специальности он работал в университете, то есть по какому факультету он слушал лекции, и имеет ли этот факультет какое-нибудь отношение к рыбе. У нас, как известно, ученость не обретается в авантаже, потому что она мешает самим министрам быть авторитетными. То ли дело чиновник! Он только «исполнитель», как декламирует департамент, высших предначертаний. Это почтенное Бюро или, вернее, его земледельческий источник, путающий г. Хвостова с г. Хлебниковым, тоже не сообщает, насколько авторитетен г. Хлебников в рыбном промысле. Что министр не изучал рыбу, это можно сказать положительно, да это для министра неважно. Но председателю рыбного комитета необходима некоторая подготовка, выбранный ли он член Г. совета или назначенный. Не оттого ли так шатко у нас все, что чиновничество есть единственная специальность, которая требуется даже для специальных учреждений? Посмотрите, какая бедность научной подготовки в нашем чиновничестве и какое затмение в головах наших высших реформаторов, когда они исключили высшие технические школы из выборного представительства в Г. совете. Страна, нуждающаяся в технике, остается без земледельческих и технических школ и профессура высшей технической школы ставится ниже университетской профессуры. Стоило специалисту, г. Кузнецову, уйти, как у князя Васильчикова никого не оказалось, кроме лейб-еврея. Он все знает, все умеет и подчинит себе рыбный комитет с г. Хлебниковым. Он только «исполнитель», говорит официальное осведомление. Но городничий в «Ревизоре» тоже только исполнитель. Какой глупец поверит департаменту, что «исполнитель» лицо не важное? Еще император Николай I сказал, что Россия управляется столоначальниками. Да так оно есть и теперь. В «исполнителях» вся сила, а вовсе не в комитетах и комиссиях, которые только просиживают кресла. Поэтому отчаянная телеграмма астраханских рыбопромышленников к князю Васильчикову с протестом против лейб-еврея есть крик, совершенно понятный, и отвечать на этот крик каким-то комическим и ошибочным даже осведомлением (незнание председателя комитета) есть дело недостойное высшей власти, способное вызвать смех у одних и негодование у других. Если заграничные оперетки заимствуют свое содержание из русских административных сфер, то они имеют для этого основания. Где возможно, что правительственный департамент называет совсем не то лицо, которое управляет специальным отделом? А относительно фамилии чиновника остается повторить: что в имени тебе моем? Он просто лейб-еврей, и рыбное царство принадлежит ему, как скоро все русское царство будет ему принадлежать. Из 417 московских купцов первой гильдии 272, т. е. больше половины, евреи. Они молодцы. Их власть обеспечена уже теперь, и нам остается только ожидать лейб-еврея на месте первого министра. Думаю, что это совсем недалекое будущее. Все к этому не только идет, но и бежит.
С праздником.
30 июля (12 августа), №11271
DCCXVII
Мне не было еще тридцати лет, когда меня приглашали, по поручению П. Л. Лаврова, вступить в одно тайное общество. Поручение это взял на себя человек очень образованный, мне весьма симпатичный, изучивший Дрезденскую революцию так, что рассказывал ее движение со всеми подробностями, как военный историк мог бы рассказать Бородинское сражение. Он был холостой, а у меня уже было трое детей. Изложив мне поручение, он тут же стал мне советовать не вступать в это тайное общество, так как меня уже связывала семья. Так и было решено между нами, т. е. он передал Лаврову, что я отказался вступить в это общество. Это был первый и последний раз моего соприкосновения с тайными обществами. Я стал просто журналистом, человеком сам по себе, и года через три приобрел себе имя под псевдонимом Незнакомца.
В настоящее время я хочу поступить в масоны, или правильнее — хочу основать масонскую ложу со всеми ее обрядами. Обрядность — важная вещь. Без нее не существовали бы церкви. Масонские ложи, сколько мне известно, запрещены, хотя это несправедливо в такое время, как наше, когда существует множество тайных и явных сообществ, вред которых доказан превосходно. Масоны существуют во всем мире. Говорят, что во Франции они особенно благоденствуют. Покойный В. С. Соловьев, проживший довольно долго во Франции и напечатавший там по-французски свое известное сочинение о русской церкви, когда я стал говорить о влиянии иезуитов во Франции, сказал мне:
— Вы еще верите в эти басни? Иезуиты — почтенные люди, много занимаются наукою, но политическое их значение ничтожно. Оно не было значительным и в то время, когда Э. Сю изобразил их в «Вечном Жиде», создав тип Родена. Теперь всемогущество во Франции принадлежит масонам. Мне показывали списки префектов — все они масоны. Чтобы попасть на какой-нибудь мало-мальски высокий административный пост, надо быть масоном. Евреи играют в масонстве большую роль, и нет той ложи, в которой не было бы евреев. Это огромное и могущественное братство, которое ведет свое дело необыкновенно искусно. Оно о себе не только не кричит, но отрицает свое значение и даже нередко свое существование, но тем оно деятельнее и крепче. Недавно один из драматургов написал пьесу о масонах, театральная цензура ее не допустила на сцену. Журналистика молчит о масонах за весьма редкими исключениями, которые не находят себе поддержки. Все связаны тайною и все пользуются выгодами, которые доставляет своим членам братство.
Я знал двух русских масонов. Один постоянно жил в Париже и был даже секретарем в одной ложе. Другой жил в Петербурге. Они не скрывали от меня своего масонства. Парижского знакомого я раз даже проводил до самой ложи, помещавшейся недалеко от улицы Saints Péres. Но они очень были скромны о заседаниях лож и вообще о масонских делах.
Во время японской войны среди высшего петербургского общества существовало твердое убеждение, что дело тут не обошлось без масонов, что между военными, занимавшими большие посты, были масоны, что генеральный штаб наш имел масонов. Мне приходилось слышать об этом от лиц очень высокопоставленных, которые называли мне даже имена генералов-масонов.
Мне верилось, и не верилось. Мало ли чего не бывает. Когда пал старый режим, сколько открылось таинственного, сколько мы узнали при помощи печати таких фактов, которые скрывались столетием. Наши революционеры стали писать воспоминания и печатать их. Мы узнали всю механику тайных обществ, подробности заговоров, жизнь и характеры действующих лиц, и узнали лучше, чем из политических процессов, когда и подсудимые, и прокуроры, и адвокаты лицемерили и лгали. Конечно, ложь есть и в этих воспоминаниях революционеров, но она не преуменьшает факты, намерения и деятельность, а скорее все это преувеличивает, чтоб увеличить свой героизм.
— Да вы шутите о масонах? — сказали вы.
Зачем шутить? Я говорю серьезно. Масонство нужно было бы для объединения русских людей, только русских, с исключением всего того, что не русское. Программа русского масонства должна быть по возможности лишена всего того, что называется политикой, и в особенности должна быть заклятым врагом политиканства и партийности. Партийность является у нас политической холерой, и симптомы ее похожи на холерные симптомы. Всех несет речами и ослабляет организм в его правильной деятельности. Русское масонство должно бы заниматься подбором русских людей на всякую деятельность и следить за их честностью, трудолюбием и развитием способностей. Оно должно было бы облегчить всякую деловую инициативу и брать на себя хлопоты для проведения в жизнь всего полезного, доброго и производительного. Этого не сделают ни Дума, ни правительство, ибо и Дума, и правительство почти исключительно должны заниматься политикою и взаимными столкновениями, не исключая перебранки. Говоря «должны», я разумею европейские порядки, ибо своего мы ничего не выдумали. Там дело обстоит так же, но там зато люди давно уж приобрели все те качества, которые необходимы для того, чтобы все прогрессировало. Там личная инициатива развита веками, там связь науки с практической жизнью установилась крепко, там уж никто высокомерно не отнесется к тем самопожертвованиям для развития своей родины, которые у нас сплошь и рядом встречаются с равнодушием или с высокомерием того невежества, которым мы так известны.
Кстати, упомяну об одном факте из жизни Менделеева. Мне рассказывал это один очень талантливый человек, который принужден был оставить государственную службу просто из-за женского скандала, который, в сущности, не стоил выеденного яйца. Наши государственные люди блюдут внешний декорум, и под этим декорумом проходит множество зловредных вещей безнаказанно. Но кто нарушил его, тот будь хоть семи пядей во лбу, его выбросят для удовольствия посредственностей и бездарностей, которые обыкновенно обладают талантом и с женщинами быть посредственными. Менделеев одно время страстно занимался Северным полюсом. Изучив все путешествия туда, он нашел два направления, которыми никто не пользовался. Он написал записку и обращался к разным инстанциям о снаряжении экспедиции. Разумеется, везде он нашел холодный прием. Характерно особенно то, что он предлагал взять с собой всю свою семью — так велика была его уверенность в том, что он напал на правильный путь.
Я рассказываю об этом только кстати. Дело не в Северном полюсе, а ближе. Есть много русских людей, которые готовы работать, исследовать неоткрытые богатства России, изобретать, вообще людей, богатых инициативой, энергией, наукой и готовностью положить свою душу на самую неутомимую деятельность. Но им неоткуда взять поддержки. Скорей ее найдут революционер и разрушитель, чем созидатель. Большие и полезные дела делаются без шума, без красноречия.
Наши министры все в политике и будут в ней пребывать. Они не имеют за собой преданий или, вернее, их предания в Европе, но мало еще сознанные. Они все в бумагах и докладах, все в комиссиях. Жизнь собственно, ее сущность, дело, работа, остаются вне их ведомств и вне политики. Вот и надо основать русское масонство, такую связь между людьми, которая выдвигала бы все полезное и деятельное, все честное, не попадающее или не желающее попасть в политику.
Я не распространяюсь. Я намекаю только на идею, которая, разумеется, требует развития. Масонство международное придет и к нам и возьмет в свои руки все то, что должно бы оставаться в русских руках и русским умом сделано.
5(18) августа, №11277
DCCXVIII
Мое последнее «Маленькое письмо» о масонстве возбудило столько внимания в печати и в особенности в обществе, что, очевидно, мысль о подобном тайном обществе, в котором бы участвовали только русские, носится у многих.
Одна газета нашла мой проект «опасным», реакционным, «тайным центром» для явного центра; другая ей посочувствовала и назвала мой проект «истинно-русским масонством»; третья, сочувствуя моему масонству, говорит, что бюрократия прикроет подобное общество; четвертая, что только женщины могли бы основать масонскую ложу, а мужчины на это неспособны. Женщины не отозвались на мое письмо, но мужчины отозвались, многие с самыми горячими приветствиями и готовностью вступить в члены. Несколько человек посетило меня, чтобы переговорить об этом вопросе.
Хотя масонские общества запрещены, но это запрещение не имеет теперь и иметь не может смысла. Раз политические партии существуют, начиная с союза русских людей и кончая партиями социалистическими и революционными, то и сообщество людей во имя тех национальных, кровно-русских прогрессивных идей, о которых я говорил, имеет право на существование. Правда, правительство одни партии признает, т. е. легализирует их, а другие не признает, но они существуют, действуют, ведут пропаганду и проводят своих членов в Думу, и эти члены не имеют причин, как прежде, скрывать свою принадлежность к тем или иным организациям. Я сказал о необходимости некоторой тайны и некоторых обрядов. Но в каждой политической партии, не исключая правых, существует тайна. То, что называется, например, «тактикою» партии, основано на тайном соглашении лидеров партии с главнейшими ее членами. Простые солдаты партии знают программу партии, но не знают того механизма, тех существенных подробностей, того «сердца» — позволю себе так выразиться, — которым приводится эта программа в движение. Скажу более: нет того дела, мало-мальски широкого, которое могло бы существовать без того, что называется тайной. Самая душа человеческая есть глубокая тайна, и прекрасные ее порывы, может быть, обязаны самым таинственным ее проявлением.
Обрядность, конечно, отвергается политическими партиями. Обрядность признается чем-то смехотворным, комедийным, но в таком сообществе, о котором я говорю, обрядность я считаю необходимою по многим причинам, о которых не место здесь говорить. Она, понятно, должна отвечать смыслу дружества и говорить лучшим сторонам человеческого духа. Дело идет прежде всего о том же самосовершенствовании, которое так высоко ставит Л. Н. Толстой. В этом отношении он до известной степени наследник масонов, которых он изучал для «Войны и мира». Я говорю о том чистом, гуманно-мистическом смысле масонства, которое привлекало к себе в XVIII и первой четверти XIX века лучших русских людей. Теперь оно изменилось, стало международным, попало в зависимость от евреев и обратилось в политическую партию. А я говорю не о партии, а о той общности государственных, нравственных, бытовых и материальных интересов русских, которая должна их связывать помимо политического настроения и тех его оттенков, которые служат предлогом не только полемики, но и вражды между ними, точно они идут в совершенно противоположные стороны. Политическая партийность искажает все самое лучшее и искреннейшее, что есть в человеке. Партии ругаются словом «бюрократия», как чем-то позорным, а сами в сущности образуются по тем же бюрократическим принципам и ведут между собою, даже близкие партии, такую же глупую и вредную войну, как разные бюрократические ведомства между собою. Нужна «сердечная связь» между русскими людьми, как выразился один из писателей, полагающий, что дело спасения России придет от женщин. Я знаю только, что на русских шла осада и с Запада, и с Юга, и с Востока самой Русской империи, точно им место только на Севере — обрабатывать тундры или поступить в соловецкие монахи. Все левые науськивали Европу и Америку на Россию, злобно шептали банкирам: «Не давайте ей денег», чуть не говорили: «Чего вы ждете — пугните ее войной!» Все это угнетало национальное чувство и оскорбляло его. Русские люди в Русском царстве начинали себя чувствовать одинокими, без связи. Какое бы дело ни делалось, даже русский руководитель его сейчас же осаждается рекомендациями взять к себе в помощники инородцев, преимущественно евреев. Они — подрядчики, они — адвокаты, они — сочинители проектов, они — помощники министров. Печать, адвокатура, торговля, все либеральные профессии пополняются не русскими людьми. Слово «русский» высмеивается прибавкою к нему «истинно». Патриотизм называется мерзостью. Сами русские люди, в своем увлечении политическими партиями и в своей стыдливости не прослыть черносотенцами, действуют в пользу «угнетенных» евреев. Партия «народной свободы» с самого начала была партией «инородной свободы» и точно нарочно выдумывала, соединяясь с еврейством, неприемлемые проекты законов, не существующие ни в одной стране, но льстящие невежественной массе. Русские великодушно-легкомысленно забывают, что всякий еврей выгоняет двух-трех русских, если он вступит в какое-нибудь дело; всякий еврей, вступающий в высшие школы, затрудняет в них доступ десяти русским. Еврейский полуталант забивает хороший русский талант своей юркостью и настойчивостью в достижении целей. В высшем управлении даровитому еврею первое место. Где гениальному Менделееву нет места, там услужливый и юркий еврей в чести. Рыбные промыслы отдаются какому-то еврею, который с этими промыслами знаком только по копченому сигу. У нас на 80 миллионов русских 8 миллионов евреев. Если во Франции, где на 40 мил. французов приходится только 150 тысяч евреев, евреи побеждают и скупили целую треть недвижимой собственности, то с нашей стороны было бы беспримерным идиотством не бороться с этим нашествием, которое будет хуже татарского. Дряблость русской администрации, ее вельможество, ее любовь к произволу, протекциям, подкупу всевозможными способами — зло вековое, мало поддающееся уменьшению. На эту тему можно написать целую книгу, эта тема найдет в памяти и опыте каждого русского множество оскорбительных фактов и тайн.
Если я упоминаю имя масонов, то как образец крепости их организации и распространенности их, а содержание — дело русских людей. Толстой основою своего учения о самоусовершенствовании ставит религию, веру в Бога, евангельское учение. Но толстовство явилось чем-то очень исключительным преимущественно потому, что в нем единственным апостолом был только он сам, и самое учение его совсем удалено от реальной и особенно национальной жизни. Кроме того, весь свой большой ум он употреблял на беспощадную критику религии, государства, науки, всех больших основ существующего общества. На отрицании нельзя создавать, что доказывается самим Львом Николаевичем. Он еще недавно отрицал репортерам значение своих художественных произведений, основанных отнюдь не на отрицании, забывая, что Евангелие есть превосходный роман, выражаясь современным языком, «благовествование», написанное с художественною простотою, прелестью и трогательностью. Нагорная проповедь, если б исключить ее из Евангелия, не создала бы христианства. Так и рассудительные сочинения Л. Н. Толстого гораздо короче по своему действию, чем его художественные произведения. Хорошо и крепко организованное общество есть постоянное творчество характеров и возбуждение необходимых нам единства и энергии.
Беру из одного письма, полученного мною и не предназначенного для печати, несколько строк, может быть, слишком мечтательных, слишком далеко метящих, но выраженных с искреннею верою в возрождение России, что должно быть вероисповеданием и делом того тайного общества, о котором мы говорим:
«В это лихолетье русскому человеку, в короткий срок так страшно много пережившему, страдавшему за родину, страшившемуся за ее судьбу и оскорбленному в лучших своих чувствах, отрадно отдаться крылатой мечте.
То содружество, то русское братство, о котором вы говорите в вашем последнем «Маленьком письме», будет работать на общее благо, — для осуществления культурных целей, ради духовных и материальных успехов родного народа. Это братство будет расти и укрепляться, если оно сумеет сочетать достижение национальных целей с уважением к свободе.
Оно будет стоять не за застой и политические перевороты и не за якобы «исконные» начала русской государственности, а за постепенное и неуклонное движение вперед, находящееся в органической связи с нашей стариной и нашими особенностями.
Для цели духовного единения русского народа нужна будет не революционная «Лига просвещения», а охватывающая все три ветви русского народа «Школьная матица» или подобная ей организация; для подъема же физических качеств народа, кроме улучшения его питания, Сокольские общества — мужские и воспитывающие будущих матерей — женские. Эти чешские «едноты», поддерживающие начало союзности и дисциплины, думается мне, заслуживают подражания.
Братство будет продолжать работу по собиранию предметов народной старины, преданий, песен и народного орнамента. Оно поддержит такие национальные начинания, как мастерские кустарей московского земства, княгини Тенишевой, мастерские села Абрамцева, школы черниговского и полтавского земств. Еще работают глубоко национальные творцы-художники, как Римский-Корсаков, В. Васнецов, Нестеров и их последователи, и труды их будут пользоваться заботливым вниманием будущего союза. Право на заботы союза будет принадлежать всем честным русским труженикам, всем пионерам и исследователям на обширном пространстве русской земли. Братство будущего, может быть, возьмет на себя и одну «политическую» реформу, о которой не заикается правительство и не обмолвился, как кажется, никто из членов первой и второй Г. думы: оно будет бороться с обычаем извлекать едва ли не самую крупную отрасль государственных доходов из страсти народной к вину. Оно возвысит обаяние государства, освободив его от добровольно принятой им на себя роли кабатчика, и, уничтожив пьянство, ослабит обнищание и остановит физическое и нравственное вырождение населения. Отдельные лица, входящие в состав будущего братства, будут, конечно, открыто заниматься творческой работой, поддерживать и создавать общества и учреждения, цели которых находятся в согласии с целями братства». Далее автор письма рисует мечту, «когда русским братьям удастся стать хозяевами русского дела, создать национальную школу, армию, потушить классовую и племенную борьбу, укрепить государство, зажечь опять огонь патриотизма, воскресить былое обаяние, увеличить блеск прежней славы, когда в государстве русском все будут говорить на «великом, могучем и свободном русском языке».
Пусть это только благородные мечтания о такой силе братства. Но оно может много сделать, если создастся и станет действовать с непреклонным упорством. Надо начать дело тем, у кого есть достаточная энергия, любовь к России и способность организации. Я исполняю свое дело, как журналист, и твердо знаю, что никогда не пожалею о том, что говорю в настоящий час.
12(25) августа, №11284
DCCXIX
Меня достаточно ругали наши газетные противники за то, что я заговорил о русском масонстве, ругали в передовых статьях, смеялись в заметках. Одна заметка была очень милая и у меня вызывала веселую улыбку. Как я ни стар, но я могу еще смеяться вместе с теми, кто надо мной смеется. Эта форма полемики мне всегда была любезна, как наиболее литературная, хотя порой она бывает и наиболее злой Передовики просто ругались и злились. Этой ругани, злобы и клевет, переходящих все границы, я вынес в своей жизни так много, что если бы в этих клеветах была хоть десятая часть правды, я давно бы погиб с своей газетой. Но я еще существую и надеюсь умереть от собственной старости или от болезней, а не от тех ударов, которые несутся со стороны врагов моей газеты.
Что, в самом деле, я сделал такого ужасного предложением образовать общество по образцу масонского? Я лично предпочитаю свою газету всем тайным обществам и, если б мне предложили сделаться гроссмейстером самого тайного из всех тайных обществ, я бы благоразумно отказался. Я — литератор и журналист, который никогда не принадлежал ни к каким тайным обществам. Я уверен в моем призвании, никогда ему не изменял и не изменю. Вся моя деятельность, литературная, журнальная, издательская и театральная, проходила на виду у всех и своим источником имела мое литературное дарование и любовь к просвещению. Но существование тайного общества для защиты русских и русских интересов я признаю полезным и даже необходимым в виду того множества тайных обществ, которые теперь существуют и которые имеют своей целью свергнуть правительство и изменить монархический режим на республиканский или социалистический. Достаточно упомянуть о революционных тайных обществах и в особенности об обществе бундистов, чисто еврейском, которое одно нанесло моей родине самые тяжелые раны. Мне говорили, что это еврейское общество имеет тесную связь с масонами, одной из самых решительных и кровавых отраслей масонства. Я оговорился в прошлом письме, что не масонское общество я предлагаю учредить, а только взять из масонства организацию. Масонскую ложу нельзя учредить без сношения с масонами. У них всемирная связь и, несмотря на частные различия, они учреждаются не иначе, как с согласия самого же масонства. Учреждать действительно масонскую ложу — это значит попасть из огня да в полымя, т. е. присоединиться к такому союзу, который менее всего имеет в виду благо России.
Я предлагаю учредить просто русское содружество, которое связало бы между собою русских и дало возможность знать друг друга на больших пространствах нашей империи и подавать друг другу добрые и худые вести. Одна журналистика бессильна сделать то, что сделать необходимо.
«Речь», этот орган партии инородной свободы, имеющей главною целью осмеивать и отрицать все русское и забрать в свои руки бразды правления, как взяла было она в свои руки Государственную думу, сделав ее чисто революционною. Правительство одно время так считало себя несчастным и жалким, что уже протягивало дружелюбно руку этой партии и чуть не шептало, как любовница: «возьми меня»! Это время, слава Богу, прошло, и правительство решилось опираться только на свой авторитет, стараясь его восстановить и утвердить реформами и заботою о народе. Отсюда эта вражда партии инородной свободы, этого кадетского лагеря, командир которого, в виду гроба русского сознания и патриотизма, говорит:
— Смотри веселей!
Я бы хотел, чтобы русские не прятали в преждевременный гроб своих русских чувств и говорили бы тоже:
— Смотри веселей!
Время действительно тяжелое, оно, вероятно, продлится еще, но я думаю, что русское чувство просыпается, просыпается патриотизм, о котором на этих днях говорила «Речь», объясняя очень туманными и даже смехотворными фразами, что такое патриотизм кадетский, в отличие от патриотизма «казенного». Против патриотизма начал писать Л. Н. Толстой несколько лет тому назад. Как всегда, он говорил, что думал своей собственной головой и не прибегал к этим дурацким определениям патриотизма словом «казенный». Его аргументация, вся до конца, разбивалась о патриотизм «Войны и мира», который не имеет ничего общего с патриотизмом тридцати тысяч Милюковых с их еврейским легионом. Вся слава России создана патриотизмом, и на войне и в мире, и русский человек не нуждается в его определении. Патриотизм чувствуется всем существом и в особенности по подвигам, совершенным в жизни действительной и в жизни творческой русской фантазии. Только дьяки и дьячки кадетской партий воображают, что это чувство поддается определениям, как например, географические и исторические границы. Или признавать патриотизм, или его отрицать. Искать его — значит, не иметь его или подделывать. Толстой отрицал его, незыблемо утвердив его в «Войне и мире». Крайние левые отрицают его, призывая пролетариев всех стран соединиться. Он присущ государственном людям, генералам, офицерам, солдатам, купцам, мужикам, образованным людям, всем тем, которые признают, что они прежде всего русские и потом уже что все человеческое, прекрасное и великое не чуждо им. Придавленные несчастной войной, негодующие на ее предводителей и на поспешный мир, угрожаемые революцией, приниженные, оторопевшие, русские люди прятали свое чувство перед наглостью этих отрицателей, в маскарадных костюмах убежденных сыщиков настоящего патриотизма. Наглость этих сыщиков, одобрявших убийства и грабежи из-под полы и кричавших: «отечество — это мы!», получит свое возмездие в пробуждающемся русском чувстве, которое возьмет не наглостью, не убийством, а силою своего русского разума и своим единством в любви к родине. И опасаясь этого и видя, что это начинает совершаться, сыщики настоящего патриотизма ругаются, злятся и клевещут.
17(30) августа, №11289
DCCXX
Месяц тому назад я вернулся из Венеции в Петербург. Здесь меня встретила та ведьма, которая носит имя инфлюэнцы и доселе держала меня в своих лапах. Я не могу сказать, что совсем от нее освободился, но мне начинает казаться по всему тому, что доходит до меня в устной передаче, что инфлюэнцой болеют более или менее все. У всех повышенная температура, некоторый бред, недомогание, кашель, насморк, бессонница и какие-то странные, бессвязные видения не то наяву, не то во сне. Никто, кажется, не свободен от какой-то осенней, томящей, расслабляющей и угнетающей атмосферы. Когда она кончится, когда пройдет эта освободительно-разрушительная инфлюэнца? Ей конца не видно. Она как будто поранила жестоко организм России, и придется лечиться томительно долго, соблюдая диету и подчиняясь дисциплине, налагаемой на больного врачами. Беда, если самих врачей тронула эта болезнь и они не чувствуют себя свободными. А ведь это, пожалуй, и так. Кто совсем здоров? У кого достанет смелости сказать, что он вполне здоров, что он не чувствует на себе никаких вредных влияний, никакая зараза его не коснулась и не оставила следа в его нравственном и политическом образе?
Собралась третья Дума. «Никакого толка из нее не будет», — говорят одни. «Она-то все и устроит», — говорят другие. Плачут о двух первых Думах, перебирая их добродетели, как в «причитаньях» по умершим. Вот-то были Думы, вот-то были люди! Не дали им только ничего делать, а то они бы натворили. Жаль, что ребенок умер, а то он сделался бы замечательным человеком. «Он у Господа сделался ангелом», — говорят матери, имевшие несчастие потерять своих малюток. Две первые Думы получили уже ангельский чин, а потому пускай они и сидят в ангелах. О настоящей Думе у меня нет определенного мнения. Я читал только два последних заседания, да прочел предсказательную статью г. Максима Ковалевского в «Révue Bleu». Как у Ивана Ивановича Перерепенка была чудесная бекеша, так и у Максима Максимовича есть своя чудесная бекеша, в которой он является, когда счастливая мысль осеняет его. Бекеша эта — «Révue Bleu». В ней он явился и со статьей о третьей Думе прежде, чем она собралась. Он похвалил г. Плевако, как оратора первого сорта — orateur de premier ordre, — г. Милюкова, как стратега первого сорта — de tout premier ordre, — г. Дмовского, как политика первого сорта, г. Капустина, как ученого, г. Гучкова, как почти ученого (erudit), начавшего свое поприще этюдом об Одиссее, хотя, «к сожалению, г. Берар предупредил его в этом»[31], но, съехидничав насчет московского Одиссея, М. М. ставит его наравне с Милюковым, как лидера партии. Два Аякса, или Альфа и Омега или, как говорит Некто в Халате, Аква и Онега — все равно вода. «La Douma sera réfotmatrice ou elle ne sera pas». Так заключил он свою статейку, и в этом он, конечно, совершенно прав. Дума станет работать над реформами, или ее совсем не будет.
Я слышал, что долго толковали о том, что у нас такое, самодержавие, или конституция, или обновленный строй. Я бы на месте октябристов назвал: «Veränderte Russland», как в известном сочинении Вебера о России, преобразованной Петром. Так, без перевода, и назвали бы русскими буквами «Ферендерте Русланд», чтобы никто, кроме немцев, ничего бы не понял. Оно и учено, и хорошо, и никому не обидно.
По моему мнению, Россия в вывеске не нуждается после того, как Петр Великий назвал ее империей. Надо начать жить новою жизнью и по-новому работать. Несомненно пока, что мы живем при старых законах, не исполняя их, и ожидаем новых, может быть, для того, чтобы их тоже не исполнять. У нас это удивительно как хорошо устроено и, может быть, на свете нет другой страны, к которой так шло бы слово «самоуправление». В России, кажется, было только два времени, когда ею управляли — Петр Великий и Екатерина II — в остальное время она самоуправлялась, причем Николай Угодник принимал в этом некоторое участие, за что народ называет его Микола Милостивый.
Разговоры о вывеске для России шли по поводу адреса государю. В нем все достоинства краткости и один недостаток — хвастливость. «Мы, государь, все сделаем. И свободу насадим, и порядок устроим, и просвещение насадим, и единство укрепим, и весь свет завоюем». Если этой последней фразы в адресе нет, то она подразумевается. Конечно, отчего не похвастать? Это русская черта. Отчего не пообещать? Это тоже русская черта. Но мне кажется, что хвастовство довольно бестолково выражено. Ведь, в сущности, разве в самом деле Дума имеет такое могущественное значение, что может все устроить и все насадить? В этом устроении и насаждении участвует такое множество сил самых сложных, что Думе ни в каком случае не следует брать на себя роль хвастливого обывателя. «Дерево свободы не только надо насадить и вырастить, но надо выучиться жить под его тенью», — сказал какой-то замечательный человек, не из россиян, конечно, ибо россиянину не было повода говорить подобные вещи.
Мне бы следовало сказать об «инциденте» — такое же глупое и нелепое слово, как «анонс», — г. Родичева. Но страшно после того, что о нем уже сказано и что он испытал. Ему бы следовало самому о себе сказать искреннее и правдивое слово, если он на это способен. Он должен бы разобраться в своем состоянии, в своей «психике», как говорят теперь, до «инцидента», во время оного, когда его не только ругательски ругали, но чуть не побили, и в особенности после того, когда дружественная рука свела его с трибуны.
Происшествие поистине комичное, по моему мнению. Человек упал на улице, и зрители смеются, а он сломал себе ногу. Для него это трагедия. Что нам смешно, то г. Родичеву грустно и больно. Вот он бы и рассказал, почему ему грустно и больно. А если ему хорошо и весело — то и об этом бы рассказал. Он несомненно был разбит не возмущенным большинством Думы, не бранью и кулаками, а тем, что он совершенно растерялся и струсил. Он обладает тем темпераментом, который кричит: «отойди, расшибу!», но, встретив отпор, сейчас же готов извиниться и сказать: «я пошутил». Его воодушевление похоже на одушевление соборного дьякона, провозглашающего многолетие.
Окна храма дрожат от могучего голоса, хор подхватывает «многая лета», и храм наполняется торжественными и возбуждающими чувства звуками. Эту роль протодьякона он играл в первой Думе, и во второй, и играет в третьей. В первой он провозгласил «многая лета» бешенству революции, во втором — «отечеству», которое якобы выражалось в депутатах второй Думы, в третьей — «многая лета» галстуку. В двух первых Думах хор подхватывал, в третьей он тоже подхватил, но так, что протодьякон совсем струсил. Он, наверное, не ожидал такого происшествия. Не ребенок же он в самом деле, чтобы решиться провозгласить такое «многолетие» и затем услышать за это страшную брань, видеть перед собою кулаки и воспаленные лица и затем — и это всего важнее — просить прощения, как провинившийся школьник, испугавшийся своей дерзости и боящийся, что его высекут. П. А. Столыпин, конечно, высечь его не мог и не мог иметь такого желания. Но он мог видеть в этом дерзость со стороны депутата, которого он не может считать школьником, как депутат не может считать школьником министра. Это ответственные, взрослые люди, которые должны знать, что они говорят и что делают. Как человек, доказавший не раз свое мужество, смело ходивший к бунтующей толпе мужиков, как человек, способный защищать свою политику в это смутное время, он решился с ним драться на дуэли, если он не извинится. Г. Родичев извинился. Он заявил даже, что уж решился извиниться прежде, чем два министра обратились к нему с поручением от оскорбленного министра.
Он хорошо сделал?
Конечно, он хорошо сделал, как провинившийся школьник, показавший язык директору. В сущности г. Родичев только и сделал, что показал язык, который, — употребляю медицинский термин, — был «обложен»… кадетским налетом и, попросив извинения, принял тем самым слабительного… Когда он вступил потом на трибуну, маленькая спутанная речь его может быть переведена совсем короткою фразою:
— У меня язык «обложен», и я, граждане-депутаты, принял слабительного. Позвольте мне… выйти.
Но если г. Родичев — провинившийся школьник, то он не депутат, не народный представитель, не законодатель, и хвалить его за то, что он попросил извинения, все равно, что хвалить струсившего школьника, за которого нельзя поручиться, что он будет хвастаться, что осмелился показать язык. И немудрено, что г. Родичев, в конце концов, убедится, что он совершил нечто вроде подвига своим языком. Ему привозят цветы, посылают телеграммы и карточки, делают сочувственные визиты, а кадеты шлют ему депутацию — как тут не пожалеть, что принял слабительного! А, впрочем, Бог его знает. Может быть, он римлянин…
21 ноября (4 декабря), №11385
DCCXXI
Как это хорошо, что в министерстве иностранных дел дан был обед г. Тафту и на этом обеде присутствовали первый министр, министр финансов и военный, а А. П. Извольский произнес тост в честь нашего гостя и сказал об «упрочении исторической дружбы между двумя народами». А разве могло быть иначе, спросите вы? Бог знает.
Мне хочется вспомнить о 1867 г.
Первый мой фельетон в «СПбургских Ведомостях» был посвящен американскому монитору «Миантономо», на котором депутация граждан Соединенных Штатов приезжала в Петербург с дружественной России демонстрацией. Монитор носил имя предводителя одного индийского племени в Америке, друга белых, в XVII веке. «Миантономо» прибыл летом 1867 г. после продажи Россией Аляски С. Штатам. Весь Петербург перебывал на этом мониторе с самыми дружественными чувствами к американцам. Много было выпито шампанского, и много сказано речей самых дружеских и в Петербурге и в Москве, куда были приглашены американские гости. Горбунов уверял, что один из московских купцов сказал за обедом:
— Если государь прикажет, мы построим мост в Америку.
Русское общество в это время еще было полно движением шестидесятых годов, несмотря на польское восстание. Посещение американцев подогревало наши демократические чувства, и вечная, неизменная дружба к С. Штатам, казалось, закладывалась в русских сердцах.
Вот и я ездил на этот «Миантономо» и описывал подробно свое посещение.
Г. Тафт был тогда десятилетним мальчиком[32]. Ему, конечно, трудно себе представить то одушевление, которым поменялись тогда русские и американцы. Но по тому приему, который он встретил на своем пути в Петербург, через Сибирь, он может отчасти угадать, что в русском человеке таится какое-то родственное чувство к гражданам С. Штатов. На сколько этого чувства теперь в американцах, сказать не умею. Но его постарались уменьшить люди вроде Кеннана и в особенности евреи, которые овладели печатью в С. Штатах и благодаря которым г. Рузвельт чуть не вмешался в наши внутренние дела по поводу еврейских погромов. Благодаря посредничеству г. Рузвельта, мы получили и Портсмутский мир. Сами американцы теперь говорят, что русско-японская война была не только чрезвычайно выгодна им, но она спасла С. Штаты от кризиса.
Кризис этот готов был разразиться от недостатка работы на фабриках и заводах, но война эта дала С. Штатам заказы в сотни миллионов со стороны японцев и русских. Японцы употребляли все средства для того, чтобы восстановить С. Штаты против России, и нашли для этого благодарную почву. Может быть, посредничество г. Рузвельта было роковой ошибкой его, если допустить, что Россия заключила мир именно как раз в то время, когда она могла, наконец, бороться с своим врагом, как равный с равным. Россия никогда не могла быть соперницей С. Штатов на Великом океане, и С. Штаты должны были бы это понять. Политические симпатии их должны были бы обращаться к России, а вовсе не к Японии, которая растет не по дням, а по часам. Но симпатии народов обыкновенно на стороне победителей. Можно предполагать, что поведение японцев после заключения мира, а также пребывание С. Ю. Витте в С. Штатах, его переговоры и разговоры там несколько образумили американцев насчет японцев. Во всяком случае, американцы не успели износить сапогов, в которых приходили в восторг от японцев, как пришлось увидеть в них несговорчивых и гордых соперников. Война между Японией и Соединенными Штатами вдруг стала неотвязчивым вопросом. Враждебные чувства стали расти и нет никаких оснований думать, что этот рост прекратился. Гадать о будущем, конечно, трудно, но оно обещает нечто бурное. России придется играть в этом соперничестве между Японией и С. Штатами деятельную роль. Она может быть служебная, может быть и независимая. Это будет зависеть от весьма многих причин, из которых главные все-таки спокойная и серьезная деятельность Думы и большая или меньшая талантливость нашей дипломатии, тоже зависящей, конечно, от общего состояния империи. Г. Тафт, конечно, не праздный путешественник: он не журналист, а государственный человек, голова которого должна быть заперта на ключ в известных случаях. Куропаткин перед войною ездил в Японию. Что он там видел и узнал, мы доселе не знаем. Если бы наше правительство было догадливее, оно, быть может, хорошо бы сделало, если бы послало своего уполномоченного в Вашингтон прежде, чем начать резко держать себя в переговорах с Японией до войны. Ключ от ящика с войной, может быть, лежал в С. Штатах и Лондоне, а не в Токио и Петербурге.
Я не сомневаюсь, что есть исторически-необходимая связь между посещением «Миантономо» в 1867 г. и посещением г. Тафта в 1907 г. Сорок лет истории весьма поучительны. Это как бы поверка «сердечных» отношений, независимо от политики, от мудрых или мудреных речей и действий дипломатии. Портсмутский мир, по моему мнению, более связал Петербург с Вашингтоном, чем Петербург с Токио. Это роковая, может быть, никем не предвиденная связь, но она существует и имеет многие причины укрепляться. А в сердце русского человека несомненно существует большое дружеское чувство к С. Штатам, и если бы произошла война между ними и Японией, то наши симпатии были бы горячо и нераздельно на стороне американцев, какое бы положение ни приняло наше правительство.
23 ноября (6 декабря), №11387
DCCXXII
Пронзительный скрип стесселевского процесса не заставляет ли вас вздрагивать? Это скрипучее колесо движется по ямам и рытвинам, чтоб упасть в проклятую пропасть прошлого, которая не скоро засыплется — так она глубока. Уж обвинительный акт, сложный, мало приведенный в систему, мало освещенный единою руководящею мыслью, но полный фактов, то возмущающих душу, то жалких и трусливых, то преступных по одному своему равнодушию и халатности, уже этот акт есть скрипучее колесо, наполняющее своим противным визгом всю русскую атмосферу. Его нельзя читать без трепета негодования, близкого к отчаянию. Так вот они, эти герои, эти военачальники. Мое почтение. Как изволите поживать?.. — Слава Богу. Мы чувствуем себя превосходно. — Ничего нет лучше, если слава Богу. Но слава ли вам, слава ли русскому имени?
Процесс этот был страшно нужен. Он гораздо нужнее процесса тех адмиралов, которые сидят в Петропавловской крепости и с усердием занимаются огородничеством. Они, вероятно, и рождены были огородниками, а в адмиралы попали по тому недоразумению, которым полна русская жизнь. Была очень симпатичная русская актриса, Е. П. Струйская. Играя в пьесе «Сумасшествие от любви» испанскую королеву, она однажды оговорилась и сказала вместо «я умирала, адмирал» — «я адмирала, генерал». Наши адмиралы могли бы сказать про себя: «Мы адмирали, но не умирали». Их место поэтому в огородниках.
Процесс Стесселя развертывает одну из самых ужасных книг прошлой войны, подорвавшей нашу военную славу. Для России это была трагедия, для Европы — комедия и даже фарс. Сдача Порт-Артура — это фарс для хохочущей над нами Европы. Пусть же этот фарс будет раскрыт во всем своем объеме и пусть каждый получит в общественном мнении все то, чего он заслуживает. Уж по битве при Цзиньчжоу, которая проходит теперь перед судом, видна общая растерянность и — смею сказать — глупость. Слово «растерянность» слишком мягкое слово для обозначения того, что делалось. Слово «глупость» выражает лучше ту самонадеянность, бестолковость и бездарность, которые воплотились на поле битвы в виде вороны, и эта ворона каркала что-то такое, отчего падали люди 5-го полка и японцы выигрывали битву. Один полк сражался, да «Бобр» принял некоторое участие, все остальное смотрело и зевало, потому что никто не мог разобрать, что такое ворона каркает. Может, она в это время цыпленка уплетала и потому даже не каркала.
Нельзя спокойно говорить об этом прошлом. Пусть оно еще раз явится. Пусть оно проскрипит и разбудит спящих и самодовольных. Это один из самых ярких эпизодов не только войны, но и нашей революции. Это был клочок того красного знамени, которое потом развевалось по всей России и собирало около себя всех недовольных, обиженных и огорченных. Сданный Порт-Артур кричал во всех сердцах таким болезненным криком, что терзал всю Россию, как предчувствие смерти…
Пусть суд явится на высоте своего призвания и той справедливости, которая карает не только преступление, но и губительную, самодовольную глупость, которая не дает хода умным.
Сейчас я прочел в корректуре фельетон М. О. Меньшикова. Он между прочим говорит о талантах. Их нет потому, что нет у нас единодушия. Может, он прав. Несколько дней назад в «Новом Времени» я прочел следующие строки:
«Нужно прежде всего выработать парламентскую волю. Главный порок наших парламентских партий заключается в безволии».
Это сказал А. А. Пиленко. Образуйте волю, и дело в шляпе. И это не только справедливо, но это почти аксиома. Но вся беда, кажется, в том, что весь-то русский организм страдает безволием. Была бы в нем воля, не то было бы. Поэтому создать ее необходимо. Но прежде всего спросим, что такое воля?
То, что называется в данном случае «волей», есть, в сущности, талант. Талант сам по себе есть высшая воля, потому что он заставляет себя уважать, себе удивляться и себе подчиняться. Это особенная способность, которою обладают немногие. Талант собирает около себя, и чем он больше, тем охотнее к нему идут. Среди порядочных людей он не возбуждает к себе зависти. Он возбуждает соревнование, вызывает энергию и порождает другие таланты, которые, может быть, еще спят, потому что никто их не зовет, никто не будит, или зов раздается такой, что он не внушает к себе доверия и любви. И толпа любит талант и обыкновенно быстро его чувствует. Талант управляет самой своей сущностью, своей находчивостью, тем новым и свежим, чем он сразу поражает других и заставляет к себе присматриваться и прислушиваться. Около него сейчас же образуется группа, сейчас же являются те чуткие люди, которые хорошо понимают, что явилась какая-то «воля», которая к себе тянет, собой очаровывает, возбуждает мысли и чувства. Это «воля» не приказательная, не воля насилия и воля силы, а воля, подчиняющая себе добровольно и влекущая к себе. Это — большой писатель, большой художник, большой ученый, гениальный актер, чудесный певец, очаровательная, умная женщина, собирающая вокруг себя выдающихся людей. Это — большой парламентский оратор, большой политик, гениальный полководец. Все эти люди — прежде всего «воля», то есть они внушают другим содержание своей талантливой личности, гипнотизируют их силою своего «я».
У нас нет талантов, может быть, потому, что не воспитывается воля. А воля не воспитывается потому, что ей негде воспитываться. Страдая безволием в особенности на политическом поприще, мы не видим и талантов в особенности на том поприще.
2(15) декабря, №11396
DCCXXIII
Во время оно, когда был жив еще знаменитый адвокат и «поляк» В. Д. Спасович, сидел он с двумя образованными россиянами, тоже весьма известными юристами, и беседовал о жгучих политических вопросах, Зашел разговор об Юго-Западном крае, кому он должен принадлежать, полякам или русским? Весьма известные юристы, будучи весьма либеральными людьми, отстаивали, однако, горячо Киев, тоже весьма известный город, основанный Кием, Щеком и Хоривом, тремя либеральными братьями. Киев должен принадлежать России, а не Польше.
— Отдать России Киев, — весь покраснев, закричал Спасович. — Ни за что! Это польский город и будет польским.
Весьма либеральные россияне, сейчас же сконфузившиеся перед Спасовичем за свою смелость, попробовали доказывать принадлежность Киева России ростом русской цивилизации.
— Русская цивилизация! — воскликнул Спасович. — Это та цивилизация, которую Петр Великий вбивал батогами русским в спину и так и не вбил. Хороша цивилизация!
Это было, понятно, до 1905 г., когда два князя, Долгорукой и Шаховской, и один болярин, Родичев, совершали свое пилигримство в Польшу и предлагали ей автономию за содействие в борьбе с русским правительством, которое князья и боляре никак не могут победить без союзников. То им нужно поляков, то революционеров, то черносотенцев, то просто разбойников. Это было до московского восстания, до выборгского воззвания и до галстука г. Родичева, которым он чуть не захлестнулся, то есть до всех этих явлений, несомненно доказавших рост русской цивилизации, которую Петр Великий батогами вбивал в русские спины. Теперь Спасович, пожалуй, высказал бы свое мнение о Киеве еще более язвительно, хотя трудно сказать язвительнее того, что Петр Великий вбивал просвещение в русские спины.
Я вспомнил об этом эпизоде, превосходно характеризующем польские вожделения, читая нашу телеграмму из Киева, где в университет введены солдаты и поставлены часовые для того, чтоб дать возможность желающим студентам слушать лекции. Слава Богу, есть желающие учиться, но, очевидно, и батоги Петра Великого еще должны действовать, но уж не для того, чтоб вбивать в русские спины просвещение, но для того, чтоб защищать русские груди, в которых горит жажда просвещения, от разбойников революции, как еврейского, так и иного происхождения.
Киев, матерь городов русских, что его ждет в недалеком будущем? Генерал Сухомлинов едва ли этим вопросом задается, ибо нашим губернаторам и генерал-губернаторам дай Бог управиться с настоящим. Где уж там смотреть в будущее. Но Киев неизменно делается очагом, на котором будут разгораться страсти, русские, малорусские, польские и еврейские. Покойный генерал Драгомиров был другом еврея Бродского. Это не я говорю, а один еврей в «Былом», где он рисует эту дружбу такими чертами, что хочется плакать от умиления. Я не верю этому еврейскому сказанию, потому, что из него как бы следует, что генерал-губернатор непременно должен быть другом какого-нибудь замечательного еврея, вроде Бродского. Но, может быть, и действительно, что без еврея теперь русским администраторам хоть в могилу ложись. Русские люди вымерли, и притом весьма основательно, и в особенности русские образованные люди. Что бы ни говорила и ни затевала революция, но без образованных людей нельзя обойтиться. А их нет. Число их уменьшается, несмотря на то, что число студентов увеличивается. Правительство, очевидно, начало понимать это, если принимает военные меры для того, чтоб дать желающим учиться. Бедное русское просвещение, когда же ты станешь на ноги и когда у тебя будет настоящий министр народного просвещения. Чего захотели?
Карамзин говорил:
— Министром народного просвещения может быть только Аполлон.
Найдите-ка Аполлона! Даже по имени трудно найти. Разве взять артиста Аполлонского? А чем он хуже будет других министров, когда он и королей играет. Играть роль министра народного просвещения очень нетрудно, потому так много плохих министров.
С захватывающим интересом читаю я процесс г. Стесселя. Мне все кажется, что и тут играет роль наше жалкое, безпастушное просвещение, наша маленькая культура. Все кажется, что не хватает именно науки, хорошего воспитания и такта. Что-то патриархально грубое рядом с внешним лоском так и вылезает в подробностях процесса. Генерал Кондратенко выдвигается, как настоящий человек среди этих пигмеев, притом состарившихся. Он убит, и оторвана голова у Стесселя, у Фока и всех прочих. Оставалось сдаться как можно скорей, чтобы слава Порт-Артура защитила позор сдачи. С каждым днем эта слава только уменьшалась, ее надо было ухватить хоть за хвост, чтобы сдаться в остатках ее сияния. Солнце освещает своим блеском и лужи на большой дороге, хотя все их значение только в том, что они портят путь. Показания генерала Куропаткина очень интересны и назидательны. Он освещает отчасти всю кампанию и старается быть беспристрастным. Мы узнали, что «тяжелый удар значению Порт-Артура был нанесен основанием города Дальнего, возникшего по инициативе министра финансов без предварительного соглашения с адмиралом Алексеевым и военным министром». Недаром в обществе этот город называется Лишним.
— Алексей Николаевич, поздравляю вас с новым городом, — сказал С. Ю. Витте, обращаясь к генералу Куропаткину, с которым он ехал в одном вагоне.
— С каким городом?
— С городом Дальним.
— Где же это?
— А вот посмотрите. — И С. Ю. Витте обязательно показал генералу Куропаткину на карте положение Дальнего.
Так мне рассказывал эту сцену один господин, присутствовавший при ней. Читая процесс Стесселя, видим, что и на войне было то же самое странное соперничество между начальниками. Почему С. Ю. Витте обошел г. Куропаткина? Адмиралу Алексееву еще можно было, пожалуй, не говорить, так как к нему многие относились с недоверием, в том числе, кажется, и С. Ю. Витте. Но для чего нужно было сделать сюрприз военному министру, с которым С. Ю. был постоянно в наилучших отношениях, этого понять невозможно, конечно, при скромных размерах нашего ума. Я и не верил вышеприведенной сцене, давно уже мне рассказанной. Широкие планы, неудержимая фантазия министра финансов о господстве нашем на Дальнем Востоке разве только могут объяснить это. Сооружение Дальнего стоило многих десятков миллионов, которые могли бы годиться для укрепления Порт-Артура.
Нет, слава Богу, что образован Комитет министров и существует Г. дума. Пусть она здравствует на веки вечные и совершенствуется на благо родины нашей. Если дружественные министры скрывали друг от друга важнейшие вопросы, то что же было между министрами, которые терпеть не могли друг друга?
Любопытно следующее признание ген. Куропаткина.
«Посетив после поездки в Японию Порт-Артур и оценив все невыгоды его в военно-сухопутном отношении, я представил соображения о невыгодах для нас порт-артурской позиции и предлагал, в целях главным образом избежать войны с Японией, возвратить Порт-Артур китайцам, продать им гор. Дальний и южную ветвь Китайской жел. дороги за 250 мил. руб., получить особые права в Северной Маньчжурии и употребить указанные 250 мил. руб. на усиление нашего положения на Дальнем Востоке».
В свое время об этом носились только слухи. Заключаю другим признанием г. Куропаткина: «Тяжелые бои в течение нескольких дней (сентябрь 1904 г.), по многим сложным причинам, в числе которых видное место должны занимать и мои ошибки, как старшего начальника, не дали нам победы над японцами». Покаяние, конечно, прошлого не исправляет, но оно несколько примиряет виноватого с невиноватыми. Генералу Стесселю следовало бы поступать так же. А он в брошюре «Моим врагам» предается такому старчески-легкомысленному и противному самохвальству и таким старчески-легкомысленным и противным обвинениям других, что становится ясно, что сдача Порт-Артура является логическим выражением свойств его души.
7(20) декабря, №11401
DCCXXIV
Я сказал об октябристах, что они «скука, а не партия». А, может быть, это и хорошо. Может быть, от скуки и работать станут. Работают в нужде, работают и в скуке. Несомненно, что Дума теряет в том общественном интересе, который возбуждали две первые Думы, где кипели страсти, где каждый день пылали зажигательные речи и каждый день ждали, что Думу разгонят и начнется восстание и такой кавардак, что Россия выйдет из него социалистическим государством, на удивление всему миру. Теперешняя Дума скромная. Зажигательных речей никто не говорит, а если кто начинает, Дума шумит и не желает слушать. Только дважды в неделю Дума открыта для произнесения речей. Очевидно, у теперешней Думы даже тем нет ни для агитации восстания, ни даже для агитации парламентаризма. Самые смелые октябристы погружаются для своего «выступления», т. е. для рекомендации своих парламентских качеств, в туман древности. Так депутат Петрово-Соловово, говоря о борьбе за политическую свободу, махнул, для примера сей борьбы, за 500 лет до Р. X., к Гармодию и Аристогитону, о которых даже «Россия» забыла, ибо, обязавшись дать полный отчет о заседаниях парламента, вычеркнула этих героев из речи достопочтенного депутата.
Я готов пойти еще дальше в истории, даже так далеко, что дальше и идти некуда, именно прямо к семейству Адама и Евы. Каин был первым убийцей и первым борцом за политическую свободу, в особенности если верить Байрону, биографу Каина. И какой был бы эффект и волнение среди депутатов, если бы с трибуны третьей Думы раздалась такая речь г. Петрово-Соловово:
— Высокой Палате известно, несомненно Высокой Палате известно, что борьба за политическую свободу началась с Каина, сына Адама и Евы, воспетого бессмертным борцом за свободу, лордом Байроном, человеком дворянского сословия, к которому в России и я имею честь принадлежать.
Это было бы даже не так несвоевременно, как кажется. Борьба за политическую свободу, понимаемую так или иначе, смотря по развитию, постоянно сопровождается убийствами. Если люди братья, то убийства эти — братоубийства; даже если они не братья, то убийства на этой политической почве происходят весьма нередко из таких же малых причин и так же безжалостно просто, как братоубийство Каина.
Пример Каина в устах достопочтенного депутата был бы тем естественнее, что, по словам Петрово-Соловово, «политическая свобода не имеет национальности, она сверхнациональна. Как русского электричества нет, так нет и русской политической свободы». Я не стану говорить о том, что всякий народ несколько своеобразно применяет в своей жизни политическую свободу, а потому она не стоит вне национальности. Доказательство этому можно без труда найти во всякой политической азбуке, сообщающей сравнительные данные о конституциях. О партийных воззрениях на эту самую вещь и говорить нечего: октябристы и социал-демократы станут в разных плоскостях. Но я склонен подобные соображения игнорировать, чтобы добраться до корня политической свободы. Она народилась еще с первым человеком. Ведь Адам уже выразил ясное стремление к политической свободе, нарушив предписание Бога не вкушать от древа познания добра и зла. Первородный грех, очевидно, заключается в чем-то, гораздо более важном, чем принято, и я думаю, что это есть стремление к независимости, к политической свободе, сопровождаемое приятным чувством удовольствия. Дело, как известно, пошло от дьявола. Но в человеке, очевидно, заложено было это чувство самим Богом так прочно, что стоило дьяволу шепнуть Еве, что плоды древа познания очень сладки и приятны, как она не только сама соблазнилась, но и Адам не устоял. За это они были наказаны ужасно. Но зато и рай сделался таким популярным словом, что человечество стало стремиться возвратить его себе. Всемирная история есть нечто иное, как стремление возвратить рай, потерянный Адамом. Уже Каин, первый сын Адама, а может, и дьявола — законность этого первенца подвержена большому сомнению — уже к этому стремится, как сказано выше, и революционер или кадет Каин убивает брата своего, октябриста Авеля. Вот откуда идут революционеры и октябристы, от Каина и Авеля, а вовсе не от Гармодия и Аристогитона.
Так ли добродетельны октябристы, как Авель, я не могу взять на себя смелость утверждать или отрицать это. Но жертвы Авеля были приятны Богу и надо думать, что и жертвы октябристов приятны Богу, если в Думе они заняли господствующее положение. По всей вероятности, они так же работоспособны, как и Авель, и так же, как он, скучны. Авель был непременно скучен, но он не мечтал о невозможном и пас свое стадо не хуже, чем г. Гучков пасет свое стадо.
Скука есть отдохновение души, сказал кто-то по латыни. Представьте себе что Россия отдохнет при господстве октябристов. Разве это не заслужит благодарности?
Все пошло от древа познания добра и зла, ибо оно приятно. «Руси есть веселие пити», сказал еще Владимир святой, и это правда. Любить, пить, курить, быть свободным и независимым — все это очень приятно. И женщина мужчине, и мужчина женщине, и конституция, и табак, и вино, и водка, кабак и кафешантаны, театр и балы — все это приятно. Всякому хочется приятного, и в этом весь смысл прогресса. Хочется рая. Он в душе человека начертан, и если человек пользуется суррогатами его, подделкою под него, то это весьма естественно. Вопрос о пьянстве, поднятый Думою, есть вопрос о приятном. Г. совет затмил Думу своими речами, своей полемикой с представителями монополии на приятное. Водка приятна тем, кто ее пьет, и приятна тем, кто ее продает. Эта общая приятность всех и заинтересовала. И министров, и депутатов, и государственных советников, и получилась неделя о зеленом змие, как кто-то сказал не по-латыни. Народ спился. Чиновники заинтересованы в спаивании, попечительство народной трезвости, заинтересованное в трезвости, и к пьянству прибавило разврат. Таково в общих чертах содержание недели о зеленом змие. Ораторы говорили красноречиво и убедительно. Одни, не повторяя изречения святого Владимира: «Руси есть веселие пити», комментировали его превосходными качествами монополии, другие говорили, что надо прибавить «веселия» другого качества, чтобы победить то веселие, о котором сказал св. Владимир. Я согласен с этими последними ораторами, но не могу не сказать, что и создатель монополии, граф Витте, привел несколько интересных соображений, относящихся именно к веселию. Одни пьют шампанское, другие — водку, одни посещают театры, другие — кабаки. Ни граф Витте, ни А. Ф. Кони, ни епископ Никон, ни все другие государственные советники, ни я в кабак не пойдем. Нам это стыдно, как стыдно поехать по Невскому в телеге, хотя сие последнее и глупо. Но мужик не стыдится ни телеги, ни кабака; но как и мы, он ищет «веселия» и приятного. Граф Витте не прав, говоря, что пьянствуют потому, что «ищут забвенья». Пьянствуют потому, что это приятно. Потому и курят, потому и любят, потому и конституции желают, потому и революции хотят. Все, что возбуждает, что поднимает нервы, окрыляет фантазию, дает порывы, — все это приятно. Повышенная жизнь обольщает. Этого никто не сказал ни в Думе, ни в Г. совете, но это самое важное.
Если г. Челышев в числе 39 депутатов хочет запретить спирт, то это просто неприемлемая блажь Что в приятном много вредного, — это бесспорно. И в половой любви есть свой известный алкоголь, сокращающий жизнь и уродующий целые поколения отнюдь не меньше, чем алкоголь винный. Но половую любовь не запретишь. В социалистическом государстве, вероятно, будет, кроме винной, любовная монополия, которая будет приносить государству еще больший доход, чем винная. Это наверно. Может быть, даже теперь эта мысль может показаться заманчивой. Основания для учреждения монополии домов для свободной любви те же, что для винной монополии: слабый надзор, взятки, мошенничество и финансы. А правительство может создать нечто совершенное и доставлять женщин самого высокого градуса и по честной таксе. Я веду к тому, что винная монополия — это социализм. И на монополиях современное государство погибнет.
Неизвестно, пьянство ли сделало революцию, или революция — пьянство, сказал государственный советник Крамер. Но что монополии делают и будут делать именно социальную революцию, в этом едва ли может быть сомнение. Правительства постепенно становятся социалистическими, т. е. берут в этом лагере, с которым борются, средства для существования государства, оговариваясь, что они заимствуют с выбором и только полезное. А социализм стремится к тому, чтобы сделать всем жизнь приятною, возвратить Адаму рай. Но в тысячелетия рай этот так загажен, как никогда не были загажены Авгиевы конюшни.
— Ах, если б ваша монополия, Сергей Юльевич, научила народ петь в церкви, — сказал К. П. Победоносцев С. Ю. Витте.
— Ах, Константин Петрович, этого никогда не будет, — сказал С. Ю. Витте.
Виноват: он этого не сказал.
10(23) декабря, №11404
1908
DCCXXV
Что такое случилось в этом году?
Да ничего особенного не случилось. И почему непременно должно что-нибудь случиться в каждом году? Иногда один день стоит столетия. А 1907 год, может, и совсем не был. Потревожьте свою память за этот год. Была борьба с террором. Было двое выборов в Думу, была собрана вторая Дума, потом распущена, изменен выборный закон, собрана третья Дума, которая разъехалась на праздники, были процессы, морские, военные, политические, были убийства, экспроприации, казни и все-таки ничего особенного не случилось. Все это как будто самое обыкновенное. День за день, нынче, как вчера.
Я бы за особенное считал появление какого-нибудь феномена, например, гения государственного, литературного, ученого, или появление в русском обществе какого-нибудь яркого, определенного и решительного направления, или какого-нибудь подобного же направления в правительстве, в каком сословии или какой партии. Ничего подобного не было и нет. Говорят, революция прекратилась, успокоение началось, Дума работоспособна, правительство дружно с Думою, октябристов можно называть по двум первым буквам их фамилий «оки» и даже, если допустить поэтическую вольность и принимать в соображение их руководящую роль в Думе, «доки»; кадеты перешли из действительной службы в запас, эс-эры и эс-деки сидят в тюрьмах, Союз русского народа тоже выходит в запас, если не в отставку.
Конечно, потихоньку да помаленьку, глядишь, число годов накопляется, накопляется опыт и люди становятся умнее. Умнее ли? Это еще вопрос. Когда были люди умнее, в классические ли времена Греции и Рима, когда не было ни железных дорог, ни телеграфов, ни телефонов, ни электрического освещения, или теперь? Если теперь люди умнее, то почему столько глупостей на каждом шагу, почему наука жизни и управления все еще ищет поэзии, военного и гражданского мужества и всяческого поучения в древности? Как управлялась древность при полном почти отсутствии приходящих и исходящих бумаг? Подумайте, не писалась такая уйма бумаг, отношений, доношений, циркуляров и ничего не печаталось. Вместо того, чтобы переписывать циркуляры, доношения и отношения, переписывались Гомер, Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Платон, Аристотель, Демосфен, Вергилий, Гораций, Цицерон, Цезарь, Тацит и т. д. Теперь пишут газеты, пишут чиновники, пишут судьи, пишут жрецы — и все пространно, и все убедительно со ссылкою на законы и авторитеты, и все написанное печатается. В Греции и Риме ничего не печатали, и однако завоевали мир и управляли миром, и оставили нам прекрасные памятники законов, философии, литературы, художеств. Все воспитание молодых поколений еще доселе зиждется на изучении языков, истории, государственных учреждений Греции и Рима. Но наука управления народами без исходящих и входящих бумаг так совсем и потеряна. В самом деле, как это греки и римляне могли управляться без такого «могущественного средства»? Не знает ли кто? Я не знаю. Может быть, они много делали, а теперь много пишут и мало делают? Может, они говорили коротко и давали простор уму и инициативе? Образовывался характер, слагались самостоятельные ответственные силы? А теперь всякое действие закрепляется и сопровождается бумагою точно для того, чтобы увековечить и осветить примеры неуменья управлять народами?
Революция кончилась, и началось успокоение. Я этого не ощущаю. Мое самочувствие мне этого не говорит. Успокоение я вижу только в том, что мы стали привыкать ко всем безобразиям, а вовсе не в том, что безобразия прекратились. Каждый день то там, то сям трагедии. Людей грабят и убивают неизвестно за что. За ними охотятся, как за пушным зверем, и после грабежа и убийства спокойно совершают тризны с обильным возлиянием. Говорят: это не революционеры. Это — просто грабители и разбойники. Но тем хуже. Значит, происходит что-то такое, чего никогда не было вне революции, вне той атмосферы, которою проникнуто было освободительное движение. Это знамя было понятно, и им объяснялись и политические убийства и грабежи банков. Но то, что теперь происходит, это — анархия в душах, это — эпидемия, которая, по моему мнению, заслуживает большего внимания, чем самая революция.
Итак, кроме этого гнусного проявления поврежденной и дикой русской души, ничего, ровно ничего 1907 год не дал. Не выдвинулось ни одного характера, ни одного общественного явления, которое было бы запечатлено высоким духом патриотизма, самоотвержения, политической или нравственной мощи. Все было половинчато, хвастливо, лицемерно и высокомерно. Подводились итоги прошлому и подводили как-то боязливо и лукаво; было откопано много грязи, были показаны дрянные характеры, бесталанные вожди, глупые демагоги на деревянных ходулях, завертывавшиеся в плащ Чацкого и спрашивавшие: «А судьи кто?» Но вместо блистательного ответа Чацкого на этот вопрос шамкался всякий вздор, от которого не осталось в общественном сознании ни единого слова. Что-то серединное, прокислое, страшно серединное господствовало и величалось, и такое же страшно серединное и прокислое текло в нервах общества. Какой-то квас, жиденький, бесцветный, который трудновато было отличить от воды. Говорят: все устали. От чего устали, что такое делали, над чем трудились, что воздвигали? Никто ничего не может сказать. Просто устали от того, что силы слабы, одушевления никакого не было, ничей голос не раздавался призывным колоколом на молитву, на общественное дело, на работу воссоздания потрясенной русской земли.
Если ничего, кроме этого, не случилось, то что может случиться в наступающем году? Он будет високосный. Днем больше, а потому тяжелее. Так говорят. Пророков у нас нет. В Париже живет некая madame de Thèbes, которая вот уже несколько лет выпускает «Альманах», в котором дает предсказания на будущий год. Предсказания эти она делает, рассматривая руки людей разных национальностей. И, конечно, в чертах общих, вроде Брюсова календаря. Иногда предсказания удаются, и потому эта г-жа де Теб получила известность. Господствует в 1908 г. планета Меркурий, благосклонная к практическим интересам. Год будет замечательный. Во Франции с весны кризисы: политический, грозный финансовый, внутренний, под влиянием внешних событий; откроется война против революционного анархистского духа, глубокое изменение в умах, возвращение к деятельности людей, роль которых считалась оконченною, самоубийства женщин вследствие политических и финансовых скандалов. Но в других странах будет столько перемен, что Франция невольно обратит на них свое внимание, и для нее год окончится благополучно. В Германии — большие затруднения. Влияние новых советников на императора Вильгельма II будет счастливо, но болезнь и смерть в императорском семействе помешают этому и затруднения не уменьшатся. Германия сделает почти отчаянное усилие сойтись с Францией. В Англии тоже большие затруднения и притом неожиданные. Хорошо еще, если она сохранит своего короля. Будет какой-то сенсационный франко-английский брак, который будет great event сезона. Она боится за английский флот к концу года. Русских рук она мало видела в этом году. Тем не менее, она знает, что брожение будет продолжаться. Que de ruines cependant, et encore des morts sensationelles. Но русские будут прогрессировать в практическом смысле, и 1908 год будет началом больших политических актов. В финансовом и промышленном отношении Меркурий будет благоприятен для России.
Так как г-жу де Теб цитирует даже «Journal des Dèbats», то из этого следует заключить, что европейская мысль совсем обабилась. Гадалкам начинают верить. Может быть, XX век — бабий век.
Что касается предсказаний о России, то вовсе не надо быть для этого пророком. Конечно, глухое брожение будет продолжаться, будут и покушения и экспроприации имущества и жизни. Ничем мы от этого не обеспечены. Но надо думать, что созидательная деятельность не остановится, что третья Дума наберется русского духа и энергии и заложит твердые основания для нового порядка вещей. Надо думать, что войны не будет у нас ни с кем уж потому, что мы будем вести себя смирно. Революция, конечно, не прекратится, но дело не в этом, а в том, чтобы усилилось противодействие ей и чтобы сложились твердые либеральные основы, на которых можно было бы стоять твердо. Надо думать, что свободный, образованный человек в русском растет, оставаясь русским, не забывая того, что в русской природе, в русской истории, в русской душе есть такие особенности, такие детали чувства и мысли, которые, развившись, прибавят миру радости, наслаждения и счастья. А главное — своей родине.
1(14) января, №11424
DCCXXVI
Из всех процессов, порожденных войною и освободительным движением, процесс о сдаче Порт-Артура — самый значительный и самый необходимый. Можно сказать, что только этот процесс познакомил нас с войною, разобрав все подробности битвы при Цзиньчжоу и осады Порт-Артура. Только из этого процесса мы узнали о тех чудесах мужества, которыми была полна эта осада, а притом такого мужества, которое требовало всего человека, напряжения всех его нравственных и физических сил. Каждый квадратный аршин отстаиваемой почвы требовал интеллигентного труда и беззаветного мужества. Одни наступали, другие защищали и часто сражались лицом к лицу. Это были настоящие богатыри и герои, достойные всяких похвал и бессмертия. Если японцы могли когда-нибудь оценить русское мужество, то преимущественно здесь, в Порт-Артуре, где их легло около 100 тысяч человек. Те битвы, о которых рассказывали свидетели и участники во время суда, стоят наряду с величайшими подвигами русского духа. Люди шли прямо умирать. Иногда больные, голодные, но они шли, отстаивали каждый вершок земли, и умирали. То, что называется «русским солдатом», высоко держало свое знамя в Порт-Артуре, и если некоторые свидетели настаивали на трудности, даже невозможности отстоять крепость, или, правильнее, не крепость, а укрепленный лагерь, если они потратили много слов и чувства, чтоб живо описать болезни, утомление, отчаяние, голод защитников, недостаток снарядов, то тем выше является та мощь русского характера, которая была обнаружена в этой осаде.
Конечно, в то же время мы узнали борьбу мелких самолюбий, узнали все то низменное, жалкое, бессмысленно самоуверенное, лживое, далекое от высокого сознания своего долга. Но и это, в конце концов, свидетельствует о той же мощи русского мужества, которое не разбивалось и об эти стены бездарности, своеволия, корысти и легкомыслия. Я помню в «Figaro», в прошлом году, письмо одного японского офицера, который одним из первых вступил в Порт-Артур. Он описывал свои впечатления с явным чувством симпатий к генералу Стесселю. Но и он говорит, что крепость могла бы удержаться еще неделю или две. Она могла еще держаться, — и это свидетельство важно, как свидетельство человека, который видел, с каким упорным врагом приходилось иметь дело и какое счастье выпало на долю японцев, что крепость сдали раньше, чем все средства защиты были истощены. Дело не в «одной или двух неделях», а в тех борцах и героях, с которыми приходилось иметь дело таким упорным и мужественным солдатам, как японцы. Только здесь две расы, белая и желтая, настоящим образом померились силами, причем высшее командование желтого племени явно стояло выше, чем у белого.
Белое, кроме того, не могло увеличить своих сил, а постоянно их теряло и потерянное не могло быть восполнено. У желтого были свободные пути сообщения с Японией, свободный прилив сил, снарядов и всякого довольствия. И горсть русских сил побеждала, несмотря на все превосходства врага. Да, портартурцы побеждали. Разве не победы — эта длинная вереница битв и беспримерных подвигов. Сколько раз они победили, сколько раз они имели право сказать: «мы одержали победу, мы усеяли холмы и горы костями врагов! Мы — носители русской победы, и если крепость сдана, не на нас за это ответственность. Мы не молили о сдаче, не требовали ее, не советовали сдаваться. Мы сражались, мы умирали, мы исполняли свой долг и готовы были умирать, как умирали наши товарищи и братья». Но начальство было гуманно, и оно сдало Порт-Артур из просвещенного чувства гуманности, из «гражданского мужества», о котором не думали ни солдаты, ни офицеры.
Весь процесс, во всем его разнообразии и высоком патриотическом интересе, совершается около этих двух понятий: военного мужества и гражданского. — Сдаваться нельзя было. Крепость могла еще держаться. Ресурсы еще были. — Надо сдать крепость. Иначе произойдет бойня. Пострадают мирные жители, которых японцы вырежут. — Вот и вся аргументация тех и других в кратких словах. Будущее во всяком случае было неизвестно, хотя военные и говорят, что нет той крепости, которую нельзя было бы взять. Но крепость, однако, держалась, хотя в Петербурге уже в августе ожидали ее падения. И нет никаких точных данных, на основании которых можно было утверждать, что она продержится только несколько дней и тогда японцы всех вырежут. Конечно, гуманность — вещь хорошая, но если я проповедую гуманность, чтобы прежде всего самому ею воспользоваться, спасти собственную жизнь и выйти целым, то гуманность теряет очень многое. На войне — самоотвержение — вот как там называется гуманность.
В этот процесс большим клином вошла известная нашим читателям полемика генерала Куропаткина и графа Витте. Она открыла те кулисы, которые были закрыты и которых не мог открыть судебный процесс. Мы узнали, как вооружался и укреплялся Порт-Артур. Узнали не все, но все-таки достаточно, чтоб судить, как высшее правительство было ниже своего призвания. Будущий гениальный автор нового романа «Война и мир» расскажет будущим поколениям тайны души наших правителей, тайные их думы, их честолюбивые замыслы, их уступки друг другу, их взаимную «закономерность», выработанную бюрократическим строем, их дружбу и камень за пазухой. Тут нужна тонкая художественная работа и ряд портретов не в тех условиях, в каких Репин писал заседание Государственного совета, свою известную большую картину, полную золота и нагрудных украшений. В числе этих портретов будет и портрет адмирала Алексеева, этой интересной во многих отношениях личности, которая являлась чем-то безответственным, роскошным по своим вкусам, сиявшим минутным блеском и быстро скрывавшимся в темноту. На процессе адмирал Алексеев представлен только своим ковром. Это — нечто вроде ковра-самолета в этой трагической сказке о Порт-Артуре. Ковер адмирала Алексеева, вопреки свидетельству г. Вершинина, спасен генералом Стесселем и доставлен по адресу. Точно спасен был целый полк вследствие гениальной распорядительности полководца. Ура! Ковер, по которому ходил наместник Дальнего Востока, спасен и будет приобретен, как редкость, каким-нибудь музеем.
— Смотрите, этот ковер избег японской жадности, благодаря предусмотрительности генерала Стесселя. Это — исторический, легендарный ковер.
Во время трагедии дело не обходится без шутовства, и ковер наместника — это шут, и когда генерал Стессель торжественно читал оправдательный документ о получении этого ковра бывшим наместником Дальнего Востока, в зале суда должно было царить веселое настроение. Если б я был беллетристом, я написал бы повесть об этом ковре и заставил бы его рассказывать, что он видел, что он слышал и что претерпел.
Ах, если б ковры могли говорить!
16(29) января, №11439
DCCXXVII
О сегодняшней статье г. Милюкова в «Речи». Это как бы ответ на «энергию» Государственной думы. Г. Милюков говорит о патриотизме, о том, какой патриотизм бывает, какой полезный и какой вредный. Это искание золотой середины и не очень удачное. И любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине тоже может возбуждать к подвигам, к вдохновению и самопожертвованиям, как патриотизм, и, как патриотизм, она может быть пагубна, груба, злобна, преступна. Благо тем, у кого она уравновешена, кто нашел золотую середину. Но любовь существует у всех, и без этой любви, несмотря на ее крайности, мир не мог бы существовать. Без патриотизма не могло бы существовать государство, не могло бы существовать народа. Чем больше патриотизм, чем больше распространена любовь к родине в народе, тем лучше. Что эта любовь неодинаково понимается и неодинаково исповедуется, ровно ничего не значит. Лишь бы она существовала. Что существует, то способно к развитию. Беда, если патриотизм не существует, если его преследуют те самые люди, которые считают себя «истинными патриотами» и доказывают, что лучше их никого нет. Я не понимаю, почему они лучше «истинно русских людей», между которыми тоже есть люди прекрасно образованные и бескорыстно чувствующие.
Г. Милюков в своей статье ходит около патриотизма с деланным усердием дьякона, который махает кадилом иконе. Икона ничего не получает кроме дыма, и патриотизм ничего не получил от г. Милюкова, кроме общих мест, ничего нового, ничего страстного, ничего возбуждающего и убеждающего. Вся задача почтенного депутата направлена на то, чтобы доказать, что его поездка в Америку есть поездка прекрасного патриота. Он якобы хочет сказать Государственной думе:
— Вы — узкие патриоты, жалкие, ничего не понимающие. Вот настоящий патриот — это я!
Что ж, это если не совсем по-человечески, то совсем по партийному. Всякий человек есть ложь. В этом мы все виноваты. А г. Милюков — человек, а потому и он подходит под общее правило. Он прекрасно говорит:
— «Надо домашний сор не копить в избе, а поскорее из нее вымести, вместе с домашними насекомыми, а «наготу» надо держать в таком виде, чтобы созерцание ее производило не отвращение, а удовольствие».
Вот видите: г. Милюков вынес из русской избы в Америку не только сор, но «домашних насекомых». Вы представьте себе этот труд — вынести сор и насекомых так далеко, в Америку! Труд и страдание! И это он сейчас же и сознает, ибо непосредственно за насекомыми следует «великий патриот Чаадаев» и вам невольно подсказывается, что и г. Милюков — великий патриот, ибо он сделал даже нечто большее Чаадаева. Какое же тут может быть сравнение с другими членами Думы, которые не понимают этого величия и даже обижаются и, обижаясь, не захотели слушать великого патриота. Я выписываю место, на которое указываю. Вот оно:
«Великий русский патриот, которого за его патриотизм провозгласили сумасшедшим предки наших теперешних противников, Чаадаев, сказал три четверти века тому назад, что он хочет любить свою родину с открытыми глазами и любить за что-нибудь положительное». В этих словах заключается ответ депутату князю Урусову, который сомневался в возможности совмещать «критику» с «любовью» к России. Беспощадная критика Чаадаева была изложена на превосходном французском языке, и его почитатели напечатали ее за границей. Было ли это изменой? Нет, потому что критика исходила из любви и основана была на глубокой вере в будущность народа, настоящее и прошлое которого критик изображал в уничтожающих чертах.
Что «критика» и «любовь» к России вполне совместимы, это бесспорно. Но есть разница между Милюковым и Чаадаевым во многих отношениях. Во-первых, времена. О, как они не похожи. 1836 г. и 1907 г. — разница колоссальная, ее не надо доказывать. Первое «Философическое письмо» Чаадаева (единственное из писем, говорящее о России) теперь печатается свободно. Сам г. Милюков свидетельствует об этом ярко, говоря, что «колосс на глиняных ногах обрушился», тот колосс, которого он демонстрировал и на бренность которого указывал; он свидетельствует об этом в своей книге, заключающей его лекции в Америке в 1903–1904 гг., напечатанной по-английски, а вчера я получил эту книгу в переводе на французский язык с маленьким заключением, очень мало говорящим. Книга издана прекрасно и стоит около 7 руб. Переведена она г-жою Марией Петит. Самая фамилия переводчицы (Petite — маленькая) как бы свидетельствует о великом авторе.
Кроме времени, я должен указать, что Чаадаев хотя писал по-французски так «прекрасно», что и Пушкин написал ему по-французски об его «Философическом письме», но он написал это в России, распространял между русскими образованными людьми и, если хлопотал о напечатании своих мыслей по-французски даже за границей, то только не то, что относилось к России. Всего приятнее было ему, если б его письмо явилось в русском журнале, но это ему не удалось. Первое письмо, самое важное, ибо оно говорило о России, уже без его ведома, в переводе Кетчера, явилось в «Телескопе» в 1836 г., журнале Надеждина. «Телескоп» был закрыт, Надеждин сослан, а Чаадаев чуть не объявлен сумасшедшим. Повторение истории Чацкого в «Горе от ума». Все это не похоже на «отъезжие поля», где охотился г. Милюков на Россию, и его ссылка на Чаадаева рассчитана на людей мало знакомых с историей Чаадаева. Сближая себя с Чаадаевым относительно языка и, очевидно, отвечая на те замечания о языке, которые были высказаны в «Новом Времени» третьего дня («Энергия Государственной думы»), г. Милюков говорит, что сочинение Чаадаева было написано «на превосходном французском языке, и его почитатели напечатали его за границей. Была ли это измена»? Да ведь не Чаадаев напечатал, а его почитатели и, кажется, после смерти Чаадаева. Причем же тут вопрос об измене? Я, однако, совсем не склонен называть «изменой» то, что сделал г. Милюков. Это не больше, как свинство, а вовсе не измена. Свинство честолюбца, который не разбирает средств, который едет за море излагать «правду о России», точно он воплощение «правды», который добивается осложнить печальное положение России, который свидетельствует, что «колосс на глиняных ногах разрушен», но хочет еще чего-то, еще большего, или хочет объявить свою радость за морем, что положение России и теперь скверное и будет скверным до тех пор, пока г. Милюков не получит власти первого министра.
Дело не в тех подробностях его лекции и не в тех овациях в Америке, каких он удостоился. Это не важность, что он говорил о погромах, которые якобы Плеве организовал. Разве князь Урусов об этом не говорил в первой Думе, разве Дума не торжествовала это «открытие» рукоплесканиями восторженными, разве она не посылала своих уполномоченных в Белосток и разве это не было известно американским евреям? Все это было известно очень хорошо, и даже со всевозможными прибавками, на которые г. Милюков не решился бы, — я в этом вполне уверен. Дело не в этих подробностях и всех других, дело не в резкостях его мнений, если они и были. Мало ли чего мы не слушали в двух первых Думах и даже в нашей печати. Мы слышали и читали такие вещи, которые г. Милюков не только не говорил, но и не думал.
Дело в самом факте поездки, дело в языке, на котором он говорил, дело в его обращении к публике, большею частью враждебной России, дело в этом русском, в этом депутате, который поехал объявить свою радость или свое горе в Америку в то время, когда у него в России есть своя газета и есть Дума, где можно говорить и где говорили все то, что имел сказать г. Милюков. Я это считаю не изменою, а свинством, я это считаю такою же пакостью «домашних насекомых», о которых говорит сегодня в «Речи» г. Милюков.
Г. Милюкова надо винить не за то, что он говорил, а за то — что он сделал, как русский человек.
Резкая речь! Да куда же г. Милюкову сказать что-нибудь более яркое и правдивое, чем слова Пушкина в его французском письме к Чаадаеву (не посланном) по поводу его первого «Философического письма» в «Телескопе»: «Надо признаться, что наше социальное положение — печальная вещь, что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему тому, что есть долг, справедливость и правда, это циническое презрение к мысли и достоинству человека — все это поистине пагубно (sont une chose désolente). Вы хорошо сделали, сказав это громко». (Мое издание «Сочинений Пушкина» под редакцией Ефремова, 1903, т. VII, стр. 664).
Но Пушкин явился и в этом письме настоящим патриотом, не тем виляющим патриотом, каким показывает себя г. Милюков. Пушкин является нам настоящим русским, ибо, признавая все это, он спорил с Чаадаевым, которого высоко ценил, и, указывая на прекрасные страницы русской истории, сказал:
«Клянусь вам моей честью, что ни за что на свете я не хотел бы изменить свое отечество, ни иметь другой истории, как история наших предков, данная нам Богом».
Вот слова русского великого поэта, вот чистый и драгоценный пламень его многострадальной души, вот его поистине великий разум и святой завет «лучшим русским людям» и всем представителям России в Государственной думе.
28 января (10 февраля), №11451
DCCXXVIII
Хочется сказать несколько слов о речи А. П. Извольского в Государственной думе, принятой с таким вниманием и интересом даже оппозицией в лице г. Милюкова. Это очень характерная черта нашего общества, воспитанного политически именно на внешних вопросах, а не на внутренних. Внутренние вопросы отстаивала с ревностью Отелло бюрократия, как свою нераздельную собственность, и что в этой области делалось, составляло тайну, в которую, если кто и проникал, то разве для того, чтобы поведать миру о своих открытиях в посмертных мемуарах. Внешняя политика совсем другое дело. Это было всегда общественным делом. Без общества, без армии, в которой служит народ, ничего нельзя было сделать. Почти все просвещенное в России служило в армии или было с нею связано. Вся русская слава связана с внешней политикой и чеканилась на войнах, победах и приобретениях. И тот патриотизм, который существовал в обществе и вырастал, основывался на военных действиях и победах. Журналистика была гораздо свободнее в вопросах внешних, чем во внутренних, и министры внутренних дел, все без исключения, более или менее защищали журналистику от министров иностранных дел. Так было даже во времена князя Горчакова, не говоря уже о Гирсе, графе Муравьеве и графе Ламздорфе, который писал жалобу на «Новое Время» именно на непочтительное его отношение к японцам в те самые часы, когда японцы взрывали у Порт-Артура наш флот. Министры иностранных дел всегда ссылались на то, что внешнюю политику ведет сам государь император, а потому критика министерства иностранных дел значит есть критика действий государя. Что сами значили эти министры и почему они назывались министрами — это Господь ведает. Если, как было это во время переговоров с японцами, приведшими к войне, вопросом о Дальнем Востоке завладели адмиралы-наместники и адмиралы-кудесники, то граф Ламздорф только изливал свою печаль самым близким людям и, вероятно, писал для потомства свои записки о том, что он ни в чем не виноват.
Воспитание на внешних вопросах, полученное публикой издавна, сказалось в думском заседании, сказалось в этом серьезном внимании к речи министра, в этом вполне корректном отношении к нему даже оппозиции. Что руководило Государственной думою, какое чувство? Да тот самый патриотизм, которому так много доставалось в последние годы со стороны не только левых, но и центральных партий. Да, именно патриотизм заставил Думу так внимательно слушать А. П. Извольского и так желать, чтоб он был прав, чтобы его оптимизм оправдался на деле, чтоб ни один внешний враг не тронулся против России, что за всякую пядь русской земли весь русский народ встанет, как один человек.
Крайние, средние и левые, все почувствовали, что дело идет о самом важном, о существовании всей России, об ее нераздельности и значении в мире. Все депутаты сознавали себя в это время прежде всего русскими людьми. Они как бы чувствовали на себе ореол той славы и тех громадных усилий русского народа и царей-собирателей русской земли, благодаря которым образовалось такое громадное государство. Не было ни одного заседания Думы столь поучительного в этом отношении и столь высокого по чувству патриотизма. И А. П. Извольский явился достойным представителем обновляющейся дипломатии и русским оптимистом. Русский человек не может не быть оптимистом. Как можно не верить, не надеяться, не смотреть вдаль будущего с гордостью русского и славянина. Ведь если не верить и не питать надежды, то не надо засевать полей. Неурожаи так часты. А мы сеем, собираем плоды и даже продаем. Русский человек и рождается оптимистом и растет оптимистом, и если порою он начинает ругаться, проклинать и отчаиваться, то это не потому, что он в самом деле отчаивался, а потому, что не так скоро исполняются его надежды.
Конечно, министр иностранных дел свой оптимизм, может быть, слишком далеко простер, но ведь и государство велико. А всякий русский министр непременно мерит себя государством. Южной Маньчжурией, действительно, японцы овладевают и мне говорил на этих днях один русский, оттуда вернувшийся, что китайцы сплошной массой двигаются в Северную Маньчжурию и заселяют ее. Положение дел на Дальнем Востоке далеко не розовое, а у А. П. Извольского, может быть, слишком розовые очки, в которые он смотрит на Японию. Мне известно, что он — большой оптимист и относительно Китая и, кажется, не верит в его возрождение, так что союз с Японией обеспечивает нам и мир с Китаем. А это вилами писано. Китай именно возрождается и те, которые знали его 10 лет назад, находят в нем теперь огромную перемену. Но надо думать, что министерский оптимизм заключает в себе твердую решимость работать и иметь везде таких агентов, которые бы все видели, все знали и все понимали. Об этом можно заключить из того, что министр надеется вести активную политику на Ближнем Востоке, что г. Милюкову не нравится, ибо он видит в этом возможность авантюры. Почему? Разве активная политика непременно авантюра? В авантюру можно попасть очень легко и при пассивной политике. Я — за активную политику, конечно, талантливую и умелую, и только такая активная политика и хороша.
Зачем Дума зашумела, когда Милюков сказал, что он личным опытом убедился, какая разница в общественном настроении Соединенных Штатов произошла после войны нашей с Японией? Г. Милюков действительно должен об этом знать хорошо, ибо он читал в Соединенных Штатах лекции о русском «колоссе на глиняных ногах» именно в 1903 и 1904 гг., то есть во время приготовлений к войне с Японией и при начале ее. Он не только был свидетелем настроения Соединенных Штатов, он, так сказать, и сам способствовал настроению своими лекциями, если они могли это сделать. Недавняя его поездка в Соединенные Штаты, конечно, могла его познакомить с изменившимся настроением в американской великой республике. А. П. Извольский недаром, конечно, упомянул о хороших отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Г. Милюков, мне кажется, подтверждал это, и его следовало бы расспросить при этом случае, что он слышал в Соединенных Штатах, что ему говорили тамошние государственные люди и не кончилась ли эта его поездка полным фиаско, так как настроение в Соединенных Штатах изменилось? Очень любопытно было бы послушать.
29 февраля (13 марта), №11482
DCCXXIX
Академия художеств присудила премии на проекты памятника К. П. фон Кауфману. Памятник заказан туркестанским генерал-губернатором Гродековым. На этом памятнике «у подножия статуи должны быть бюсты и медальоны генералов Абрамова, Колпаковского, Скобелева и Черняева».
Родись эти генералы с немецкими фамилиями, они не попали бы в подножие Кауфману. Генерал Гродеков не посмел бы положить генералов немецкого происхождения в подножие генералу немцу. Самое это слово «подножие» — унизительное. Не только Скобелев и Черняев, но и Абрамов и Колпаковский никому при жизни в подножие не ложились. Если генерал Гродеков непременно желал их видеть на памятнике у подножия Кауфмана, то этому вкусу нельзя позавидовать. У Скобелева есть своя собственная история, совершенно независимая от истории Кауфмана, и у Черняева есть своя собственная история, от которой К. П. Кауфман вполне зависел. Без Черняева не было бы Кауфмана в Туркестане, но без Кауфмана были бы и Черняев и Скобелев. Генерал-губернатор Гродеков ставит памятник генерал-губернатору Кауфману, или просто: «Гродеков — Кауфману», как «Петру Первому — Екатерина Вторая». Это несколько забавно.
Исполнили ли художники Микешин и Курпатов, получившие премии, желание генерала Гродекова видеть у подножия статуи Кауфмана бюстики или медальончики Скобелева и Черняева, или они имели художественный такт устранить эту забавную и оскорбительную нелепость? Во всяком случае, нелепость в самом замысле остается.
Я вообще за памятники выдающимся людям, и мне вовсе не смешно, что современная Франция так часто ставит в разных городах по месту рождения памятники таким своим согражданам. Аристократия ума и таланта имеет право стоять в бронзе не на кладбище только, а у нас такую аристократию очень мало признают. Она слишком беспокойна и несговорчива. Можно бы написать целую книгу под заглавием «Гонение на таланты», и прелюбопытную книгу, и в этой книге все были бы русские имена. Едва ли попалось бы между ними имя значительного человека не русского происхождения. Блестящее царствование Екатерины II было в особенности тем замечательно, что оно едва ли не единственное со времен Петра Великого, где был необыкновенно счастливый подбор великорусских и малорусских даровитых государственных людей и полководцев. Может быть, Екатерина держалась этого правила выводить именно русских людей, потому что прошлое ее к этому обязывало. Но она находила же этих людей на все поприща, и такой умный и талантливый человек, как граф Сивере, с которым она вела переписку и очень его ценила, не пошел далее губернаторства. Но даже и в это царствование гениальному Суворову приходилось петь петухом и прибегать к дурачествам, чтоб защищаться от зависти и злобы к своему дарованию. При Павле великий русский полководец был унижен невероятно. Кутузова назначил голос общественного мнения, которому подчинился и император Александр I. Ермолова свели на нет и он с горькой иронией готов был просить переименования в немцы. Зависть преследовала Черняева и Скобелева, и если Скобелеву не могла помешать, то единственно потому, что у него, кроме военного гения, были еще связи в высшем обществе. У Черняева этих связей не было, и зависть и интриги отравили ему жизнь, и даже такой храбрый и способный генерал, как Гродеков, великодушно кладет его в подножие Кауфману, который сам не без греха в тех преследованиях, которым подвергался Черняев. Он несомненно вредил ему в Петербурге и раздувал мелкие факты управления в крупные. А Черняев был честнейшим человеком, русским до глубины души, бескорыстным и великодушным завоевателем. Взяв в 1864 г. Чимкент, куда ворвался первым по водопроводу, который проходил через небольшой пролом в стене, он в следующем году с 2000 человек и 12 орудиями взял Ташкент, где было 100 тысяч жителей, до 25 тысяч защитников и 63 пушки. Он взял его вопреки приказаниям из Петербурга, на свой страх, доставив дипломатам некоторую тревогу и возбудив вражду во всех тех, которые этого не сделали бы, если б их послали и затратили на экспедицию миллионы. Он взял бы и Бухару, но его отозвали, но титул «высокостепенства», который дал Черняев бухарскому эмиру, сохранялся, кажется, до нынешнего царствования, когда государь дал ему титул высочества. С ничтожными силами и с грошовыми средствами Черняев приобрел России прекрасный край, а его послали в отставку и дали 480 рублей ежегодной пенсии. Это звучало ядовитой насмешкой над русским героем, над полководцем замечательного таланта, каким К. П. Кауфман совсем не обладал. Хиву взял Веревкин, в отряде которого был Скобелев, Коканд взял Скобелев, несмотря на приказание Кауфмана подождать прибытия назначенного им для этого генерала. У русских талантов, вероятно, нет такой дисциплины, как у русских инородческого и в особенности немецкого происхождения, нет той служебной корректности и тактики, какими обставляют себя эти последние. Но русские не только служат, они любят русскую славу и жертвуют ей всем своим существом. Потому они выказывают независимость, как выказывал ее Суворов, взявший Измаил вопреки расчетам Потемкина. Может быть, Куропаткин не проиграл бы японскую кампанию, если б слушался только самого себя и не заботился о том, как бы не повредила ему княгиня Марья Алексевна и адмирал Алексеев, сей строитель дворцов и дач для удивления японцев и китайцев. Скобелев мог бы взять Константинополь в 1877 г., если б ему всеми силами не помешали, о чем страшно жалел потом император Александр II. Независимость полководца — первое дело, если он действительно военный талант. Наполеон не был бы тем, чем он стал, если б ему мешали делать то, что он чувствовал в силах сделать.
Черняева надо считать и одним из главных родоначальников освобождения Болгарии. Без его великодушного и смелого порыва в Сербии не было бы войны 1876–77 г.г. и Россия могла бы и не приобресть тех лавров освободителей славян, которыми теперь она украшена и которые никогда не завянут, как не вянет ни один благородный подвиг. Черняев не выигрывал побед с сербами и русскими добровольцами, но ведь силы его в сравнении с турками были поистине смехотворные. Я видел эти силы и эту армию в Заечаре и Алексинаце, и надо удивляться его военному гению, что он мог держаться с этими смехотворными силами несколько месяцев и возбудил против турок не только Россию, которая решительно пламенела, но и Европу. Без этой кампании история могла пойти другим путем.
И вот г. Гродеков первым своим генерал-губернаторским делом ставит памятник Кауфману и к подножию его кладет двух самых талантливых и самых бесспорных «генералов» в самом лучшем значении этого слова. Эти генералы-завоеватели. Две русские военные славы, два русских имени, которые знает всякий русский человек. Очевидно, и после смерти своей, Черняеву не простили генералы его превосходства, его военного гения, если желают положить его к подножию фон Кауфмана. Пусть он был хороший генерал-губернатор, но не его имя, а имя Черняева будет связано с приобретением прекрасного края и с освобождением славянских народов от турецкого ига.
Это благословленное, доблестное имя русского человека, которого не оценили, а принизили при жизни, а после смерти кладут к «подножию» другого генерала, который, может быть, и сам не пожелал бы такого унижения своему сопернику.
2(15) марта, №11484
DCCXXX
— Что ты все судишь? Ну, уехал от них и наплюй. Чего судишь? Брось.
Так говорил казак Епишка (в повести «Казаки» — Ерошка) Л. Н. Толстому, когда, приходя к нему в Новомлинской станице, заставал его пишущим. Епишка думал, что писать значит судить, судиться. Сколько в эти дни будет написано «судебных» статей о Толстом, об его великой, прожитой им жизни! Может, следовало бы сказать нам всем, писателям, как Епишка говорил Толстому:
— Бросьте судить. Радуйтесь, что он русский, что он так много дал своей родине на многие века и что он, слава Богу, еще жив и так бодр в свои восемьдесят лет, что мог прошлой зимой ездить верхом 15 верст в день. Чего еще о нем не сказано? И что еще надо сказать? Да ведь то, что он написал в своих романах и повестях, несравненно, несомненно важнее того, что о нем напишут. Что о нем напишут даже талантливые люди, то останется только в каталогах, а вся газетная о нем «словесность» не войдет даже в каталоги, да и никому она не нужна. Миру нужно только великое и гениальное, да то полезное, не хитроумное, которое чему-нибудь научает в жизни. Берите из Толстого, из этой сокровищницы русского гения, читайте и славьте Бога, что он дал русскому человеку такую чудесную душу и что в лице этого человека русское имя пронеслось во все концы земли и там зацарствовали русские живые люди и русская душа. Он запечатлел в своих произведениях все то великое и прекрасное, что есть в русской жизни, все «русское, доброе и круглое», — употребляю его выражение о Платоне Каратаеве, который служил олицетворением этого «русского, доброго и круглого», и не пропустил ничего скорбного, глупого и злого, чтобы не осудить его. Епишка был прав, когда видел молодого Льва Николаевича пишущим — Толстой писал и «судил».
Работая, он стал таким сильным богатырем, что никто не смел его тронуть в его творческой свободе. Это — первый и единственный русский писатель, который раньше всех испытал полную свободу на русской земле и жаловался не на то, что его преследовали, посылали в ссылку, сажали в тюрьму, а на то, что его не преследовали и не сажали в тюрьму, жаловался на то, что его оставляли в покое за то самое, за что столь многие до него и при нем много пострадали. Он был исключением из общего правила, как гений; он явился монархом в русской современной литературе, если не самодержавным, то ограниченным только относительно издания своих богословских и некоторых публицистических сочинений. Как художник, как романист, он был самым самодержавным и благодетельным монархом; он знал только свой собственный суд и пользовался неограниченной свободой. С самого детства он окружен был таким довольством и счастьем, каким редко пользовался гениальный человек, и подходит к концу жизни таким же счастливцем. Жизнь его — эпическая поэма без потрясающих трагических сцен, без того ужаса, который угнетал душу гениальных людей и держал ее в цепях и мучил. В сравнении с ним, как был несчастлив и несвободен величайший русский писатель Пушкин, не только в своем творчестве, но и в своей жизни, даже в своих материальных средствах. Даже от них зависело его творчество. Отлучение от церкви или вчерашний указ Св. Синода, осуждающий «учительную» литературу Толстого, но признающий его «одним из великих писателей не только русской, но и всемирной литературы», губернаторские распоряжения не праздновать его юбилея, конечно, из боязни нарушения «общественного порядка», — это даже едва ли булавочные уколы в сравнении с тем, что испытывал Пушкин. В своем «святая святых», в своем вдохновении, он был постоянно стеснен, он не мог даже для самого себя, или для будущего, набросать своих смелых мыслей и просившихся образов, потому что стоглавые аргусы следили за каждым его дыханием. И, может быть, остались без исполнения его лучшие, его благороднейшие вдохновения. Надо удивляться, что он набрасывал одно время свой «Дневник», куда заносил современные факты и смелые суждения. Толстой никогда не был в этом положении. Замечательно, что «Евгения Онегина» он прочел лет 26-ти и совершенно случайно. Он возвращался с Кавказа и, остановившись на какой-то почтовой станции, спросил у смотрителя себе какую-нибудь книгу на ночь. Он дал ему том Пушкина, где был «Евгений Онегин». Толстой взял, подумав, что хорошо, что стихи — скорей заснешь. Но в эту ночь он не спал. Прочитав «Евгения Онегина» до конца, он развернул книгу в начале и прочитал его в другой раз до конца.
Упомянув об указе Св. Синода, я думаю, что выражения его, будто Толстой «разрушил своим учением все то, что составляет единственную основу истинно разумной, нравственной частной, общественной жизни и твердую живую веру в Христово учение» — требуют поправки. По моему мнению, Толстой ничего не разрушил уж потому, что он жил, живет и будет жить в сердцах людей своими художественными произведениями, а все остальное, что он написал, останется для любителей. Это «остальное» только придаток к главному, от которого все зависит. Если б Толстой написал только это «остальное», он остался бы малозаметной величиной не только во всемирной, но даже в русской литературе. Если это «остальное» получило свое значение, то только потому, что уже были написаны им такие художественные произведения, которые признаны были всем миром гениальными. Он был уже монархом в русской литературе, а известно, что всякое слово монарха имеет значение, если даже оно само по себе и незначительно.
Его художественная деятельность поистине чиста и нравственна, как кристалл. В ней нет ни одного пятна. Самый придирчивый человек не найдет в ней ничего безнравственного. Нигде он не позволил себе ничего соблазнительного, кроме добра и красоты, которыми только и соблазнительны его произведения.
Говорят, в «Войне и мире» была одна сцена между Пьером Безуховым и Элен, сцена очень чувственная, но превосходно написанная. По просьбе графини Софьи Андреевны он сцену эту выпустил, и рукопись ее хранится в Румянцевском музее. В «Воскресении» есть сцена в церкви, которую он не хотел пускать в печать по просьбе сестры своей, монахини, Марьи Николаевны. Но Чертков в своем усердии напечатал ее в заграничном издании этого романа: сцена эта только для любителей запрещенного, художественной цены не имеет. Да, весь художественный, Толстой в высокой степени нравственный, чистый и даже религиозный тою религиозностью, которая ищет бога и верит в него, хотя и не по-церковному. Толстой писал так, чтоб не оскорбить ни одной невинной души и вместе с тем оставаться глубоко правдивым. О Христе Толстой повторял только то, что гораздо раньше его было написано учеными в Германии и Франции. Но учение христианское Толстой высоко ставит.
Я утверждаю, что Толстой — патриот. Читайте «Войну и мир». Это — наша «Илиада», полная высокой нравственности, русского национального чувства, патриотизма. По «Войне и миру» будут русские долго учиться любви к родине и почитанию тех народных свойств, которые не называются иначе, как патриотическими. Толстой написал потом брошюру против патриотизма, но ее доводы ничто в сравнении с чудесными по красоте своей и убедительному патриотизму картинами и размышлениями «Войны и мира». Везде в этом романе чувствуется именно русский человек, русская правдивая и искренняя душа, любящая Россию. К иностранцам, не только к тем, которые служили в русской службе, но и вообще к ним Толстой относится с явною, иногда злою иронией. Он как будто мстит Наполеону за его набег на Россию, беспощадно третируя его личность. Устами Андрея Болконского он говорит о Барклае: «Пока Россия была здорова, ей мог служить и чужой, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек». Известно, как защищает Толстой Кутузова и как художник, и как историк-мыслитель. «Для русских людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя быть: это было хуже всего… Та барыня, которая еще в июне месяце со своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга и со страхом, чтоб ее не остановили по приказанию Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию». Так мог говорить только глубокий русский человек.
Для меня несомненно, что «Война и мир» завоюет века в русской литературе и еще дождется своей оценки, которой лишен был до сего времени этот удивительный роман. Если правда то, что говорят о романе или повести «Хаджи Мурат», то весь XIX век изображен Толстым в «Войне и мире», «Хаджи Мурате», «Анне Карениной» и «Воскресении». Вся наша новейшая история, все наши доблести, пороки и заблуждения. И сколько не только таланта, но и ума, превосходных замечаний, бьющих своей правдою или остроумием мыслей, и каким роскошным русским языком все это написано!
Дай бог счастливому и великому старцу-писателю прожить до ста лет. Жизнь прекрасна и в глубокой старости за те счастливые и радостные мгновения, которые дает она и в это скупое время. Толстой заслужил свою долгую жизнь, и тем радостнее должна быть его старость, тем чаще она может украшаться счастьем, другим в эти годы уже чуждым. Когда отойдет в сторону и в даль вся эта жгучая современность с ее недоразумениями и враждою, с ее мелкими и крупными заботами о сегодняшнем дне, когда могучее время пройдет своим плугом по русской ниве, — великолепные произведения Толстого будут считаться и читаться, как чистые перлы великой русской души, как чудесные поэмы сильного русского народа, из которого вышел этот избранник Божий.
28 августа (10 сентября), №11660
Иллюстрации
А. С. Суворин. 1880-е гг.
А. П. Чехов. 1895 г.
Церковь Вознесения (1818) в Коршеве, где крестили младенца А. Суворина и где в январе 1857 г. он венчался с А. И. Барановой.
В окрестностях Коршева. Вид на р. Битюг
Школа, построенная А. С. Сувориным в Коршеве в 1907 г.
Успенская церковь в г. Бобров и кладбище, на котором была похоронена мать А. С. Суворина.
Село Хреновое. Дом управляющего конным заводом С. П. Иловайского, где в феврале 1892 г. останавливались Суворин и Чехов. На даче Иловайских в Ялте Чехов жил некоторое время осенью 1898 г.
С. Хреновое. В глубине — дом управляющего, справа — дом гр. Анны Орловой.
С. Петербург. Дом А. С. Суворина (1888–89) в Эртелевом пер., 6 Фото Ф. А. Романенко. 2003 г.
Редакционные комплекты газеты «Новое время» в одной из московских библиотек.
Берлин. 80–90-е гг. XIX в.
Берлин. 80–90-е гг. XIX в.
Парк Сен-Клу в Париже. 80-е гг. XIX в.
Зрительный зал театра Гранд-Опера. Париж. 80-е гг. XIX в.
Виды Биаррица (Франция), где любил отдыхать Суворин. 80–90-е гг. XIX в.
Порт-Артур. Внутренний рейд.
Броненосцы русской эскадры на рейде Порт-Артура.
Вице-адмирал С. О. Макаров.
Эскадренный броненосец «Петропавловск» (1894), на котором держал свой флаг командующий флотом вице-адмирал С. О. Макаров.
Контр-адмирал М. П. Молас, начальник штаба флота, также погибший на «Петропавловске».
Командир броненосца «Петропавловск» капитан I ранга Н. М. Яковлев, тяжело раненным спасенный из воды.
Великий князь капитан II ранга Кирилл Владимирович Романов, спасшийся при гибели «Петропавловска»
Гибель броненосца «Петропавловск» 31 марта (13 апреля) 1904 г. По рисунку очевидца корреспондента английского журнала «Graphic»
Контр-адмирал В. К. Витгефт после гибели Макарова был назначен командующим порт-артурской эскадрой. Убит в морском бою на флагманском броненосце «Цесаревич» 22 июля (10 августа) 1904 г. при попытке прорыва эскадры во Владивосток
Русские миноносцы в дозоре.
Генерал-лейтенант Р. И. Кондратенко, начальник 7-ой Восточно-Сибирской стрелковой дивизии и начальник обороны сухопутного фронта крепости Порт-Артур. Погиб при артиллерийском обстреле 2(15) декабря 1904 г.
Памятник адмиралу С. О. Макарову в Кронштадте. 1913 г.
Крейсер 1-го ранга «Варяг». 1899 г.
«Варяг», поднятый на поверхность со дна моря. Японский снимок.
Русская морская пехота.
На Забайкальской железной дороге.
Казаки Забайкальского казачьего войска. С картины А. Степанова.
Казаки. С картины С. Ворошилова. 1914 г.
Командующий 2-ой армией генерал О. К. Гриппенберг награждает казаков Кубанского казачьего войска из конной группы генерала П. И. Мищенко.
Японские пленные (234 человека) захваченные казаками генерала Мищенко.
Атака японской пехоты.
Рукопашный бой в июле 1904 г. Японская открытка.
Походная церковь Красноярского пехотного полка.
После Мукденского боя. Остатки 1-го Восточно-сибирского полка.
В наступлении.
Пулеметчик.
Обед в траншее.
Офицерская землянка.
Руководство артиллерийским боем под обстрелом.
Одна из батарей обороны Порт-Артура.
На отдыхе.
Солдаты Тобольского пехотного полка в траншее.
В ожидании боя.
Завершение.
9 января 1905 г. В С. Петербурге.
Картина художника В. В. Верещагина. Побежденные.
Стрелок 20-го полка, убитый под Сандепу. Пролежал две недели в поле и принесен, наконец, охотниками в д. Чужанжданцзу, где и похоронен. Собаки объели голову и ногу.
Талантливый русский актер В. П. Далматов в течение многих лет — директор театральной студии имени А. С. Суворина.
Знаменитый русский актер И. И. Сосницкий, которого в своей молодости Суворин видел в роли Репетилова.
Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова.
«Вишневый сад» (1904) в МХТ. И. Г. Александров
О. Л. Книппер, М. А. Жданова.
И. М. Москвин
«Горе от ума» в Московском художественном театре (1907). Л. А. Косминская
А. Г. Коонен
М. Н. Германова
Первое (1872) и последнее прижизненное (1912) издание «Русского календаря А. Суворина»
Зрительный зал Малого (Суворинского) театра, отреставрированный после пожара 1901 г. Ныне — БДТ им. Г. А. Товстоногова. С. Петербург
Одно из изданий популярной серии «Дешевая библиотека»
Председатель I Государственной думы (1906) профессор С. А. Муромцев.
А. С. Суворин. Начало XX в.
Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) прожил долгую, сложную жизнь, в которой было гораздо больше горя и потерь, нежели радостей. Однако удовлетворение и радость ему доставлял труд, многолетний, упорный, постоянный, посвященный великому делу просвещения и образования России. Он оставил заметный след в истории русской литературы, русского театра, русской журналистики, русского книжного дела. В истории развития русского общества. К его голосу прислушивалась вся Россия, а созданную им газету «Новое время» внимательно читали во многих столицах мира. Его статьи встречали восторженный прием в одних слоях общества и вызывали негодование в других.
Примечания
1
Совсем недавно вышла работа Л. А. Остапенко «Новое Время» А. С. Суворина о партийной системе и опыте парламентаризма в России». Новгород, 2000.
(обратно)2
Любопытное обстоятельство, о котором тоже сообщила газета «Новое Время»: 22 сентября (5 октября) 1910 г. Столыпин на биплане «Фарман» летал с одним из первых русских летчиков капитаном Л. М. Мациевичем. 24 сентября (7 октября) Мациевич погиб, выпав из гибнущего самолета. В «Русском календаре на 1912 год» было напечатано «Особое дополнение», целиком посвященное памяти П. А. Столыпина.
(обратно)3
Согласно данным «Русского календаря на 1912 год», иудеи составляли 4,05 % всего населения России, т. е. около 7 млн. чел.
(обратно)4
По переписи 1910 г. население России составляло 166 млн. чел. Предполагалось специалистами, что к 1985 г. оно достигнет 400 млн.
(обратно)5
Точнее 7,2 млн. долларов (т. е. менее 11 млн. руб. золотом) — А.Р.
(обратно)6
Il у а lе devoir envers Dieu. Si vous me permetez ce mot, ou si le mot vous gêne, envers le Tout, avec un grand T. — А.C.
(обратно)7
Здесь в номере газеты белое пятно — текст, вычеркнутый цензором. — А.Р.
(обратно)8
Т. е. Благовещения Пресвятой Девы Марии. — А.Р.
(обратно)9
Разумею Соединенные Штаты Северной Америки.
(обратно)10
Лиддит — взрывчатое вещество, разрушающее самые крепкие камни. Названо по имени самого крепкого камня, залежи которого находились в Лидии. — А.С.
(обратно)11
Revue des deux Mondes, 15 oct. et 1 nov. 1904.— A. C.
(обратно)12
Постигла нас теперь горчайшая из бед.
Все это вижу я, но страха в сердце нет.
(Перевод Н. Рыковой).
(обратно)13
См. сочинения: 1) La foule criminelle. Essai de psychologie collective, par Scipio Sigéle. Tr. de I'italiene par Paul Vigny. P., 1892; 2) Psychologie des foules, par Gustave le Bon. P., 1895; 3) Essai et melanges sociologique, par V. Tarde, P., 1895.
(обратно)14
Она существовала, если не ошибаюсь, во французском сенате до 1884 г. — А.С.
(обратно)15
Дефект газетного набора. См. следующее письмо. — А.Р.
(обратно)16
Ящик с «избираю» ставится направо; а с «не избираю» — налево. — А.С.
(обратно)17
«Русь».
(обратно)18
Здесь в газете цензурная купюра. — А.Р.
(обратно)19
По сверке с оригиналом оказалось, что в ней есть цензурные вымарки, но небольшие (строк 20). — А.С.
(обратно)20
Покойный Ф. Ф. Павленков в 1874 г. приобрел сочинения Герцена у сына его. В 1900 г. последовало высочайшее разрешение на издание его сочинений в России под ответственностью Главного управления по делам печати. — А.С.
(обратно)21
«Историческая Польша и русская демократия 1881–1882 г.». — А.С.
(обратно)22
Одно письмо из Тверской губернии, другое — из Рязанской. — А.С.
(обратно)23
Качество, которым можно пренебречь (фр.).
(обратно)24
Так свидетельствует г. Hugo Ganz, весьма сочувствующий русской революции, в своей книге, имевшей успех: «Vor der Katastrophe. Ein blick ins Zarenreich». Frankfurt. 1905 — A.C.
(обратно)25
Лет пять назад губернаторы стали получать 10 000 рублей — А.С.
(обратно)26
Полдела — не дело (нем).
(обратно)27
Вот официальные данные, приводимые г. Милюковым о числе лиц, обвиненных в политическом преступлении: 1894 — 919 чел., 1895 — 944; 1896 — 1668; 1897 — 1427; 1898 — 1144; 1899 — 1884; 1900 — 1580; 1901 — 1784; 1902 — 3744; 1903 — 5590. — А.С.
(обратно)28
Мне пишут из Бобровского уезда следующее: «Мы в Коршеве (село государственных крестьян в 10 тыс. душ населения) пережили большой страх, так как и здешние мужики ездили грабить и поджигать соседних помещиков, много награбили и привезли домой зерна, птицы и разных домашних вещей; другие пригнали быков, некоторых порезали и поделили, кожи продали и пропили. Затем было назначено время для грабежа винной и других лавок, богатых крестьян и домов. Вот в это время мы надеялись только на Бога, чтобы Он спас нас от смерти; по ночам не спали. Кругом села виднелось зарево пожаров; в одну ночь горело разом десять имений. Дьячок с детьми по ночам сидел на крыше и оттуда сообщал, чье горит имение. Самый страшный момент был, как загорелось имение Станкевича, около д. Шишовки. После Станкевича грабители обрушились бы на Коршево. Господь услышал нашу молитву — приехали казаки, и все прекратилось. В настоящее время идет обыск. Сами крестьяне возвращают украденное на погромах. Главных зачинщиков взяли в тюрьму; теперь покойно, но прежний страх не дает покоя, по ночам мы боимся спать». — А.С.
(обратно)29
Член Г. думы от Киевской губ., дорогой пил и ругался. — А.С.
(обратно)30
Семисотое (DCC), по счету А.С., письмо после уточнения и исправления всех, многочисленных в течение 1889–1908 гг. сбоев в нумерации и ошибок набора, по нашему счету оказалось шестьсот девяносто седьмым (DCXCVII). — А.Р.
(обратно)31
Не знаю, что это за этюд г. Гучкова, но несомненно он не может идти ни в какое сравнение, например, как хижина не может идти в сравнение с дворцом, с превосходным исследованием Берара (Victor Berard) «Les Pheniciens et l’Odyssee», в двух больших томах (более 1200 стр.) с рисунками и картами (Paris. 1902–1903). На русском языке такого сочинения никто бы не написал. Это — многолетний труд действительного и даровитого ученого, превосходного знатока греческого языка, профессора исторической географии и древности, изучившего всю литературу предмета и вместе со своей женою все места, где был Одиссей. Она снимала фотографии. И зачем бы Гучкову Одиссея и Одиссей, когда его Итака гораздо ближе и вернее.
(обратно)32
Вильям Тафт (Taft) род. в Огайо в 1857 г.; получил право адвоката в 1880 г.; был судьей верховного суда в Огайо, 1887–1890 гг.; поверенным по делам казны Соед. Штатов (solicitor-general), 1890–1892 гг.; судьею (Circuit Court) Соед. Штатов, 1892–1900 гг.; президентом филиппинской комиссии С. Шт., 1900–01 гг.; гражданским губернатором Филиппин, 1901–1904 гг.; военным министром с 1 февр. 1904 г. Министры С. Шт. получают 12 000 дол. (23 000 р.) — Прим. ред. «НВ».
(обратно)
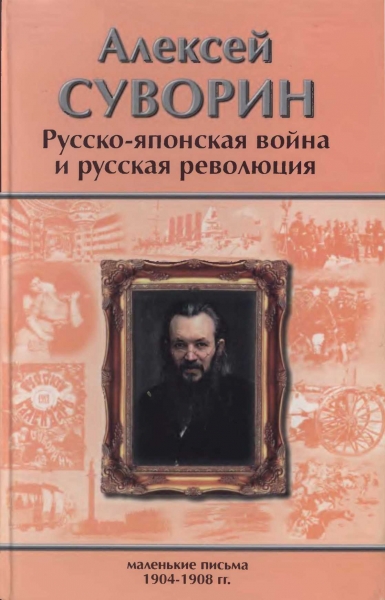




Комментарии к книге «Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904–1908)», Алексей Сергеевич Суворин
Всего 0 комментариев