Татьяна ШАМЯКИНА
КАК ЖИЛА ЭЛИТА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ
Часть 2
Более чем субъективные мемуары
Литературные нравы
В газете СБ («Беларусь сегодня») от 28 апреля 2018 г. на целую полосу помещен материал под общей шапкой «Самые загадочные авторы», где среди прочих имеется заметка и о предполагаемых авторах белорусского «Сказа про Лысую гору». Вот эта заметка: «Говорят, в 1970-х таксисты на минском вокзале торговали из-под полы не только водкой, но и самиздатовскими рукописями этой поэмы. Очень остро и безумно смешно в ней описывались быт и нравы белорусской писательской тусовки. Вот собрание членов союза писателей, где делят дачные участки. Сколько интриг, страстей! Выезд на место, а это Лысая гора под Минском. Постройка дач. Какой-то редактор «припахивает» молодых авторов, чьи имена будет открывать в своем журнале целый год. Другой, преподаватель, эксплуатирует студентов. Невероятный поиск удобрений, склоки с соседями... Неизвестного автора предали анафеме и не одно десятилетие разгадывали его личность. Увы, разгадка уже в перестроечное время не принесла спокойствия в тусовку. Ибо авторов оказалось двое: поэты Микола Аврамчик и Нил Гилевич. Причем последний стал утверждать, что текст в основном принадлежит ему. Аврамчик настаивал на своем вкладе. Оба автора ушли в мир иной вместе с реалиями совписа».
Заметка написана в той же ернической, разухабистой манере, что и сама «поэма». Но вряд ли стоило в наше время рекламировать эту достаточно низкопробную поделку, кстати, совсем не смешную.
Действительно, в 1990-е гг. упомянутые в газетной заметке авторы спорили о своем приоритете. Однако эти годы недаром названы «лихими». В то время, вместе с так называемыми «рыночными отношениями», выплеснулось наружу самое подлое, мерзкое, греховное, что есть в людях, уничтожались прежние кумиры, ценности, эстетические и нравственные нормы, вообще все, что создано в СССР, в том числе и хорошее.
Быть сатириком, ниспровергателем презираемого в то время «сталинского колхоза» — Союза писателей — считалось почетным. Вот поэты и схлестнулись. Однако в дальнейшем, помудрев в силу возраста, да и изменения общественной атмосферы, Гилевич и Аврамчик о своем авторстве вдруг замолчали. Разумно. Стыдно стало за недомыслие молодости. Сейчас, когда практически все герои поэмы ушли в мир иной, вспоминать сей злобный пасквиль просто неприлично, тем более ставить в один ряд с «Повестью временных лет», «Речью Мелешки», «Энеидой наизнанку».
Известнейший критик Дмитрий Бугаев, один из несправедливо высмеянных в поэме лысогорцев, в предисловии к изданию поэмы в перестроечном 1988 году, подчеркивал, что произведение это — не документальное, а художественное, да еще сатирическое, потому здесь многое преувеличено, подано в карикатурно-юмористическом, гротескно-сатирическом освещении. Дескать, настоящая сатира не обходится без преувеличения и заострения. То есть, видный критик благодушно стремился авторов обелить. При всем уважении к моему учителю Дмитрию Яковлевичу поспорю с ним. Преувеличение в данном случае — ложь. Например, скажу о Шамякине — тогда секретаре Союза писателей. Как он попал в поэму, с какой стороны, вообще совершенно непонятно. Дачный кооператив относился к Литфонду, а не к Союзу писателей, и распределяли участки деятели Литфонда. О Шамякине сказано несколько крайне невнятных строк и подано так, будто он тоже участвовал в дележке, борясь за какие-то приоритеты. Но мой отец и к распределению участков не имел ни малейшего отношения как секретарь СП, даже не смел вмешиваться, и на дачу не претендовал, так как у него уже была своя. Что же касается его дачи, приглашаю всех читателей на нее посмотреть в местечке Ждановичи (ранее дачный поселок № 1). Любопытное зрелище в силу закона контрастности: жалкая, ушедшая в землю халупа в окружении шикарных трехэтажных особняков, возведенных на месте таких же убогих строений нуворишами, возникшими неизвестно откуда в 1990-е. Тогда наши соседи, деятели науки и искусства, будучи не в силах содержать даже лачуги, продавали их торгашам-махинаторам и вообще проходимцам, сумевшим отхватить куски народного добра разными незаконными методами.
Вот бы поэтам-конкурентам обрушить свой праведный гнев, свою разящую сатиру на неимоверно расплодившихся воров и мошенников. Но нет, о новых хозяевах жизни мастера слова застенчиво молчали. Они спорили о том, как издевались над своими коллегами, выставляя их на всенародный позор. А нынешние журналисты напомнили о так называемой поэме, чтобы заинтригованные современные читатели с ней познакомились, хлебнули ядовитого пойла, и чтобы многие названные в ней литераторы остались в народной памяти только своими грехами. Так, любимый молодыми белорусами Владимир Короткевич и в будущем народный по званию поэт Рыгор Бородулин в «поэме» обеспокоены лишь тем, будет ли рядом с дачным поселком магазин, где можно приобрести выпивку. Зато Нил Гилевич, красиво названный в произведении «другом всех славян» (переводил с некоторых славянских языков и неплохо на этом зарабатывал), благородно отказался от дележки, так как снимал дачу на Нарочи, рядом с классиками — Михасем Лыньковым, Максимом Танком, Аркадием Кулешовым.
Но что же с героями «поэмы» происходило на самом деле? Как и в любом коллективе (в то время большинство учреждений и предприятий организовывали кооперативы), писатели тянули участки по жребию. Землю под подобные садово-огородные товарищества колхозы и областные власти всегда предоставляли самую худшую, бросовую, потому захватывать лучшую, как обвиняет автор «поэмы» функционеров Литфонда, совершенно бессмысленно — все участки оказались очень плохие. Но везде, в том числе в писательском коллективе, совершенно негодную землю, любовно приложив к ней руки, облагораживали и превращали в цветущий рай. Почему-то об этом молчание. А при дележке эмоции неизбежны, тем более писатели — всегда люди тонко чувствующие, легко ранимые. В общем же все проходило гораздо спокойнее и приличнее, чем изображено в «поэме». Скорее всего, автору хотелось кипения страстей — литература ведь вообще скучна без драматичных перипетий.
Вслед за эпизодами распределения участков в произведении идут строфы, рассказывающие об обустройстве дачников, причем все подано в совершенно вульгарной, китчевой манере, где тема фекалий становится центральной. Своим хамством, вызывающим цинизмом, пошлостью «Сказ.» предвосхитил будущую расхристанность художественных текстов, снятие всех нравственных и эстетических запретов в массовой культуре постсоветского времени.
Можно было бы посчитать неформальную лексику и самый площадной юмор продолжением вербальных народных традиций, потому что подобные вещи в народной среде существовали. Но существовали непечатно и не с конкретными именами. В данном случае ради острого словца оскорбляли уважаемых людей, например, доцентов и профессоров, коим уделено немалое внимание. У всех здесь указанных (Дмитрия Бугаева, Степана Александровича, Ивана Науменко, как, кстати, и у Нила Гилевича) я училась и в разгар дачного бума занималась в аспирантуре на их кафедре, потому была в курсе всех дел «дачников». Никаких студентов на строительство никто не привлекал, как намекает автор, а работали собственные дети владельцев соток — тогда студенты.
Будучи большими марксистами, чем сам К. Маркс, авторы (или автор) радели якобы за коллективизм, выступали против частнособственнических инстинктов. Но осмеивать стоило бы явление, а не конкретных людей. Сравнение с «Энеидой наизнанку» неправомерно, так как в поэме XIX века показаны выдуманные, несуществующие языческие боги. Это действительно удачный прием, и это весело, остроумно — художественно. А злобно высмеивать, утрируя с немалой примесью лжи, своих товарищей по цеху вряд ли достойно. Тем более что в основе, под прикрытием высоких слов, обычная зависть, причем даже не творческая, а человеческая.
В «поэме» высмеивался горячий энтузиазм, но и неизбежные слабости бывших крестьян, ставших писателями. А крестьянские корни поразительно живучи в каждом белорусе — со всеми архетипическими особенностями, характерными для крестьянского сословия. И страсть к собственному клочку земли (вспомним гениальную «Новую землю» Якуба Коласа) неистребима. Причем в 1990-е гг., когда предполагаемые авторы вели позорную полемику, именно садово-огородные участки — в точности по Коласу — буквально спасали от голода миллионы людей. Воистину: «Зямля не зменіць і не здрадзіць...»
Мой любимый мастер слова Константин Паустовский говорил: «Писатели все должны понимать спокойнее и добрее, чем другие люди». Часто так и бывает, но, к сожалению, этого не скажешь об авторах «Сказа...».
Кстати, и в среде дворян, даже творческих личностей, нравы тоже не отличались христианским благочестием. До XIX в. писатели зависели от воли властителей, а с XIX в. — от пристрастий капризной публики. И всегда за свой престиж у монарха или у читателей несчастные (потому что несвободные) литераторы боролись — далеко не самыми благородными методами. Люди во все времена и везде — люди. Среди них — самые разные, причем очень часто в творчестве писатель выглядит гораздо лучше, чем носитель его таланта — человек. Такова наша природа.
В 1845 г. Ф. М. Достоевский напечатал повесть «Бедные люди» и буквально в одни сутки стал знаменитым — два великих вершителя судеб писателей в 1840-х гг. Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский объявили Достоевского лучшим среди молодых русских авторов и вторым после Н. В. Гоголя. И тут же на застенчивого молодого человека — Федора Михайловича — обрушились поклеп и травля. К сожалению, заводилой здесь выступал еще один замечательный русский мастер слова — И. С. Тургенев. Да и Н. А. Некрасов присоединился, посчитав все неумные анекдоты о Достоевском забавными шутками.
Правда, ради справедливости нужно сказать, что когда от чахотки умер В. Г. Белинский, богатый И. С. Тургенев подарил его вдове и дочери деревеньку. Однако в известных мемуарах гражданской жены Н. А. Некрасова Авдотьи Панаевой, уведенной поэтом у друга и коллеги, Иван Сергеевич неизменно предстает исключительно в негативном виде, что тоже не есть правда.
Известно, какой беспрецедентной травле со стороны либерально-демократической интеллигенции подвергался Н. С. Лесков после его антинигилистических романов «Некуда» и «На ножах». Уже тогда гениальный поэт и мыслитель Федор Тютчев с удивлением писал о парадоксальной зависимости монархической власти [а в дальнейшем — любой власти. — Т.Ш.] от тирании пошлого либерализма («чем либеральнее, тем они пошлее»). В основе такой постоянной зависимости — комплекс неполноценности, вечный страх прослыть «лапотниками» перед «просвещенной» Европой.
И как же сильна эта традиция: хотя Николай Лесков и признан русскими литературоведами несомненным классиком, однако упоминается он на протяжении XX и XXI вв. чрезвычайно редко. Молодежь его практически не знает. В советское время за демократизм мастера выдавалось его страстное желание жить по совести, что и определило нравственную высоту и его личности, и его творчества. А на рубеже 1980—1990-х гг., когда «властителями дискурса» усиленно расшатывались устои, готовился развал СССР, и негативное изображение инсургентов чрезвычайно ценилось, Лесков с его отрицанием радикалов, на удивление, по-прежнему в загоне: все же в чем-то другом, очень существенном, он явно не угодил либеральной публике, которая с XIX века неизменно определяла и общую идеологическую атмосферу, и литературную моду — при всей якобы свирепой царской цензуре. И это во времена господствующей идеологической установки — «самодержавие, православие, народность»!
В советское время тоже не без цензуры, хотя, естественно, идеологемы выдуманы иные. В 1924 г. по распоряжению одного из главных чекистов Якова Агранова ОГПУ арестовало четырнадцать молодых поэтов и других деятелей искусства во главе с другом Сергея Есенина Алексеем Ганиным. Дело об «Ордене русских фашистов» закончилось расстрелом семерых из них. Остальные на длительные сроки угодили в лагеря.
В 1933—1934 гг. сфабриковано подобное же дело — русских славистов, когда судили более семидесяти человек, в том числе выдающихся лингвистов и литературоведов — Н. Дурново, А. Селищева, В. Виноградова, А. Седельникова. Двадцать восемь из них погибли. Наука о генезисе, истории, культуре славян была надолго ликвидирована и по существу не оправилась от удара до сих пор. Помню, в мое студенческое время упоминание о славянофильстве как идеологическом направлении считалось дурным тоном. Всегда и везде — только русские революционные демократы: В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Но и сегодня главное идейное противоборство среди литераторов на протяжении двух веков — XIX и XX — от студентов тщательно скрывается.
В 1920-е годы, редко упоминаемые в негативе современными либералами, далеко не все так благостно. Будучи всесоюзно знаменитым, Владимир Маяковский обитал в каморке для прислуги роскошной квартиры своих друзей — Осипа и Лили Брик, связанных с чекистами и по существу определявших литературную атмосферу того времени, уже тогда невероятно дурно пахнущую, о чем широкая публика совершенно не знает. Скажем, Осип Брик ратовал за отмену искусства как такового. К сожалению, и сам Маяковский не без греха: он презрительно называл Осипа Мандельштама и Анну Ахматову «внутренними эмигрантами», именно он возглавил травлю Бориса Пильняка и Евгения Замятина — первую в СССР кампанию подобного рода.
На протяжении десятилетий беспримерному поношению подвергался Михаил Шолохов, якобы укравший свой гениальный роман «Тихий Дон». Немало усилий в реанимации этой травли в послевоенное время приложил другой известный писатель, но далеко не обладавший шолоховским талантом, — Александр Солженицын.
Михаил Булгаков отомстил своим многочисленным гонителям, выведя их в качестве негативных персонажей в «Мастере и Маргарите».
Гениальный композитор и мудрый человек Георгий Свиридов писал в мемуарах уже в постсоветскую эпоху: «Дети тех, кто сжил со свету М. Булгакова, теперь славят Булгакова, пишут о Булгакове, хвалят Булгакова, говорят «наш Булгаков», «великий Булгаков» и т.д. Ставят Булгакова, причем ставят на свой лад, переделывая, меняя смысл на противоположный. Xристос у Булгакова — недосягаем в своем страдании и в своем величии.»
О том, как пострадали в 1930-е гг. белорусские писатели, широко известно. Известно и кто писал на них доносы. Клеветнические рецензии и литературоведческие статьи, например, Лукаша Бенде и Алеся Кучера, тоже правомерно рассматривать как основание для практических оргвыводов со стороны правоохранительных органов. Тот же незабвенный Дмитрий Яковлевич Бугаев рассказывал нам на лекциях, что в газетах 1930-х гг., сохранявшихся в Национальной (тогда — Ленинской библиотеке), все разгромные рецензии оказались кем-то вырезаны, так что послевоенные поколения филологов познакомиться с ними не могли.
Послевоенная история литературы — своя, чрезвычайно интересная тема. Здесь мне уже многое известно не из книг и лекций, а из первых уст современников.
Наиболее часто упоминаемым делом о погроме Компартией литературы до сих пор остается Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 г., в результате чего пострадали Михаил Зощенко и Анна Ахматова. Однако в недавней книге известной российской исследовательницы Аллы Марченко «Ахматова: жизнь» предстает несколько иная картина, в которой неблаговидно выглядят не столько партийные функционеры, сколько литераторы. Действительно, второй человек в государстве Андрей Жданов выступил с роковым докладом, цель которого, по моему мнению, — консолидировать народ в восстановлении страны, для чего и требовалось идеологическое обеспечение, то есть литература определенного типа и настроения, именно та, которую мы относим по разряду «социалистический реализм». Однако такой доклад всегда готовится не одним человеком. Докладчик при разработке тезисов доклада указал на идею, а конкретные фамилии «зарвавшихся» литераторов предстояло назвать самим писателям. Литературная общественность Ленинграда, «(особо обиженная успехом послевоенных выступлений Ахматовой и Зощенко) назвала именно их» (А. Марченко).
Другой известный литературовед, чрезвычайно осведомленный, так как отец у него тоже был литературоведом, Дмитрий Урнов, пишет о закулисной стороне тогдашних событий: «В творческой среде шла своя борьба — за власть в литературе». И далее: «Информация запрашивалась сверху — подавалась снизу <...> Не надо называть имен, но не надо и на власть сваливать». Имеется в виду — не называть имен клеветников, уничтожавших, действуя через власти, своих конкурентов. Так, у Ахматовой оказалось много завистников, тем более, незадолго до рокового Постановления ее посетил атташе английского посольства Исайя Берлин, а сын Черчилля устроил под окнами квартиры поэтессы пьяный дебош. Вот и формальный повод. А чем же провинился Михаил Зощенко? «“Кого же мог травить тишайший Михаил Михайлович?” — спрашивает дотошный изыскатель. Для кого тишайший, а кому ненавистный — был секретарем правления Ленинградского отделения Союза писателей, поддерживал “своих”, а кого не поддерживал, те и отомстили.» (Д. Урнов). Очень точная характеристика нравов — и не только того времени.
Так что все здесь сложнее, чем выглядит в агитпропе — еще советском, хрущевском, когда был осужден культ личности Сталина и, соответственно, буквально все связанное с ним. Мало кому известно, что уже спустя месяц после позорного Постановления Александр Фадеев, тогдашний председатель Союза писателей СССР, не посмотрев на мнение ленинградцев, восстановил Ахматову в членах Литфонда СССР. Она вновь стала получать пенсию, а главное — рабочую карточку. И далее руководство СП, не афишируя, потихоньку, но неуклонно и успешно реабилитировало опальных писателей. Им доставали дефицитные путевки в санатории, продвигали их произведения в редакциях.
А. Марченко и Д. Урнов показывают неординарность сложившейся ситуации. Драматизм положения известных литераторов несомненен, но также несомненны усилия начальства Союза писателей их минимизировать.
Конечно, отношения творческих людей с властями всегда оказывались достаточно сложными и нередко драматичными.
Иван Шамякин рассказывал о начале своей литературной деятельности, когда он в 1948 г. перебрался из провинции, где работал учителем, в Минск и поступил в Высшую партийную школу. Тогда же уже очень известный поэт Максим Танк был назначен главным редактором журнала «Полымя». Именно редакция «Полымя» в Доме печати, случайно уцелевшем от бомбежек во время войны, стала своеобразным клубом, где собирались тогдашние литераторы. Было их в то время — членов Союза писателей — немного, около пятидесяти человек. Жили дружно и весело, несмотря на бытовые трудности. В мемуарных заметках о Максиме Танке «На камне, железе и золоте» И. Шамякин писал, как восхищал его юмор великого поэта: «Но вместе с тем, чувствовал, что весь его юмор бытовой, никакой политики! Шутил он как бы оглядываясь. Меня это удивляло, а временами даже разочаровывало. Позже я понял причину такой настороженности и осторожности, понял и мудрость Танка. Поэт, который, казалось, возносился в поднебесье в стихах, был трезвым реалистом. Но я, вчерашний комсорг дивизиона, все еще оставался идеалистом, хотя и писал романы и учился у лучших реалистов — классиков. Теперь могу заключить: вернувшись с фронта победителями, мы принесли необычную политическую наивность. Не только я, но даже такой настоящий реалист, смельчак, юморист, как Андрей Макаенок, оба мы считали, что активное участие в такой войне (у Андрея — тяжелое ранение) дает нам индульгенцию от любых политических обвинений. Подбирали повторно отпущенных на волю «декабристов» — мы же оставались почти равнодушными. Во-первых, молодые, мы не знали ни Скригана, ни Шушкевича, ни Федоровича. Что это за люди? Мол, те, из органов власти, которым надлежит все знать, знают этих «повторных» лучше. Началась борьба с космополитизмом, значит, продиктована высокой политикой, мудростью вождя. Правда, арест Xаима Мальтинского меня поразил: Xаим был моим первым редактором. Андрея возмутил: Xаим, комиссар батальона, потерял на войне ногу, имел три или четыре ордена. Такой воин, считали мы, да, наверное, считали все, действительно имел право на высшую охранную грамоту. Какой вред державе, партии мог нанести офицер, инвалид, коммунист Мальтинский? Разве что единственный его грех — пишет свои стихи (хорошие стихи в переводе на белорусский) — на идиш? Но мы же интернационалисты, так нас воспитывали с первого класса школы. Закончила воспитание война. Есть один враг — классовый. В этом мы были убеждены. Теперь я понимаю: Максим Танк не верил в индульгенции, охранные грамоты, врученные ему подпольем в Польше, войной с фашизмом. Оттуда и настороженность, и осторожность, которую я тогда, идеалист, не мог объяснить» [здесь и далее перевод с белорусского мой. — Т. Ш. ].
Осторожность старшего поколения литераторов, много переживших, можно понять. «Наивность» же фронтового поколения писателей, то есть тех солдат и офицеров, которые вступили в литературу во время войны и после нее, я объясняю для себя иначе. Среди этих писателей — Иван Мележ, Василь Быков, Иван Шамякин, Алексей Кулаковский, Владимир Карпов, Андрей Макаенок, Иван Науменко, Алексей Пысин, Алесь Савицкий и многие другие. Это поколение чрезвычайно плодотворно работало в 1940—1970-е годы, даже несколько и позже, но все же наиболее значительные произведения созданы в отмеченный период. Фактически писатели-ветераны как наиболее активная часть литераторов сформировали белорусскую послевоенную литературу, которая именно благодаря им стала широко известной в мире.
Великая литература Беларуси — можно с полным правом говорить о ее несомненном величии — возникала на волне оптимизма и ликования от Победы, счастья жить на мирной земле, радости ее обновления. Причем стремительный взлет литературы наблюдался в 1960-е гг. Но он был обусловлен вовсе не «хрущевской оттепелью», не разоблачениями этим негодным руководителем «культа личности Сталина», а специфическим периодом в истории Советского государства, когда послевоенные лишения остались позади, страна отстроилась, народ стал жить хорошо, но сохранялась еще инерция ощущения Победы и связанные с ней удивительно теплые, сердечные, дружеские отношения между людьми.
Кстати говоря, докладом Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС советские ученые не занимались. А вот иностранные авторы (Дж. Гетти, Р. Торстон, Г. Ферр, С. Виткрофт, Р. Девис), которых никак не заподозришь в симпатиях к Сталину, исследовали доклад серьезно, обстоятельно, глубоко и доказали лживость Н. Хрущева буквально по всем пунктам.
«В 60-е СССР на пике своего развития. Паритет с США, полет Гагарина, беспрецедентный экономический рост, строительство жилья для народа, лучшие в мире системы образования и здравоохранения — это была «лебединая песня» социализма. Народ поверил в «очеловечивание» власти, был готов к созидательному труду. Но власть не смогла распорядиться народной инициативой», — пишет русский писатель Юрий Козлов.
От властей вообще редко исходят изменения к лучшему — как правило, это заслуга народа. Номенклатура всегда прежде всего заботится о себе. А именно с Хрущева номенклатура, пощипанная Сталиным в 1937 году, почувствовала свою безнаказанность.
Я сама ностальгически зачарована шестидесятыми — лучшего времени за весь ХХ век не было. Но, повторяю, особая атмосфера той эпохи вызвана совсем другими процессами, чем принято считать. Перестроечные либеральные идеологи все упростили, создали примитивный миф, а мы с тех пор бездумно повторяем очевидные глупости о «хрущевской оттепели» в то время, когда все гораздо сложнее, объемнее, диалектичнее. Впрочем, сложность и диалектика в наше время никому не нужны, более того, пугающи... Кстати, замечу, что в сами шестидесятые, да и позже, вплоть до «перестройки», слово «оттепель» вообще широко не употреблялось.
В 1960-е гг. белорусская литература считалась одной из самых развитых в СССР, да даже и в Европе. Причем наибольшую известность имели преимущественно авторы военного поколения. Сегодня значение их произведений, по большому счету, еще больше возрастает — ведь это свидетельства непосредственных участников событий, которые успели их глубоко и всесторонне осмыслить.
Удивительной оказалась плеяда творцов. Писатели военного призыва — А. Кулаковский, А. Пысин, А. Макаенок, И. Шамякин, И. Мележ, В. Быков, И. Науменко, А. Савицкий — являлись по существу первым полностью советским поколением, родившимся и сформировавшимся уже в советской стране. И идеологию первого в истории социалистического государства их жизненный опыт в общем подтверждал: СССР победил в самой жестокой, кровопролитной из всех известных войн, необычайно быстро, без посторонней помощи, возродил народное хозяйство, осуществил космический проект, стал по многим экономическим показателям второй супердержавой в мире. Значит, приходила к выводу наиболее думающая часть общества — писатели, — социальный строй этой державы самый справедливый и правильный.
В то же время мастера пера — люди умудренные и умные — не могли не видеть и недостатки системы: глупость в управлении войсковыми операциями, бездушие бюрократов в отношении простых людей в тылу.
Поколение Победителей вообще во многом по-другому воспринимало жизнь, чем творцы довоенного времени. Авторы, влившиеся в состав Союза писателей после фронта, были социально уверены в себе, в своей правде и жизненном предназначении. Ведь они привыкли к инициативе, к самостоятельному принятию решений в условиях самых необычных и даже часто невыносимых. Они каждый по-своему, соответственно своему феноменально богатому жизненному опыту, смотрели на мир и умели видеть в нем разные стороны — иначе не сформировались бы как творцы.
Писатели-ветераны — на самом деле не наивные юнцы, как несколько лукаво пишет Шамякин, а очень серьезные люди, знающие относительно себя, что свою главную задачу в жизни, свою, без преувеличения, планетарную миссию они выполнили честно, достойно — спасли мир от самой реакционной силы в истории. Именно их правдивые произведения и мужественная позиция, вообще в целом их пребывание в обществе, создавали ту неповторимую атмосферу, которой характеризуются 1960-е годы и которую абсолютно неправомерно приписывают невежде Н. С. Хрущеву, деятелю неумному, но хитрому.
Правда, в конце 1940-х гг., о которых и вспоминает в мемуарах мой отец, еще не все молодыми авторами осмыслено до конца, и тем не менее их «наивность»— это на самом деле уверенность в себе, потому что они — Победители. Да и сам И. Шамякин в романе «Тревожное счастье» писал, что за четыре года войны они все повзрослели на двадцать лет. Действительно, вспоминая то поколение и сравнивая с последующими, уже достаточно инфантильными, я вижу мудрость, честность и благородство наших отцов, наших наставников.
Что же касается периода борьбы с космополитизмом в заметках Шамякина, то, как отмечает чрезвычайно осведомленный русский поэт Станислав Куняев, многолетний главный редактор журнала «Наш современник», это был, на самом деле, упреждающий удар тогдашнего председателя Союза писателей СССР Александра Фадеева против кампании, что велась против него и его круга. Он знал, что чрезвычайно мощный партийно-идеологический клан в недрах самого ЦК КПСС пытается его свергнуть и поставить на освободившееся место более подходящую для них фигуру — Константина Симонова. Прежде чем началась борьба с космополитизмом, в литературных кругах развернулась атака против окружения А. Фадеева — драматургов А. Софронова, В. Вишневского, А. Сурова, Н. Вирты с целью вытеснить их пьесы из репертуара и заменить своими авторами. Рецензии тогдашних театральных критиков поражали злобностью и непримиримостью. И вот тогда, почувствовав опасность, мудрый и опытный А. Фадеев, заручившись поддержкой сподвижника Сталина Георгия Маленкова, нанес удар первым.
Таким образом, за разными явлениями в литературе как советского, так и постсоветского времени нужно видеть более глубокие их корни. В то время сложился такой политический момент, когда антипатриотические силы осмелели и решили провести «разведку боем» по разрушению основ социализма. Да только руководители Союза писателей их переиграли. Больше это не повторится никогда...
Вообще, нельзя ничего понять в реалиях времени, если не знать главного противостояния в советской литературе, начавшегося, впрочем, задолго до революционного 1917 г. (еще М. В. Ломоносов боролся против немецкого засилья в России). Все время шла борьба между двумя идеологическими тенденциями, как пишет Станислав Куняев, «условно говоря, патриотической и “интернационалистской”, пытающейся гальванизировать послереволюционную антирусскую направленность, которая была решительно подорвана во время Великой Отечественной войны».
От себя скажу, что идеологический отдел ЦК КПСС постоянно балансировал между этими двумя силами, стараясь равномерно распределять как блага, так и наказания. Лишь период «борьбы с космополитизмом» можно считать нарушением баланса, реваншем за «дело Г анина» (да и убийства С. Есенина, как сейчас уже доказано) и «дело славистов». Впрочем, пострадавшие отделались легким испугом — «никого ведь из критиков-космополитов не расстреляли и в лагеря не сослали. Даже из Союза писателей никого не исключили» (Ст. Куняев).
Зато кратковременное потрясение многому научило: с тех пор «испуганные» изменили тактику и начали расшатывание устоев планомерно и методично, но с малого — насаждения социальной апатии, тоски, безнадежности у охваченного энтузиазмом и жаждой творчества народа. Об этом — многие кинофильмы, песни бардов, подпольная литература. Позже — чернушные фильмы, маргинальный рок, уголовный шансон, постоянный пошлый стеб в журналистике. А уже «перестройка» конца 1980-х гг., как пишет умнейший Александр Проханов, — «это мощнейшее, набиравшее обороты, организационное оружие, которое послойно уничтожало все опоры, символы, институты советского государства». Причем дело велось чрезвычайно умело, так как оказалось, как видится сегодня, хорошо подготовленным. Социолог Сергей Кургинян отмечает: «Горбачевская «перестройка» (декоммунизация) — насилие. Неслыханное насилие: информационное, психологическое и метафизическое».
Подоплеку подобных, набирающих обороты, явлений молодые белорусы, ветераны войны, в конце 1940-х — начале 1950-х годов, конечно, не знали. А вот в 1950-е и особенно в 1960-е, когда уже маститые к тому времени белорусские писатели дружили и активно сотрудничали с русскими и украинскими авторами, разговоры на эту тему в нашем доме шли постоянно, едва ли не ежедневно. Обсуждали не достоинства и недостатки разных произведений — для того хватало разных заседаний и страниц журналов, — а политику, в том числе, как принято было провозглашать, «политику партии в области литературы».
В постсоветской же России борьба писателей, условно говоря, «славянофилов» и «западников», еще более обострилась. Только никакого баланса уже и в помине нет. Убедительную победу, как и стоило, исходя из тенденции, ожидать, одержали литераторы прозападно-либерального лагеря. Достаточно посмотреть, кого издают массовыми тиражами, кому дают премии, кого посылают на международные форумы, кого ставят в театрах и в кино. Все эти писатели ныне активно обслуживают установившийся в РФ буржуазный режим, олигархат, ограбивший народ, внушают населению, что возврата к социализму быть не может, воспитывают гедонизм, потребительство и равнодушие к родной стране, а значит, и к собственной судьбе. Примеров — тысячи.
В мае 2018 г. известный в РФ писатель Юрий Поляков в одной из острых статей цикла «Желание быть русским» писал: «...что касается знаковых для русского самосознания памятников, то тут просто беда! Плисецкой памятник есть — Улановой нет. Мандельштаму есть — Заболоцкому нет. Бродскому есть — Рубцову нет. Ростроповичу есть — Свиридову нет.» Как горько замечал Юрий Кузнецов о своих собратьях: «Молчите, Тряпкин и Рубцов, // Поэты русской резервации».
Всемирно известный скульптор, бывший советский диссидент Михаил Шемякин, которого никак не заподозришь в симпатиях к социализму, видит несправедливость, пошлость и подлость ныне утвердившегося строя и высказывается на этот счет более чем зло: «Наворовано много. Теперь надо создать такую идеологию, которая была при царизме: сиди, русский мужик, и не рыпайся. Слушай, что тебе барин говорит. У тебя лапти есть — и ладно. А нам не мешай кататься на яхтах и “бентлях”».
Весной 2018 г. российские власти специальным указом разрешили крестьянам собирать в лесу валежник. Вот уж облагодетельствовали — совсем в духе высказывания Михаила Шемякина! Чиновники не понимают, насколько это унизительно для русского человека — победившего в самой страшной войне, осваивавшего космос, создававшего замечательную науку и технику.
Чиновники вообще не привыкли учитывать достоинство человека, в том числе чиновники от науки и образования и в том числе в Беларуси. Для них такого понятия не существует. Ведь при капитализме человек — товар, и в каждом власть предержащем это понимание, пусть и подсознательно, засело накрепко. Впрочем, все начиналось еще при советской власти, при Хрущеве. И. Шамякин вспоминает одного из таких деятелей в мемуарной статье «Воспитатель». Речь в ней о крупнейшем идеологе компартии — сначала в Беларуси, потом на союзном уровне — Василии Филимоновиче Шауро. Шамякин приводит многочисленные примеры столкновений людей искусства с этим партийным бюрократом. Между прочим, я в то время училась в школе с сыном Шауро — Михаилом. Его очень не любили — за эгоизм, заносчивость, за все те качества, которые уже проявились в «золотой молодежи», детях государственного и партийного чиновничества. При том, что именно у нас в элитной школе оказались примеры прямо противоположные — скромные, тихие, дружелюбные дети высших руководителей Беларуси того времени Киселева, Машерова, Притыцкого. Своего сынка Шауро воспитывал одними методами, творческих людей — другими, гораздо более жесткими.
И. Шамякин пишет: «Василий Быков и Алесь Адамович неоднократно были на приеме у Шауро, как правило, после зарубежных командировок — с отчетами. Неразговорчивый Василий об этом не рассказывал, Алесь рассказывал нам с Андреем с юмором, как Шауро их воспитывает. Воспитатель!» И тут же — об итоге деятельности этого кичившегося своей коммунистической принципиальностью функционера: «Когда Горбачев и Яковлев с помощью Шауро развалили партию, и бывший заведующий отделом вынужден был очистить дачу ЦК, то вместе с другим добром вывез 200 (!) оригинальных картин художников из всех республик. Плюс скульптуры, отлитые из ценных металлов». А повзрослевшие детки подобных деятелей завладели намного большим имуществом — тем, что создавался всем народом на протяжении десятилетий.
Впрочем, в Беларуси работали и другие чиновники, честные и неравнодушные к людям, — как правило, прошедшие войну, и Шамякин их тоже вспоминает — проникновенно, тепло. Но больше всего он пишет о братьях-писателях. Ссылаюсь на Шамякина потому, что именно он оставил наибольшее число мемуарных произведений и воспоминаний о коллегах. В том числе коллегах из других республик. Так, подробно описывает он все перипетии «Дела Пастернака» в связи с присуждением ему Нобелевской премии по литературе за роман «Доктор Живаго».
В те нервные и для властей, и для писателей дни Шамякин находился в Москве на редколлегии издательства «Советский писатель». Вечером, когда отец «заседал» со своим другом — русским поэтом Николаем Рыленковым — в ресторане новой гостиницы «Украина», к ним присоединились знаменитый Александр Твардовский и его заместитель по журналу «Новый мир» Александр (Зиновий) Кривицкий. Именно от них Шамякин и Рыленков узнали о перипетиях в судьбе Пастернака.
Первоначально Борис Леонидович отдал роман в «Новый мир» — тогда самый авторитетный общественно-политический и литературно-художественный общесоюзный журнал. Мнения членов редколлегии журнала двоились и троились. Сам главный редактор — Александр Трифонович — склонялся к печатанию. Но пока раздумывали, роман издали в Италии. Это был скандал. Печатание в «Новом мире» отпало. И тут же Пастернаку была присуждена Нобелевка.
Требовалось доказать, что премию присудили не за художественные достоинства произведения. Впрочем, именно в области литературы политическая подоплека присуждения Нобелевской премии просто поражала знающих людей своей явной тенденциозностью. И оставалось подобное положение дел надолго, пока, в конце концов, в 2018 г. Нобелевскую премию по литературе, совершенно себя дискредитировавшую, решили вообще не присуждать. А в то время, которое описывает И. Шамякин, советские власти постановили: Твардовскому написать заключение по роману и подписать у всех членов редколлегии, которые, естественно, роман читали, и не по одному разу. После многочасового объезда коллег — по всей Москве и в дачном поселке Переделкино — Твардовский «остужался» в ресторане, поскольку кипел гневом. Зная его слабость, которую в редакции журнала сотрудники дружно поощряли (всегда с утра у него в сейфе стояла бутылка коньяка от подчиненных), к Твардовскому для общения с членами редколлегии приставили надзирателя — заведующего отделом пропаганды ЦК. Поэт не стеснялся в выражениях, проклиная партийных бюрократов и их опеку над творческими личностями.
Хотя продолжали пить всю ночь в номере Шамякина (сам он пить умел и всегда знал меру), Твардовский явился на следующий день на пленум СП как стеклышко, правда, опоздал.
Знаковый для истории советской литературы пленум Шамякин описывает подробно — как никто другой, поскольку вел записи. Привожу его рассказ вкратце.
Шамякин и другие «националы» примкнули к группе тогдашнего председателя Союза писателей СССР Алексея Суркова. Именно ему в 1941 г. Константин Симонов посвятил гениальное стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Кстати, как раз Сурков, после войны — один из руководителей СП, — сыграл главную роль в облегчении судьбы М. Зощенко и А. Ахматовой. Потому Шамякин Суркова любил, хотя и писал о нем с юмором. Сурков отличался чрезвычайным красноречием, произносил вдохновенные речи без записей — всегда очень долго и витиевато. И на пленуме он выступил первым, причем говорил «без злости, снисходительно», излагал ситуацию как забавную байку. Рассказал всю историю публикации злополучного романа, хвалил Пастернака-поэта. «Но так и не сказал, с какой целью собрались члены секретариата, правления, актив. Не имел еще председатель определенных указаний. Верховный идеологический орган нередко по мелочам давал конкретные указания, а по серьезным, важным предлагал разбираться самим. Так было в Москве, так было у нас».
После Суркова все выступавшие осуждали Пастернака, но «мягко, незло, как бы подстилая соломку, чтобы не мулко ему было на даче в Переделкино». Только один человек, впрочем, очень авторитетный, — Илья Эренбург (автор термина «оттепель») — защищал лауреата. Затем вновь говорил Сурков — и соглашаясь с Эренбургом, и споря с ним.
Шамякину запомнилось выступление тогда знаменитой Веры Пановой. Слова ее дышали злобой, но ни одного адреса не было названо — ни самого Пастернака, ни СП, ни Хрущева.
С моей точки зрения, практически все выступавшие продемонстрировали в риторике высший пилотаж — сказать многое, но ничего не сказать.
Потом опрашивали представителей от союзных республик. На первом месте всегда и везде — Украина. Правда, представитель от Украины, друг Шамякина, выдающийся писатель Михайло Стельмах, перед пленумом мудро уклонился от присутствия на нем, сославшись на здоровье. Следующие по рангу — белорусы. Шамякин встал и сказал, что роман не читал. Кто-то засмеялся. Кто-то выкрикнул: «А кто читал?» Но Сурков выгородил Шамякина, красиво поговорив не о романе, а о чести советского писателя. Затем выступали другие «националы».
Кто-то не из великих и знаменитых, а из подпевал и прихлебателей предложил заставить Пастернака отказаться от премии. На том и порешили. Составили комиссию для беседы с Пастернаком, куда вошли маститые, его ровесники, — Алексей Сурков, Константин Симонов, Вадим Кожевников (автор романа и сценария кинофильма «Щит и меч»). Твардовский отказался: мол, он все сказал в своем заключении.
Через несколько дней состоялось общее собрание и в Союзе писателей Белоруссии. Выступал Шамякин — «ведь он имел счастье слушать московских корифеев», как сам пишет с иронией. Данный эпизод в родной организации Иван Петрович вообще описывает с юмором, впрочем, его потаенный смешок все время ощущается и в предыдущем рассказе. На собрании присутствовал сам «великий идеолог» Шауро, потому следующий за Шамякиным оратор — директор Института литературы академик Василий Борисенко — волновался и в своей речи несколько раз вместо «Пастернак» сказал «Пестрак». А Пилип Пестрак сидел тут же, в первом ряду. Пестрак был чудаковат (не диво — одиннадцать лет отсидел в одиночке в польской тюрьме Лукишки), потому зал замер, ожидая его реакцию. Уже после выступления Петруся Бровки, председателя СП Беларуси, Пилип Семенович «не спеша пошел к трибуне со своим до дыр протертым портфелем (шутили, что торба эта — из Лукишек еще), раскрыл портфель, достал какие-то бумаги, нацепил очки — словно испытывал нетерпение слушателей. А сказал одно предложение: «Академикам нужно выступать по писаному», — и пошел с трибуны.
Зал взорвался хохотом. Слова эти стали крылатыми.
Бровка не мог не осведомиться у начальства, как прошло мероприятие, ожидая похвалы. Спросил у Шауро, когда тот в нашем кабинете одевался:
— Ну, как? По-моему, все хорошо.
— Балаган.
Бровка позеленел.
— Этот Пестрак! Василию простительно — он волновался.
— Дело не в них.
А в чем? Разгадать мы так и не смогли, даже с помощью мудреца Глебки, почему такое серьезное обсуждение стало балаганом».
Настоящую подоплеку истории с «Доктором Живаго» писатели узнали довольно скоро. Но все равно и в писательской среде, и в обществе укоренилась традиция считать Пастернака несчастным страдальцем, мучеником, жертвой. Помню, как рассказывали нам, студентам, о нем на лекциях — буквально со слезами жалости и умиления. И лишь в 2014 г. чрезвычайно авторитетная «Литературная газета» опубликовала официальное сообщение об «операции “Живаго”»: «Рассекречено около 130 документов ЦРУ, подтверждающих версию, согласно которой это ведомство принимало непосредственное участие в публикации и распространении романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». В рамках кампании по борьбе с коммунистическим строем американская разведслужба организовала выпуск запрещенной в СССР книги на Западе, а также распространение романа среди советских граждан, — сообщает газета «Вашингтон пост». Документы предписывали ни в коем случае не демонстрировать, что к изданию причастна “рука правительства США”. Текст романа был получен ЦРУ в январе 1958 г. секретным пакетом из британских спецслужб. В пакете находились два рулона фотопленки страниц рукописи, которую удалось вывезти из СССР».
Оказывается, не так уж сильно заблуждались «злопыхатели», «травившие» автора. Правда, его не только не выслали из страны, но даже из Литфонда не исключили. Однако слоган «не читал, но осуждаю», прозвучавший на описанном пленуме СП в отношении романа, широко пошел в народ, естественно, в самом издевательском для властей и их прихвостней смысле. А по-моему, ничего особенного в этом афоризме нет: осуждался сам факт передачи романа за границу. У нас считается позорным для писателей — и справедливо — сотрудничать с советскими чекистами, но почему-то не осуждается сотрудничество с зарубежными спецслужбами. Известный российский социолог Сергей Кара-Мурза называет подобные вещи аутизмом общественного сознания.
В дальнейшем ЦРУ принимало еще большее участие в истории создания и популяризации книги «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Сия операция вообще завершилась блестяще, так как произведение во многом способствовало подрыву доверия народа к советской власти.
Осведомленный русский публицист Андрей Фефелов пишет на этот счет: «Миф о ГУЛАГе был ловко, цельно и талантливо сконструирован на Западе. Солженицын озвучил его через существующую до сих пор масонско-протестантско-разведывательную структуру YMKA, которая плотно занималась нашей страной еще со времен российской империи».
По свидетельству почти столетнего публициста, ветерана войны, Владимира Бушина, первое издание «Архипелага.» изобиловало фактическими и орфографическими ошибками. Потом Александр Исаевич, конечно, по нему прошелся и объявил произведение художественным, а вовсе не документальным. Но дело уже было сделано.
Постоянные вопли о ГУЛАГе, о штрафбатах, «кровавой гебне», «тупом совке» во времена «перестройки» и позже буквально забили мозги не только простым обывателям, но и бывшей советской интеллигенции.
Некоторые из моих студентов, посмотрев любимый народом советский фильм «Девчата», совершенно искренне недоумевали: почему по сюжету фильма строятся дома для семейных пар — ведь действие происходит в одном из поселков ГУЛАГа, и герои — репрессированные? Стереотип: если речь о лесозаготовках — значит, ГУЛАГ. Детей за их наивность, невнимательность и феноменальное незнание жизни осуждать нельзя — им так, постоянно и систематически, внушали родители и педагоги. А родителям и педагогам — агитаторы и пропагандисты из СМИ в годы «перестройки» и «лихих девяностых». Причем манипуляция сознанием оказалась настолько мощная, что верили любому бреду: скажем, указывалось количество репрессированных большее, чем граждан СССР в 1937 году. Тут уже не аутизм, а настоящая массовая шизофрения. Причем давно доказано реальное число привлеченных к суду, не превышающее за тридцать три года (1921—1954 гг.) чуть более четырех миллионов, в большинстве случаев — за дело: вредительство, коррупцию, настоящий шпионаж, а во время войны — службу в полиции, дезертирство и т.д. В наше время известны абсолютно точные цифры: по политическим статьям в указанные годы было приговорено к смерти 642 980 человек, к лишению свободы 2 369 220 человек. Тоже много, но в ельцинское криминальное десятилетие погибло гораздо больше — граждане вымирали по миллиону в год (убийства, самоубийства), и каждый пятый ребенок — беспризорный.
Мало кто знает, что уже в 1938 году, то есть после психоза ежовских репрессий, началась реабилитация невинно осужденных. Вернулось из заключения около 800 000 человек. Именно тогда вернулся и мой дед по маме Филат Азарович. Причем, в отличие от неутихающих истерик либеральной публики, самих репрессированных и их потомков, мои родные, мама и ее сестры, всегда говорили о страданиях отца с его слов: «Значит, так надо было», подчеркивая «надо было». Истинно народный, христианский взгляд на вещи.
Но такого понимания — как у Ф. Достоевского, который был благодарен судьбе за каторгу, потому что в страданиях душа возвышается, — я ни разу не прочитала в многочисленных писаниях либералов. Писатели, конечно, всегда более осведомленные, чем основная масса народа. Но многие из них, почувствовав конъюнктуру, сами активно участвовали в создании пропагандистского мифа, ничуть не стремясь обнажить всю правду.
Среди других негативных явлений, распространенных в писательской среде, нельзя не назвать существование так называемой «переводческой мафии». Безусловно, не в Беларуси. А в Москве писателей из национальных республик переводили очень широко, и многие провинциальные, из союзных и автономных республик, авторы, скажу честно, прославились благодаря талантливости своих российских переводчиков. Помню, как Шамякину постоянно предлагали свои услуги разные литераторы из Москвы и Ленинграда. Сначала у отца были действительно выдающиеся переводчики-ленинградцы — Аркадий Островский и Иосиф Кобзаревский. Но когда они умерли, взялись за дело москвичи. Через немалое время И. Шамякин совершенно случайно узнал, что один из его переводчиков просто распределяет куски романа среди своих студентов, и те белорусского автора буквально штампуют. Оплачивался труд молодых копейками, а вот официальные переводчики, чего многие нынешние читатели, скорее всего, не знают, получали в советское время 40 % от общего гонорара. Так что перевод тогда — дело чрезвычайно выгодное.
Еще один способ заработка — кино. В то время экранизировали произведения писателей, в том числе белорусских, достаточно активно. Переведены на язык киноискусства почти все произведения В. Быкова, В. Короткевича, И. Шамякина, «Люди на болоте» И. Мележа. Шамякина экранизировал и один из очень известных тогда российских режиссеров. Здесь широко распространенная практика была такая. Сценарий всегда писал сам писатель. Режиссеры таким делом обычно себя не утруждали. Но настаивали, чтобы их имя стояло в титрах как соавторов сценария. Естественно, гонорары делились. Никто из обделенных писателей никогда не роптал: ведь кино — наилучший популяризатор их творчества. К тому же, режиссеры в процессе съемок действительно часто вносили изменения в сценарий, правда, далеко не всегда в лучшую сторону. Из-за порчи своего произведения белорусский драматург Андрей Макаенок даже поссорился с закадычным другом Петром Василевским, снявшим по пьесе Макаенка «Левониха на орбите» неудачный кинофильм «Рогатый бастион».
Однако всегда неизбежные в творческой среде недоразумения между советскими писателями и шалости с гонорарами не идут ни в какое сравнение с теми ожесточенными боями, которые развернулись во время «перестройки» и после развала СССР. Еще в конце 1980-х писатели, наконец, официально разделились по той линии, которая существовала всегда — «славянофилов» и «западников». Сразу после ГКЧП в 1991 г. они уже дрались чуть ли не врукопашную, во всяком случае, была попытка насильственного захвата помещений. А затем в течение многих лет бурно делили имущество. В результате все лишились всего, поскольку действительно немалым достоянием (домами творчества, поликлиниками, издательствами) завладели более ловкие, чем литераторы, дельцы, всегда умевшие ловить рыбку в мутной воде. Для того ее, воду, и мутили. За материальные блага (в частности, за дарованные Сталиным дачи в Переделкино, которые ранее обзывались «золотыми клетками», а сейчас благословляются) идут сражения и в наше время, причем даже в организации писателей, казалось бы, одного идеологического лагеря.
Практически никто из нынешних читателей не знает о подписанном в 1993 г. двумя известными белорусскими писателями, вместе с еще сорока российскими либералами, скандального, совершенно позорного письма президенту РФ Б. Н. Ельцину — с гневными призывами подвергнуть репрессиям просоветски настроенных деятелей культуры. С этими своими заклейменными коллегами еще несколько лет назад белорусские авторы обнимались под коньячок в кафе ЦДЛ.
Такие вещи не забываются! Куда там осуждение Бориса Пастернака за Нобелевскую премию — детский лепет по сравнению с мерзким доносом, направленным против своих же собратьев по профессии.
Конечно, хочется реабилитировать соотечественников. Ведь известно, как «подписываются» подобные письма. Звонит писателю, а иногда даже его жене, некий инициатор очередного письма властителю, кратко излагает суть, не вдаваясь в подробности, и как правило, заручается согласием на подпись. Скорее всего, так оно и было. Правда, если вспомнить публицистические выступления одного из подписантов в 1990-е годы, его обеление латышских фашистов, его мечты о скорейшем вымирании ветеранов Великой Отечественной войны, которые мешают продвижению страны по пути демократии, то вопросы все равно возникают. Второй подписант, мой глубоко уважаемый наставник, судился в то время с компартией. Можно иметь разные политические взгляды, можно состоять не только в компартии, а и в некоем сообществе «просвещенных», но стоило бы сохранять в себе нечто, что выше политики и идеологии.
Удивительное дело! Вместе с изменением общественного строя кардинально изменились и нравы, отношения между людьми. А ведь в советское время преобладали все же дружба и теплота в отношениях.
Действительно, невозможно постоянно писать о негативе — в то время, когда хорошего было больше.
Еще в советское время писателей, бывало, обвиняли в групповщине. Скажем, белорусы делились на так называемых «западников» и так называемых «восточников». Считалось, что первые тяготеют к Польше, вторые — к России. Однако все это было глубоко внутренне и известно лишь «посвященным», потому что внешне никак не проявлялось. Разве что в более интенсивном общении между «своими». Да и то: «западнику» Янке Брылю и «восточнику» Ивану Шамякину подобное формальное деление совсем не мешало быть очень хорошими соседями и видеться часто. А когда они из белорусских классиков в начале XXI столетия остались одни, то и совсем относились друг к другу исключительно трогательно.
В России все подобные вещи проявлялись более резко, обнаженнее, но и об этом широкая публика абсолютно не знает. Не знают студенты-филологи, да и многие преподаватели. Табу до сих пор — даже тогда, когда разделился единый
Союз писателей, причем и в России, и у нас. То есть налицо свершившийся факт, который хорошо известен, — не стоит ли, наконец, обнажить его генезис, развитие, приведшее к определенному итогу?
Но боимся по-прежнему.
Не могу не сказать и о нынешней тенденции поменьше упоминать имя И. Шамякина — наиболее, по мнению журналистов, да и некоторых литературоведов, «просоветского». А между тем на протяжении полувека, если быть честными, именно И. Шамякин пользовался наибольшей любовью читателей. Об этом свидетельствуют очень многие факты. Но что до мнения народа нынешней элите?!. С грустной улыбкой вспоминаю искреннее недоумение наших уважаемых академиков, которые, взявшись в 2010-е г. готовить к изданию 23-томное Собрание сочинений И. Шамякина, поразились глубине произведений прозаика. А где же вы раньше были? Конечно, с высоты времени все видится ярче, отчетливее... Что же касается современных бойких журналистов, то их невежество, в том числе в области литературы, не побоюсь этого слова, ошеломляет.
Однако возвращаюсь к хорошему. Групповщиной ни в коем случае нельзя считать дружбу между писателями. Действительно, очень хорошая мужская дружба была у «триумвирата» — Петруся Бровки, Петра Глебки, Кондрата Крапивы, у Василя Быкова и Алеся Адамовича, у Андрея Макаенка и Ивана Шамякина.
Так, Бровка, Глебка и Крапива, признанные корифеи, — абсолютно разные по характерам, психотипам, по творчеству, — дружили очень искренне и самоотверженно. Они даже дачи себе построили рядом — несколько в стороне от поселка, где у горсовета выкупили участки Пилип Пестрак, Иван Мележ, Иван Шамякин. Что стало сейчас с нашей дачей, я уже писала. Дети Мележа перестроили свою, доставшуюся от отца, собственными руками; наследники Пестрака свою продали, и там сейчас — шикарный особняк очередного нувориша.
Исключительной сердечностью отличалось отношение старших писателей к младшим. Забота о смене — характерная особенность самого духа писательской корпорации. Путевку в литературу Ивану Мележу дал Кузьма Чорный, Ивану Шамякину — Михась Лыньков, Владимиру Короткевичу — Максим Танк, Евгении Янищиц — Нил Гилевич, Алесю Рязанову — Олег Лойко. Собственно, свои кураторы-опекуны были у каждого из начинающих. Старшие писали внутренние рецензии, предисловия к сборникам молодых, редактировали их произведения, включали, часто слишком рано и незаслуженно, в разные комиссии, советы, команды для зарубежных поездок, активно помогали в печатании, в получении премий, квартир и прочих льгот.
Регулярно, не менее двух раз в год, Союз писателей налаживал семинары для молодых литераторов, где старшие проводили мастер-классы, читали лекции, разбирали произведения. Обычно эти семинары проходили в Доме творчества писателей «Королищевичи», что километрах в двадцати от Минска, а затем в Доме творчества «Ислочь» под Раковом. Здесь молодые имели возможность пообщаться не только с маститыми, но и друг с другом, а также отдохнуть, хорошо поесть в течение нескольких дней, насладиться природой.
Быт
В связи с Королищевичами пришла пора сказать и о быте.
Деревянный дом в Королищевичах под Стайками после войны принадлежал председателю Президиума Верховного Совета Наталевичу, но за провинность (его дочери покрестились) он лишился поста и, соответственно, «охотничьего домика». Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, новый руководитель республики, отдал дом Союзу писателей Белоруссии. О Пономаренко Шамякин в своих мемуарах пишет с сарказмом, но большинство писателей, с которыми я разговаривала, послевоенного властителя, любимца Сталина, хвалили.
До строительства литераторами своих дач именно Королищевичи оказались местом работы, отдыха, да и образования. Так, тот же Шамякин писал о ежевечерних кострах М. Лынькова, где собирались слушатели, а классик рассказывал молодым писателям разные истории из литературной жизни. Михась Тихонович ведь вступил в литературу еще в 1920-е г., за его плечами — богатейший жизненный и литературный опыт. Его рассказы — настоящий университет для молодых, которые в подавляющем большинстве не имели высшего филологического образования. Уже за ними, ветеранами войны, придет «университетское поколение».
Помню, младшие упорно допытывались у М. Лынькова, да и у П. Бровки, К. Крапивы, об обстоятельствах смерти Янки Купалы. Все классики излагали примерно одну версию, но при этом у слушателей неизменно оставалось впечатление недоговоренности, неясности, туманности. Когда меня, школьницу, отец возил в Москву, мы неизменно останавливались в гостинице «Москва», и папа показывал мне ту лестницу, с которой упал великий поэт. Оступиться там было невозможно. Другие версии, которые стали плодиться уже в конце 1980-х, тоже не вызывали большого доверия. Но характерно, что старшие писатели, присутствовавшие в тот день в гостинице (именно от них шел Я. Купала в свой номер), как договорились хранить тайну, так и молчали до конца жизни, и никто не смог их растормошить и выбить правду. Но правду они знали.
В Королищевичах любил отдыхать и Якуб Колас. Очень многие, кто не имел дач, также брали путевки в Дом творчества. Так, доценты и профессора с нашей кафедры — все члены СП, быстренько, за пару месяцев, отчитав курсы лекций, уезжали в Дом творчества и вдохновенно писали книги, издавая каждый год не по одной. И ведь действительно славный оказался период для творцов — и в художественном творчестве, и в научном! Взлет литературы, взлет литературоведения. Попробовали бы мы сейчас, тоже люди, худо-бедно пишущие, ежегодно с университетской кафедры удаляться на несколько месяцев для творчества! Тут на пару дней из-под бдительного ока чиновников не ускользнешь. В наше время строгое начальство должно знать, где находится тот или иной профессор, чем он занимается. Не проходит дня, чтобы нам за каким-нибудь делом не позвонили, не вызвали. Кроме того, от нас требуют научную работу, но времени на нее не дают, загружая бесчисленным количеством документов, но уже в электронном варианте. Цифровая экономика! А наши наставники в «тоталитарном СССР», никакими пустыми бумагами не обремененные, жили и творили буквально в райских условиях, всегда пользовались поддержкой деканата и ректората. Нужно, наконец-то, это признать. Все познается в сравнении. Потому о тех, кто не имеет возможности сравнивать в силу возраста, вынуждена сказать: «А судьи кто?.. »
В доме в Королищевичах было четырнадцать комнат. По сторонам, с отдельными входами, — комнаты с просторными верандами, куда обычно поселяли литераторов с семьями. На первом этаже основного корпуса — две очень большие комнаты, туалет и кладовая. Несколько маленьких помещений — на втором этаже, и там же холл, на который выходили пролеты широкой лестницы. По сравнению с сегодняшними отелями и домами отдыха, конечно, бытовые условия достаточно убоги. Но после войны люди совсем не притязательны. Наоборот, они считали, что их обеспечили всем необходимым для творчества. И это правда. Даже то, что на трапезы в столовую нужно было ходить метров за 200—500 (сейчас мне сложно определить расстояние), воспринималось как комфорт — моцион. После работы за письменным столом приятно пройтись по живописной дорожке среди густого леса, причем в компании, в приятной беседе. А кормили замечательно. Причем бывало, что зимой оставалось пару писателей, а все равно Дом творчества работал, и несколько десятков человек обслуживали немногочисленных творцов.
Летом отдыхали с детьми. Уже когда я училась в школе, установилась практика на зимние каникулы также отправлять детей в Королищевичи кататься на лыжах. Обычно с ними ехали несколько родителей, которые и присматривали за остальными. Никаких историй, конфликтов, происшествий не помню. Мы, дети, как и наши родители, очень любили Королищевичи.
Даже когда был построен роскошный Дом творчества «Ислочь» (мой отец курировал его строительство), некоторые старшие писатели отдавали предпочтение патриархальному старому дому.
Правда, недолго. Один из авторов «Сказа про Лысую гору», став первым секретарем СП, продал в разгар перестройки Дом творчества в Королищевичах какому-то предприятию. Уже тогда началась оголтелая, иначе не скажешь, кампания по зарабатыванию денег. А после уничтожения СССР и создания независимой Беларуси последующие руководители Союза писателей развалили, погубили, утратили и Дом творчества в Ислочи, и поликлинику, и много чего другого, чем владели писатели, что построили за собственные деньги (отчисления от гонораров в Литфонд).
Не буду о грустном.
Белорусским литераторам давали путевки и в санатории, а также в Дома творчества союзного подчинения. Самыми шикарными и престижными считались Дома творчества в Коктебеле, в Ялте, в Гаграх (Абхазия) и на Рижском взморье в Дубултах (Юрмала).
В Дубулты всей семьей мы поехали в первый раз, когда я была в классе седьмом. Конечно, для нас — настоящая Европа. Хотя родители приучали детей не завидовать. И все же многое запало в память. Мы ехали на машине, и нас поразил контраст между ветхими хатками, даже полуземлянками, в белорусских селах и комфортабельными двухэтажными коттеджами в прибалтийской сельской местности. Как же хуторянские нации (латыши и эстонцы), никогда не имевшие собственной аристократии, так быстро, так комфортабельно устроились! Еще одно доказательство, как и в случае с нашей профессурой: если создать условия, то все достижимо, и результат поразителен. Известно, что Прибалтийские республики в СССР всегда были дотационные. То, что забиралось от Беларуси и Украины, шло им.
Недаром мой будущий наставник, руководитель дипломной работы и кандидатской диссертации Иван Яковлевич Науменко очень скептически относился ко всему прибалтийскому, даже, на удивление, к красотам природы. Помню, уже во второй наш приезд в Дубулты, когда там отдыхал и Науменко, поехали мы на экскурсию в Сигулду. Изумительная природа, извилистая река Гауя, величественные замки, гроты. Для нас — диво, а Иван Яковлевич на все восторженные рассказы гидов скептически усмехался и неизменно задавал каверзные и даже довольно циничные вопросы. Я, по юношескому недомыслию, удивлялась: что на всегда добродушного Ивана Яковлевича нашло, откуда такое раздражение? Вообще он чуть ли не единственный в Доме творчества действительно работал — писал то ли роман, то ли докторскую диссертацию. Никогда не играл в карты, не травил анекдоты, не лежал часами на пляже, а если там и появлялся, то неизменно — жарким летом! — в теплом джемпере. Стоял на дюне и смотрел вдаль, на море. Нахальные, острые на язык москвичи считали белоруса чудаком. А Науменко, ветеран войны, постоянно сравнивал, и боль за свою разрушенную родину в этой полностью сохранившейся чистенькой, прилизанной, бюргерской Латвии невольно вызывала его неоднозначную реакцию.
Вообще же отличие скромных представителей белорусской элиты, сохранявших лучшие народные черты, от разодетых во все заграничное москвичей-мещан, да и литераторов-«баев» из среднеазиатских республик, всегда на курортах бросалось в глаза.
Из всех домов творчества «Коктебель», пожалуй, самый респектабельный. Мы с мужем бывали там не раз. Любила каждое лето приезжать чета Гилевичей, отдыхал Максим Танк с семьей, Алесь Адамович. Вообще многие. Прекрасная возможность общаться литераторам из разных республик, а также заводить и деловые знакомства.
Удивительная эта местность — Коктебель — восточный берег Крыма. Неприветливая, на первый взгляд, степь, окаймленная горами, как-то быстро забирала людей в плен, буквально влюбляла в себя. Во многом очаровывались под влиянием искусства — главным образом, поэзии и живописи старожила этих мест Максимилиана Волошина.
М. Волошина как поэта Серебряного века обычно относят к творцам второго ряда. Вряд ли правомерно его принижать. Волошин — и художник крупный, и мыслитель глубокий, и личность исключительно яркая. Настоящий элитарий!
Волошин в полной мере genius loci (дух места), и Коктебель в XX в. невозможно представить без колоритной фигуры поэта и памяти о нем. Его до такой степени отождествляли с Коктебелем, что в одной из скал, окаймляющих Коктебельский залив, современники видели профиль Макса. Как писал он сам: «И на скале, замкнувшей зыбь залива, // Судьбой и ветрами изваян профиль мой». А на горе с другой стороны залива поэт похоронен, как бы заключая, обрамляя собою, своей романтической душой эту часть Черноморского побережья, воплощаясь в пейзаже и тем самым поэтизируя его.
Именно М. Волошин художественно открывает крымский пейзаж. Это открытие основано и на глубоком чувстве природы, и на хорошем знании истории, археологии, геологии края. Среди поэтов своего поколения М. Волошин отличался удивительными познаниями в географии, ботанике, сельском хозяйстве родного Крыма. Коктебель очень напоминал ему Древнюю Грецию — здесь уникально сочетаются горы, море и степь. Своей эрудицией М. Волошин близок белорусскому классику — Владимиру Короткевичу, который, кстати, не любил отдыхать на курортах, а любил путешествовать.
Уже с 1911 г. в Коктебеле в доме у Волошина начинает собираться литературная молодежь — в недалеком будущем многие приятели поэта станут лучшими писателями Серебряного века, а некоторые — и советской эпохи: Алексей Толстой, Николай Гумилев, Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Максим Горький, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Александр Грин. Из художников — Василий Поленов, Александр Бенуа, Константин Богаевский и многие другие. Постепенно в доме М. Волошина и вокруг него складывается особый мир, где привычки богемы, игровой стиль жизни сочетаются с плодотворным творчеством. Этот стиль — сочетание богемности с креативностью — станет традицией для многих представителей российской элиты.
Волошин отличался исключительным гостеприимством, и еще до революции 1917 г. его усадьба стала чем-то вроде Дома отдыха для работников искусства. Он не брал со своих гостей денег, наоборот, сам их кормил и давал приют в своем оригинальном доме. Считалось, что Коктебель — это своеобразная республика со своими нравами, обычаями и даже костюмами, а ее признанным архонтом был, конечно же, сам М. Волошин. В советское время традиция продолжалась, и количество гостей еще и увеличилось.
М. Волошин преобразил ранее заброшенный край. Так, он научил местных крестьян делать маленькие домашние мельницы. У него были богатые не только географические, но и хозяйственные познания. По его рекомендациям велись горные разработки и археологические раскопки.
М. А. Волошин удивительно умел заразить своей любовью к Коктебелю других людей. Благодаря ему все увидели прелесть этого места — голубого залива и полуголой степи у подножия древнего вулкана.
Коктебель очень романтичен, даже в чем-то сказочен. Эту его сказочность М. А. Волошин умел очень искусно показывать в стихах и особенно в своих рисунках.
Деятельность М. Волошина — яркий, очень показательный пример того, что может сделать представитель настоящей элиты.
В 1932 г. Максимилиан Александрович Волошин умер. В доме осталась его вдова Мария Степановна. На базе их усадьбы Союз писателей СССР уже официально создал Дом творчества. Я помню, в 1960-е и в начале 1970-х гг. Мария Степановна была уже очень пожилой женщиной, но достаточно подвижной, хотя и ходила с палочкой. Сложная по характеру, она, тем не менее, пользовалась безмерным уважением писателей, поскольку все в Доме творчества дышало духом Волошина. Тогда Дом Поэта еще не был музеем, и вдова приглашала осмотреть и даже поработать в кабинете Волошина только избранных — кого сама пожелает. На балконе-крыше дома проходили поэтические вечера — снова-таки исключительно с избранной публикой.
Именно традиции Дома Поэта и сделали советский курорт «Коктебель» таким притягательным.
Вообще советские дома творчества — совершенно уникальное и замечательное явление. Больше нигде в мире такого не было. За небольшую плату в лучших, самых здоровых и красивых местах СССР были созданы все условия не просто для отдыха, а и для плодотворной работы творческих людей. Самый знаменитый Дом творчества писателей СССР как раз в Коктебеле. Его известность росла уже в 1930-е годы. Затем, во время войны, он несколько пострадал. Но в 60—70—80-е годы побил все рекорды популярности. Отдыхать в Доме творчества писателей в Коктебеле модно и престижно. Сюда стремились попасть не только писатели — причем самые известные со всего СССР, но и спортсмены, кинорежиссеры, актеры. Каждое лето вблизи Дома творчества снимались художественные фильмы, например: «Алые паруса», «Анна Каренина», «Плохой хороший человек», «Это сладкое слово — свобода» и многие другие. Сам Дом творчества занимал огромную площадь с большим тенистым парком, где было построено множество отдельных домиков — и деревянных, и каменных. Их не было при М. Волошине, но многие деревья, им посаженные, сохранились. Посмотреть на знаменитое место приезжали тысячи людей со всего Советского Союза, так что в парк и на пляж, принадлежащие Дому творчества, в конце концов, стали пускать строго по пропускам. Однако по-прежнему центром всего курорта являлся Дом Поэта — Дом-музей М. Волошина.
После развала СССР Коктебель, как и весь Крым, оказался во владении независимого государства Украины. Дом творчества, который создавался за средства СССР, и прежде всего России, стал принадлежать только Союзу писателей Украины, и теперь творцы со всей огромной страны не могли сюда приезжать. Дом и парк пришли в упадок, в запустение, все имущество разворовали. И только в последние годы Дом Поэта отремонтирован и снова возродился. Здесь ежегодно проводятся волошинские фестивали и научные конференции. Место уже не так модно, как было в начале XX в. и при советской власти, но все же притягательно: оно все овеяно памятью о присутствии здесь множества знаменитых людей, об их замечательном творчестве. Коктебелю посвящены художественные альбомы, сборники стихов, рассказов, повестей, научные монографии.
Коктебель — тот редкий случай, тот уникальный феномен, когда маленький поселок превратился в духовный центр творческой интеллигенции огромной страны. Заслуга здесь, прежде всего, талантливого человека — М. А. Волошина.
В истории литературы не так много эпизодов, когда присутствие выдающейся личности озаряет собою местность, делает ее знаменитой. В качестве примера можно назвать, скажем, остров Сахалин. Трехмесячное присутствие на нем Антона Павловича Чехова сделало царскую каторгу известным регионом и как бы возвысило, особенно в советское время, его жителей. В Пятигорске все проникнуто памятью о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. В Санкт-Петербурге существует туристический маршрут «По местам Достоевского», а в Москве сами почитатели творчества Михаила Булгакова содействовали созданию ореола вокруг квартиры, якобы описанной в «Мастере и Маргарите».
Насчет квартир. В первом своем эссе я подробно описала «писательский дом» по улице К. Маркса, 36 в центре Минска, где наша семья, как и многие другие писательские семьи, прожили самые счастливые годы. Свои «писательские дома» были, конечно, и в других столицах союзных республик.
В Москве партийную, советскую и военную элиту поселяли в так называемом «Доме на набережной», построенном еще в 1930-е гг. и вошедшем с того времени в городскую мифологию. Специальные дома именно для писателей стали строить с 1929 г. Первым был дом на улице Фурманова, где, между прочим, получил квартиру и Михаил Булгаков, автор бессмертного высказывания о том, что москвичей «испортил квартирный вопрос». Совершенно справедливо. Но, помучившись в неприглядных комнатушках в Москве в начале 1920-х гг., Михаил Афанасьевич во второй половине того же десятилетия уже снимал трехкомнатную квартиру в двухэтажном доме. А потом получил и в писательском. Обычно ее называют маленькой, но, судя по разным упоминаниям мемуаристов, в ней было четыре комнаты. Правда, в более престижном писательском доме в Лаврушинском переулке ему квартиру получить так и не удалось.
Конечно, апартаменты Михаила Булгакова действительно нищенские по сравнению с теми условиями, в которых жил, например, Алексей Николаевич Толстой, «советский граф», как его называли. Иван Бунин в своих мемуарных заметках «Третий Толстой» вспоминает о встрече с бывшим другом в Париже в 1936 г., когда Алексей Николаевич уговаривал Ивана Алексеевича вернуться в Россию, приводя такие доводы: «Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля. У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету.» Все было правдой. Бунин не стал приводить другие аргументы Толстого, полагая, что эмигрантская публика, для которой он писал, ему бы все равно не поверила — слишком неправдоподобно. А между тем, действительно, Толстой имел две роскошные квартиры — в Москве и в Ленинграде, наполненные персидскими коврами, антиквариатом, картинами-подлинниками известнейших мастеров, которые писатель собирал. Когда он писал роман «Петр I», то окружил себя вещами из эпохи Петра — XVII—XVIII веков. Имел такую возможность.
И ладно бы Алексей Толстой — все же граф, стремление к роскоши у него, можно сказать, в крови. Однако и пролетарские кумиры этим же отличались. Современный писатель и исследователь литературы Андрей Воронцов пишет о Маяковском, что тот, неоднократно выезжая за границу, вовсе не стремился к общению с коммунистами, простыми людьми. Нет, он выступал исключительно за деньги, в основном перед русской эмиграцией и американскими евреями, выходцами из России. «Оно и понятно: на советские рубли автомобиль для Лили за границей не купишь! А ГПУ, агентами которого состояли Осип и Лиля Брик, делало вид, что этого не знает».
В документальной повести «Последние дни М. Горького» Иван Кузьмичев отмечает умонастроение Максима Горького, которое характеризует его отнюдь не только в «последние дни», а с самого начала всероссийской, а затем мировой известности: «Ему уже давно нет нужды думать о хлебе насущном, живет на всем готовом и не чувствует, не понимает тех, кто варит ему пищу, прибирает комнаты, чистит парковые аллеи, беспокоится о том, чтобы ему жилось сытно, тепло и удобно. Освобожден он от заботы о тех, кто о нем печется. Не он их нанимает на работу, не он рассчитывается с ними за их труд и, по правде говоря, он и не знает, кто, как и сколько им платит. Он даже не знает, во сколько обходится государству содержание его самого и его семьи, включая питание, жилище, расходы на транспорт, на топливо, на ремонт. Не знает и, в общем, не стремится узнать, во сколько обходится жизнь средней руки литератора в советской стране, да и его собственная жизнь. Он был бы очень удивлен и не поверил бы, если бы ему сказали, что он обходится государству в 30—40 раз дороже, чем средний литератор с семьей в четыре-пять человек. Притом литератор за все платит сам, а у него все оплачено из государственного кармана».
После переезда М.Горького из Италии в СССР его поселили в Москве в особняке Рябушинского, шедевре архитектуры модерна, подарили имение Горки под Москвой и дачу в Крыму. С одной стороны, все это показывает, что заслуги таких талантов все же ценились, с другой стороны, сами художники очень быстро омещанивались — вопреки тому, что утверждали в творчестве. И дело не в их отношении к имуществу, а в отношении к обслуживающему персоналу, о чем и пишет И. Кузьмичев. Совсем иным было отношение к простым людям белорусских писателей в тех же Королищевичах и в Ислочи.
В 1949 г. творческой интеллигенции, наиболее известным в СССР людям, бесплатно предоставили квартиры в самом роскошном тогда доме — одной из «сталинских высоток» на Котельнической набережной. Современный писатель Лев Колодный, автор большого цикла книг «Москва в улицах и лицах», — ярый ненавистник Сталина. Но даже он признает, что самый красивый из жилых домов в Москве — именно этот. В нем 800 квартир. «В вестибюле потолки расписаны в технике гризайль, модной в XVIII веке. Холл украшают барельефы из фарфора цвета слоновой кости на синем фоне. Xрусталь. Бронза. Красота! Есть что посмотреть иностранцам. И все это появилось спустя семь лет после войны. Дом строили, как сейчас говорят, с инфраструктурой. Во дворе есть гараж на 200 машин. Над ним спортивные площадки. Двери первого этажа ведут на почту, в кинотеатр, сберкассу, большой гастроном. В отделке крупного магазина — никакой дешевки. Все натуральное».
Здесь жили в разное время: писатели Александр Твардовский, Константин Паустовский, Михаил Пришвин, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский; знаменитые артисты и режиссеры: Михаил Жаров, Фаина Раневская, Павел Массальский, Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Владимир Огнивцев, Г алина Уланова, Клара Лучко, Людмила Зыкина, Роман Кармен, Николай Охлопков, Наталья Сац, композиторы Борис Мокроусов, Вано Мурадели, Анатолий Новиков, Никита Богословский; многие деятели науки.
После разрушения СССР большинство представителей творческой элиты, кто остался жив, в доме на Котельнической набережной, как и в других престижных домах, квартиры или попродавали, или сдавали, переехав на дачи, — чтобы как-то выжить. Разместилась в дорогом жилье совсем другая «элита».
Примеры отличных бытовых условий у советских знаменитостей можно было бы множить. Так, «звездная пара» актеров Алла Ларионова (кинофильмы «Садко», «Анна на шее») и Николай Рыбников («Высота», «Девчата», «Весна на Заречной улице»), необычайно популярные в 1950—1960-х гг., имели пятикомнатную квартиру на восьмом этаже в Марьиной Роще, причем в их квартире даже был камин, в котором Рыбников жарил шашлык. Актриса Наталья Фатеева, ярая антисоветчица во все времена, о чем власти прекрасно знали, получила, тем не менее, квартиру в 113 квадратных метров. Когда ее бывшая подруга Наталья Кустинская «увела» от Фатеевой мужа, космонавта Егорова, то жила с ним в пятикомнатной квартире, где гостиная — в шестьдесят квадратных метров, а четыре комнаты — по двадцать пять, в ванной располагался бассейн. Обе актрисы известны массовому зрителю, главным образом, по кинокомедии «Три плюс два».
О дачах в писательской и актерской среде я также писала в предыдущем очерке. Не буду повторяться. И все же не могу не отметить, что дачи, собственные дома, их архитектура, садовый ландшафт лучше всего проявляют индивидуальность владельцев. Однако и некоторые родовые черты. С этой точки зрения не могу не отметить появившуюся несколько лет назад заметку в «СБ» нашей известнейшей журналистки Инессы Плескачевской о. заборах. Вопрос, ею поднятый, на самом деле, принципиальный, указывающий на архетипы.
Журналистка с благородным пафосом вещает: «Заборы, которые огораживают и скрывают нашу личную жизнь от соседей, — наше все». Правда, то же касается и России — трехметровые заборы огораживают частные дома и дачи. «Откуда в нас эта страсть к “не пущать”?» — задается гневным вопросом Плескачевская, наблюдая неспешную и открытую жизнь обывателей в Чехии, посиживающих в уличных ресторанах за кружечкой пива и демонстрирующих всему миру свои особняки как примету зажиточности. Естественно, ответ, как всегда и всенепременно, находится в проклятом советском прошлом: «Может быть, уставшие от коллективизма на работе и от того, что «большой брат» всегда приглядывал за нами, мы создавали себе иллюзию (ведь на самом деле это всего лишь иллюзия) частного пространства, в котором нет никого, кроме нас и самых близких? Но стремление обособиться и выживать в одиночку так глубоко проникло в наши гены, что новые поколения продолжают строить заборы вокруг своих дач и домов — в надежде найти уединение и умиротворение».
Насчет генов, думаю, справедливо. Все остальное, к сожалению, поверхностно и конъюнктурно. Касательно и русских, и белорусов должно же быть понятно: всегда в ожидании нападений с запада и востока, они, естественно, стремились огородить себя оборонительными сооружениями — рвами, валами, стенами. Все древние поселения на территории нынешних восточных славян, начиная с эпохи Триполья, защищены от врага либо искусственными оградами, тынами, засеками, либо естественными преградами — реками, оврагами. В небольших по территории странах Западной Европы деревенское население в случае опасности бежало под защиту неприступных каменных крепостей, замков. Таких замков, кстати, в той же Чехии — сотни. Однако со временем эта страна, как и некоторые другие, скажем, прибалтийские, стала лимитрофом, проще говоря, предпочитала сдаваться врагу, чем сопротивляться. Мы же на своей территории сопротивлялись всегда — даже отдельными деревнями, домами. Отсюда — необходимость их обороны. Вообще вся частная жизнь в усадьбах, городских домах — от Китая до Испании — сосредотачивалась во внутренних дворах, где сами стены дома играли роль бастиона: как правило, на улицу даже не выходили окна. Как же объясняют наши выдающиеся журналисты эту особенность жилища народов Евразии?
Да, белорусы в большинстве своем интроверты. В них разумно совмещалась коллективная работа талакой и жажда личной изоляции. А заборы появились задолго до советского времени. Усадьбы наших магнатов и шляхты тоже огораживались, но по-разному. А если нет — значит, парк вокруг усадебного дома натурально переходил в лес, либо же границей владения являлась река. И насчет «большого брата» даже смешно говорить на фоне нынешней обнаженности всего и вся, нашей просвеченности для посторонних, видеонаблюдения на каждом шагу, отслеживания присутствия и прочее. Я понимаю вынужденную необходимость этого в нынешних криминальных (рыночных) условиях, когда личность — ничто, но нужно же видеть проблему во времени, нужно же уметь сравнивать.
Кстати, наша семья до начала 1960-х годов каждое лето ездила на родину мамы — в деревню Терюху Гомельской области (о ней я также писала). Там наш двор огораживался обычным штакетником ниже человеческого роста, а с трех его сторон пролегали торные тропинки, по которым за день проходили сотни людей — деревня большая. В такой мини-ограде была заключена некая идея моего отца — открытость миру, доступность писателя для простого человека. В самом деле, к нам «ходоки» из всей округи приходили каждый день. Но я даже в раннем детстве чувствовала неуютность от этой жизни «на сквозняке», под взглядами посторонних людей, которым, конечно же, было интересно происходящее во дворе известного человека. Что, в пять лет я тоже, уставшая от коллективизма (я никогда не ходила в детский сад), страдала от «большого брата»? На самом деле проявлялось естественное, даже не только исторически, а природно заложенное в нас чувство.
Любимый народом писатель Владимир Короткевич объяснял, каков типичный белорусский пейзаж: «поле, а за ним — лес». Иначе говоря: белорус любит охватить глазом достаточно широкое пространство, но оно обязательно, хотя бы с одной стороны, закрыто стеной леса. Вот откуда архетип «родного кута». Ведь «кут» (угол) — это уютность. Кстати, понятие личного пространства характерно не только для людей, но и для животных.
А на Западе такой, казалось бы, «беззаборной» открытостью, демонстрирующей личную свободу, тамошнюю главную ценность, очень умненько маскируют действительную жесткую зависимость от колоссального количества мифов, социально-психологических паттернов, ментальных стереотипов, твердо усвоенных законов.
Есть, конечно, и у нас достаточное количество дач, коттеджей без заборов или с открывающими внутренние усадьбы оградами. Значит, живут в них экстраверты. Однако и интересы интровертов необходимо уважать. Люди — разные, и их устремления неодинаковы. Наш дачный поселок в этом смысле показателен. Он выстроен первым в послевоенное время, земли на каждом участке — гораздо больше, чем полагалось уже по каким-то более поздним разнарядкам в садовых кооперативах. А земля-то и есть главная ценность. Ныне почти все дачи проданы нуворишам. Конечно, интеллигентские хибары они посносили и настроили трехэтажных дворцов. Но некоторые усадьбы, действительно, огорожены высоченными заборами, как и на Рублевке под Москвой, а у некоторых ограда колышками, и видно, что внутри. Понятно — зачем: чтобы завидовали. Это чувство у обывателей тоже ведь неистребимо: похвастаться богатством. У нас, наших соседей Мележей, художников Счастных, академика Xотылевой — обычная сетка, поставленная еще в советское время, или штакетник. То есть ничего мы не пытались скрыть либо «не пущать», просто создали видимость ограды от бегающих по поселку собак. Другое дело, что растительность уже разрослась, дворы закрывает. Мой отец, скажем, запрещал вырубать деревья, считая это святотатством.
Пожилой русский писатель Владимир Еременко, житель известнейшего дачного поселка Переделкино, где также половину дач захватили нувориши — вовсе не литераторы, но очень богатенькие личности, называет поделенных по имущественному признаку переделкинцев подзаборниками и зазаборниками. Видимо, публикация Инессы Плескачевской — интуитивный протест против именно таких зазаборников.
Но все же у наших родственников в селах, именно по деревенской традиции, — высокие заборы, ворота с улицы, стороны по бокам усадеб ограничены хлевами или глухими стенами соседей, а вот огороды, поля с четвертой стороны открыты и идут к речке или к лесу. И так все дома в деревнях: и в Терюхе, и в Новой Гуте, где сейчас таможня на границе с Украиной, и в поселке Чехов, где жили родители Шамякина. И все же везде об односельчанах забота оставалась: чтобы шли они по улице, наслаждаясь красотой, поэтому все фасады домов имели перед окнами палисадники с цветами. Это было «лицо» хозяйки, «лицо» дома — палисаднички лелеяли. Правда, я еще помню сохранившиеся довоенные, да, видимо, даже дореволюционные, хаты с призьбами. На них обычно сидели старушки. Однако постепенно и эти дома перестраивались и обзаводились палисадниками. Ясно, что такой тип усадьбы в Гомельской области и некоторых других местах Беларуси сложился исторически, под влиянием различных условий, обстоятельств. Причем я прекрасно знала дома и лесников (ведь внучка лесника), как о том вспоминает Плескачевская: действительно, они никак не огораживались. Все правильно: сам лес являлся защитой и давал ощущение своеобразного уюта.
Многие белорусские писатели — выходцы из деревни — до сих пор, даже в наш механистический век, не могут расстаться со своими деревенскими домами. В них давно никто не живет, родители умерли, а все равно невозможно продать — словно изменить Родине. Писатель Владимир Степан в эссе «Мой деревенский дом» пишет: «Иногда я думаю: зачем он мне, этот большой деревенский дом, требующий постоянного ухода, ремонта, волнений?» Правда, многие писатели, строя дачи, в частности, на Лысой горе, перевезли отчие дома в дачные поселки, и тем продлили строениям жизнь. «Отказаться от деревенского дома я не могу, — утверждает Владимир Степан. — Это как значительную часть личной жизни зачеркнуть, вымарать кусок своей биографии».
Еще и потому кощунственна — я возвращаюсь к началу своих заметок — поэма «Сказ про Лысую гору».
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


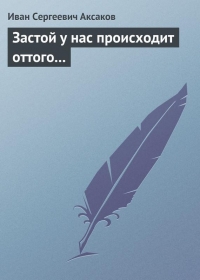
Комментарии к книге «Как жила элита при социализме-2», Татьяна Ивановна Шамякина
Всего 0 комментариев