Ивонна Хауэлл Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б.Стругацких
Предисловие и благодарности
В 1967 году опрос, охвативший всю страну, выяснил, что четыре из романов Стругацких занимают первое, второе, шестое и десятое места среди наиболее популярных в Советском Союзе научно-фантастических произведений.
Произведения Стругацких «Трудно быть богом» (1964) и «Понедельник начинается в субботу» (1965) занимали первое и второе места, опережая русские переводы «Марсианских хроник» Брэдбери, «Соляриса» Станислава Лема и «Я, робот» Азимова.
В следующие два десятилетия популярность Стругацких среди читателей в Советском Союзе воспринималась почти как закон природы, вне всякой связи со статистикой, тасовавшей рейтинги относительной популярности всех других фантастов. Очевидно, читательские опросы не оценивают литературные достоинства или вероятность того, что произведение сохранит свое значение для последующих поколений.
Тем не менее, постоянный успех произведений Стругацких на протяжении более чем трех десятилетий постоянных изменений научно-фантастического жанра, равно как и идеологических перемен в советской литературной политике, вызывают вопрос: как профессиональный переводчик с японского (Аркадий Натанович Стругацкий, 1925–1991) и его брат, астрофизик, ранее работавший в Пулковской обсерватории (Борис Натанович Стругацкий, р.1933) смогли написанием научной фантастики задеть чувствительные струны образованных российских читателей?
Стругацкие начали совместно писать научную фантастику в конце 1950-х годов. Они немедленно стали наиболее популярными писателями этого жанра, но, в отличие от западных фантастов, их судьба скоро вышла за пределы научно-фантастического гетто и даже за пределы массовой литературы. С каждым новым романом становилось все более очевидным, что Стругацкие в основном пишут для так называемой интеллигенции, которая является их основным читателем.
Интеллигенция определяется по крайней мере одной остроумной, краткой, но емкой формулировкой как «люди, которые думают». Иными словами, слой интеллигенции не полностью совпадает со слоем научной и профессиональной элиты страны, многие из которого достигли своих постов только потому, что их мысли совпадали с официально одобренными. Понятие «интеллигенция» включает в себя людей, которые развивают свои интеллектуальные и этические установки. Не удивительно, впрочем, что наиболее преданные поклонники Стругацких были учеными или техническими специалистами.
Объем критической литературы, посвященной творчеству Стругацких, оказывается непропорционально маленьким по сравнению с той популярностью, которой их произведения пользовались в Советском Союзе. Одна из причин малого внимания критики к Стругацким, существовавшего до эпохи гласности, — в основном политическая. В послехрущевские годы они оказались в ненадежном и несколько даже аномальном положении — ни полностью одобренные властью и ни полностью занесенные в «черный список». Все более враждебной официальной критики их творчества в конце 1960-х было достаточно, чтобы сделать их осмотрительными, вплоть до почти полного молчания в 1970-е. Иными словами, их врагам вскоре просто было нечего критиковать, в то время как их сторонники и друзья либо эмигрировали, либо доказывали свою дружбу и поддержку, заговорщицки молча, предпочитая не усиливать неприятности Стругацких понимающей критикой почти открыто антимарксистских работ.
Западные критики в большинстве своем реагировали в похожей манере, только с точностью до наоборот: если авторы — не диссиденты, то их творчество не заслуживает рассмотрения.
Более того, Стругацкие не принадлежат ни к одному из наиболее заметных направлений «главного потока» семидесятых — ни к «городской прозе» (чьим примером являются произведения Юрия Трифонова), ни к «деревенской прозе» (движению, возглавленному Валентином Распутиным и многими другими).
Таким образом, данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.
Эта работа была задумана до того, как горбачевская политика гласности изменила цензуру книг, публикуемых (или не публикуемых) и читаемых в бывшем Советском Союзе. Политика «открытости», немало значившая в последние годы жизни Аркадия Стругацкого, не оказала прямого воздействия на качество произведений Стругацких. Теперь, когда все произведения Стругацких оказались опубликованы в своих исходных, не исправленных цензурой вариантах, стало ясно, что Стругацкие, подобно своим многим более прославленным предшественникам, могут быть отнесены к тем писателям, чьи неканонические произведения были открыты заново после многих лет подавления.
Постскриптум этого исследования «апокалиптического реализма» предполагает, что в России эпохи, наступившей после «гласности», работы Стругацких будут читаться и почитаться как за их историческую ценность ценность моделей уникальной научной культуры (изолированных, но блестящих сообществ, сделавших советские научные усилия успешными), так и за их литературные достоинства.
Это исследование обязано значительно большему числу людей, помогавших мне случайными, но бесценными разговорами, чем я могу перечислить здесь. Мне хотелось бы тепло поблагодарить всех моих коллег по Дартмутскому колледжу (Dartmouth College) за их поддержку.
Я особенно признательна Льву Лосеффу (Lev Loseff), Джону Копперу (John Kopper), Кевину Рейнхарту (Kevin Reinhart) и Кэрол Барденштейн (Carol Bardenstein) за их анализ и помощь в работе с ранними набросками глав и незнакомыми материалами.
Мне бы хотелось поблагодарить Эрика Рабкина (Eric Rabkin) за внимательное чтение и советы на ранней стадии работы; Кена Кнеспеля (Ken Knoespel) за поддержку на более поздней стадии работы; и Даниила Александрова за его ценные советы.
Я благодарна Ричмондскому университету (University of Richmond) за поддержку в завершении книги.
В России я многим обязана Тане Лобачевой, чья дружба и уникальное наследие всегда были источником вдохновения.
Я признательна за неопубликованные материалы и гостеприимство «люденам» Москвы, Санкт-Петербурга и Абакана; Елене Романовне Гагинской, познакомившей меня с Борисом Стругацким.
Книга посвящается Аркадию Стругацкому, умершему в октябре 1991 года.
Я понимаю, что многие читатели этого исследования не говорят по-русски. Я даже понимаю, что тенденция цитировать больше поздние работы Стругацких будет приятна тем читателям, кто хочет узнать еще не переведенные и иным образом не достижимые материалы.
Для простоты чтения в основном тексте я использую модифицированную систему Библиотеки Конгресса для транслитерации и привожу англизированное написание знакомых имен и заглавий.
В примечаниях и библиографии я строже придерживаюсь системы Библиотеки Конгресса, но без диакритиков.
Введение
Эпиграф к последнему совместно написанному произведению Аркадия и Бориса Стругацких является цитатой из японского писателя Рюноскэ Акутагавы:
«Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами».
За ним следует список персонажей. Это произведение — пьеса, и список персонажей состоит из профессора средних лет, его жены, двух их взрослых сыновей и нескольких их друзей и соседей. Присутствует в списке и «Черный Человек». В начальной сцене нет и намека на нечто необычайное:
«Гостиная-кабинет в квартире профессора Кирсанова. Прямо — большие окна, задернутые шторами. Между ними — старинной работы стол-бюро с многочисленными выдвижными ящичками. На столе — раскрытая пишущая машинка, стопки бумаг, папки, несколько мощных словарей, беспорядок.
Посредине комнаты — овальный стол, — скатерть, электрический самовар, чашки, сахарница, ваза с печеньем. Слева, боком к зрителям, установлен огромный телевизор. За чаем сидят и смотрят заседание Верховного Совета.[…]
Кирсанов: Опять эта харя выперлась! Терпеть его не могу…
Базарин: Бывают и похуже… Зоя Сергеевна, накапайте мне еще чашечку, если можно…
Зоя Сергеевна (наливая чай): Вам покрепче?
Базарин: Не надо покрепче, не надо, ночь на дворе…
Кирсанов (с отвращением): Нет, но до чего же мерзопакостная рожа! Ведь в какой-нибудь Португалии его из-за одной только этой рожи никогда бы в парламент не выбрали!»
(С.92–93)[1]Неожиданно в дверях появляется таинственная фигура в черном. Хотя он и объясняет свое проникновение в квартиру без приглашения: «У вас дверь приоткрытая, а звонок не работает», — ясно, что он вошел бы в случае надобности любую квартиру в любое время ночи.
После изучения паспорта Кирсанова он вручает ему некую официально выглядящую бумагу, просит расписаться в получении и исчезает. Бумага гласит:
«Богачи города Питера! Все богачи города Питера и окрестностей должны явиться сегодня, двенадцатого января, к восьми часам утра на площадь […].»
Указано место, что надо принести с собой и что оставить дома. Несколькими минутами позже показывается Пинский, кирсановский сосед сверху и друг семьи, в пижаме и тапочках и с аналогичным документом в руках, адресованным «Жидам города Питера». Унижающее обращение к евреям стирает всякую двусмысленность природы повесток, и как «богач» Кирсанов, так и еврей Пинский борются с растущим чувством беспомощности.
Так начинается пьеса Стругацких «„Жиды города Питера“, или Невеселые беседы при свечах», написанная и опубликованная в 1990.
На протяжении весеннего сезона 1991 она была включена в репертуар театров Ленинграда, города, известного своим обитателям как Санкт-Петербург, город Петра, или просто Питер.
На первый взгляд пьеса является чем-то новым и отличным от остальных произведений Стругацких. Неужели авторы были подхвачены вихрем гласности и оставили фантастическую литературу ради неприкрытой публицистики? Напротив, несмотря на весь поверхностный, тематический реализм, пьеса типична для направления в фантастике, развиваемого Стругацкими. Динамичный, полный напряжения сюжет пьесы основан на условностях «дешевой» детективной и научно-фантастической литературы, но он укоренен в мире серьезной литературы весомыми философскими проблемами, поднимаемыми главными действующими лицами.
В своих лучших произведениях, как и в пьесе «„Жиды города Питера“, или Невеселые беседы при свечах», Стругацкие сочетают легкое и сложное, приземленное и метафизическое, не согласовывая двойственность различных полюсов. Все характерные черты зрелого творчества Стругацких присутствуют в этой пьесе. Эпиграф взят из любимого японского автора Аркадия Стругацкого, и, что более важно, он сжато выражает присущую творчеству Стругацких социополитическую тему. Персонажи и диалоги (относятся ли они к будущему и/или инопланетному времени и месту) выражают норму для современного советского городского интеллектуала столь удачно, что зачастую можно предположить, что среди круга знакомых авторов существуют прототипы этих персонажей. Далее, специфические черты декораций, несомненно, относятся к современному окружению авторов.
Несмотря на «кабины нуль-транспортировки» и остальную внешнюю научно-фантастическую атрибутику, материальный мир, описываемый Стругацкими, почти всегда отражает современные советские стандарты, например, у профессора — переносная пишущая машинка, а не компьютер. Аналогично, любой советский читатель может представить себе миску и безвкусные покупные пирожные в ней — они стандартного размера и цвета, предписанного экономикой центрального планирования. Хотя как раз эта неряшливая реальность порождает реальность вторую, метафизическую: помимо предположительной идентификации как агента КГБ, у фигуры в черном есть и оттенок моцартовского Черного Человека из драмы Пушкина «Моцарт и Сальери».
Один из трюизмов исследований научно-фантастического жанра состоит в том, что в научной фантастике реальность «остраняется» единственным фантастическим допущением. Дарко Сувин определял научную фантастику как жанр, который «берет выдуманную („литературную“) гипотезу и развивает ее с полной („научной“) жесткостью».[2]
Произведения Стругацких отвечают этому определению, но под странным углом. Их описание ординарной советской реальности действительно «остраняется» некой единственной экстраординарной предпосылкой. Фантастическое допущение пьесы, бросающее тень сверхъестественного на повседневные сцены, состоит в том, что в 1990 году, в разгар горбачевских реформ и политики гласности, страна может неожиданно вернуться к темным временам террора, погромов и тоталитаризма. В этом случае, впрочем, вектор между жизнью и литературными предположениями меняет свое направление.
В августе 1991, четырьмя месяцами позже опубликования пьесы «„Жиды города Питера“, или Невеселые беседы при свечах», неудачная попытка переворота, устроенная коммунистами-сторонниками жесткой линии, превратила «фантастическую» гипотезу Стругацких в предотвращенную политическую реальность. Для российского писателя, возможно, всегда было приятнее видеть, как жизнь предотвращает искусство, нежели имитирует его.
В нижеследующем исследовании творчества Стругацких я постараюсь выявить модели взаимодействия между описаниями Стругацкими советской реальности и «фантастическими допущениями», доказав, что они исходят из наследия русской литературы и культуры в целом.
Эта книга не является систематическим рассмотрением развития творчества Стругацких или общей интерпретацией места Стругацких в мировой научной фантастике. Скорее, я иду к их творчеству от анализа истории и развития русской литературы «основного потока», стремясь определить место Стругацких в контексте уже устоявшихся, исконных русской литературы и культурных традиций.
Одним из побочных эффектов такого рода подхода является то, что он бросает некоторый свет на природу восприятия творчества Стругацких на Западе. Удивительно, что наиболее популярные в Советском Союзе фантасты не пользуются на англо-американском рынке успехом, сравнимым с успехом, например, поляка Станислава Лема. Оставляя в стороне проблему неадекватных (в некотором роде) переводов на английский язык, удивительно малый успех произведений Стругацких на Западе можно частично отнести на счет недостаточного знакомства читателей с глубинными русскими вопросами, поднимаемыми Стругацкими в мнимо интернациональном жанре.
Более важно то, что я надеюсь заполнить значительную лакуну в существующей критике (как советской, так и западной), которая склонна концентрироваться только на аллегорических возможностях научной фантастики. Было бы очень соблазнительно сконцентрироваться не на том, как Стругацкие пишут, а на сути их произведений, которая, предположительно, более привязана к Земле и текущей политической ситуации, нежели межгалактические декорации их произведений, призванные запутать цензуру.
В подтверждение этой точки зрения критики зачастую стремились выделить и изолировать социальную, политическую или этическую составляющую творчества Стругацких, словно бы для доказательства того, что эта научная фантастика — не просто развлечение, служащее бегству от действительности. Лучшие образцы такой критики весьма преуспели в создании Стругацким репутации писателей, в первую очередь поднимающих серьезные философские, социальные и этические проблемы.
С другой стороны, продолжающаяся популярность Стругацких является отчасти и популярностью жанра, в котором они пишут, — научная фантастика постоянно популярный жанр, и Стругацким «повезло» — они оказались чрезвычайно талантливыми воплотителями. Научная фантастика, подобно двум другим популярным жанровым формам, с которыми она зачастую пересекается — детективу или криминальному роману и приключенческому/историческому роману, принадлежит к миру популярной литературы постольку, поскольку описывает необычных персонажей и/или декорации и напряженный сюжет в контексте установленного набора условий. Привычные научно-фантастические условности включают в себя противостояние человечества и инопланетных форм жизни, конфликт между человеческими ценностями и технологическим прогрессом, противопоставление общества прошлого и общества будущего, и т. д. Любой значительный отход от знакомого, формализованного подтекста жанра воспринимается как отход от самого жанра и зачастую вызывает замешательство среди читателей.[3]
Иными словами, принимается за данность, что научная фантастика Стругацких приемлема и развлекательна, в то время как тяжеловесный реализм «основного потока» и усложненные эксперименты авангарда — нет. В таком случае, впрочем, она едва ли заслуживала бы серьезного внимания критиков — обычная, зачастую заслуженная судьба популярных литературных субжанров как на Востоке, так и на Западе.
Российский критик размышлял, что удивительная нехватка критики творчества Стругацких, даже после трех десятилетий непреходящей популярности, обязана существованием, в первую очередь, недостатку уважения к жанру научной фантастики в целом:
«Так в чем же дело? Быть может, в сложившемся у критиков убеждении, будто фантастика говорит о чем-то отдаленном, экзотическом, не связанном с насущными делами и заботами текущего дня? А раз так, то и не заслуживает она серьезного разговора между серьезными людьми…»[4]
Ясно, что некоторое критическое замешательство (выражавшееся большей частью в молчании) было вызвано несоответствием Стругацких как писателей популярного, «массового» жанра и их же — на другом уровне — как выразителей по крайней мере одного поколения советских интеллектуалов. Михаил Лемхин неумышленно поднимает вопрос, на который данное исследование постарается ответить, когда пишет:
«Боюсь, что не умею этого объяснить, знаю только наверное, что для меня эти три повести — „Трудно быть богом“, „Пикник на обочине“ и „За миллиард лет до конца света“ — не просто вехи моей жизни, а целые куски жизни, прожитые под знаком этих повестей.
И я точно знаю, что я не один такой читатель.
Собственно, феномен популярности — отдельный, особый разговор, речь сейчас о другом. О том, что вопросы, волновавшие Стругацких, были, одновременно, не только их вопросами. Эволюция Стругацких, их самоощущение в мире довольно типичны для значительной части гуманитарной и, особенно, технической интеллигенции. Именно поэтому Стругацкие, без сомнения, входят в число самых читаемых авторов…»[5]
Чтобы определить природу отношений между использованием Стругацкими популярных жанровых форм и их значимостью как «серьезных писателей» для интеллигенции, я в книге поднимаю два вопроса:
* Какую технику используют авторы, чтобы зашифровать в формализованных структурах научной фантастики, детектива и приключенческой литературы философскую или социо-политическую дискуссию с открытым финалом?
* Как условные сюжеты, персонажи и декорации популярных жанров складываются в современный миф для интеллигенции, «живущей под знаком этих произведений»?
Ранние публикации
Дебют Стругацких состоялся в 1958 году — рассказом «Извне», за которым последовали несколько научно-фантастических и космическо-приключенческих повестей и рассказов.[6]
«Трудно быть богом» является первой значительной вехой в развитии творчества Стругацких.
Все романы и рассказы до 1964 года можно считать принадлежащими к их «ранней стадии». На этой стадии ответ на «…вопрос, который интересовал нас всегда… куда мы идем… после XX съезда партии» был вполне очевиден: дорога к «сияющему коммунистическому будущему», с которой общество временно свернуло из-за сталинизма, снова лежала впереди.
Действие первого рассказа, «Извне», происходит в абстрактном настоящем; впоследствии пространственные и временные горизонты расширяются в будущее и на другие планеты и звездные системы, пока, к середине XXII века, описанной в романе «Полдень, XXII век (Возвращение)», утопический коммунизм не воцаряется на Земле.
Отличительный знак идиллического будущего по Стругацким — соединение обоих полюсов традиционной российской утопической мысли: в видении пасторального счастья, в «простой гармонии с природой», выражающемся в показе зеленых городов-садов, и в детском любопытстве (скорее нежели в фаустовской гордости) ученых-персонажей рассказов. С другой стороны, утопическая мечта об искусственно созданном изобилии и «всемогуществе человеческой технологии» также реализована в XXII веке Стругацких. Смелые гибриды скота, чье мясо белое и вкусное, как крабовое, не загрязняющие, мгновенные способы транспортировки и мимолетные заботы персонажей — что делать с избытком времени и роскоши — характерные черты этого видения.
Хотя главный драматический конфликт в раннем цикле истории будущего происходит между «хорошим и лучшим», авторы преуспели в населении своего мира оживляюще причудливыми и обладающими чувством юмора персонажами. Более того, даже в ранней, утопической истории будущего, декорации и диалог демонстрируют непосредственность и подражательную силу современной реалистической прозы.[7]
Романы и рассказы этой стадии творчества Стругацких имели мало отношения к основным вопросам, рассматриваемым в этом исследовании. Они, по сути, — одномерные, экстраполирующие произведения научной фантастики, отражающие господствующее оптимистическое общественное настроение поколения «оттепели».
Первая угроза гармонии между социальной утопией и неограниченным научным прогрессом появилась в повести «Далекая Радуга» (1963).
Серия физических экспериментов, проводимых в идиллической научно-исследовательской колонии на планете Радуга, вызвала волну материи/энергии, которую не могут контролировать ученые. Большая часть населения планеты эвакуирована, но ученые, которые должны остаться, ожидают смерти от неостановимой черной волны со спокойным героизмом и ясным сознанием.
Около половины работ, написанных в 1960-е, входят в тесно связанные циклы об истории будущего. Несколько основных персонажей и футуристических приспособлений (например, устройства для мгновенной транспортировки «нуль-кабины») появляются снова и снова.
Основные предпосылки ранних циклов об истории будущего остаются теми же: некий интернациональный мировой коммунизм (не обязательно идиллический) воцарился на Земле, звезды и планеты в нашей галактике, наряду и с находящимися на «Периферии» (за ее пределами) активно исследуются и/или колонизуются.
Другая ключевая черта, объединяющая все романы о будущем, — это концепция «прогрессорства». «Прогрессоры» — это земные миссионеры, вооруженные земными мудростью и технологией XXII века и пытающиеся помочь менее развитым обществам других планет. Все романы, входящие в тесно связанный цикл об истории будущего, рассматривают тему прогрессорства, и большая их часть по структуре иносказания: «прогрессорский» сюжет представляет модель, в которой расстояние между более и менее развитыми социально, политически и экологически обществами просто проецируется на межпланетное пространство.
Роман 1964 года «Трудно быть богом» является поворотной точкой в цикле истории будущего и в развитии Стругацких как романистов. До настоящего времени «Трудно быть богом» представляет собой одно из наиболее популярных произведений научной фантастики, когда-либо опубликованных в СССР.
В этом романе прогрессоры с почти утопической Земли XXI века должны вести феодальное общество планеты Арканар (Ankara) по пути исторического прогресса. Герой-землянин превосходно замаскирован под местного дворянина, он внешне адаптирован к жизни Арканара (смеси средневековой Европы и средневековой Японии) до мельчайших деталей, включая местную подругу.
Но вместо того, чтобы следовать по предполагавшемуся пути медленного исторического прогресса, арканарское общество сваливается к фашистской диктатуре, поддерживаемой невежественным и вульгарным населением и включающей элементы сталинизма (то, что Дарко Сувин отождествил с «заговором врачей», срежиссированные убеждения, переписывание истории в целях восхваления нынешнего правителя).[8]
Земные «боги», могущественные теоретически, не могут прекратить нищету и жестокость Арканара без насильственного вмешательства. Поскольку искры революции и утверждение новой диктатуры любого рода противоречит земным гуманистическим принципам, они не могут действовать.
Главный герой встречается лицом к лицу с острой этической дилеммой, когда принцип невмешательства запрещает ему действовать даже в тех случаях, когда события приводят к смерти планетной интеллигенции или любимой им арканарской девушки.
Первый раз в произведениях Стругацких пути истории и этических идеалов трагически разделились. Иными словами, этическая и духовная сфера человеческого существования неожиданно приходит в противоречие со сферой социополитической.
С этих пор «кесарю — кесарево» и «богу — богово» находятся в явном противопоставлении. Как романы об истории будущего, так и не входящие в этот цикл отдельные работы, написанные в конце 1960-х, в 1970-е и 1980-е рисуют все более пессимистическую картину этического и морального застоя, где так называемый «вертикальный прогресс» скорее напоминает безумный водоворот, ведущий в апокалиптическую бездну.
Не разделяя их на «среднюю» и «позднюю» стадии, мы можем просто называть эти произведения «зрелыми» работами. Разделение между «средней» и «поздней» стадиями не может быть проведено по хронологическому принципу, поскольку большая часть «поздних» работ, не опубликованных до тех пор, пока либеральная политика «гласности» не оказала своего воздействия, была на самом деле написана в начале 1970-х.
«Обитаемый остров» (1969), «Жук в муравейнике» (1979) и «Волны гасят ветер» (1985) составляют трилогию, являющуюся кульминацией цикла об истории будущего («прогрессорского цикла»).
Как указал Патрик МакГайр (Patrick McGuire), анализируя этот цикл с точки зрения политики, облик интернационального коммунизма разительно изменился к концу трилогии.[9] В последних двух романах Максим Каммерер, бывший Прогрессор из романа «Обитаемый остров», работает в «Отделе чрезвычайных происшествий — ЧП» под покровительством могущественного Комитета по Контролю (КОМКОН). Если сложить вместе первые буквы названий этих двух учреждений, получится анаграмма «ЧК» — означающая знаменитую «Чека», сталинскую секретную полицию, предшественницу КГБ.
В общем,
«… „Жук…“ отрицает или противоречит в значительной степени духу предшествовавших работ. КОМКОН… не менее чем орган государственного принуждения, состоящий из бывших тайных оперативников, привыкших работать, не оглядываясь на законы. (…) Далее, мы неожиданно узнаем о мании секретности, присутствующей в обществе будущего по Стругацким, хотя оно не сталкивается со внешней угрозой, исключая, возможно, сверхцивилизацию [инопланетную] Странников. Единственной целью этой секретности может быть только скрытие информации от населения — населения, [предположительно] живущего при полном коммунизме в течение двух с половиной веков!».
Наконец, в романе «Волны гасят ветер» объединяющий замысел мотив прогрессорства доходит до логического завершения. К 2299 году не только земное общество отвергает своих бывших героев, но и бывшие прогрессоры сами отрицают свои прежние лозунги:
«— Добро есть добро! — сказала Ася с напором.
— Ты прекрасно знаешь, что это не так. Или, может быть, на самом деле не знаешь? Ведь я объяснял тебе. Я был Прогрессором всего три года, я нес добро, только добро, ничего кроме добра, и, господи, как они ненавидели меня! И они были в своем праве. Потому что боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их не звал, а они вперлись и принялись творить добро. То самое добро, которое всегда добро…»[10]
На уровне философского контекста, являющегося фоном для конструкции романов (рассматриваемой в главе 2) ясно, что отрицание утверждения, что «добро всегда добро», ведет к принятию еретического утверждения, что зло, словами Мефистофеля у Гете, «та сила, что вечно хочет зла, но вечно творит благо». Далее, ясно, что за 22 года, прошедших между написанием романов «Трудно быть богом» и «Волны гасят ветер», стиль и структура жанра тоже эволюционировали. Несмотря на заглавие, в «Трудно быть богом» нет религиозного подтекста. Он очень успешно адаптирует прямолинейную форму исторического/приключенческого романа к иносказаниям научной фантастики. Это «роман воспитания», усложненный тем, что приключения героя и социо-политические декорации, в которых происходит действие романа, могут рассматриваться как аналогии исторической или современной ситуации в реальном мире.
В романе 1964 года авторы мало используют интертекстуальные аллюзии, ландшафтные подтексты или иносказательные мотивы; все вышеперечисленные являются важными стилистическими и структурными компонентами романов, выбранных для рассмотрения в следующих главах.
Поздние публикации
Чтобы способствовать обсуждению поздних непереведенных романов Стругацких, надлежит рассмотреть в некотором роде запутанную историю их публикации. «Перетягивание каната» между консервативными критиками — сторонниками жесткой линии и либеральными сторонниками их творчества (некоторые из сторонников впоследствии эмигрировали в Израиль, подтвердив худшие предположения консерваторов) по поводу произведений Стругацких в конце 1960-х вылилось в сложное перемирие, длившееся до прихода «гласности» в 1986 году.
На протяжении примерно восемнадцати лет некоторые произведения Стругацких были опубликованы тиражом, явно недостаточным для удовлетворения потребности в них, а некоторые вообще не были опубликованы.
Хотя роман «Гадкие лебеди» вызвал скандал в 1972 году, когда неавторизованное издание на русском языке, а также переводы, появились на Западе, немногие знали, что это была только половина большего романа, над которым работали Стругацкие, названного «Хромая судьба» (завершен в 1984, опубликован в 1986).
«Хромая судьба» рассказывает частично автобиографическую (по воспоминаниям Аркадия Стругацкого), частично фантастическую историю советского писателя, который следует своим внутренним убеждениям и совести только в произведении, не годящемся для публикации, которое он «пишет в стол» — тексте романа «Гадкие лебеди». Общей темой, соединяющей эти две части, является тема Апокалипсиса. В различных декорациях как обрамляющее повествование, так и произведение рассказчика показывают, как теряется уважение к структуре и ценностям нынешней цивилизации, но обличье новой цивилизации, готовящейся появиться на месте цивилизации старой, выглядит, к добру ли, к худу ли, совершенно чуждым.
Наибольшим сюрпризом было появление романа «Град обреченный» в 1989 году в журнале «Юность». Было похоже, что роман написан на волне «гласности» и «перестройки»: он описывал недружелюбие (в «бесклассовом» обществе!) между крестьянами и горожанами, бюрократами и правящей элитой; он демонстрировал нарастающую во времена кризиса враждебность между различными расовыми и этническими группами; он показывал катастрофический упадок культуры и языка; он изображал успешный переворот, совершенный фашистской коалицией, основывающей свою власть на гипотетическом существовании враждебного Антигорода. Статуя, напоминающая как Петра Великого, так и Ленина на Финляндском вокзале, стоит в замешательстве на пересечении дорог в аду. Китайский диссидент взрывает себя в самоубийственном акте протеста против тоталитарного режима.
Весной 1989 ни одна из этих сцен не выглядела простым совпадением. Но значительно влияние внешнего обрамления романа: авторы включили даты его написания как коду к самому произведению: «Написан в 1970–1972, 1975».
Самый поздний полноразмерный роман Стругацких, «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», был опубликован в журнале «Юность» в 1988 году. Структурная и философская сложность романа не поддается простому пересказу. В сущности, роман — это история трех Христов: исторического Иисуса, его современного воплощения в лице просвещенного и убежденного учителя лицея и Демиурга, воплощающего гностическую интерпретацию Спасителя.
Повествование ведется с точки зрения будущего, «сорок лет спустя» конца ХХ века. Главный герой, ученик, перемежает свое агиографическое повествование главами из таинственной рукописи, написанной секретарем Демиурга в ходе деятельности последнего в провинциальном советском городке Ташлинске. Эта рукопись нашпигована неканоническими версиями из истории ислама, еврейства, равно как и сталинизма.
Современный слой романа также описывает нынешних руководителей и учеников под маской советских молодежных движений (советских хиппи и панков).
По исчерпывающему библиографическому указателю, подготовленному независимой группой поклонников Стругацких, отрывки и варианты романов «Хромая судьба» и «Град обреченный» появлялись в региональных журналах до того, как романы были целиком опубликованы в ведущих «толстых» журналах.
Далее, как «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», так и два предшествовавших неопубликованных романа были немедленно переизданы в книгах издательствами — как государственными, так и маленькими кооперативными предприятиями.
Многотомное издание произведений Стругацких сейчас готовится к публикации в частном издательстве «Текст».
Глава 1 Апокалиптический реализм
Жанр
Международная репутация Стругацких основывается на их дебюте в роли писателей-фантастов. Критики, рассматривавшие развитие творчества Стругацких на протяжении шестидесятых-семидесятых годов, сочли необходимым уточнить жанровый ярлык, чтобы подчеркнуть отход Стругацких от того или иного оттенка в спектре научной фантастики. В зависимости от того, какой именно роман имелся в виду, название могло гласить «философская фантастика», «социополитическая сатира», «инвертированная волшебная сказка»,[11] или, как предлагали характеризовать свое творчество сами Стругацкие, «реалистическая фантастика». Ни один из этих ярлычков не является исключительным, не вызывают они и стремления опровергнуть их. За исключением последнего, они просто не отвечают своей задаче — поместить зрелые произведения Стругацких в тот контекст, в котором они читаются.
Изнутри мира авторов и читателей из их страны, творчество Стругацких может быть понято как дальнейшее развитие российского «реализма». Возможно, более, чем любая другая современная литература, русская стремится определять себя на протяжении последних полутора веков в терминах «реализма». В Достоевском и Толстом она видит «золотой век русского реализма». Далее она породила то, что называется «психологическим реализмом», «критическим реализмом», «(советским) социалистическим реализмом», и, с другой стороны, произведения мистического откровения, известные как «сквозящий реализм».[12]
Чтобы использовать более полезное обрамление для современного анализа творчества Стругацких, я предполагаю, что оно скорее относится к «апокалиптическому реализму», нежели к научной фантастике. В основе своей зрелые произведения Стругацких сформированы ответом на апокалиптическую литературу российского Серебряного Века и на «милленаристскую» литературу авангарда 1920-х.
Серебряный Век русской культуры занял, грубо говоря, последнее десятилетие XIX века и первые два десятилетия века ХХ. Годы упадка царской России и опасность нового социального порядка совпали с эффектным расцветом российского модернизма во всех искусствах. В относительно сжатый период художественного брожения радикальные нововведения в музыке (додекафоническая система Стравинского) и в изобразительном искусстве (Кандинский, Шагал, Малевич) совпали с расцветом и упадком богатой символистской традиции в поэзии, за которой последовали такие поэтические течения, как футуризм и акмеизм. В прозе Андрей Белый, Федор Сологуб, Валерий Брюсов (к примеру, можно было бы назвать еще многих) творили шедевры модернистской литературы.
Если Серебряный Век породил свидетелей конца эры, то в следующее за революцией десятилетие люди искусства попытались прочувствовать новую эру, порожденную катаклизмами 1917–1921 (большевистская революция и гражданская война). До утверждения социалистического реализма как единственного литературного направления — в 1930-е — литература отражала в темах и образах апокалиптическую и милленаристскую лихорадку, сопровождавшую рождение нового Советского государства.
К концу своей жизни русский философ и религиозный мыслитель Николай Бердяев суммировал суть русского национального характера, как он понимал его, в книге, названной «Русская идея» (1946).[13] Он утверждал, что русские — либо «апокалиптисты», либо нигилисты; таким образом, «русская идея» эсхатологична, она направлена к концу и именно она ответственна за русский максимализм.
Такие обобщения важны, поскольку они отражают мифическое восприятие обществом себя — часто трансформированное в самовыполняющееся пророчество. По крайней мере с времен Петра I русские интеллектуалы были заняты определением национальной самоидентификации в стране, расположенной на перепутье между Востоком и Западом, старым и новым, анархией и авторитаризмом, православием и наукообразием. Бинарные противопоставления, которыми Россия определяла себя, всегда носили отчетливо религиозный характер — один полюс любого противопоставления, в зависимости от взглядов, ассоциировался с Антихристом, другой же — с общим спасением. (Например, решение Петра Великого открыть Россию Западу дало возможность его оппозиции утверждать, что наступило царство Антихриста; и сейчас многие ассоциируют переход России к рыночной экономике с отходом от пути православия и спасения). Соответственно, большевистская революция в 1917 воспринималась как финальное противостояние этих противопоставлений, и марксизм-ленинизм, не менее чем любое открытое религиозное течение, обещал рассвет утопической новой эры — общего братства (коммунизма в «сияющем будущем»).
Важность «русской идеи» (экстремистской и эсхатологической) для современной советской литературы, даже когда революционные милленаристские притязания давно ушли за грань саркастических шуток, в том, что она продолжает существовать и влиять на научную, религиозную и политическую культуру.
Еще один взгляд на эту ситуацию представлен структуралистской моделью культурной истории Лотмана и Успенского:
«В западном католицизме мир за могилой разделен на три части: рай, чистилище и ад. Земная жизнь соответственно состоит из трех подобающих типов поведения: безоговорочно грешного, безоговорочно святого и нейтрального, позволяющего надеяться на вечное спасение после некого суда в чистилище. В реальной жизни средневекового Запада таким образом был возможен широкий спектр нейтрального поведения, равно как и нейтральных социальных институций, которые не были ни „святыми“, ни „грешными“, ни „прогосударственными“, ни „антигосударственными“, ни хорошими, ни плохими. [Русская система, впрочем], приняла дуализм. (…) Одним из его атрибутов было деление загробного мира на рай и ад. Средняя, нейтральная сфера не рассматривалась. (…) Дуализм и отсутствие нейтральной аксиологической области вели к концепции нового не как продолжения, а как общей эсхатологической перемены.»[14]
Структуралистская схема Лотмана и Успенского предлагает очевидную бинарную структуру для беллетристики, имеющей дело с русскими культурными мифами о русском национальном тождестве.
Ясно, что подходящая бинарная структура научной фантастики может собрать противопоставления святого/грешного, старого/нового, востока/запада, хаоса/космоса внутри своих пространственных, временных и этических формул: Земля против Дальнего Космоса, Настоящее против Будущего и Человеческое против Инопланетного. В таком случае мы можем ожидать, что Стругацкие могли использовать парадигму научной фантастики для воплощения философского, религиозного и культурного наследия российского модернизма.
Основная фоновая структура всех зрелых произведений Стругацких описывается двумя осями, упомянутыми выше и берущими за точку отсчета социополитическое событие — революцию и основание Советского государства. Предполагается, что этот момент делит историю на два периода: дегенеративный старый мир, полный эксплуатации, превращается в новый пролетарский рай. Стругацкие не обращают этот вектор в противоположную сторону, доказывая, что старый мир был лучше нового; они просто описывают повседневную современную жизнь в Советском Союзе как угнетающе банальную, бюрократическую, несовершенную, обанкротившуюся духовно.
Этот слой их прозы всегда узнаваем, невзирая на то, происходит ли действие в Советском Союзе (например, Ленинград в повести «За миллиард лет до конца света», Москва — в романе «Хромая судьба» или выдуманный Ташлинск в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя») или в каком-то более абстрактном месте (на другой планете, в абстрактном времени/пространстве).
Таким образом, характерной чертой научной фантастики Стругацких является использование специфических, узнаваемых, повседневных деталей для создания декораций. Аналогично и речевые характеристики и манеры персонажей умышленно современны и разговорны, они относятся к узнаваемым современным типам скорее, нежели к мнимо будущей или внеземной культуре.
Надо обозначить горизонтальную ось описания, проходящую через весь спектр мирских аспектов современного существования советского горожанина. Эту ось можно назвать осью быта.
«Быт» — непереводимый русский термин, означающий, грубо говоря, унылую, рутинную, безнадежную скуку физической реальности повседневной жизни. Длинные очереди — часть быта. Простые приборы, которые не работают, — часть быта. Неприятная, отвратительная оранжевая краска, определяющая цвет всех доступных на протяжении пяти лет занавесок и обивки мебели, — часть быта.
Очевидно, значительная часть иронии Стругацких направлена на печальное состояние «нового царства божия на земле». Если революция обозначила конец истории, за ней последовало не царство божие, а отвратительная пародия на него: современный быт.
Впрочем, точку отсчета — русскую революцию — пересекает и другая, вертикальная ось. Эта ось наилучшим образом представляется как цельный континуум культурной памяти. Это последовательность литературных стилей, философских течений, исторических событий и религиозных споров, которые подавлялись правящим режимом и были в значительной степени забыты и постепенно, по кусочку, возвращаются в виде частых символов или интертекстуальных аллюзий.
По мере работы над данной книгой становилось все более очевидно, что значащим источником смысла и образов для «будущих» или «инопланетных» миров Стругацких является литературное и религиозно-философское наследие русского Серебряного Века и послереволюционного авангарда. Интертекстуальные аллюзии на произведения Булгакова, Белого, Платонова и русских абсурдистов (поэтов-обериутов) представляют сознательное усилие ответа на тему апокалипсиса, присутствующего в русской литературе на протяжении до- и послереволюционного периода.
Далее, Стругацкие, подобно своим предшественникам Серебряного Века и 1920-х годов, пытаются переопределить связь иудео-христианской апокалиптической мысли с современной российской жизнью путем помещения в фантастический мир образов из гностических и манихейской ересей, космологии Данте и, конечно, библейского «Откровения». Совпадение аллюзий на булгаковскую Маргариту и божественную Софию, на «Петербург» Белого и на манихейский дуализм, на «Котлован» Платонова и на «Ад» Данте — все предполагает, что религиозная философия Владимира Соловьева и Николая Федорова оказали глубокое влияние на вид научной фантастики Стругацких начиная с 1970-х.
В общем говоря, и Соловьев, и Федоров основывали свою эсхатологию на отчетливо русской интерпретации значения христианства. Федоров, в частности, стремился к великому синтезу научного рационализма и мистического идеализма. Долго подавляемое учение Федорова снова вошло в моду среди российской интеллигенции в последовавший за «оттепелью» период. Поскольку Стругацкие писали на вершине волны интереса, они стали инкорпорировать элементы федоровского утопизма в свои описания «чуждого».
Не всегда возможно, или на самом деле необходимо выявить источник мотива в определенном тексте, особенно если идеи «носятся в воздухе» и свободно используются в различных контекстах. Это верно и в отношении различных проявлений гностической мысли, появляющихся как в учении Федорова, так и в романах Белого и Булгакова, но которые могли быть почерпнуты Стругацкими и из других, научных, источников. В любом случае, Стругацкие оказались среди первых послевоенных российских писателей, восстановивших эту важную нить русской культуры и придавших ей новую литературную форму.
Кратко: обнаруживается, что фантастические образы в поздних работах Стругацких взяты не из высокотехнологичного мира кибернетики и не из магического мира волшебной сказки. Скорее они берут свои образы из метафизических систем раннехристианских ересей и дуалистических космологий, а также из инкорпорации этих систем в российское движение модернистов начала века. Таким образом, жанр их произведений явно отличается от научных фантазий Станислава Лема или от — противоположного полюса — религиозных (христианских) сказок К.С.Льюиса. Он также отличается от так называемого «магического реализма» латиноамериканских писателей.
Каковы же специфические черты, характеризующие «апокалиптический реализм» Стругацких?
Перед отдельным рассмотрением поздних романов, необходимо рассмотреть, как предложенные нами гипотетические оси — ось быта и ось культурной памяти — пересекаются на уровнях сюжета, декораций и характеристик.
Сюжет
Одним из способов, который служил Стругацким для усложнения их произведений, было включение в сюжет философских и метафизических тем. Сознательно или нет, авторы разработали форму, которая позволяет внетекстовому или интертекстуальному материалу предсказывать и влиять на ход событий в мнимо развлекательном, остром сюжете. С освоением этого метода научно-фантастический, детективный или приключенческий сюжет перестал быть просто носителем аллегории; скорее, в некотором роде, он формировался и определялся лежащим ниже философским слоем.
Одним из литературных механизмов, развившихся в творчестве Стругацких в 1980-е годы, является механизм прообраза. Термин «прообраз» («prefiguration») изначально происходит от перевода латинского слова «figura», которое использовалось для описания схемы, где «персонажи и события Ветхого Завета являлись прообразами Нового Завета и его истории Спасения».[15] В его обмирщенном значении термин включает в себя значительно более широкий спектр примеров прообразов, например: использование классических мифов, шекспировских пьес или комикса про Супермена как мотива, который может оказаться прообразом и тем самым предвосхитить замысел оригинального литературного произведения — различными способами.
Уайт (White) в своем исследовании рассматривает прием прообраза в литературе как часть современной «риторики беллетристики», развившейся в XX веке в соответствии с развитием теоретических (и модных) ограничений на использование прямого авторского комментария в романе.[16] Если автор использует хорошо известный мотив, чтобы тот предвосхитил и послужил образцом для современного сюжета, тогда любые отклонения, изменения или добавления к ниже лежащему образцу оказываются обязательно значимыми. Более того, однажды читатель распознает истоки узнаваемого шаблона аллюзий, активизируется набор ожиданий относительно того, что может дальше произойти в сюжете и прообраз-мотив добавляется к этому. В этом ракурсе место и контекст, в котором встречаются кусочки прообраза-мотива, важнее, нежели частота их появления.
По отношению ко всем значимым работам Стругацких может быть показано, что относительная редкость и непоследовательность отсылок к прообразам-мотивам уравновешивается их появлением в решающие моменты сюжета и их связью с ниже лежащими философскими темами романов. Иными словами, прообраз-мотив не функционирует как структурный скелет, который надо одеть плотью современного сюжета; то есть для персонажа, для чьей жизни явилась прообразом жизнь Христа, не обязательно действовать как imitatio Christi. Скорее, это средство символического комментария к определенным событиям и персонажам; оно предлагает знакомые аналогии, чтобы помочь читателю понять современную (или будущую) ситуацию, описанную в романе.
Стругацким, по-видимому, нравилось использовать мотивы-прообразы в серии романов об истории будущего. Это не удивительно, поскольку в серии сюжет каждого последующего романа в некотором роде определяется предыдущим, и одним из способов придать старому сюжету новое значение является сочетание его с мотивом-прообразом.
«Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер», два последних романа из трилогии об истории будущего, были написаны через десять лет после первого романа. Очевидно, Стругацкие намеревались продолжить популярный приключенческий сюжет первого романа, но метафизические и научные проблемы, занимающие их, нашли свое отражение во втором смысловом слое, составленном мотивами-прообразами.
В другом случае сюжета-прообраза — на этот раз в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», неясность прообраза-текста переворачивает функцию этого приема. Вместо того, чтобы узнавать и воспринимать образец, читатель должен обращаться к энциклопедии, чтобы узнать историческую основу сюжетных эпизодов.
Тем не менее, все три прообраза-текста рассматривают лжепророка, важнейшую фигуру во времена апокалиптических предчувствий.
Декорации
Использование Стругацкими декораций как топографического воплощения идей является тем единственным способом, который позволяет авторам находиться между реалистическим и фантастическим слоями повествования.
В советской литературе «главного потока» семидесятых-восьмидесятых годов была склонность к детальному описанию приземленных аспектов повседневной жизни. В то время как те, кто не принадлежал к признанному литературному истеблишменту — от диссидентов и эмигрантов, таких, как Аксенов, Синявский и Алешковский, до второстепенных литературных поденщиков-фантастов писали фантастические и фантасмагорические произведения, писатели «главного потока» семидесятых по большому счету избегали элементов фантастики и гротеска. Социалистический реализм уступил место более критическому и более скорбному «городскому реализму». Это течение превратилось в некотором роде в свою противоположность в 1981 году, со смертью наиболее выдающегося писателя «городской прозы» Юрия Трифонова и публикацией романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», романа, приветствовавшегося за привнесение элементов научной фантастики в литературу «главного потока».
Развитие творчества Стругацких шло в обратном направлении.
Начиная с романа 1976 года «За миллиард лет до конца света», Стругацкие отходят от абстрактных межгалактических декораций, чтобы сконцентрироваться на «здесь и теперь». Впрочем, современные, приземленные декорации советского быта используются также и как символическое хранилище литературных и культурных аллюзий. Суть в том, чтобы создать двойное видение современности: «реалистические» описания современной советской жизни обнаруживают банальный, лишенный Бога пейзаж, в то время как символические мотивы, разбросанные по этому ландшафту, указывают на его истинное расположение — где-то на поле битвы между Христом и Антихристом (и где Антихрист к этому времени уже успешно создал свое царство).
Блистательная работа Франса А. Йейтса (Frances A. Yates) по классическому, средневековому и ренессансному искусству памяти обеспечивает наиболее полезный теоретический контекст для анализа необычных отношений между декорациями и темой в научной фантастике Стругацких.[17]
В классическом мире, до изобретения печатного станка, способность хранить в надлежащем порядке большую или сложную информацию была наиважнейшей для любого интеллектуального стремления. Превосходный оратор мог произносить длинные речи, не используя записей; юрист в античной Греции или Риме мог удерживать прямо в памяти бесчисленные факты о деле; Августин утверждал, что имеет друга, который может цитировать Виргилия от конца к началу.[18] Оставляя в стороне вопрос, почему кто-то может пожелать цитировать Виргилия от конца к началу, мы поймем, какую именно мнемотехнику использовали древние для достижения изумительной «искусственной памяти».
Считалось, что природная память может быть значительно расширена и усилена путем присоединения образа вещи, которую следует запомнить, к месту. Например, образ оружия подсказывал оратору кусок речи, связанный с военными проблемами, якорь напоминал об отрывке, посвященном морскому делу. Оружие и якорь, равно как и многие другие образы — идеи речи, «помещались» в уме оратора сериями хорошо известных определений места следующим образом.
«Первым шагом было запечатлеть в памяти серию loci или мест. Наиболее распространенным, хотя и не единственным, типом мнемонической системы был архитектурный. Наиболее четкое описание этого процесса дано Квинтилианом [Рим, 1 век н. э.]. Чтобы сформировать серию мест в памяти, говорит он, надо вспомнить здание, столь просторное и многообразное, сколь возможно: внешний двор, жилые комнаты, спальни, гостиные, не забывая и о статуях и других украшениях, которыми комнаты декорированы. Образы, напоминающие построение речи — как их пример, Квинтилиан приводит оружие или якорь, — помещаются в воображении на те места в здании, которые надо запомнить. После этого, когда требуется оживить в памяти факты, все эти места и различные хранилища, требующиеся в данный момент, поочередно посещаются. Надлежит думать об античном ораторе как о движущемся в воображении по зданию своей памяти в то время как он произносит свою речь, вытаскивая из запомненных мест образ, которые он поместил туда. Этот метод обеспечивает вспоминание в надлежащем порядке, поскольку этот порядок зафиксирован последовательностью помещений в здании».
(Йейтс, с.3)Эта базовая процедура для поддержки памяти может также использовать выдуманные, а не реальные loci. Достаточно только вызывать в воображении внутренние или внешние декорации, и это будет обеспечивать яркий, уникально упорядоченный набор loci, которые могут давать убежище необходимым образам, пока их не требуется вспоминать.
Достаточно интересно, что способ, появившийся в античном мире для улучшения риторических навыков, был переключен средневековыми схоластами в сферу этики. Одна из четырех добродетелей — Благоразумие — определяется как состоящая из трех частей: memoria, intelligentia, providentia. Культивация искусственной памяти в средневековье стала частью упражнения в благоразумии (Йейтс, с.54, 55).
Впрочем, когда голоса ораторов замолкли в авторитарной культуре Средних Веков, искусство памяти стало ненужным для риторических целей и быстро оказалось забытым. Призыв Карла Великого к Алкуину — приехать во Францию и помочь восстановить образовательную систему античности — звучит сегодня как эхо современной потребности в восстановлении утраченной и искаженной культурной памяти:
«Карл Великий: Что, теперь, вы скажете о Памяти, которую я полагаю благороднейшей частью риторики?
Алкуин: Что же еще, кроме повторения слов Марка Туллия.
Карл Великий: Нет ли иных правил, которые расскажут нам, как она может быть улучшена или увеличена?
Алкуин: У нас нет иных правил, кроме упражнений в запоминании, практики в писании, прилежания в занятиях и избегание пьянства, которое наносит величайший возможный вред всем достойным занятиям…»[19]
В зрелых работах Стругацких последовательно проводится тема катастрофической потери культурной памяти, произошедшей в Советской Союзе при их жизни. По Стругацким, сам жанр научной фантастики подчинен этой теме, поскольку культура, которая не может вспомнить свое прошлое, не сможет «вспомнить» и будущее. Не экстраполирующая научная фантастика Стругацких основывается на наблюдении, что резкая потеря культурной памяти сократила достижение будущего, которое, фактически, смешалось с настоящим.
Стилистический результат соединения настоящего с невообразимым и не воображаемым будущим наиболее заметен при описании декораций. Наиболее важный момент, выясняющийся в этой главе при анализе декораций, то, что декорации у Стругацких обеспечивают также loci и imagines («места и образы») для напоминания длинного и усложненного подтекста — западного культурного наследия российской интеллигенции.
Декорации всех романов, рассматриваемых в этой главе, намеренно — с точки зрения стилистики описаны как вымышленные «комнаты» или «пейзажи», загроможденные полузнакомыми «образами», которые представляют собой те понятия и тексты, которые авторы хотят напомнить читателю.
Наиболее примитивное и прямое использование этого приема очевидно, например, в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», когда в одной из комнат рассказчика висит картина кисти Адольфа Шикльгрубера (настоящая фамилия Гитлера). Гитлер сам по себе не упоминается ни в тексте, ни в сюжете, но заметно влияние его идеологического присутствия.
В романе «Град обреченный» главный герой должен, возвращаясь домой, на окраину города, пройти мимо рабочих, копающих котлован. В то же самое время читатель должен мысленно «пройти» мимо романа Платонова «Котлован»; то есть прием обеспечивает то, что читатель вспомнит как содержание длительное время запрещенного антиутопического шедевра Платонова, так и его настоящее «место» в сломанном и искаженном континууме российской интеллектуальной истории.
В декорациях романа «Волны гасят ветер», рассматриваемого в следующей главе, текст «Откровения Св. Иоанна» словно отпечатан на пейзаже.
В романах «Град обреченный» и «Хромая судьба» пейзажи и интерьеры дают убежище образам обильного эклектического набора литературных и философских «памятников духу», унаследованных российской интеллигенцией на рубеже веков.
Более пристальное изучение этих декораций очень важно, поскольку оно должно показывать, какая именно часть российской культурной памяти была для сохранности воплощена в пейзаж и почему.
Характеризация
Как апокалиптические и гностические мотивы, служащие фоном для формирования сюжета и отраженные в ландшафте, отражаются в характеристике главных героев? Как с течением времени меняется связь между человеческим главным героем и чуждым?
Изучение характеризации завершает процесс исследования того, каким образом уникальная научная фантастика Стругацких так хорошо служила нуждам российской интеллигенции на протяжении трех десятилетий. Можно ожидать, что интеллигентные читатели находили свое отражение в героях Стругацких, и это действительно так. Впрочем, используя фантастические приемы для моделирования реальности, авторы давали интеллигенции больше, чем просто отражение — они давали определенный культурный миф для жизни по нему. Герои Стругацких не только воплощают ценности интеллигенции, они несут эти ценности в экспериментальное будущее или альтернативный мир фантастики, где они находят либо отрицание, либо подтверждение.
Таким образом, мы предсказали, что сюжет-прообраз или «нагруженный» пейзаж могут отсылать образованного читателя к различным другим текстам, важным для культурной памяти. Набор подтекстов, обнаруживаемых читателем, сообщает философскую глубину прямой форме популярного жанра. Ясно, что чем больше читатель знает об интертекстуальном мире, к которому обращаются Стругацкие, тем больше значение (и дидактическая ценность) романа. Читатель, менее посвященный в культурный опыт русского/еврейского интеллектуала в Советском Союзе ХХ века, поймет роман соответствующе: как ссылающееся более или менее на себя, полностью выдуманное развлечение.
Перед тем как соединить этот аспект читательского восприятия с «мифотворческой» функцией научной фантастики Стругацких, необходимо рассмотреть более скрытые подтексты, формирующие и меняющие образ героя в поздних произведениях.
Наиболее ранний «типичный» герой научной фантастики Стругацких убежденно верит во власть Разума — то есть в научный прогресс и воспитание масс. Впрочем, эти герои хрущевского периода — не роботы, а провозвестники будущего, более разумного общества — того, которое наконец достигнет гуманистические социалистические цели, «временно» преданные сталинским «культом личности». Несмотря на их утопические социо-политические идеалы и непогрешимое этически поведение, популярные герои ранних произведений Стругацких — «Далекая Радуга» (1963), «Трудно быть богом» (1964) и «Понедельник начинается в субботу» (1965) обладают чувством юмора, ироническим остроумием и очаровательной эксцентричностью.
В ранних произведениях, примерно совпадающих по времени написания с первой половиной 1960-х, ученые-оптимисты отражают оптимизм научной интеллигенции, вызванный (вначале) хрущевскими реформами. В следующих произведениях, примерно совпадающих со следующим десятилетием, возобновленный доступ интеллигенции к творчеству Николая Федорова и наследству восхищения Серебряного Века оккультными и мистическими системами отражен в характеристиках женщин, детей и превосходящих человечество инопланетян.
Таким образом, глава 4 внимательнее рассмотрит модель литературных и культурных подтекстов, формирующих характеристику «Иного».
Наиболее разительный аспект мира будущего представлен героями-инопланетянами, воплощающими открыто антигуманистическую, неоплатоническую или гностическую традиции. В зрелых работах Стругацких возможно различить черты третьего типа главных героев.
Альтернатива наивным социалистическим гуманистам и опасным мистическим идеалистам воплощена в фигуре Вечного Жида. Вечный Жид не имеет иллюзий, характерных для социалистических утопистов, но, несмотря на глубокий пессимизм, у него достаточно веры (иронически), чтобы отринуть научные и мистические синтетические решения, предлагаемые лжепророками. Он характеризуется как фигура бесконечной выносливости, вечно преследуемый, но вечно придерживающийся чувства юмора и культурной истории.
Глава 2 Лжепророки
Пестрый Флейтист
Роман «Жук в муравейнике» был опубликован в конце 1979-начале 1980 года в журнале «Знание — сила». Он продолжает цикл истории будущего, начатый несколькими годами раньше публикацией романа «Обитаемый остров». Эти два романа столь различны по стилю и тону, что их надо рассматривать по отдельности[20].
Роман состоит из дневниковых записей Максима Каммерера, относящихся к четырехдневному периоду июня [21]78 года и рассказа-внутри-рассказа, заключающегося в отрывках из отчета, представленного Максиму одним из его бывших подчиненных летом [21]63 года.
Обрамляющее повествование рассказывает о попытках Максима выследить своего бывшего подчиненного, некоего Льва Абалкина, нелегально вернувшегося на Землю после восемнадцати лет профессиональной деятельности на изученных и неизученных планетах Периферии. Непосредственный начальник Максима, глава могущественного земного Комитета по Контролю (КОМКОНа) имеет основания полагать, что Абалкин — гуманоид, но не человек — агент, внедренный сверхцивилизацией Странников в «муравейник» человечества при проведении некого непостижимого эксперимента. До драматических событий, разворачивающихся в романе, Абалкин полагал себя человеком, сосланным для профессиональной деятельности на Периферию. Теперь его тайное возвращение на Землю показывает, что он узнал о своей нечеловеческой сущности и, возможно, античеловеческой миссии.
Дневник Максима описывает совершенно засекреченную, беспощадную попытку Комитета выследить Абалкина до того, как его ужасные, но туманные и необоснованные подозрения подтвердятся.
Сюжет усложнен и тем фактом, что и сам Максим оставлен в неведении о причинах, по которым выяснение местоположения Абалкина является столь срочным делом. Обрамляющее повествование в романе «Жук в муравейнике» построено как шпионский триллер: подобно тому, как кусочки головоломки складываются вместе, напряжение нарастает до финального выстрела, описанного в последней записи Максимова дневника.
Внутренняя история, с другой стороны, находится отдельно от движения сюжета вперед как отдельное произведение в жанре научной фантастики, со своим содержанием. Она описывает один день разведки на почти опустевшей планете Надежда. Разведывательная команда возглавляется бывшим Максимовым подчиненным Львом Абалкиным, в то время подающим надежды молодым ксенозоопсихологом и первым человеком, успешно работавшим с представителем негуманоидной расы. Его партнер Щекн — представитель голованов, расы высокоинтуитивных, говорящих, но раздражительных киноидов.
Внутренняя история — отчет свидетеля об операции на планете Надежда, написанный рукой Абалкина и сохранившийся среди Максимовых документов. Она представлена тремя отрывками, являющимися материалом для глав 7, 13 и 18 — приблизительно для четверти романа.
Повествование Максима представляет официальную версию упадка цивилизации планеты Надежда:
«Полтора десятка лет назад Надежда и ее дикая судьба были на Земле притчей во языцех […] Теперь считается твердо установленным, что за свое последнее столетие обитатели Надежды потеряли контроль над развитием технологии и практически необратимо нарушили экологическое равновесие. Природа была уничтожена. Отходы промышленности, отходы безумных и отчаянных экспериментов в попытках исправить положение загадили планету до такой степени, что местное человечество, пораженное целым комплексом генетических заболеваний, обречено было на полное одичание и неизбежное вымирание. Генные структуры взбесились на Надежде. […] Но тут пришли Странники. Впервые, насколько нам известно, они активно вмешались в события чужого мира. Теперь можно считать установленным, что им удалось вывести подавляющее большинство населения Надежды через межпространственные тоннели и, видимо, спасти.»
(с.187)Отчет Абалкина представляет другую точку зрения, исходящую от одного из немногих оставшихся после разрушения и массовой эвакуации с планеты:
«Оказывается, во всем виновата раса отвратительных нелюдей, расплодившаяся в недрах планеты. Четыре десятка лет назад эта раса предприняла нашествие на местное человечество. Нашествие началось с невиданной пандемии, которую нелюди обрушили разом на всю планету. […]
Пандемия свирепствовала три года, после чего нелюди впервые заявили о своем существовании. Они предложили всем правительствам организовать переброску населения „в соседний мир“, то есть к себе, в недра земли. Они пообещали, что там, в соседнем мире, пандемия исчезнет сама собой, и тогда миллионы и миллионы испуганных людей ринулись в специальные колодцы, откуда, разумеется, никто с тех пор так и не вернулся. Так сорок лет тому назад погибла местная цивилизация.»
(С.272)[21]Официальная теория описывает классический научно-фантастический сценарий катастрофы, со счастливым концом волшебной сказки; отчет же свидетеля является чем-то вроде злой сказки с подтекстом из реальной истории.
Дневник Максима датирован 78 годом; судьба планеты Надежда была «притчей во языцех» пятнадцать лет назад, в 63; очистка планеты от населения произошла сорок лет назад, в 38. Значимость этих дат для советской истории XX века не потеряна для читателя: 1938 был пиком сталинских чисток; 1963 был последним годом краткой хрущевской оттепели, когда открыто говорили о преступлениях Сталина; но к 1978 реакционный режим Брежнева снова настаивал на некоторых определенных «твердо установленных» фальсификациях истории.
Роман полон кабалистических чисел и имен, которые могут быть дешифрованы умудренным в современной советской жизни читателем как единый мотив:
«Судьба еврейства (она же метафизическая сущность) рассматривается авторами в свете… двух катастроф, из которых одна уже была (нацистская Германия), а другая еще будет (националистическая Россия)».
(Каганская, 173)[22]Сами авторы не соглашались с интерпретацией Каганской (частный разговор, 1989 год), утверждая, что она придает излишнюю значимость именам и датам, требовавшимся просто для сведения концов с концами в сюжете.
Истина, вероятно, лежит где-то посередине: Стругацкие, конечно, собирались написать нечто большее, нежели просто остросюжетный шпионский триллер, действие которого происходит в XXII веке, но подтекст его шире, чем только еврейский вопрос, и ключ к социополитическому измерению романа может находиться как в структуре сюжета, так и в символических датах.
Легенда о Пестром Флейтисте в определенной мере определяет персонажи, образы и последовательность событий, содержащихся в отчете Льва Абалкина о планете Надежда. В то время, когда Абалкин и Щекн медленно продвигаются по покинутым окраинам одного из основных городов Надежды, ища ответ на загадку внезапного упадка целой цивилизации, появляется паяц. Внешность танцующего, ярко одетого арлекина настолько не подходит к научно-фантастической «реальности» посткатастрофического мира, что даже повествователь замечает некоторую родовую несовместимость:
«Паяц. Арлекин. Его ужимки были бы, наверное, смешными, если бы не были так страшны в этом мертвом городе…»
(с.208)Впрочем, паяцы на планете Надежда обладают многими важными чертами, присущими Пестрому Флейтисту в сотнях литературных обработок легенды. Первый паяц, встреченный Абалкиным и Щекном, характеризуется так:
«…Худой, как скелет, желтолицый, с впалыми щеками и остекленелым взглядом. Мокрые рыжие патлы торчат во все стороны, ходуном ходят разболтанные и словно бы многосуставчатые руки, а голенастые ноги беспрерывно дергаются и приплясывают на месте, так что из под огромных ступней разлетаются в стороны палые листья и размокшая цементная крошка.
Весь он от шеи до ног обтянут чем-то вроде трико в разноцветную клетку: красную, желтую, синюю и зеленую, и беспрестанно звенят бубенчики…»
(с.208)Этот образ Флейтиста происходит частично от ассоциации между легендой о Пестром Флейтисте и историческим феноменом пляски Святого Витта, когда предполагалось, что зачарованные жертвы средневекового tanzwut могли последовать за «флейтистом» из города. Сумасшедший шут Стругацких выглядит соединением зачумленных танцоров и ярко одетого дьявольского музыканта, предложившего увести народ от чумы. Если на планете Надежда существует подобие Пестрого Флейтиста, то существуют там и крысы.
«Очень много крыс», — замечает Абалкин в своем отчете. — «…Доносится возня, писк, хруст и чавканье. Щекн снова появляется в дверях. Он энергично жует и обирает с морды крысиные хвосты».
(С.207)Легенда о Пестром Флейтисте обеспечивает не только образность и характеризацию; ее структура является прообразом структуры событий в истории Абалкина.
Парадигма легендарного сюжета состоит из:
а) города, наводненного крысами;
б) странствующего крысолова, обещающего за определенную награду избавить город;
в) он выполняет задание, уведя крыс прочь — с помощью своей флейты;
г) горожане отказывают ему в обещанной награде;
д) Флейтист уводит с помощью непреодолимой музыки городских детей в ближнюю гору, где они все и исчезают навсегда бесследно.[23]
История планеты Надежда, упрощенная до оголенной структуры, состоит из:
а) планеты — жертвы опустошающей эпидемии;
б) неизвестной сверхцивилизации, предлагающей увести жителей Надежды в новый, чистый мир;
в) большая часть населения планеты эвакуируется через межпространственные туннели сверхцивилизации;
г) вооруженное меньшинство противостоит эвакуации и борется за защиту их собственной, хотя и пораженной эпидемией, цивилизации до горького конца;
д) сверхцивилизация замышляет завлекать оставшихся городских детей в свой непостижимый иной мир.
А} В архетипической легенде крысы и чума — просто факты жизни, ни божья кара, ни природное наказание. В версии Стругацких происхождение болезни прямо связано с безответственной опасной жадностью и слепотой технологически развитого общества (Максимова «официальная» версия) или со злой волей чуждой, внешней силы (версия выживших). Композиционный прием помещения рассказа в рассказ, то есть использование доклада Абалкина как отдельной части Максимова повествования, позволяет этим двум интерпретациям перекрываться. Двойная мораль настолько же очевидна, насколько и пессимистична: развитие технологий опасно не только само по себе, но и в сочетании с социальной и психологической отсталостью, оно несет в себе семена новой катастрофы: то же самое общество, что оказалось способным создать разрушительную технологию, способно обвинять чуждую «расу отвратительных нелюдей» в собственных неудачах.
Б} В версии Стругацких сверхцивилизация действует как Флейтист, обещая вывести население в такое место, где нет эпидемии.
В} В версии легенды, составленной братьями Гримм, крысы следуют за Флейтистом из города в реку Везер, где и тонут. Знаменитое стихотворение Роберта Броунинга украшает эту последовательность событий метафорой армейского марша:
«И когда в тишине ноты флейты звучали, Будто где-то вдали сапоги застучали, Шаг за шагом, как град накатились, Ужасного грома раскаты родились В смятении крысы из нор появились.»И антропоморфизацией крысиных семей:
«Десятки и сотни молчащих семей, За братом сестра, за мужем жена Звучание флейты желаний сильней, Вот первая сотня их в реку вошла. Все погрузились навеки в темные воды Везер.»[24]Обе поэтические метафоры Броунинга — армия и «братья, сестры, мужья, жены», — актуальны в научно-фантастической версии Стругацких. С этого момента в тексте мотив Пестрого Флейтиста пересекается с эмпирическими историческими источниками, руководящими повествовательским выбором образов. Подобно крысам в стихотворении Броунинга, семьи на планете Надежда следовали за своими «флейтистами» как армия эвакуированных — но у этой армии имеется специфический предшественник XX века — эвакуация евреев в лагеря смерти в ходе Холокоста. Отчет Абалкина содержит жуткую сцену deja vu.
«Но я уже и без всякого прожектора вижу, что асфальт здесь почти сплошняком покрыт довольно толстой неаппетитной коркой, какой-то спрессованной влажной массой, обильно проросшей разноцветной плесенью. Я вытаскиваю нож, поддеваю пласт этой корки — от заплесневелой массы отдирается не то тряпочка, не то обрывок ремешка […]
Я поднимаюсь и иду дальше, ступая по мягкому и скользкому. Я пытаюсь укротить свое воображение, но теперь у меня это не получается. Все они шли здесь, вот этой же дорогой, побросав свои ненужные большие легковушки и фургоны, сотни тысяч и миллионы вливались с проспекта на эту площадь, обтекая броневик с грозно и бессильно уставленными пулеметами, шли, роняя то немногое, что пытались унести с собой […] И почему-то казалось, что все это происходило ночью — человеческая каша была озарена мертвенным неверным светом, и стояла тишина, как во сне…
— Яма… — говорит Щекн.
Я включил прожектор. Никакой ямы нет. […] А в двух шагах впереди влажно чернеет большой, примерно двадцать на сорок, прямоугольник гладкого голого асфальта.
— Ступеньки! — говорит Щекн как бы с отчаянием. — Дырчатые! Глубоко! Не вижу…
У меня мурашки ползут по коже: я никогда еще не слыхал, чтобы Щекн говорил таким странным голосом.»
(С.235)
«Дыра», которой экстраординарно чувствительный Щекн боится как смерти, Абалкину кажется просто черным квадратом. Черный квадрат символизирует также дверь в газовую камеру в раннем романе Стругацких «Улитка на склоне» (См. с.133).
Г} В легенде kleinburgerliche горожане Гаммельна отказывают Пестрому Флейтисту в обещанной награде за изгнание крыс из города. В романе «Жук в муравейнике» этот центральный момент практически полностью отсутствует, по той простой причине, что хотя Странники и «активно вмешивались» в дела планеты Надежды, нет никаких данных, что они требовали вознаграждения. Это — единственный значимый отход от подтекста Пестрого Флейтиста, хотя и исключающий любое напрашивающееся нравоучение: не было нарушенных обещаний, не было предложенной награды, затем отмененной скаредными недальновидными бюргерами. Напротив, отчаянное сопротивление эвакуации Странниками обосновывается моральными и этическими причинами. Слова одного из выживших, встреченных Абалкиным и принадлежащим не к благодушному среднему классу, а к защищающемуся диссидентскому меньшинству, определяемому не цветом кожи или социальным классом, но взглядом на мир:
«Конечно, не все поверили и не все испугались. Оставались целые семьи и группы семей, целые религиозные общины. В чудовищных условиях пандемии они продолжали свою безнадежную борьбу за существование и за право жить так, как жили их предки. Однако нелюди и эту жалкую долю процента прежнего населения не оставили в покое. Они организовали настоящую охоту за детьми, за этой последней надеждой человечества».
(С.273)Д} Сверхцивилизация, или «нелюди», как аборигены Надежды называют их, относятся к сопротивлению исконного населения как в архетипической легенде: они начинают завлекать детей прочь. По словам выживших, разноцветные, звякающие колокольчиками паяцы были сделаны «нелюдьми» именно для этого. Это подтверждает наше оригинальное предположение, что сумасшедший паяц на планете Надежда был «предсказан» легендой о Пестром Флейтисте. Более того, в этой версии он действует как исключительно злой «Флейтист». Он похищает невинных детей, мстя крохотной части героическому сопротивлению. Он поступает так, не имея того оправдания, что в легенде, когда главы города отказались исполнить свое обещание.
Реакция Абалкина на свидетельство очевидца предвосхищает реакцию читателя на противоречащие сведения, присутствующие на разных уровнях: в тексте и подтексте, и обеспечивает указания на дальнейшее развитие событий:
«Подсознательно я ожидал чего-нибудь в этом роде, но то, что я услышал от очевидца и пострадавшего, почему-то никак не укладывается у меня в сознании. Факты, которые изложил старик, сомнения у меня не вызывают, но это — как во сне: каждый элемент в отдельности полон смысла, а все вместе выглядит совершенно нелепо. Может быть, все дело в том, что мне в плоть и кровь въелось некое предвзятое мнение о Странниках, безоговорочно принятое у нас на Земле?»
(С.274)Признание Абалкина, что он разделяет широко распространенный предрассудок относительно чуждой расы, добавляет еще кусочек к модели аллюзий на «еврейский вопрос». Впрочем, подобно многим другим «значащим» образам и аллюзиям в произведении, его значение не присуще научно-фантастическому сюжету или персонажу, выражающему его.
Ясно, что Странники не систематически представляют собой сверхцивилизацию, пугающую жителей до панического бегства к смерти, не систематически представляют они также и преследуемую чуждую расу. Скорее правильное течение истории при поколении Стругацких, обычно искажавшееся официальной точкой зрения, разделилось на составляющие и было замещено хорошо известным мотивом-прообразом легендой о Пестром Флейтисте.
Прообраз, являющийся вторым слоем, в свою очередь обеспечивает основу для значащего сравнения и контраста с сюжетом научной фантастики, который он в некотором роде контролирует. Мотив-прообраз обеспечивает нечто в роде «проводящей поверхности», по которой информация из реального мира может вторгаться в фантастический мир популярного жанра.
Логика и образность только научно-фантастического сюжета в романе «Жук в муравейнике» требовали бы счастливого финала. В соответствии с этой логикой, ответственное взрослое население и его правители должны были быть обвинены в экологическом и моральном упадке целой планеты. Представители сверхцивилизации вмешались в безнадежную ситуацию охваченной эпидемией планеты и переправили всех детей до двенадцати лет (все еще здоровых физически и, предположительно, духовно) в другой мир, на новую Надежду.
Впрочем, логика и образность мотива Пестрого Флейтиста, впечатление от которого усиливается историческим опытом советских интеллектуалов и евреев поколения Стругацких, ведет к трагическому исходу, предсказанному рассмотренными выше пунктами в) и д).
Приспособление и изменение Стругацкими легенды о Пестром Флейтисте в романе «Жук в муравейнике» успешно эксплуатирует двойственность, колебания между трагической и характерной для волшебной сказки возможностями легенды. Можно сказать, что дети счастливы, поскольку они спаслись с экологически опустошенного и морально оскверненного мира, где обитают их родители. Другим же выводом может быть предположение, что они были уведены от своего человечества в другую, злую по определению, цивилизацию. Обе позиции возможны, хотя они взаимно исключают друг друга.
Моральный вывод, которым читатель наполняет трагическую развязку обрамляющего повествования, зависит от того, которой из двух позиций читатель придерживается. [25]
Откровение
Роман «Волны гасят ветер» следует за романом «Жук в муравейнике» как третий и последний роман трилогии, повествующей о Максиме Каммерере и его деятельности в КОМКОНе.
В романе «Волны гасят ветер» повествование Максима структурировано как детективная история.
Главный герой, Тойво Глумов, работник в подчиненном Максиму Отделе чрезвычайных происшествий. Он должен найти нарушителей, ответственных за серию загадочных, кажущихся сверхъестественными происшествий, случившихся на Земле в последние годы XXIII столетия. Хотя экстраординарные случаи — от всплеска самоубийств путем выбрасывания на берег среди китов до голливудского «вторжения слизистых чудовищ» логически между собой не связаны, взятые вместе, они создают картину активной деятельности сверхъестественной силы. На самом деле, события 99 года кажутся наполненными апокалиптическим смыслом. Тойво должен открыть махинации империалистической сверхцивилизации — гипотетически известной как Странники, — стоящей за апокалиптическими предзнаменованиями. В ходе непреклонного преследования космического врага Тойво нападает на тайну собственной двойной идентичности: он сам — член избранной группы сверхлюдей, долженствующих быть передовым отрядом перехода человечества на высшую ступень. Подобно тому, как Эдип искал ответственных за беды своего народа, поиск Тойво приводит его, наконец, обратно к себе.
Роман «Волны гасят ветер» состоит из воспоминаний Максима Каммерера, подобранных так, чтобы восстановить историю падения (или возвышения) Тойво — историю его отхода от человечества.
Наш анализ романа «Жук в муравейнике» подчеркнул роль прообраза-мотива как знакомой точки отсылки и аналогии, помогающей читателю ориентироваться среди противоречивых или двусмысленных событий романного сюжета. Далее, прообраз-мотив в романе «Жук в муравейнике» является тем, что Уайт назвал «однолинейным шаблоном развития», то есть связь реализованного замысла и нижележащего мотива проста и пряма. Легенда о Пестром Флейтисте предсказывает — в порядке их появления — персонажей (паяц, дети), образность (крысы, колодцы, в которых «утонули» взрослые) и события (массовое исчезновение) отчета Абалкина о планете Надежда.
В романе «Волны гасят ветер» эта модель искажена. Прообраз-шаблон обрывочен и относится более чем к одному персонажу и более чем к одной ситуации. Действующий образец — жизнь Христа, как она известна из Евангелий. Предложенный ниже анализ реконструирует основной шаблон и демонстрирует, каким образом он предсказывает форму — не обязательно содержание — сюжета. Иными словами, хотя многие события, составляющие биографию Тойво, «предсказаны» жизнью Иисуса, этическая и моральная позиция Тойво не всегда «Христоподобна». В некоторых случаях аллюзии на евангельские мотивы перемещаются с Тойво, главного героя, на периферических персонажей.
Прообраз-мотив появляется прямо с начала, с введения, датированного более поздним числом, нежели основное действие. Предисловие Максима Каммерера выдержано в светском, псевдонаучном тоне; тем не менее, он постоянно отводит себе роль апостола, «свидетеля, участника, а в каком-то смысле даже и инициатора» «Большого Откровения».
«С точки зрения непредубежденного, а в особенности — молодого читателя, речь в нем пойдет о событиях, которые положили конец целой эпохе в космическом самосознании человечества и, как сначала казалось, открыли совершенно новые перспективы, рассматривавшиеся ранее только теоретически. Я был свидетелем, участником, а в каком-то смысле даже и инициатором этих событий (…) явившихся причиной той бури дискуссий, опасений, волнений, несогласий, возмущений, а главное — огромного удивления — всего того, что принято Большим Откровением называть.»
(С.8–9)[26]Центральная фигура истории, Тойво Глумов, возникает в памяти рассказчика-апостола — со многими чертами, традиционно приписывающимися Иисусу Христу:
«Я вижу его худощавое, всегда серьезное молодое лицо, вечно приспущенные над серыми прозрачными глазами белые его, длинные ресницы, слышу его как бы нарочито медлительную речь, вновь ощущаю исходящий от него безмолвный, беспомощный, но неумолимый напор, словно беззвучный крик (…) и наоборот, стоит мне вспомнить его по какому-либо поводу, и тотчас же, словно их разбудили грубым пинком, просыпаются „злобные псы воспоминаний“ — весь ужас тех дней, все отчаяние тех дней, все бессилие тех дней, ужас, отчаяние, бессилие, которое испытывал я тогда один, потому что мне не с кем было ими поделиться.»
(С.10)Черты иконографического Христа — худощавый, сероглазый, удивительно молодой и серьезный, беспомощный и непреклонно могущественный — кажутся на первый взгляд подтверждающими образец, появившийся в прообразе-мотиве. На фоне библейского контекста, к которому нас уже подготовило упоминание «Большого Откровения», появление христоподобной центральной фигуры в мемуарах Максима уместно. Впрочем, ожидаемый шаблон прерывается на середине абзаца, и кусочек прообраза-мотива переходит к самому рассказчику.
Второй узел черт, «принадлежащих» Христу — его экзистенциальное одиночество и отчаяние (в Гефсиманском саду), с другой стороны, относятся к самому повествователю. Отрывок — типичный пример приема, который Стругацкие используют на протяжении всего романа: фрагментация и (ре)комбинация прообраза-мотива. Например, в нижеследующей сцене Тойво спорит с одним из коллег, и происходит следующий диалог. Не обязательно знать контекст, в котором проистекает разговор, чтобы узнать кусочек прообраза-мотива.
«— Нет, — сказал он. — Я не могу, как ты, вот в чем дело. Не могу. Это слишком серьезно. Я от этого весь отталкиваюсь. Это же не личное дело: я-де верю, а вы все — как вам угодно. Если я в это поверил, я обязан бросить все, пожертвовать всем, что у меня есть, от всего прочего отказаться… Постриг принять, черт побери! Но жизнь-то наша многовариантна! Каково это — вколотить ее целиком во что-нибудь одно… Хотя, конечно, иногда мне становится стыдно и страшно, и тогда я смотрю на тебя с особенным восхищением… А иногда — как сейчас, например, — зло берет на тебя глядеть… На самоистязание твое, на одержимость твою подвижническую… И тогда хочется острить, издеваться хочется над тобою, отшучиваться от всего, что ты перед нами громоздишь…
— Слушай, — сказал Тойво, — чего ты от меня хочешь?
Гриша замолчал.
— Действительно, — проговорил он. — Чего это я от тебя хочу? Не знаю.
— А я знаю. Ты хочешь, чтобы все было хорошо и с каждым днем все лучше.
— О! — Гриша поднял палец.»
(С.129–130)Идентификация Тойво с прообразом-Христом усиливается здесь. Следование примеру Тойво означает «жертвование всем» и «принятие пострига» (метафорически — вступление в священный орден). Гриша относится к Тойво/Христу с «восхищением и злостью», но он чувствует «стыд и страх» перед его примером. Элемент ортодоксальной, но весьма современной двойственности появляется в этот момент — Гриша также чувствует обиду и отвращение по отношению к мученичеству Тойво.
Наконец, характерным иконографическим жестом, являющимся одновременно символом и пародирующим переходом этого символа (к «ученику» Грише) Христос поднимает палец для увещевания и поучения: «Ты хочешь, чтобы все было хорошо и с каждым днем все лучше». Здесь библейский прообраз противостоит другому мотиву, перефразирующему марксистско-ленинскую концепцию «линейного прогресса»: «хорошее становится лучше с каждым днем».
Тот факт, что Тойво, когда Гриша заходит, читает книгу под названием «Вертикальный прогресс», является вдвойне значимым. Вопрос Тойво и Гришин честный ответ — он не знает, чего он хочет от спасителя — связаны с апокалиптической темой романа via аллюзия на линейный (вертикальный) прогресс: общество, которое «не знает, чего хочет», кроме как того, чтобы «хорошее становилось лучше с каждым днем» частично уязвимо заменой одной телеологической идеологии на другую. Так, в ХХ веке религия была в значительной мере заменена коммунизмом, или фашизмом, или высокомерной верой во всемогущество науки с сопутствующей тенденцией заменить дискредитировавшие себя светские верования новой формой религиозного фундаментализма.[27]
Если, как предполагалось в двух выше приведенных примерах, прообразом для жизни Тойво явилась жизнь Христа как она известна из наиболее знакомых источников — евангелий, — тогда шаблон событий, которые можно ожидать встретить в романе, должен включать: «… крещение, (отсутствие детства и фигуры человека-отца), искушение, собирание учеников, совершение различных чудес, провозглашение нового образа жизни, тайную вечерю, страдания в одиночестве, предательство, суд и распятие».[28]
Поскольку жизнь Тойво представлена подборкой документов, сделанной повествователем, удивителен не тот факт, что одно или два события из прообраза отсутствуют, а то, что почти все они в той или иной форме присутствуют.
Крещение
Этот момент отсутствует. Упоминаний о крещении нет.
Нет детства, нет фигуры человека-отца
Детство Тойво не показано. Он появляется на сцене уже тридцатилетним человеком. В литературе Христос обычно предстает примерно тридцатилетним человеком, в соответствии с тем, что мы знаем об историческом Иисусе. По хронологии мира будущего Стругацких, Тойво, которому было 11 лет в 78 («Жук в муравейнике»), как раз 30 лет в 99 («Волны гасят ветер»). У него нет связей с отцом.
Искушение
Искушение в глуши описано как один из таинственных инцидентов, привлекших внимание Комитета по Контролю (КОМКОН) к предполагаемой деятельности Странников:
«…КОМКОН… получил информат о происшествии на Тиссе (не реке Тиссе, а на планете Тиссе у звезды ЕН 63061) […] Информат трактовал происшествие как случай внезапного и необъяснимого помешательства трех членов исследовательской партии, высадившейся на плато (забыл название) за две недели до того. Всем троим вдруг почудилось, будто связь с центральной базой утрачена и вообще утрачена связь с кем бы то ни было, кроме орбитального корабля-матки, а с корабля-матки автомат ведет непрерывно повторяющееся сообщение о том, что Земля погибла в результате какого-то космического катаклизма, а все население периферии вымерло от каких-то необъяснимых эпидемий.
[…]
Двое из партии, кажется, пытались убить себя и в конце концов ушли в пустыню — в отчаянии от безнадежности и абсолютной бесперспективности дальнейшего существования. Командир же партии оказался человеком твердым. Он стиснул зубы и заставил себя жить — как если бы не погибло человечество, а просто он сам попал в аварию и отрезан навсегда от родной планеты. Впоследствии он рассказал, что на четырнадцатый день этого безумного бытия к нему явился некто в белом и объявил, что он, командир, с честью прошел первый тур испытаний и принят кандидатом в сообщество Странников.»
(С.11–12)Здесь только форма «искушения в глуши» («пустыне»), длившегося сорок («четырнадцать») дней и закончившегося появлением ангела («в белом») предвосхищается мотивом-образцом; духовное содержание библейской сцены не относится к делу. Командир — не божественная фигура, и Странники — не обязательно дьявол. В этом маленьком отрывке сюжет и образность предвосхищены прообразом-мотивом и взаимодействуют с другими составляющими текста для усиления апокалиптической темы романа (содержание «сообщения»).
Иисус собирает учеников
В описании «собирания учеников» Тойво христианский мотив просто перевернут — Тойво собирает учеников силой ненависти, а не любви. В этом он сравним с другим современным литературным героем — мексиканцем Риверой из рассказа Джека Лондона. Нижеследующий отрывок обеспечивает как прообраз, так и интертекстуальную аллюзию:
«Замечательно, что мои старые работники — Гриша Серосовин, Сандро Мтбевари, Андрюша Кикин и другие — при нем как бы подтянулись, перестали лоботрясничать, стали гораздо менее ироничны и гораздо более деловиты, и не то чтобы они брали с него пример, об этом не могло быть и речи, он был для них слишком молод, слишком зелен, но он словно заразил их своей серьезностью, сосредоточенностью на деле, а больше всего поражала их, я думаю, та тяжелая ненависть к объекту работы, которая угадывалась в нем и которой они сами были лишены начисто. Как-то случайно я упомянул при Грише Серосовине о смуглом мальчишке Ривере и вскоре обнаружил, что все они отыскали и перечитали этот рассказ Джека Лондона.»
(С.28–29)Иисус творит чудеса
«Сотворение чудес», предсказанное библейским мотивом, реализуется парадоксально — Тойво фанатически преследует тех, кого он подозревает в совершении чудес. Каждое чудесное событие интерпретируется Тойво как еще одно свидетельство активного и по определению враждебного вмешательства сверхцивилизации в развитие человечества.
Иисус объявляет о новом образе жизни
Исторический Иисус объявил о новом, христианском взгляде на мир во времена духовного и политического разброда, когда были сломаны старые системы верований, заменявшиеся новыми. Рассвет христианства, как и рассвет ислама, сопровождался общим ростом мистических культов, появлением фальшивых пророков и т. д.
Значительная часть сюжетного материала романа «Волны гасят ветер» мотивируется этим формальным прообразом:
«„Большое откровение“ происходит во время „возникновения массовых фобий, новых учений мессианского толка, появления людей с необычными способностями, необъяснимых исчезновений людей, внезапного, как бы по волшебству, появления у людей новых талантов и т. д.“»
(С.22)Объявление о «новом образе жизни» перенесено от фигуры Тойво на документ, известный как «Меморандум Бромберга». Христианский идеал нового, неэгоистичного общества, основанного на любви и духовном единстве радикально обмирщен и, что подходит к его притязаниям на научную достоверность, «дарвинизирован»:
«Любой Разум […] в процессе эволюции первого порядка проходит путь от состояния максимального разъединения (дикость, взаимная озлобленность, убогость эмоций, недоверие) к состоянию максимально возможного при сохранении индивидуальностей объединения (дружелюбие, высокая культура отношений, альтруизм, пренебрежение достижимым). Этот процесс управляется законами биологическими, биосоциальными и специфически социальными.»
(С.18)Меморандум Бромберга о Монокосме противопоставляет эзотерический, подвергшийся влиянию Востока идеал — «самоуспокоение, замыкание на себя, потеря интереса к физическому миру» (С.18) и экзотерический, ориентированный на Запад, идеал, характеризующийся как «романтические трели теории вертикального прогресса» (С.18).
Бромберг предлагает метафизический синтез, приводящий на «путь к Монокосму». Простая взаимозаменяемость мистических и мирских доктрин, объявляющих о «новой жизни», подчеркивается тем, что Бромберг использует квазинаучные термины для изображения архетипического религиозного образа рая.
«Синтез Разумов […] приводит к уменьшению страданий до минимума и к увеличению радости до максимума. Понятие „дом“ расширяется до масштабов Вселенной. Возникает новый метаболизм, и как следствие его — жизнь и здоровье становятся практически вечными. Возраст индивида становится сравним с возрастом космических объектов — при полном отсутствии психической усталости. Индивид Монокосма не нуждается в творцах. Он сам себе и творец, и потребитель культуры. […]
Каждый новый индивид возникает как произведение синкретического искусства: его творят и физиологи, и генетики, и психологи, эстетики-педагоги и философы Монокосма.» (С.19).
Тезис Бромберга, с его бюрократическим определением рая («уменьшение страданий до минимума») и научным объяснением того, как человек становится ангелом («новый метаболизм»), — больше, чем просто издевательство над научной фантастикой. Трактат о «синтезе Разумов» близко соотносится по форме и содержанию с «Синтезом двух Разумов…», предложенным философом Николаем Федоровым.
Влияние Федорова на творчество Стругацких будет подробнее рассмотрено в Главе 4.
Тайная вечеря
Аллюзий на «тайную вечерю» немного, и их можно было бы счесть случайными деталями, не обладающими связью с прообразом, если бы не их помещение как раз в поворотной точке карьеры Тойво. Контекст, в котором находятся эти аллюзии, более значим, чем их частотность. Напрямую ведет к «тайной вечере» диалог Тойво с Гришей (приведенный выше), наиболее броское сравнение Тойво с фигурой Христа из всех, представленных в романе. Некоторые детали диалога подчеркивают экзистенциальное одиночество Тойво и предсказывают его полное отделение от человечества.
Сцена «тайной вечери» — единственная сцена романа «в домашних декорациях», ей непосредственно предпослан рассказ жены Тойво о проблемах в кулинарном институте, где она работает. Она жалуется, что закваска (для хлеба), которую они импортируют с Пандоры, слишком подошла и стала горькой, таким образом поставив в опасность производство неких дрожжевых пирожных, известных «на всю планету». Тирада жены Тойво — хороший пример множественности значений текста. Под клише научной фантастики (синтезированная пища, межпланетное распространение) читатель явственно слышит разговорные шаблоны современной разочарованной советской городской работающей женщины. Внутри контекста «тайной вечери» отсылка к перезаквашенному хлебу может выглядеть юмористическим богохульством.
Сцена открывается апокалиптическим знаком зловещего, чрезмерно драматического заката: «Они поужинали в комнате, багровой от заката.» (С.131) «Тайная вечеря» Тойво является его последним ужином с женой, Асей. Она вскоре отбывает в трехмесячную командировку, и к моменту ее возвращения «предательство» (см. ниже) уже произойдет. Библейская образность в этой сцене — не из иконографической Тайной Вечери (Христос с двенадцатью учениками сидят вокруг стола), но из истории Марфы и Марии (из Евангелия от Луки: 10:38–42). Образ Марии, сидящей у ног Господа, слушающей его поучения в то время как Марфа прислуживает, в чем-то сохранен: Тойво помещается у ног Аси, пока он «проповедует» ей об относительности добра и зла. Ася не приносит ужин до того момента, как Тойво заканчивает говорить.
Затем, когда Тойво и Ася ужинают, прекрасная бабочка влетает в комнату. Они решают назвать ее Марфой. Шаблон, предсказанный библейским мотивом, завершился.
Христос предан
«Людены» — избранная группа людей, совершивших в своем развитии качественный скачок по сравнению с остальным человечеством. Так называемая «третья импульсная система» сделала люденов психологически, физиологически и интеллектуально значительно более развитыми, нежели обычный homo sapiens. До того скрытая «третья импульсная система», обусловившая неожиданно принадлежность Тойво к люденам, является буквально крестом (заглавная латинская «T»), который он несет:
«Каммерер: (к Тойво)… машина эта ищет так называемый зубец Т ментограммы, он же „импульс Логовенко“. Если у человека имеется годная для инициирования третья импульсная система, в его ментограмме появляется этот растреклятый зубец Т. Так вот, у тебя этот зубец есть.»
(С.201)Откровение о сверхчеловеческой сущности Тойво равноценно «Большому Откровению», упомянутому во «введении» рассказчика. Научно достоверное существование люденов и их экстраординарных возможностей (которые обычному человеку кажутся похожими на чудеса) устраняет нужду в сверхцивилизации. Больше нет необходимости постулировать существование «Странников»; иными словами, источник необычайных многорогих чудовищ и иных испытаний, выпавших на долю человечества, — не чуждая сверхцивилизация из глубин космоса. Скорее, апокалиптические знаки оказались работой внутренней, альтернативной, глубинной «чуждости», что развилась в глубинах человечества. Таким образом, центральный сюжетообразующий вопрос, на котором основан весь цикл об истории будущего, оказался до смешного на поверхности.
В романе «Волны гасят ветер» сам Леонид Горбовский, патриарх цикла об истории будущего, встает со своего смертного ложа (ему уже более двухсот пятидесяти лет), чтобы высмеять целую теорию «Странников», и, металитературным впечатлением, поверхностное прочтение обманчиво популярной формы романов:
«Ну взрослые же люди, не школьники, не студенты… Ну как вам не совестно, в самом деле? Вот за что я не люблю все эти разговоры о Странниках… И всегда не любил! Ведь обязательно же они кончаются такой вот перепуганной детективной белибердой!»
(С.181)Акт предательства разбросан по многим слоям текста, но его значимость обусловлена его положением в развитии романа. Гроздь трансформированных и действительных «предательств» происходит в сцене, следующей за «Тайной Вечерей» Тойво и предшествующей его уходу с Земли в открытый космос — метафорически, его вознесению на небо.
Максим Каммерер воспринимает новость, что Тойво — больше, чем человек, как «предательство» и «потерю сына». Он пытается уговорить Тойво стать двойным агентом и информировать человечество о деятельности его собственных товарищей. Здесь мотив «предательства», предсказанный библейским образцом, сопоставляется с набором аллюзий на «предательство» в его специфическом контексте Советского Союза ХХ века. Например, Тойво, все еще не знающему о своей сущности, разрешают прослушать запись разговора, в котором передовой представитель люденов объясняет происхождение и современную деятельность группы. В записи есть заметные лакуны. Впрочем, авторы полагают, что читатели и пережившие «В круге первом» Солженицына поймут, что/кто скрывается за «странной манерой вести переговоры»:
«Глумов: Так что было в лакунах?
Каммерер: Неизвестно.
Глумов: То есть как — неизвестно?
Каммерер: А так. Комов и Горбовский не помнят, что было в лакунах. Они никаких лакун не заметили. А восстановить фонограмму невозможно. Она даже не стерта, она просто уничтожена. На лакунных участках решетки разрушена молекулярная структура.
Глумов: Странная манера вести переговоры.
Каммерер: Придется привыкать.»
(С.197)Ненависть Тойво к «Странникам», переключившаяся на более непосредственную и близкую цель — на люденов, — вводит новый подтекст: еврейский вопрос.
«Глумов: …Суть же в том, что человечество не должно быть инкубатором для нелюдей и тем более полигоном для их проклятых экспериментов! […] Вам не следовало посвящать в это дело ни Комова, ни Горбовского [члены Мирового Совета]. Вы поставили их в дурацкое положение. Это дело КОМКОНа-2, оно целиком в нашей компетенции. Я думаю, и сейчас еще не поздно. Возьмем этот грех на душу.
Каммерер: Слушай, откуда у тебя эта ксенофобия? Ведь это не Странники, это не Прогрессоры, которых ты ненавидишь…
Глумов: У меня такое чувство, что они еще хуже Прогрессоров. Они предатели. Они паразиты. Вроде этих ос, которые откладывают яйца в гусениц…»
(С.198)
Аллюзию на нацистские эксперименты, на неудачу международных альянсов сдержать фашизм в свое время и на антисемитские настроения, все еще превалирующие в Советском Союзе, трудно пропустить, особенно когда она используется в соединении с не характерным для Тойво обращением к религиозной терминологии: «мы должны взять этот грех на душу». С другой стороны, здесь нет прямого соответствия между замыслом и персонажами романа и социо-политическими событиями, на которые они намекают. В вышеприведенном отрывке Тойво Глумов — сам люден! — обвиняет люденов в использовании человечества как полигона для «проклятых экспериментов», используя против них штампы советской антисемитской пропаганды («осы, которые откладывают яйца…»).
Тойво отказывается от предложения Максима стать двойным агентом, потому что он боится, что, как только он активирует «третью импульсную систему» для того, чтобы замаскироваться среди врагов, он потеряет все следы человечности:
«Превращение в людена — это моя смерть. Это гораздо хуже смерти, потому что для тех, кто меня любит, я останусь живым, но неузнаваемо отвратным. Спесивым, самодовольным, самоуверенным типом. Вдобавок еще и вечным, наверное.»
(С.207)Трудно не добавить слово «жид» к эпитету «вечный», что является русским обозначением для «Wandering Jew».
Максим пытается успокоить Тойво словами:
«Пока еще ничего страшного не произошло. Что ты так раскричался, словно к тебе уже „ухмыляясь, приближаются с ножами“?»
Здесь присутствует интертекстуальная аллюзия на «Диспут» Генриха Гейне (1851), и полностью строки звучат так: «…И евреи, ухмыляясь, приближаются с ножами…».
Воскресение
«Волны гасят ветер» включают в себя и последний формальный кусок рассматриваемого прообраза-шаблона, то есть воскресение.
Тойво в конце концов присоединяется к меньшинству — люденам — и буквально начинает новую жизнь вне пределов Земли, поскольку большинство люденов предпочитают обитать в открытом космосе. Аллюзии, разбросанные по роману и связывающие рост российского национализма (и антисемитизма) с апокалиптическим жаром, к концу романа становятся частью определенного мотива. Элементы сюжета и образности, предсказанные прообразом-мотивом, такие, как знак креста, предательство и уход в открытый космос (на небо) разделены и внедрены в набор аллюзий, отсылающих читателя к дилемме, встающей перед советскими евреями, обсуждающими эмиграцию.
Таким образом, хотя для Каганской и было искушением прочесть текст как полную аллегорию, зашифровавшую в себе отношение Стругацких к советскому антисемитизму и проблеме еврейской эмиграции, похоже, что «еврейский вопрос» представляет собой лишь одну грань темы Апокалипсиса, достигающей крещендо в финальной части истории будущего по Стругацким.
Рассмотрение топографии Апокалипсиса в романе «Волны гасят ветер» подтвердит эту интерпретацию.
Апокалиптический зверь
Для обрамляющей истории романа «Волны гасят ветер», по-видимому, прообразом является жизнь Христа. Поскольку прообраз смещен и/или неполон, предполагается, что сам по себе мотив Христа важен и подходящ, в то время как события, равно как и нравственные выводы Евангелий, могут не быть таковыми. Особенно присутствие Христа в обществе, подвергающемся катастрофическим переменам, служит объектом для тщательного, в чем-то амбивалентного рассмотрения Стругацкими.
Внутри обрамляющего сюжета авторы помещают также рассказ-внутри-рассказа.
Вставленная история описывает расследование Тойво на месте инцидента в курортном поселке Малая Пеша. Как мы узнаем из обрамляющего повествования Максима, Тойво в молодости занимался расследованием «чрезвычайных происшествий».
В этом конкретном случае, в мае 99 летние обитатели этого поселка бежали в панике, когда в Малую Пешу нахлынули многоголовые, многорогие чудовища неясного происхождения.
Вот как Максим предваряет свой ретроспективный отчет по этому событию и последующему расследованию:
«Нетрудно видеть, что предлагаемая реконструкция […]содержит, кроме совершенно достоверных фактов, еще и кое-какие описания, метафоры, эпитеты, диалоги и прочие элементы художественной литературы.»
(С.63)«Это первый мой опыт реконструкции. Я очень старался. Работа моя осложнялась тем, что я никогда не был в Малой Пеше в те давние времена, однако же в моем распоряжении оставалось достаточное количество видеозаписей […] Так что за топографическую точность я, во всяком случае, ручаюсь. Считаю возможным для себя поручиться и за точность диалогов.»
(С.76)Как и можно было ожидать, предупреждение рассказчика вводит в заблуждение. Топография Малой Пеши реконструирована не из каких-либо возможных «видеозаписей», но из эклектического разнообразия различных пейзажей, которые уже сейчас существуют как артефакты западной культуры. Набор интертекстуальных аллюзий формируется постепенно, в дополнение к внешним мотивациям сюжета.
Основные источники топографических деталей у Максима — это: пейзажные картины Левитана, «Откровение св. Иоанна» из Библии, проза Киплинга, русская адаптация «Пиноккио» Алексеем Толстым [ «Золотой ключик»], шпионские романы Яна Флеминга.
Поскольку в своей «реконструкции» повествователь пытается убедить аудиторию чувствами, а не фактами, Максим позволяет себе дать детальное описание пейзажа и общей атмосферы, в которой происходило расследование Тойво.
«Сверху поселок Малая Пеша выглядел так, как и должно было выглядеть этому поселку в четвертом часу утра. Сонно. Мирно. Пусто. Десяток разноцветных крыш полукругом, заросшая травой площадь, несколько стоящих вразброс глайдеров, желтый павильон клуба у обрыва над рекой. Река казалась неподвижной, очень холодной и неприветливой, клочья белесого тумана висели над камышами на той стороне.
Коттеджи Малой Пеши были старинные, постройки прошлого века, утилитарная архитектура, натурированная органика, ядовито-яркие краски — от старости. Вокруг каждого коттеджа — непроглядные кусты смородины, сирени, заполярной клубники, а сразу же за полукольцом домов — лес, желтые стволы гигантских сосен, серо-зеленые от тумана хвойные кроны, а над ними, уже довольно высоко, — багровый диск солнца на северо-востоке…»
(С.64–65)Первое необходимое условие для детектива состоит в том, что он, будучи на работе, тщательно замечает каждый ключ, предоставляемый местом преступления или необычных событий. Соответственно, в реконструкции Максима, восприятие Тойво внешних и внутренних пейзажей не говорит ничего о ландшафте как таковом, описывая, скорее, ландшафт как запись расследуемого инцидента.
«Да, следы здесь были. Следов было много: помятые и поломанные кусты, изуродованная клумба, а трава под перилами выглядела так, словно на ней кони валялись. Если здесь побывали животные, то животные неуклюжие, громоздкие, и к дому они не подкрадывались, а перли напролом. С площади, через кустарник наискосок и через раскрытые окна прямо в комнаты…
Тойво пересек веранду и толкнул дверь в дом. Никакого беспорядка там не обнаруживалось. Точнее, беспорядка, какой должны были бы вызвать тяжелые неповоротливые туши.
Диван. Три кресла. Столика не видно — надо полагать, встроенный пульт только один — в подлокотнике хозяйского кресла […] На передней стене — левитановский пейзаж, старинная хромофотоновая копия с трогательным треугольничком в левом нижнем углу, чтобы, упаси бог, какой-нибудь знаток не принял за оригинал.»
(с. 74)Пейзаж Малой Пеши обеспечивает ключи как к научно-фантастическому замыслу, так и к лежащему ниже философскому замыслу романа. Стругацкие используют обычные формулировки детективного произведения не только для создания приключенческого замысла, но и для более прочного прикрепления «фантастической» истории к современной политической и философской «повестке дня».
Чтобы понять, как это делается, необходимо вспомнить, что декорации и окружающая среда в детективном повествовании несут скорее прагматическую, а не семантическую функцию.[29] Иными словами, декорации и окружающая среда в детективном повествовании не описываются в том же смысле, что и в произведениях других жанров. Сцена преступления или таинственного происшествия — не романтический или реалистический рисунок природы или гостиной, скорее, это модель места, на котором остался некий отпечаток человеческой деятельности. Человеческая деятельность «объектифицирована» (versachlicht) в топографии криминального романа.[30]
Так, в вышеприведенном отрывке интерьер и пейзаж Малой Пеши четко фиксирует поспешное бегство с веранды, следы огромных чудовищ, пробиравшихся сквозь сад и загадочное отсутствие беспорядка в доме, куда эти чудовища предположительно влезли. С другой стороны, несмотря на футуристические приспособления (пульт в подлокотнике кресла, хромофотоновая копия и т. д.) и интернациональный лексикон, пейзаж Малой Пеши также означает современную социокультурную окружающую среду, которая важна для лежащего ниже философского замысла. Описание дачного поселка и окружающего ландшафта вызывают ностальгию по неиспорченной сельской местности русского Севера. Только березы отсутствуют, хотя туманные долины рек и возвышающиеся сосны являются почти карикатурой на меланхолические пейзажные картины Левитана, один из которых в должное время появляется — несколькими страницами позже (см. выше).
Этот пейзаж, с пародийными обертонами, не отражает реальный ландшафт, он описывает окружающую среду, в которой значительную роль играют русские националистические чувства. Какую именно роль — становится яснее по мере развития апокалиптического подтекста.
Дальнейшее требование к правдоподобному описанию расследования Тойво — его привычка к замечанию времени, дат и чисел с мучительной аккуратностью должно быть повторено. Тем не менее, плотность кажущихся чуждыми статистических деталей в повествовании разрушает течение повествования. Можно усомниться, стоит ли того эстетическая цена изображения сухого, занудного, фанатичного следователя за работой. Не удивительно, что эстетическая «потеря» оборачивается информационным «выигрышем» (выигрыш в познании может стать, в конце концов, выигрышем в эстетике).
Вторая часть реконструируемой истории начинается в главе 6 романа. Она открывается избытком чисел:
«Глава 6
МАЛАЯ ПЕША. 6 МАЯ 99 ГОДА. 6 ЧАСОВ УТРА.
5 мая около 11 вечера в дачном поселке Малая Пеша (тринадцать коттеджей, восемнадцать жителей) возникла паника.»
(С.79)Совпадение трех шестерок, появляющееся в номере главы (принадлежащей к внешнему остову романа), дате и времени (принадлежащих к внутренней структуре романа) становится значимым в свете «чрезмерных» статистических деталей, предложенных в скобках (тринадцать коттеджей, восемнадцать жителей).
Глава 13, стих 18 «Откровения» гласит:
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.»
Зверь, упомянутый в «Откровении» 13:18, вскоре появляется в реконструированной топографии главы 6, написанной в 6 часов утра 6 мая:
«… Возникла паника. Причиной паники послужило появление в поселке некоторого (неизвестного) числа квази-биологических существ чрезвычайно отталкивающего и даже страшного вида.»
(С.79)Чудовища, появившиеся в дачном поселке, описываются по-разному, но свидетели сходятся на том, что они имели много глаз и рогов. Далее, «звери» всегда упоминаются во множественном числе. Как и в библейском «Апокалипсисе», появление «зверя» (зверей) в Малой Пеше делит население на две группы: избранные и проклятые. Фактически, в восприятии жителей поселка, это две различные группы зверей: некоторые видят в них часть божьего войска, одних из четырех существ, «исполненных очей спереди и сзади», описанных в «Откровении» 4:6; большинство же видит слуг Сатаны, с пугающей внешностью и множеством рогов, подобных зверю из моря, описанному в «Откровении» 13:1-10. Последние реагируют на присутствие чудовищ острым, апокалиптическим ужасом.
«Вы говорите — напугать могут… — процедил он, не поднимая глаз. — Если бы напугать! Они, знаете ли, сломать могут!»
(С.76)Те, кто увидел не чудовище, а одно из божьих «животных» («Откровение», глава 4), — это ребенок и старый человек. Впрочем, Стругацкие избегают клише, не подчеркивая ни невинность детства, ни мудрость старости сами по себе как спасительные качества. Вместо этого «спасенные» обладают общим качеством — неуловимой принадлежностью к другому миру, которая может быть выведена из их литературных корней — внутри других текстов.
Маленький загорелый мальчик показывается в опустевшем, апокалиптическом поселке, где расследователи завтракают. Он рассказывает им, что его зовут Кир и что он вернулся в их семейный коттедж, чтобы забрать модель галеры. Модель галеры становится лейтмотивом, сопровождающим мальчика на протяжении оставшейся части главы. Так же, как галера Кира может быть увидена как игрушечная модель галеры из произведения Киплинга «Величайшая в мире история», все в севернорусском дачном поселке, увиденное глазами Кира, становится чем-то вроде игрушечной модели мира Киплинга. Как посланец в мире Стругацких из другого литературного мира, персонаж Кир («Ким» Киплинга) воплощает чувствительность мира. Для него многорогое чудовище (чудовища) -
«Они же добрые, смешные… они же мягкие, шелковистые, как мангусты, только без шерстки… А то, что они большие, — так что же? Тигр тоже большой, так что же, я его бояться должен, что ли? […]
И пахнут они хорошо! […] Они ягодами пахнут! Я думаю, они ягодами и питаются… Их бы надо приручить, а бегать от них… чего ради?»
(С.85)Другой обитатель Малой Пеши, узнает, подобно Киру, ягненка в чудовище. Впрочем, окружающая старуху аура принадлежности к иному миру восходит к другой литературной традиции. Если появление на сцене «лопоухого» Кира причудливо и забавно несвоевременно — расследователь, держащий надкушенный холодный бутерброд, застигнут на середине глотка, — появление старухи восходит к чему-то, скорее напоминающему материализацию Воланда на Патриарших прудах:[31]
«Солнце уже заметно припекало, на небе не было ни облачка. Над пышной травой площади мерцали синие стрекозы. И сквозь это металлическое мерцанье, подобно диковинному дневному привидению, плыла к павильону величественная старуха с выражением абсолютной неприступности на коричневом узком лице.
Поддерживая (дьявольски элегантно) коричневой птичьей лапой подол глухого снежно-белого платья, она, словно бы и не касаясь травы, подплыла к Тойво и остановилась. […]
— Вы можете звать меня Альбиной, — милостиво произнесла она приятным баритоном.»
(С.87)Разговор Тойво с «не от мира сего» Альбиной является, парадоксально, как раз той точкой в повествовании, которая пересекается с планом современного социально-политического комментария. Старуха узнает в ужасе, охватившем обитателей поселка, не что иное как жалкое отражение их собственной духовной нищеты:
«…Как могло случиться, что в наше время, в конце нашего века, у нас на Земле живые существа, воззвавшие к человеку о помощи и милосердии, не только не обрели ни милосердия, ни помощи, но сделались объектом травли, запугивания и даже активного физического воздействия самого варварского толка. Я не хочу называть имен, но они били их граблями, они дико кричали на них, они даже пытались давить их глайдерами. Я никогда не поверила бы этому, если бы не видела своими глазами. Вам знакомо такое понятие дикость? Так вот это была дикость! Мне стыдно.
[…]
— Не позволю, — сказала она. — Я не собираюсь здесь с вами рассиживаться. Я желала бы услышать ваше мнение о том, что произошло с людьми в этом поселке. Ваше профессиональное мнение. Вы кто? Социолог? Педагог? Психолог? Так вот, извольте объяснить! Поймите, речь идет не о каких-то там санкциях. Но мы должны понять, как это могло случиться, что люди, еще вчера цивилизованные, воспитанные… Я бы даже сказала, прекрасные люди!.. Сегодня вдруг теряют человеческий облик! Вы знаете, чем отличается человек от всех других существ в мире?
— Э… разумностью? — предположил Тойво.
— Нет, мой дорогой! Милосердием! Ми-ло-сер-ди-ем!»
(С.87–88)Ответ Альбины усиливает библейский подтекст и добавляет иронический поворот к апокалиптическому мотиву. В ее версии инцидента в Малой Пеше не люди взывали к Богу о милосердии и жалости, спасаясь от кары Зверя, но, напротив, Зверь, по словам Альбины, взывал к людям о жалости и милосердии — только для того, чтобы быть упрекаемым и оскорбляемым обитателями поселка. Так, упомянутый Альбиной «конец нашего века» равно относится и к хронологическому времени, и к христианской эсхатологии. Когда в человеческих сердцах больше не находится ни жалости, ни милосердия, это означает конец света и приход Антихриста.
Под комедией нравов, которой характеризуется встреча Тойво с грозной старухой, скрывается горькое напоминание Стругацких российскому читателю о том, что русское слово «милосердие» на протяжении десятилетий отсутствовало в советских изданиях стандартного «Словаря русского языка».
Расследование Тойво продолжается, а испуганные отпускники — обитатели поселка возвращаются по одному на свои дачи. Оставшаяся часть истории выдержана в карнавальном тоне, поскольку каждый обитатель Малой Пеши выглядит появившимся из другого текста.
Обитатели коттеджа № 10 оказываются неким Олегом Олеговичем Панкратовым и его женой Зосей. Описание внешности Олега похоже на описание богатыря со знаменитой романтической картины Васнецова «Три богатыря». Тойво выясняет, что реакцией Олега на пришельцев было скорее отвращение, нежели страх, и он выпихивал желеобразные тела из окна обратно в сад руками «как лопаты». Если Олег представляет собой карикатуру на русского фольклорного героя, то его жена представлена карикатурой на утонченного художника-интеллектуала. Зося выдвигает эстетическую теорию, чтобы разделить ее саму и ее интуитивный страх при виде чудовищ:
«…Эти чудовища… были настолько страшны и отвратны, что представлялись своего рода совершенством. Совершенством безобразия. Эстетический стык идеально безобразного и идеально прекрасного. Где-то когда-то было сказано, что идеальное безобразие якобы должно вызывать в нас те же эстетические ощущения, что и идеальная красота. До вчерашней ночи это всегда казалось ей парадоксом. А это не парадокс! Либо она такой уж испорченный человек?..»
(С.97)На первых шагах расследования Тойво человек по имени Александр Джонатан (русский вариант этого имени — Иоанн, анаграмма к Ian — Ян) Флеминг был главным подозреваемым, способным спустить с привязи невероятных чудовищ на курортный поселок. Флеминг — работник биоинженерной лаборатории, расположенной недалеко от Малой Пеши. Тойво полагает, что чудовища могли бы быть сбежавшим результатом применения Флемингом биогенетической технологии.
Обитатели коттеджа № 7 возвращаются с мешком крабораков (биогибридов, выведенных в лаборатории Флеминга), кулинарным деликатесом, который, подобно осетрине у Булгакова в «Мастере и Маргарите», бывает «…только одной свежести, а именно первой».
За прямой аллюзией на Булгакова следует шуточная отсылка к Алексею Николаевичу Толстому, автору «Золотого ключика» — русской версии истории про Пиноккио. Один из двух гурманов-отпускников назван Львом Николаевичем Толстовым, что схоже с именем знаменитого родственника А.Толстого. Авторы, верные духу карнавала, описали его как клоунскую фигуру из «Золотого ключика», «…старого доброго Дуремара только что из пруда тетки Тортиллы — длинный, длинноволосый, длинноносый, тощий, в неопределенной хламиде, облепленный высыхающей тиной.» (С.80)
Другой карнавальный поворот — этот Л.Н.Толстов работает в местном филиале лаборатории Флеминга; таким образом, он имеет возможность разрушить теорию искусственного создания чудовищ, посетивших Малую Пешу. Его тирада воспринимается двойственно — как мотивировка для поверхностного сюжета (ясно, что Тойво должен теперь отвергнуть «простое» объяснение происхождения чудовищ) и как металитературный комментарий к недостатку «науки» в большей части «научной фантастики».
«Да вы понимаете, о чем говорите? Вы имеете хоть какое-то представление о предмете? Вы вообще видели когда-нибудь искусственное существо? Ах, только в хронике? Так вот, нет и быть не может искусственных существ, которые способны забираться через окна в спальни людей. […] Вы бы хоть попытались прикинуть, какая энергия нужна эмбриофору, чтобы развиться в такую массу хотя бы и за час?»
(С.82)Функция эклектических интертекстуальных аллюзий не столь ясна, хотя бурлескные несоответствия в общем и пародийный портрет Толстого в частности заставляют предположить осознанную аллюзию на творчество русского абсурдиста Хармса.[32] С этой точки зрения можно сделать предварительный вывод о том, что Стругацкие полагали стиль русских абсурдистов более подходящим к концу света, нежели грандиозные апокалиптические образы русских символистов.
Все же ясно, что «Откровение св. Иоанна» формирует декорации расследования Тойво. Вставная история о Малой Пеше является фантастической притчей под видом научной фантастики — о реакции человечества на пришествие Антихриста. В финальной сцене вставной истории «Второе Пришествие» не только полностью секуляризируется, но и лишается всех революционных и мистических обертонов.
Мы видели Дуремара-Толстова очень занятым и в большой спешке покидающим коттедж № 7; он задержался только для того, чтобы объявить пронзительным фальцетом: «Да вернусь я — скоро», что является пародийным эхом слов Господа из «Откровения» 22:7: «Се, гряду скоро».
Возвращение Дуремара-Толстова выглядит как кусок из фильма «Miami Vice», что подчеркивает его интертекстуальную связь с произведениями Иана Флеминга:
«И тут тень пала на Малую Пешу, и пространство вокруг наполнилось бархатистым курлыканьем, и бомбой вылетел из-за угла павильона растревоженный Базиль, на ходу напяливая свою куртку, а солнце вновь уже воссияло над Малой Пешей, и на площадь величественно, не пригнув собой ни единой травинки, опустился, весь золотистый и лоснящийся, словно гигантский каравай, псевдограв класса „Пума“ из самых новых, суперсовременных, и тотчас же лопнули по обводу его многочисленные овальные люки, и высыпали из них на площадь длинноногие, загорелые, деловитые, громкоголосые, высыпали и потащили какие-то ящики с раструбами, потянули шланги с причудливыми наконечниками, засверкали блиц-контакторами, засуетились, забегали, замахали руками, и больше всех среди них суетился, бегал, размахивал руками, тащил ящики и тянул шланги Лев-Дуремар Толстов, все еще в одеждах, облепленных засохшей зеленой тиной.»
(С.100)Трудно воспринимать финальную сцену в Малой Пеше серьезно. Вставная история успешно моделирует ситуацию кризиса, используя апокалиптические оттенки, но не предлагает выхода. Использование покрытого тиной Дуремара-Толстова на роль спасителя является травестией, которая разрушает не столько содержание апокалиптической притчи, сколько ее современный стиль. За исключением Альбины и Кира испытуемая часть человечества оказалась полностью неспособной уловить намек на суд.
Роман «Волны гасят ветер» использует жанр апокалиптических произведений, но авторы отказываются от грандиозного революционного тона большей части таких произведений.
Лжепророк ислама
Современные романисты, использующие прием «прообраза» как средство авторского комментария, обычно полагаются на прямые и знакомые культурные мотивы для предварительного шаблона, от которого может производиться современный текст. Очевидно, что чем более знаком читатель с мотивом-прообразом — восходит ли тот к классической мифологии или «новой мифологии» поп-культуры, — тем более он воздействует на читательское понимание современного текста.
Из трех мотивов-прообразов, рассмотренных в этой главе, легенда о Пестром Флейтисте предполагается универсально знакомой для всей европейской культуры; более того, есть прецедент использования ее как мотива-прообраза в русской литературе ХХ века: поэма М.Цветаевой «Крысолов».[33]
Также, несмотря на три поколения официально утверждаемого государственного атеизма (и недостатка Библий), Стругацкие могут полагать, что некоторые читатели узнают евангельские истории или хотя бы их центральную фигуру.
Тем не менее, в своем последнем романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» (Burdened with Evil) (1988) Стругацкие, по-видимому, намеревались сознательно изменить то, что они ощущали как понижающаяся осведомленность об источниках. Сюжет, образность и характеризация в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» практически полностью определяются паутиной мотивов-прообразов, сплетенных авторами в фантастическую сказку.
В этом случае, впрочем, большая часть прообразов-шаблонов, якобы долженствующих управлять читательским пониманием фантастических событий и образов текста, не является ни знакомой, ни простой. Любопытно изменяя дидактическую функцию прообраза, скорее, нежели полагаясь на хорошо знакомый мотив как замену прямому авторскому комментарию, Стругацкие вводят малознакомые или забытые тексты и вынуждают читателя открывать заново источник предупреждающих моделей. Некоторые из представленных текстов исполняют роль прообраза кратко, только на протяжении одной сцены или одного момента характеризации.
В нижеприведенном примере рассказчик — студент провинциального советского педагогического института середины XXI века. В ходе полевой экспедиции со своим учителем (Г.А.) и товарищем студентом — они посещают стоянку местного контркультурного сообщества и наблюдают двух представителей этого общества, безразлично совокупляющихся, пока их лидер превозносит пассивность и апатию по отношению к традиционному миру. Описание этой сцены прямо предсказывается другим текстом, на который рассказчик прямо ссылается:
«Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят и Мишка, и Г.А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.
„Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, а через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой“.
Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер „Год под знаком гориллы“.»[34]
Аллюзия на исследование Шаллером поведения приматов не отдельна и не случайна, поскольку она является частью набора аллюзий, проходящего через всю книгу. Тема этих аллюзий — конфликт между биологическим (психологическим, бихевиористским) и духовным (религиозным, платоновским) определениями homo sapiens.
Роман играет с аналогиями и расхождениями между постмодернистским научным дискурсом (герой-рассказчик — астрофизик) и религиозным мировоззрением христианской ереси — гностицизма. Фундаментальным для системы взглядов, присущей гностикам, является примат трансцендентального человеческого знания (собираемого путем мистических и эзотерических откровений) и присущее всей материи зло. Гностический мотив, заявленный уже в заглавии романа, является источником большей части фантастической образности произведения. Если даже читатель и пропустит важность гностического мотива для метафизических споров, происходящих в романе, предисловие повествователя указывает на источник прообраза-шаблона:
«Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.
Первое время я думал, что это цифры „ноль“ и „три“, и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки: „…у гностиков ДЕМИУРГ — творческое начало, производящее материю, отягощенную злом“. И тогда показалось мне, что „ОЗ“ — это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощенные Злом, — так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что ОЗ — не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется „ноль-три“, а это телефон „Скорой помощи“, — и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.).»[35]
Рассказчик чередует выдержки из своего собственного дневника (датированного серединой XXI века) и отрывки из таинственной рукописи, переданной его учителем. Содержание этой рукописи показывает, что она является дневником астронома, работавшего в Степной обсерватории примерно «сорока годами раньше», то есть в последние годы XX века.
Дневник астронома описывает посещение Демиургом и Вечным Жидом провинциального советского города, чье название, Ташлинск, может быть воспринято как соединение названий «Ташкент» и «Минск», то есть символический микрокосм Советского Союза, от севера до юга и от запада до востока. Дневник астронома относится к нашему (для читателя) времени, но представлен как исторический документ.
Фигура Вечного Жида, «Агасфера Лукича» (что является слегка русифицированной версией его традиционного имени Агасфер), предвосхищается одним из двух эпиграфов к роману, гласящим:
«Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
Евангелие от Иоанна.»Один из двух фундаментальных мотивов, позже составивших легенду о Вечном Жиде, является мотив оскорбления или насилия, причиненного Спасителю чиновником первосвященника (Иоанн: 18: 20–22), чей раб по имени Малх оказался отождествленным с этим чиновником. Наказанием тому, кто оскорбил Христа, было осуждение на вечное странствование.
Мотив вечного странствия заимствован из легенды о св. Иоанне, в соответствии с которой Иоанн никогда не умирал. Поскольку Христос сказал: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока прииду, что тебе до того?» (Иоанн: 21:23), легенда утверждает, что «ученик, которого любил Иисус» (Иоанн: 21:20) не умер ни в Эфесе, ни в ссылке на острове Патмос. Напротив, то, что он считается ожидающим (второго пришествия) и странствующим (сквозь века истории), соединяет его с легендой о Вечном Жиде.[36]
В своем воплощении конца ХХ века, описанном в сатирико-фантастическом срезе текста Стругацких, Вечный Жид — буффонадный персонаж, наслаждающийся едой и питьем (сходный с котом Бегемотом в «Мастере и Маргарите»). В ходе своего пребывания в Ташлинске он выступает как страховой агент, живущий в той же гостинице-общежитии, где и астроном. Истории, которыми он угощает своего соседа — и которые астроном должным образом записывает в дневник — фактически пересказы легенды о Св. Иоанне. То есть автобиографический (от первого лица) рассказ Агасфера Лукича о его деятельности в Эфесе и на острове Патмос астрономом трансформируется в записанный текст от третьего лица.
Последующие исторические странствия Агасфера предвосхищаются множеством других текстов.
Как ни удивительно, один из эпизодов жизни Агасфера (и сюжета романа «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя») основан на научной работе известного русского ориенталиста Бартольда, впервые опубликованной в 1922 году.[37]
История «фальшивого пророка ислама» рассказана в последовательных главах рукописи астронома. На первый взгляд появление араба седьмого века в гостинице-общежитии и последующая смертельная схватка между посетителем и Агасфером кажется просто добавлением еще одного пикарескного эпизода к непреходящему пребыванию на Земле Вечного Жида.
Чтобы лучше понять историю «фальшивого пророка ислама» и многочисленные русские кальки с арабского, которые Стругацкие включили в эту сцену, будет полезно посмотреть на необычный источник прообраза.
В работе «Мусейлима» Бартольд реконструирует из скудных доступных свидетельств роль религиозно-политического лидера Йемамы в общем «ридда», или «отступничестве» (буквально — «отрицании» ислама), которое поглотило Аравийский полуостров вскоре после смерти Магомета. На протяжении нескольких лет, пока вся Аравия не объединилась под знаменем ислама, некоторые соперничавшие с Магометом пророки пользовались значительной племенной поддержкой.
Мусейлима был наиболее значимым из «лжепророков». Он, видимо, располагал верностью оседлого племени Бани Ханифа, части большей конфедерации, противостоявшей основным сторонникам Магомета. Мусейлима пытался заключить союз с лжепророчицей по имени Саджах. Один «весьма подозрительный» источник описывает союз между Мусейлимой и Саджах как непристойную связь, их предполагаемая свадьба завершилась «похотливой оргией».
Это та версия, которую избрали и Стругацкие, хотя Бартольд, Эйкельман и «…большая часть европейских источников соглашаются, что этот момент был введен позднее, чтобы опорочить этих двоих.»[38]
Все источники свидетельствуют, что Саджах отсутствовала в решающей битве под Акрабой в 634 году, когда войска Мусейлимы были разбиты, а он сам встретил свою смерть.
Часть громадного авторитета Мусейлимы, по Эйкельману, обязана существованием особому использованию им языка:
«В отличие от обычной, прозаической речи, откровения Мусейлимы принимают форму клятв, использующих необычные слова или образы, или садж — стихи, короткие предложения ритмической прозой, с одиночными или, реже, чередующимися рифмами. (…) Всякий, желавший притязать на связь со сверхъестественным, в средневековой Аравии был должен, во всяком случае в начале своей деятельности, демонстрировать традиционную, признанную форму связи с высшими силами. Вся речь, приписываемая незримым силам или как-то с ними связанная, как, например, проклятия, благословения, прорицания, заклинания, вдохновение или откровения, должна была выражаться в садж.»
(Эйкельман, с.36)Бартольд обильно цитирует русские переводы арабских садж, или откровений, приписываемых Мусейлиме. Стругацкие включили эти цитаты, слово в слово, в другой контекст.
В романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» общежитие, в котором остановились Демиург и Вечный Жид, посещает Муджжа ибн-Мурара, который, по Бартольду, возглавлял часть войск Мусейлимы в битве при Акрабе. Все люди Мусейлимы были убиты, за исключением самого Муджжи ибн-Мурары, «…что уже само по себе свидетельствует о его готовности быть полезным мусульманскому войску…» (Бартольд, с.570). Иными словами, исторический Муджжа ибн-Мурара предал «лжепророка» Мусейлиму ради «истинного пророка» Магомета, оказавшись непостоянным перебежчиком — войска Магомета он впоследствии тоже предал.
Первая часть истории начинается с того, что астроном разбужен в середине ночи громким голосом, утверждающим, что «…рабу не дано сражаться, его дело — доить верблюдиц и подвязывать им вымя» (С.610). Голос принадлежит посетителю, который адресует свое странное заявление Агасферу Лукичу. Последний, очевидно, вытащен из постели, дабы помешать визитеру попасть в приемную Демиурга.
Воплощение Вечного Жида в ХХ веке — провинциальный советский страховой агент — кратко описано наблюдением рассказчика, что «из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил…» (С.610). Только упоминание искусственного уха (в таком контексте можно было бы скорее ожидать искусственных зубов) напоминает нам, что Вечный Жид связан, по некоторым версиям легенды, с рабом Малхом, которому Симон Петр отрубил ухо. Он бредет через годы и века до сих пор; таким образом, ему было нетрудно узнать своего посетителя из Аравии седьмого века. Будучи далек от ошеломления заявлением посетителя, он немедленно отвечает цитатой, которая выглядит загадочно для рассказчика (и читателя), но вполне понятно — для посетителя: «„Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте“. Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара?»
В каком контексте мы встречаем те же самые слова у Бартольда?
«Засеивающие пашню, собирающие жатву, молотящие пшеницу, мелющие муку, пекущие хлеб, разрезающие его на куски, съедающие куски с жиром и топленым маслом, вы лучше людей войлока [кочевников] и не хуже людей глины [горожан], свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте.»
(Бартольд, с.566)Племя Бани-Ханифа, обитавшее в Йемаме, было, в сущности, агрикультурным социумом, в общем враждебно относившимся к окружающим кочевым племенам. Мусейлима, религиозный и политический лидер йемамцев, предложил приведенное выше «откровение», дабы восхвалить оседлых земледельцев.
В рукописи «ОЗ» посетитель вернулся, чтобы противостоять Агасферу-Мусейлиме, лжепророку ислама. Посетитель, Мудджа ибн-Мурара, однажды предал Мусейлиму в битве при Акрабе. Он намеревался встретиться с Демиургом — для него Милосердным, Рахманом, — и попросить прощения за свои грехи. Диалог между Мусейлимой-Агасфером и посетителем — Мудджей ибн-Мурарой — представлен как фантастическая смесь в значительной степени непонятных (на первый взгляд) исламских клятв, арабской экзотики в стиле «1000 и 1 ночи» и гротескного неистовства:
«Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!»
(С.612)Посетитель угрожает Агасферу. Агасфер в ответ призывает сонмы арабских духов и призраков. Рассказчик комментирует:
«Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. […] Все были дезабилье…»
(С.612)Атмосфера причудливой, экзотической магии, облеченная в форму сочетания советских клише и экзотизмов, сгущается к концу главы в темную смесь эротизма и страсти. Исторический посетитель напоминает Агасферу, что в другом своем воплощении, будучи Мусейлимой, тот был предан Саджах, изображенной роковой женщиной.
«Твоя Саджах нацарапала эту записочку, сидя на могучем суку моего человека. Ты знаешь его — это Бара ибн-Малик, горячий и бешеный, как хавазинский жеребец, вскормленный жареной свининой, искусный добиваться от женщин всего, что ему нужно. А нужно ему было тогда, чтобы дьявол Раххаль, терзаемый похотью, покинул войско Мусейлимы на чаше верных весов!
И сейчас же, без всякой паузы:
— Ты позволил себе недозволенное…
[…]
….Мелькнуло на мгновение длинное узкое лезвие, раздался странный чмокающий звук, широкое черное лицо над испачканной бородой враз осунулось и стало серым… храп раздался, наподобие лошадиного, и страшный плеск жидкости, свободно падающей на линолеум.»
(С.614–615)Отрывки из труда Бартольда также предвосхищают детали декораций, использованных Стругацкими. Например, у Бартольда мы читаем:
«…У Табари, из главного, хотя, как известно, отнюдь не достоверного, сочинения об отпадении, из труда Сейфа, приводится разговор между Мусейлимой и арабом из родственного ханифитам племени; араб спросил Мусейлиму: „Кто приходит к тебе?“ Мусейлима ответил: „Рахман“. „При свете дня или в темноте?“ „В темноте“. „Я свидетельствую, что ты — лжец. Мухаммед говорил правду; но лжец из раби'итов мне милее говорящего правду из мударитов.“»
(Бартольд, С.562)В споре между Агасфером и его оппонентом Мудджей ибн-Мурарой в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» содержание текста-прообраза к делу не относится, но форма его приспособлена для авторских целей. Вопрос «При свете дня или в темноте?» трансформировался в один из аспектов загадочных декораций у Стругацких.
Мудджа ибн-Мурара стоит на пороге между прихожей общежития и приемной Демиурга. Дверной проем показан неясно, не в фокусе, став просто треугольным отверстием, разделяющим освещенную комнату и тьму снаружи, где должна была бы быть прихожая. Пол в комнате общежития покрыт зеленым линолеумов (примета российского быта ХХ века), в то время как посетитель стоит на «роскошном цветастом ковре» (реалия Аравии седьмого века), угол которого высовывается через порог на линолеум.
Пространственное представление двух отдаленных по времени друг от друга миров показано здесь с кинематографическим качеством. Посетитель оглядывается через плечо назад, в темноту, в историческую Аравию, словно слушая голос откровения. Игра света и тьмы является фоном для диалога, предсказанного трудом Бартольда:
«…Словно бы ожидая подсказки, [Мудджа ибн-Мурара] оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.
[…]
— Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! — прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления.»
(С.611)Я решила рассмотреть именно этот случай использования Стругацкими буквального прообраза, поскольку он показывает пределы, до которых этот прием может быть применен успешно. Хотя этот пример демонстрирует технику основывания современного текста на предсказывающем его шаблоне, он жертвует значительной частью значения, которое должен был бы обеспечивать, поскольку ни труд Бартольда, ни его тема не являются частью культурной мифологии, знакомой большинству западных или российских читателей.
Роман «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», по утверждению Бориса Стругацкого (в личном разговоре, 1989 год), является «романом о трех Христах». Наиболее знакомый и стабильный прообраз-мотив в романе — жизнь Христа, которая отражена в характеристике «Г.А.», Демиурга и исторического Иисуса (в воспоминаниях Агасфера Лукича).
Впрочем, это и роман о лжепророках. После двух тысячелетий христианства человечество, описанное в романе, менее чем когда-либо готово ко Второму Пришествию. Каждая фигура Христа в романе сопровождается лжепророками, включая Сталина, Гитлера, «панка» — лидера контркультурного сообщества и, в более смутном прообразе, рассмотренном выше, — лжепророка ислама.
Глава 3 Апокалиптические декорации
Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим — черным фломастером по белому кафелю кухонной стены — напоминание: «Lasciate ogni speranza».
Стругацкие. Отягощенные злом, или Сорок лет спустяДантовы круги ада
«Град обреченный» был закончен в 1975, но впервые опубликован в 1988. Это роман в 6 частях. Каждая часть соответствует определенной стадии в развитии сознания героя. Фактически, духовное путешествие героя начинается только после его смерти, поскольку город, в котором разворачивается действие романа, расположен в загробной жизни.
На первых страницах романа мы узнаем, что все обитатели города в момент смерти сделали выбор участвовать в Эксперименте, после чего и были перенесены прямо в город. В результате этого обитатели города, очевидно, происходят из разных географических мест и различных моментов истории, хотя все они говорят по-русски и все прибыли из относительно недавней — уже после Второй мировой войны — истории. Большая часть городских обитателей помнит о своей прежней жизни; исключения, рассматриваемые ниже, подтверждают правило; отсюда следует их особая значимость как носителей памяти и культуры.
Социальная и политическая культура города явно смоделирована с элементами тоталитаризма в советском и китайском стиле, смешанного с нацизмом. Внутри этой культуры существуют группы несогласных, равно как и возможность объединиться и подняться «наверх».
Главный герой, Андрей, вступает в жизнь после смерти простым сборщиком мусора, вместе с американцем и китайцем. Он знакомится с девушкой, очевидно, покинувшей «реальный» мир как испорченная гражданка упадочного скандинавского общества. Выясняется, что американец диссидент, и в конце концов его убивают.
А Андрей поднимается наверх по городской иерархии работ, став редактором значительной газеты, а позже после переворота, во время которого приходят к власти фашисты, высокопоставленным правительственным чиновником. Его восхождение к вершинам власти описывается в частях с 1 по 4. Его накопление власти и статуса пассивно; он не сочувствует насилию и расизму, но и не пытается выступить против них. Его бывшая любовница, а ныне — жена, также виновна в преступлении Андрея — безмысленном конформизме.
Только остроумный и эксцентричный еврейский интеллектуал, друг Андрея Изя Кацман, сумел пережить все превратности городского политического климата, искусно манипулируя своим образом «придворного шута». Его неряшливая одежда, сверхвзбудораженное поведение и стереотипные «неприятно еврейские» манеры обеспечивают безопасный, шутливый фасад для его огромной эрудиции и интеллектуального любопытства.
В части 5 романа «Град обреченный» Андрей покидает пост функционера фашистского режима для того, чтобы присоединиться, совместно с Изей к экспедиции к краю мира («Антигороду»).
В части 6 он проходит полный круг, в то время как замысел замыкается на себя, подобно ленте Мебиуса: и Андрей, и Изя умирают в конце путешествия, но вновь появляются в родном городе, Ленинграде — в последней сцене.
Таинственный «Наставник», появлявшийся перед Андреем в решающие моменты путешествия, готов приветствовать его, вернувшегося из преисподней.
«— Ну, вот, Андрей, — произнес с некоторой торжественностью голос Наставника. — Первый круг вами пройден.
Лампа под зеленым стеклянным абажуром была включена, и на столе в круге света лежала свежая „Ленинградская правда“ с большой передовой под названием: „Любовь ленинградцев к товарищу Сталину безгранична“. Гудел и бормотал приемник на этажерке за спиной. Мама на кухне побрякивала посудой и разговаривала с соседкой. Пахло жареной рыбой. Во дворе-колодце за окном вопили и галдели ребятишки, шла игра в прятки. Через раскрытую форточку тянуло влажным оттепельным воздухом. Еще минуту назад все это было совсем не таким, как сейчас, — гораздо более обыденным и привычным. Оно было без будущего. Вернее — отдельно от будущего…
Андрей бесцельно разгладил газету и сказал:
— Первый? А почему — первый?
— Потому что их еще много впереди, — произнес голос Наставника.
Тогда Андрей, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносился голос, поднялся и прислонился плечом к шкафу у окна. Черный колодец двора, слабо освещенный желтыми прямоугольниками окон, был под ним и над ним, а где-то далеко наверху, в совсем уже потемневшем небе горела Вега. Совершенно невозможно было покинуть все это снова, и совершенно — еще более! невозможно было остаться среди всего этого. Теперь. После всего.
— Изя! Изя! — пронзительно прокричал женский голос в колодце. — Изя, иди уже ужинать!.. Дети, вы не видели Изю?
И детские голоса внизу закричали:
— Иська! Кацман! Иди, тебя матка зовет!..
Андрей, весь напрягшись, сунулся лицом к самому стеклу, всматриваясь в темноту. Но он увидел только неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров.»[39]
По ходу романа Андрей был проведен своим Наставником через несколько кругов ада — только для того, чтобы вернуться, «после всего», к своему земному существованию. С другой стороны, финальная сцена, очевидно, предшествует действию романа, поскольку в ней Изя — еще ребенок, а ленинградцы все еще питают безграничную любовь к товарищу Сталину. Андрей умирает — возможно, в одном из сталинских лагерей, «между громоздящимися поленницами дров» — вскоре после этого, и в этот момент он прибывает на первую страницу романа — мусорщиком в «Граде обреченном».
Отсылка Наставника к дантовым концентрическим кругам ада придает новый оттенок значения отчетливой декорации ленинградского дома конца 1930-х годов. Сравнение городской русской архитектуры XIX века, с ее высокими, сплошными зданиями, окружающими центральный дворик, с вертикальной структурой дантова Ада, предполагает некоторые параллели.
Дантов Ад, воронкообразная яма, представляет углубляющиеся возможности зла в душе. Накладывая друг на друга топографию зла у Стругацких и Данте, получаем, что ординарная жизнь улицы в городе, управляемым Сталиным, становится равной дну ада, помимо того впечатления, что глубины колодца находятся, с точки зрения Андрея, даже ниже уровня земли. Яма ада — видение лагеря: «неразборчивые тени, шныряющие по мокрому черному дну колодца между громоздящимися поленницами дров».[40]
С другой стороны, звезда Вега — высоко над стенами домов соотносится с «яркой планетой», которая давала поэту Данте надежду, когда он впервые сбился с правильного пути в сумрачном лесу, который вел в ад. То, как Андрей попал на путь, ведущий в Ад, может быть сопоставлено с началом дантова путешествия сквозь преисподнюю:
«Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины. Не помню сам, как я вошел туда, Настолько сон меня опутал ложью, Когда я сбился с верного следа.» (Песнь 1, строки 1–3, 10–13)[41]В части 1, главе 3 романа «Град обреченный» Андрей просто выбрасывается из фантастического «Красного Здания» на городскую площадь. «Красное Здание» появляется в различных местах города по ночам; похоже, что оно существует по собственному желанию в разных местах и временах. Хотя ушиб головы, от которого страдает Андрей, недвусмысленно болезнен, обстоятельства при которых он получен, весьма двузначны. Андрею хотелось бы верить, что он не был внутри странствующего «Красного Здания»:
«Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь, гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп […] Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого Здания, […] а просто брел человек в темноте, зазевался да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно…»
(С.268)«Реалистическая» версия несчастного случая с Андреем частично предсказана источником — Данте. Мы узнаем из части 1 романа, что Андрей прибыл в «град обреченный», «земную жизнь пройдя до половины».
В части 2 он потерян в темноте, и из-за крайней усталости спотыкается о цементное препятствие — современный городской эквивалент древесного корня в лесу, равно как и искаженная отсылка к божественному фонтану рая. Материальные параллели двух повествований делаются значимыми из-за параллелей духовного плана. Хотя дантов Нижний Ад населен историческими или легендарными персонажами, страдающими от последствий своих различных намеренных искажений, они также — аллегорические фигуры, представляющие возможность зла в душе поэта и любого индивида. Это значительное, но не невозможное упрощение аллегории — сказать, что, пока каждый не осознает ад внутри, будет невозможным — для любого сообщества, или государства, или человечества в целом — достичь гармонии рая (в светской терминологии — социальной утопии).
Вергилий выбран в спутники Данте в его путешествии через Ад, потому что в нем сочетаются культурные и художественные достижения западной цивилизации. Его искусство, философия и этика не могут сами по себе отворить ворота Неба, но они могут разбудить и направить грешную душу на путь праведности и спасения. Эпическая поэма Данте является также политической иеремиадой, нацеленной на критическое социополитическое положение в Италии XIII века.
Во введении к «Божественной комедии» Дороти Сейерс (Dorothy Sayers) формулирует политические убеждения Данте как «протест против того, что ведет к теократии… [которую он рассматривал как] попытку утвердить Царство Божие здесь и сейчас как духовно-политическую структуру» (с.46). Великий двойной шаблон, развертывающийся в эпической поэме Данте, утверждает взгляд на историю как на процесс искупления внутри времени и на спасение как на процесс искупления вне времени. Данте бранит неотъемлемую гуманистическую попытку локализовать Царство Божие не в вечности, а во времени. И, как один из персонажей романа Стругацких проницательно замечает, «идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства».
Давайте предположим, что в романе «Град обреченный» Стругацкие решили снова провести героя через круги дантова ада, чтобы найти объяснение неудачи человечества ХХ века в изгнании из своей души — и из реальности своих временных «Королевств» корней фашизма, сталинизма и расизма. Дальнейшие значащие параллели между двумя текстами выдвигают на первый план иронические расхождения между космологией по Данте и по Стругацким.
В то время как Андрей приходит в себя на барьере цементного фонтана, появляется его первый «проводник» — в облике ученого старика, чья речь подтверждает интертекстуальную связь романа с «Божественной комедией» Данте.
«— Ну хорошо, — сказал человечек ясным старческим голосом. — А что будет дальше?
— Не знаю, — сказал Андрей, подумав. — Может быть, еще какая-нибудь гадость появится. Эксперимент есть Эксперимент. Это — надолго.
— Это — навечно, — заметил старик. — В согласии с любой религией это навечно.
— Религия здесь ни при чем, — возразил Андрей.
— Вы и сейчас так думаете? — удивился старик.
— Конечно. И всегда так думал.
— Хорошо, не будем пока об этом. Эксперимент есть Эксперимент […] Но я-то о другом. Зачем даже здесь нам оставлена свобода воли? Казалось бы, в царстве абсолютного зла, в царстве, на вратах которого начертано: „Оставь надежду…“
Андрей подождал продолжения, не дождался и сказал:
— Вы все это себе как-то странно представляете. Это не есть царство абсолютного зла. Это скорее хаос, который мы призваны упорядочить. А как мы сможем его упорядочить, если не будем обладать свободой воли?
— Интересная мысль, — произнес старик задумчиво. — Мне это никогда не приходило в голову. Значит, вы полагаете, что нам дан еще один шанс? Что-то вроде штрафного батальона — смыть кровью свои прегрешения на переднем крае извечной борьбы добра со злом…
— Да при чем здесь — „со злом“? — сказал Андрей, понемногу раздражаясь. — Зло — это нечто целенаправленное…
— Вы — манихеец! — прервал его старик.
— Я — комсомолец! — возразил Андрей, раздражаясь еще больше и чувствуя необыкновенный прилив веры и убежденности. — Зло — это всегда явление классовое. Не бывает зла вообще. А здесь все перепутано, потому что Эксперимент. Нам дан хаос. И либо мы не справимся, вернемся к тому, что было там — к классовому расслоению и прочей дряни, — либо мы оседлаем хаос и претворим его в новые, прекрасные формы человеческих отношений, именуемые коммунизмом…
Некоторое время старик ошарашенно молчал.
— Надо же, — произнес он наконец с огромным удивлением. — Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить… Коммунистическая пропаганда — здесь! Это даже не схизма, это… — Он помолчал. — Впрочем, ведь идеи коммунизма сродни идеям раннего христианства…»
(С.269–270)Юмор ситуации проистекает из противоречия между представлением Андрея о том, где он и кто он, и представлениями старика, который «в курсе дела». Андрей наивно верит, что он — советский комсомолец, пребывающий среди живых (в «реальном» мире), в то время как старик знает, что они оба — тени в загробном мире.
Впрочем, загробный мир у Стругацких не является полностью воображаемым или фантастическим. Напротив, он соприкасается с миром Андрея и обладает ощутимой эмпирической реальностью — он, в конце концов, физически сохранился во многих произведениях искусства. Например, старик не испытывает затруднений, определяя местонахождение фантасмагорического «Красного Здания» во времени, тем самым «рационализируя» его существование в загробном мире:
«— Его трудно не узнать, — тихо сказал старик. — Раньше, в той жизни, я не раз видел его изображения и описания. Он подробно описан в откровениях святого Антония. Правда, этот текст не канонизирован, но сейчас… Нам, католикам… Словом, я читал это. „И еще являлся мне дом, живой и движущийся, и совершал непристойные движения, а внутри через окна я видел в нем людей, которые ходили по комнатам его, спали и принимали пищу…“ Я не ручаюсь за точность цитирования, но это очень близко к тексту… И, разумеется, Иероним Босх… Я бы назвал его святым Иеронимом Босхом, я многим обязан ему, он подготовил меня к этому… — Он широко повел рукой вокруг себя. — Его замечательные картины… Господь, несомненно, допустил его сюда. Как и Данте… Между прочим, существует рукопись, которую приписывают Данте, в ней тоже упоминается этот дом. Как это там… — Старик закрыл глаза и поднял растопыренную пятерню ко лбу. — Э-э-э… „И спутник мой, простерши руку, сухую и костлявую…“ М-м-м… Нет… „Кровавых тел нагих сплетенье в покоях сумрачных…“ М-м-м…
[…]
— Я ни к чему не клоню, — сказал он. — Вы ведь спросили меня про Дом, и я… Я, конечно, должен благодарить Бога за то, что Он в предвечной мудрости и бесконечной доброте своей еще в прежнем существовании моем просветил меня и дал мне подготовиться. Я очень и очень многое узнаю здесь, и у меня сжимается сердце, когда я думаю о других, кто прибыл сюда и не понимает, не в силах понять, где они оказались. Мучительное непонимание сущего и вдобавок мучительные воспоминания о грехах своих. Возможно, это тоже великая мудрость Творца: вечное сознание грехов своих без осознания возмездия за них… Вот, например, вы, молодой человек, — за что Он низвергнул вас в эту пучину?
— Не понимаю, о чем вы говорите, — пробормотал Андрей. „Религиозных фанатиков нам здесь еще только и не хватало“, — подумал он.»
(С.271–272)Так, не только «Красное Здание», но и целый город, и даже его географическое положение обладает существенными предшественниками среди художественных и культурных изображений западной цивилизации. Образец интертекстуальных аллюзий уже очевиден: прообразом декораций являются художественные описания Апокалипсиса и преисподней.
Во взаимодействии между «фантастическими» декорациями Стругацких и их «реальными» художественными предшественниками расхождение между двумя планами реальности фактически нейтрализуется. И представления Андрея, и представления старика одновременно подвергаются корректировке: они живут в Советском Союзе второй половины ХХ века, и они живут в аду.
Если определять источник юмора в тексте Стругацких, то обнаруживается, что он является неизбежным спутником процесса «нейтрализации»: осознание, что реальное и фантастическое — мир современника-читателя и «ад» мировой литературы — суть одно и то же, вызывает иронический смешок.
По ходу развития приведенной выше сцены к Андрею и старику присоединяется остроумный и ученый еврей Изя Кацман.
«Андрей сказал, стараясь, чтобы получилось по возможности небрежно:
— Вот этот пожилой господин полагает, что все мы находимся в аду.
— Пожилой господин абсолютно прав, — немедленно возразил Изя и захихикал. — Во всяком случае, если это и не ад, то нечто совершенно неотличимое по своим проявлениям.»
(С.274)Важно осознать, что аллегорическое представление Стругацкими Советского Союза как чего-то «совершенно неотличимого по своим проявлениям» от ада, не ограничивается периодом сталинизма. В воспоминании Андрея о прошлом — о периоде сталинизма — и о нижнем уровне дантова ада — Изя еще ребенок.
Большая часть вымышленного загробного мира, описанного в романе, современна написанию романа, то есть соответствует Советскому Союзу начала 1970-х годов. Нижеприведенный допрос подтверждает это — как стандартной формой вопросов, так и содержанием ответов Изи.
«— Имя? Фамилия? Отчество?
— Кацман Иосиф Михайлович.
— Год рождения?
— Тридцать шестой.
— Национальность?[42]
— Да, — сказал Кацман и хихикнул.
[…]
— Национальность!
— Еврей, — сказал Изя с отвращением.
— Гражданство?
— Эс-эс-эс-эр.
— Вероисповедание?
— Без.
— Партийная принадлежность?
— Без.
[…]
— Земной год отбытия?
— Тысяча девятьсот шестьдесят восьмой.
— Место отбытия?
— Ленинград.
— Причина отбытия?
— Любопытство.
[…]»
(с. 287)Вышеприведенный допрос ведет Андрей, который, будучи в части 2 недавно произведенным в чин молодым следователем, хочет предъявить обвинение своему лучшему другу — во имя произвольных законов, которых он не понимает (и не старается). Несмотря на юмористические обертоны допроса, он помещает Андрея — и целое общество (в контексте Данте) в самый нижний круг ада: для тех, кто совершил грех предательства.
По ходу действия — в частях 3, 4 и 5 романа — Андрей достигает первого круга (часть 6). В то время, как у дантова ада вертикальная структура, ад по Стругацким обладает горизонтальным измерением.
Духовное путешествие Андрея грубо соотносится с его движением от недр города (и работы мусорщиком) к окраинам и, наконец, к не отмеченным на карте территориям, простирающимся между Городом и Антигородом. Андрею поручена забота об исследовательской экспедиции к Антигороду. В экспедицию входят военные, гражданские лица, и Андрей берет Изю — как историка. По мере движения Андрея от Города увеличивается его способность замечать и узнавать приметы ада. Один из наиболее разительных моментов в росте его осведомленности происходит, когда войска готовы взбунтоваться.
Декорации пропитаны босховскими мотивами, что заслуживает отдельного отступления от темы.
Иероним Босх
Вне зависимости от интерпретации странных образов Босха как навеянных средневековыми ересями, эзотерическими сектами и алхимией, или, напротив, как иллюстраций к современным (то есть 15 века) религиозным проповедям и дидактической литературе (мнения специалистов по Босху разделяются), бесспорно, что центральная часть триптиха «Искушение св. Антония» апокалиптическая.
Поскольку старик признается Андрею, что искусство Иеронима Босха «подготовило его к жизни в этом городе», можно предположить, что авторы полагали духовный и физический пейзаж «Града обреченного» перекликающимся — пятью столетиями позже — с видением мира, отраженным средневековым голландским художником. Это видение — весьма пессимистичный взгляд на мир, в котором человек слабо борется со своими злыми наклонностями, скорее опускаясь на уровень чудовищ, нежели поднимаясь к ангелам. Это мир полного дуализма между искушениями плоти и дьявола и целомудренными страданиями немногих святых. Это изображение в миниатюре того, откуда (и в противоречии с чем) появился философский гуманизм.
Сцены босховского зла в романе «Град обреченный» найти нетрудно: это разврат, пьянство, сексуальная распущенность («Семь смертных грехов» Босха), равно как и хаотический бунт и горящие деревни («Последний суд» Босха). Конечно, это почти универсальные образы греха и постоянного апокалипсиса. Тем не менее, явные ссылки старика на Босха позволяют провести более широкое тематическое сравнение между миром средневекового художника и современным адом Стругацких. В прозе Стругацких есть отрывки, которые оправдывают стилистическое сравнение с босховскими получеловеческими, полуживотными, полумифическими чудовищами, похожими на «героев» Сальвадора Дали.
В одной сцене части 5 романа «Град обреченный» группа солдат под предводительством особенно жестокого солдата по имени Хнойпек грубо насилует молодую полоумную девочку, прозванную Мымрой, поскольку она никогда не произносила ничего, кроме этого слога. Когда Андрей формулировал суть инцидента, странные имена персонажей превратились в абстрактное существительное — удачный неологизм, представляющий суть «получеловеческих, полуживотных» орд.
Другой неологизм происходит от слова «пупок», и похоже, что он также особенно соответствует часто встречающемуся у Босха мотиву раздутых животов — прожорливых животов, беременных (грешно) животов, тараканоподобных животов.
«И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. […] Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его, в то время как дьявол, наоборот, […] норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. […] Но, с другой стороны, […] чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую аморфную хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить — желательно, в одну колонну, — нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить. Или, говоря проще, упупить.»
(С.451)Гротескные неологизмы Стругацких, подобно визуальным образам Босха, являются частью философского размышления о значении хаоса и о роли дьявола в истории.
Апокалиптический всадник
Насколько мне известно, это единственный в мире монумент человека на броневике. В этом аспекте — это символ нового общества. Старое общество представляли люди на конях.
Иосиф Бродский. Путеводитель по переименованному городуПрисутствие Мстящего Всадника в российской апокалиптической литературы огромно — с момента появления «Медного всадника» Пушкина, наполнившего основание Петром Первым Петербурга мистической значимостью.
Давид Бети (David Bethea) в своем исследовании «Форма Апокалипсиса в современной российской литературе» («The Shape of the Apocalypse in Modern Russian Literature») уделил значительное внимание стойкому, но изменчивому образу Коня (Всадника). Как можно было ожидать, апокалиптический Всадник появляется и в романе «Град обреченный».
«Бумм, бумм, бумм, — раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел: на ближнем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой — только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая — то ли грозя, то ли указуя в небеса — поднята, и выставлен указательный палец…»
(С.442)В этом поразительном образе наиболее зловещие черты Медного Всадника (Петра Великого) замещены чертами Ленина, который стоит в своей иконографической позе (как на Финляндском вокзале). Подобно пушкинскому Медному Всаднику, статуя, на которую смотрит Андрей, имеет вымышленные, ненормальные пропорции и повергает обычного человека в ужас своими громоподобными шагами. Подобно статуе Ленина на Финляндском вокзале он «изображен в обычной квазиромантической позе, предположительно адресующимся к массам, с рукой, протыкающей воздух…».[43] Более того, статуя, которую видит Андрей, даже стоит на перекрестке: символически — на перекрестке истории.
Хотя, в отличие от своих предшественников, статуя у Стругацких, находится не в Петербурге или Ленинграде, а в одном из кругов Ада. Бронзовая скульптура Петра cum Ленина, просто указывает в пространство — в аду это жест банкрота. Круг ада, в котором Стругацкие помещают великих реформаторов России (Петра Первого, Ленина) — это круг седьмой (город Дис).
В поэме Данте, когда поэты приходят в город Дис, они обнаруживают себя на огромной равнине, покрытой горящими могилами еретиков:
«Затем, что здесь меж ям ползли огни, Так их каля, как в пламени горнила Железо не калилось искони. Была раскрыта каждая могила, И горестный свидетельствовал стон, Каких она отверженцев таила.» (Песня 9, строки 118–123)Когда Андрей и Изя приходят в город, населенный металлическими статуями, они выходят на огромную площадь, усыпанную пьедесталами ушедших статуй. Души, выбравшиеся из пылающих могил в дантовом Дисе, подобным образом уходили от своих памятников (могильных камней) в выжженный город, посещенный Андреем и Изей:
«Они [Андрей и Изя] шли и шли, постепенно дурея от жары… […]
Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни были понатыканы на ней постаменты — […] каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора […] И все эти постаменты были пусты.»
(С.445)Андрей в конечном счете встречается со всеми статуями — предположительно, душами еретиков — которые знают о своем отрицании Бога, но намеренно совершают грехи, представленные в нижних кругах ада: Насилие (или Скотство) и Обман (или Злоба). Он — в окружении статуй — пытается произнести речь, определяя духовную границу между намеренным злом и меньшими грехами Невоздержанности (круги 3, 4, 5, 6) и пассивного (непроизвольного) Неверия (круг 2).
Иными словами, образы у Стругацких: незавершенные постаменты на пылающей равнине и предмет речи Андрея перед статуями соотносятся с физическими и духовными декорациями дантова города Дис — на границе между верхними и нижними кругами ада. Псевдонаучный словарь Андрея, наложенный на разговорную речь и мировоззрение его прежнего советского воплощения, вопиюще неадекватен задаче:
«…Неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах… Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как Хнойпеков, так и Мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот, вот когда понадобилась и пригодилась категория величия!»
(С.449)Как только Андрей осознал, что «категория величия» применяется скорее к индивидуальной морали, нежели к тем, кто хочет покорять и устанавливать законы во имя некой абстрактной морали, он готов покинуть Город Еретиков и отправиться, в сопровождении своего просвещенного друга Изи, в Круг Первый.
К концу романа оба — Андрей и Изя — заработали место среди Некрещеных и Добродетельных Язычников (в Первом круге, или Лимбо): Изя еврей, единственный «грех» которого заключается в том, что он не крещен, а Андрей — потому, что его единственный оставшийся «грех» — воспитание вне Церкви (в атеистическом Советском Союзе).
К концу романа Андрей достигает понимания важности памяти и культуры. Он присоединился к дантовским Добродетельным Язычникам — как активный сознательный участник строительства, сохранения и оценки «Храма Культуры», как Изя назвал здание, построенное из высших человеческих достижений в области философии, морали, поэзии, науки, искусства и воображения. Вне Храма Культуры нет надежды ни на индивидуальное, ни на коллективное спасение.
Метафизический ландшафт
Роман Стругацких «Хромая судьба» может быть прочитан как продолжение диалога с визионерской, апокалиптической литературой российского Серебряного Века, в частности, с «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Писатели, формулировавшие свои апокалиптические предчувствия в ответ на революцию 1917 года, не дожили до того, чтобы увидеть, как большая часть этих предчувствий сбывается в ходе сталинского террора и Холокоста. В этом смысле поколение Стругацких — постапокалиптическое, рожденное после революции, обещавшей миллениум (в форме «сияющего коммунистического будущего») и повернувшей ход истории обратно, в противоположном направлении.
Таким образом, ссылаясь на литературные формы и эсхатологические взгляды предшественников, Стругацкие следуют за ними, сотворив форму и «эсхатологию», уникальные для опыта советских интеллектуалов сталинского и послесталинского времени.
Чтобы понять, как мифы о конце Истории изменились в российском воображении за советский период, необходимо посмотреть, как изменялся и модифицировался образ апокалиптического города.
Приблизительно в то же время — в начале 1970-х годов, — когда Стругацкие работали над романом «Град обреченный», они также писали другой роман под названием «Хромая судьба». Рассказчик и главный герой этого романа советский писатель, чей апокалиптический шедевр, «Гадкие лебеди» (иногда называемый «Время дождя») был исходно вставлен в обрамляющее повествование как роман-внутри-романа.
Для пущей ясности я буду ссылаться на обрамляющее повествование только как на «Хромую судьбу», а на вставной роман — как на «Гадких лебедей».
Феликс Александрович Сорокин, повествователь и главный герой романа «Хромая судьба», — внешне преуспевающий московский писатель, в чьем ранее крепком сложении начинают появляться признаки болезней пожилого возраста. Его физическое предчувствие конца — сколь бы ипохондрическим оно не было — отражается и во внешнем виде города, в котором он живет, и во внешнем виде города, о котором он пишет. В этом смысле Стругацкие дополняют репертуар описаний российской литературой «города-преддверия», места финальной битвы между Спасителем и Антихристом на Земле.[44]
Для Пушкина, Достоевского, Белого, Блока и Бродского имперская столица Петербург воплощает дуальность, чье последнее противостояние означает Апокалипсис. Для Булгакова и Пастернака апокалиптический город — «падший» Третий Рим (Москва).
В «Форме Апокалипсиса в современной российской литературе» Давид Бети замечает, что «город-преддверие» — место, где «современный провидец, колеблющийся между двумя различными временами, улавливает отблеск иномирного порядка среди мирового хаоса и революций» (С.45). «Современный пророк» — по сути, «герой на пороге», тот, чья идиотия (Достоевский, «Идиот»), андрогинность (Николай у Белого), лунатизм (Мастер у Булгакова), вдохновение (лирический герой у Блока, Живаго у Пастернака) или внутренняя ссылка (Бродский) предоставляют ему видение «ничьей земли» между профанной и священной сущностью города.
И вдохновение, и — иронически — цензура позволяют герою повести Стругацких «Хромая судьба» колебаться между несколькими «временами» одновременно. Концепция «времени» должна быть расширена в данном случае до понятия, родственного бахтинскому термину «хронотоп», то есть пространственно-временной зоне с неотъемлемым набором этических предположений. Главный герой — Сорокин — находится на пороге: он действует как внутри литературного истеблишмента «мейнстрима», так и в оппозиции к нему. Город, в котором он живет, — апокалиптический, падший город, и города, о которых он пишет, — «города-преддверья», где все еще длится вековая борьба между различными полюсами.
И реалистический, и фантастический планы романа принадлежат к апокалиптическому жанру, так что граница между ними полностью проницаема. Описания Сорокиным современного московского быта наполнены фантастическими персонажами и событиями из другой, символической реальности. И выдуманный пейзаж, воплощаемый Сорокиным в романе, который он пишет, также является символическим географическим олицетворением метафизической проблемы.
Пятидесятишестилетний московский писатель — главный герой романа «Хромая судьба» — рассказывает нам, что в свое время он работал переводчиком с японского языка. Таким образом, приблизительный возраст и профессия рассказчика совпадают с таковыми одного из авторов — Аркадия Натановича Стругацкого. Как поведение рассказчика, используемый им разговорный стиль, так и автобиографические данные, приписанные ему, противоречат читательским ожиданиям фантастического замысла.
Сорокин упоминает, что он — член Союза Писателей и часто посещает Клуб с ограниченным доступом, в котором привилегией есть и пить (обычно слишком много) обладают только члены этого Союза. Он искренне признает, что платит за эту и другие привилегии сочинением произведений, приемлемых для преобладающей интерпретации того, что включает официальный жанр социалистического реализма. Частным же, неофициальным образом он работает над другим романом, включающим в себя элементы сказочной и научной фантастики, а также апокалиптические мотивы. Он хранит рукопись в синей папке в ящике стола, поскольку не имеет надежды на ее публикацию в Советском Союзе.
В продолжающемся диалоге с Булгаковым Стругацкие объявляют Сорокина современным Мастером, стремящимся закончить литературный и философский шедевр, будучи в курсе, что «при моей жизни он никогда не будет опубликован, поскольку на горизонте нет ни единого издателя, которого можно было бы убедить, что мои видения имеют ценность хотя бы для дюжины людей в мире, не считая меня».[45]
Таким образом, полуавтобиографические реминисценции, отрывки из набросков других романов Стругацких, натуралистические описания блюд, подаваемых в Клубе, разговорный стиль формируют в повести «Хромая судьба» реалистический фон для сумасбродного и неполного научно-фантастического замысла.
Рассказчик оказывается вовлеченным помимо своей воли в тайный сговор пятерых бессмертных, ревностно охраняющих источник эликсира жизни, дающий лишь ограниченное его количество. Поскольку шестой человек рассказчик — не желая того, узнал об эликсире, его жизнь оказывается в опасности. По городу за ним следует зловещий персонаж в клетчатом пальто, который видится еще более угрожающим, если вспомнить о его интертекстуальной связи с Коровьевым-Фаготом из «Мастера и Маргариты». (В этом романе «клетчатый гражданин» материализуется перед Берлиозом — это первый сигнал неминуемой судьбы редактора, которой «клетчатый гражданин» является, по сути, единственным свидетелем).
Далее, Сорокина в кафе искушает падший ангел, предлагая ему партитуру Труб Страшного Суда; наконец, он получает угрожающее послание от инопланетян. Ни один из этих научно-фантастических мотивов не получает дальнейшего развития. Банда бессмертных и их эликсир исчезают, инопланетяне не материализуются, чтобы потребовать исполнения их требований.[46]
Между тем второй научно-фантастический «подзамысел» мотивирует действия героя и его духовное развитие менее прямым, но значащим способом. В этом сюжете Союз Писателей попросили, чтобы все его члены предоставили образцы своих рукописей Институту лингвистических исследований, который расположен на Банной улице. У лингвистов есть в распоряжении новый суперкомпьютер, способный произвести объективную оценку любого литературного произведения. Машина запрограммирована определять в количественных терминах художественную ценность данной работы. Будучи отвлеченным схваткой с мафией бессмертных и подсознательно беспокоясь относительно подчинения искусства научному анализу, главный герой постоянно «забывает» принести образчик своей рукописи в Институт. Когда этот сюжет формулируется в начале повести, он представляется как научная фантастика с элементами сатиры:
«Конечно, ничего нет хорошего лежать бревном на пути научно-технического прогресса, а с другой стороны — ну, люди ведь мы, человеки: то я оказываюсь на Банной и вспоминаю же, что надо бы зайти, но нет у меня с собой рукописи; то уже и рукопись, бывало, под мышкой, и направляюсь я именно на Банную, а оказываюсь странным образом каким-то не на Банной, а, наоборот, в клубе. Я объясняю все эти загадочные девиации тем, что невозможно относиться к этой затее, как и ко множеству иных затей нашего секретариата, с необходимой серьезностью. Ну, какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке языковая энтропия? А главное, причем здесь я?»
(С.9)Серьезный ответ на полушутливый вопрос повествователя закодирован в различной окружающей обстановке, описанной в разных слоях повести. Приведенный ниже анализ показывает, как городская декорация становится одним из главных героев повести, будучи посредником между фантастическим и реалистическим слоями сюжета. Эта способность к посредничеству между современным бытом и апокалиптическим мотивом придает окружающей обстановке значительную тематическую важность. Окружающая обстановка в вымышленном мире Стругацких одновременно до тошноты знакома — и странно апокалиптична:
«Я сидел у окна […] с отвращением прихлебывал теплый „бжни“ […] За окном мело, машины боязливо ползли по шоссе, на обочинах громоздились сугробы, и смутно чернели за пеленой несущегося снега скопления голых деревьев и щетинистые пятна и полосы кустарника на пустыре.
Москву заметало.
Москву заметало, как богом забытый полустанок где-нибудь под Актюбинском.»
(С.3)В начальных абзацах повести «Хромая судьба» (приведенных выше) реалистические детали приводятся буквально ad nauseum — главный герой (страдающий от язвы, как мы выясняем позже) глотает «с отвращением» полезную для здоровья минеральную воду[47] и наблюдает за тем, как движение транспорта в Москве почти останавливается из-за сильного снегопада. Для среднего российского читателя все — от вкуса минеральной воды «бжни» до случайных растений на московских пустырях — столь знакомо, что сцена может оказаться фотографически похожей на обычную повседневность. Впрочем, с равным успехом можно предположить, что обрамление взято из фильма о жизни после катастрофы.
Пейзаж реален и специфичен, но он также пропитан присутствием другой, символической вневременной реальности, которая скрывается за ним. Деревья голые и черные. Не видно людей, и даже их машины боязливо ползут сквозь первозданную ярость Природы. Первая глава носит подзаголовок «Пурга», что означает сильный шторм или буран, и структурно и семантически противопоставляется последней главе, озаглавленной «Exodus». Эсхатологические обертоны последнего термина усиливают апокалиптическое настроение первого. Окно выходит на пустырь. Подбор образов и словесного их воплощения производит впечатление темноты и оставленности. «Фигура речи» в следующем абзаце превращается в буквальность: «богом забытое место».
Апокалиптическое настроение, на которое намекается в описании окружающего рассказчика городского пейзажа, усиливается описанием местного кафе, в котором главный герой завтракает. Вид кафе, в котором завтракает герой, не связан развитием сюжета, для которого требуется только, чтобы за столиком было одно свободное место, что позволило бы новому персонажу сесть и завязать разговор. Тем не менее кафе описано в разительных подробностях. Название кафе, «Жемчужница», вызывает ассоциации с морским побережьем, романтической экзотикой, или, по крайней мере, с чем-то ярким и нежным, спрятанным в своей раковине. Вместо этого внешний вид кафе напоминает артиллерийский дот:
«…напоминает оно белофинский дот „Миллионный“, разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы: глыбы скучного серого бетона, торчащие вкривь и вкось, перемежаются клубками ржавой железной арматуры, долженствующими, по замыслу архитектора, изображать морские водоросли, на уровне же тротуара тянутся узкие амбразуры-окна.»
(С. 188)Здесь архитектура мира рассказчика становится инкарнацией эпистемологических предположений этого мира. Если архитектура, подобно языку, то «бытие», что определяет сознание, тогда авторы хотели показать нам, что мы живем в мире апокалиптической отвратительности, грубой имитации природы, не измененной никакими свидетельствами притязаний человечества на духовное развитие. Поведение официанта в кафе полностью соответствует этому: в нем «развязность странно сочеталась с сонной угрюмостью» (С.188).
Таким образом, кафе «Жемчужница», одновременно забавное и внушающее любовь своей привычностью — поскольку большинство московских кафе укомплектованы угрюмыми официантами и в их меню те же самые два блюда — «бефстроганов и мясо в горшочке», обеспечивает символический контекст для событий, которые в нем происходят с рассказчиком.
Когда Сорокин завтракает в кафе «Жемчужница», к его столику подсаживается довольно растрепанный горбун с волнистыми золотистыми волосами, представляющийся «падшим ангелом» и обладающий партитурой Труб Страшного Суда. С этого момента появляется напряжение между двумя возможными способами интерпретации присутствия «ангела». Горбун может оказаться психически неуравновешенным молодым человеком, рассказывающим о своих галлюцинациях посетителям московского кафе. С другой стороны, город пропитан апокалиптической образностью, так что более вероятно, что золотокудрый горбун действительно является «падшим ангелом».
«Падший ангел» — не более и не менее часть реальности, нежели любой другой персонаж повести, почти все из которых свободно пересекают границу — от одного литературного существования к другому.
Сорокин — повествователь в вымышленном мире, в котором он читает и пишет произведения, существующие в эмпирическом мире. В его блокнотах есть текст романа «Гадкие лебеди» и наброски к роману «Град обреченный», равно как и его собственные материалы, например, рассказ японского писателя Акутагавы. Фантастическое произведение Акутагавы описывает машину, измеряющую писательский талант. В повести «Хромая судьба» литературное изобретение Акутагавы становится такой же частью «реального» мира Сорокина, как яйца вкрутую и фруктовый кефир, которыми он завтракает:
«„Мензуру зоили“ Акутагавы, написанную еще в шестнадцатом году и изданную у нас на русском языке в середине тридцатых! Ничего нельзя придумать. Все, что ты придумываешь, либо было придумано до тебя, либо происходит на самом деле.»
(С.73)[48]Взъерошенный молодой горбун, продавший Сорокину партитуру Труб Страшного Суда, может быть, тоже происходит из другой истории, которую относительно трудно перевести, как он сам спокойно замечает:
«Дело его ко мне состояло в том, что всего за пять рублей он предлагал в полную и безраздельную собственность партитуру Труб Страшного Суда. Он лично перевел оригинал на современную нотную грамоту. Откуда она у него? Это длинная история, которую, к тому же, очень трудно изложить в общепонятных терминах.»
(С.191)Несмотря на свое библейское происхождение, падший ангел подчиняется тем же самым законам реальности — и обыденности, — что и рассказчик, остальные посетители кафе и остальные москвичи:
«Он оказался здесь, внизу, без всяких средств к существованию, буквально только с тем, что было у него в карманах. Работу найти практически невозможно, потому что документов, естественно, никаких нет.»
(С.191)Подчинение иномирного существа маленьким неприятностям и неудобствам, испытываемым смертными, является приемом «карнавального» юмора. Более того, этот конкретный ангел пахнет так, как если бы он провел ночь в птичнике: «обдавая [Сорокина] сложными запахами птичьего двора и пивной бочки» (С.191). Хотя этот юмор двусмыслен. С одной стороны, травестия выявляет комическое несоответствие божества — пусть даже падшего — вынужденного мириться с лишениями, подобно смертным; с другой же стороны, здесь присутствует и пугающий подтекст — что даже боги ничего не значат для обычной бюрократии ХХ века. Травестия продолжается и позже, когда сосед Сорокина, профессиональный музыкант, возвращает ему партитуру труб Страшного Суда с выражением трагической безнадежности на лице, словно он уже услышал трубы неминуемого конца света:
«Был огромный с синими прожилками светло-голубой нос над толстыми усами с пробором, были бледные дрожащие губы, и были черные тоскливые глаза, наполненные слезами и отчаянием. Проклятые ноты, свернутые в трубку, он судорожно сжимал в волосатых кулаках, прижатых к груди. Он молчал, а у меня так перехватило дух от ужасного предчувствия […]
— Слушай… — просипел он, отрывая руки от лица и запуская пальцы в густую шерсть над ушами. — Опять „Спартак“ пропер! Ну, что ты будешь делать, а?»
(С.219)На уровне современного быта Стругацкие последовательно обесценивают апокалиптический мотив. Как в романе «Мастер и Маргарита», впрочем, изображение знакомого зла не приводит к «комическому облегчению». Напротив, участники апокалиптического сценария теряют свое великое космическое значение и становятся пугающе банальными и… добрососедскими.
Для повествователя в романе «Хромая судьба» последствия заявления Ницше, что «Бог мертв», сделанного в конце XIX века, наложились на почти столетие подавления идеологической системой, введенной для заполнения пустоты, вызванной отсутствием Бога. Современный Мастер у Стругацких является частью поколения, в котором потенциал зла, описанный еще Булгаковым как водевильная возня Воланда и его свиты в Москве 1930-х годов, действительно реализовался: цензура, использование психиатрии в политических целях, массовое внушение идей и победа научного атеизма — вот те вещи, которые Сорокин воспринимает как реальность. Следовательно, он прозаично размышляет о деградации искусства в центрально планируемой официальной культуре Советского Союза:
«Ну, напишу я этот сценарий, ну, примут его, и влезет в мою жизнь молодой, энергичный и непременно глупый режиссер и станет поучительно и в тоже время с наглостью поучать меня, что кино имеет свой язык, что в кино главное — образы, а не слова, и непременно станет он щеголять доморощенными афоризмами вроде: „Ни кадра на родной земле“ или „Сойдет за мировоззрение“… Какое мне дело до него, до его мелких карьерных хлопот, когда мне наперед известно, что фильм получится дерьмовый и что на студийном просмотре я буду мучительно бороться с желанием встать и объявить: снимите мое имя с титров…»
(С.122)Относительно природы цензуры и читающей публики он еще более пессимистичен:
«Да, после смерти автора у нас зачастую публикуют довольно странные его произведения, словно смерть очищает их от зыбких двусмысленностей, ненужных аллюзий и коварных подтекстов. Будто неуправляемые ассоциации умирают вместе с автором. Может быть, может быть. […]
Да что там Сорокин Ф.А.? Вот сейчас утро. Кто сейчас в десятимиллионной Москве, проснувшись, вспомнил о Толстом Эль Эн? Кроме разве школьников, не приготовивших урока по „Войне и миру“… Потрясатель душ. Владыка умов. Зеркало русской революции. Может, и побежал он из Ясной Поляны потому именно, что пришла ему к концу жизни вот эта такая простенькая и такая мертвящая мысль.
А ведь он был верующий человек, подумал я вдруг. Ему было легче, гораздо легче. Мы-то знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Привычная тоска овладела мною. Между двумя НИЧТО проскакивает слабенькая искра, вот и все наше существование. […] А в действительности, построил ты единую теорию поля или построил дачу из ворованного материала, — к делу это не относится, ибо есть лишь ничто до и ничто после, и жизнь твоя имеет смысл лишь до тех пор, пока ты не осознал это до конца…»
(С.124)Самопотворствующее хныканье Сорокина постепенно превращается в новую художественную чувствительность. Он нащупывает границу между двумя эрами — религиозной и пострелигиозной, — когда размышляет, что, хотя Лев Толстой и чувствовал бессмысленность всей жизни, он все еще оставался частью религиозной эры; материя веры все еще покрывала больше и была менее рваной.
Хотя в наброске к роману «Град обреченный» философский нигилизм Сорокина превращается его творческим воображением в пейзаж:
«… Я наблюдал, как на своем обычном месте, всегда на одном и том же месте, медленно разгорается малиновый диск. Сначала диск дрожит […], наливается оранжевым, желтым, белым светом […], так что смотреть на него становится невозможно. Начинается новый день […] Возникает вокруг как бы из ничего город — яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий — этажи громоздятся над этажами, здания громоздятся над зданиями, и ни одно здание не похоже на другое, они все здесь разные, все… И становится видна справа раскаленная желтая стена, уходящая в самое небо, в неимоверную, непроглядную высь, изборожденная трещинами, обросшая рыжими мочалами лишаев и кустарников… а слева, в просветах над крышами, возникает голубая пустота, как будто там море, но никакого моря там нет, там обрыв, неоглядно сине-зеленая пустота, сине-зеленое ничто, пропасть, уходящая в непроглядную глубину.
Бесконечная пустота слева и бесконечная твердь справа, понять эти две бесконечности не представляется никакой возможности. Можно только привыкнуть к ним. И они привыкают — люди, которыми я населил этот город на узком, всего в пять верст уступе между двумя бесконечностями.»[49]
Из этого описания пейзажа очевидно, что «Град обреченный» является инкарнацией другого (не Москвы) российского «города-преддверья» — бывшего Санкт-Петербурга, а ныне — Ленинграда. Географически он расположен на пороге между широкими просторами России, простирающимися к востоку, и туманными сине-зелеными водами Финского залива, видимого на западе.
Символическое расположение города в традиции российской литературы может быть кратко охарактеризовано следующим отрывком из «Введения» Мальмстада и Магайра к «Петербургу» Андрея Белого:
«Писатели 18 века были склонны видеть в Петербурге величественный памятник мощи человеческого разума и воли: это был распланированный город, основанный в 1703 году и построенный на непроторенном болоте.
Часть первая пушкинского „Медного всадника“ (1833) прославляет эту точку зрения; но часть вторая вносит новую ноту, которая стала доминировать практически во всех литературных произведениях о Петербурге вплоть до ХХ века: {за} „западным“ фасадом лежит туманный мир неосязаемости и нереальности, чуждый человеческому разуму и понятный только его „бессознательному“ существованию — „восточный“ мир, по российской терминологии. Это был Петербург, с его непростым сосуществованием „запада“ и „востока“, которое взывало к российскому сознанию как эмблема большей проблемы — проблемы национального осознания.»[50]
Мы уже заметили появление Медного Всадника в романе «Град обреченный». В наброске городского пейзажа у Сорокина формальная ссылка на «Петербург» А.Белого становится явной в образах а) солнца, встающего над городом (и освещающего иглу Адмиралтейства в начале Невского проспекта) и б) близости бездонной сине-зеленой пропасти рядом с городской многоэтажной и прямолинейной архитектурой.
Описание ранней утренней поездки Аполлона Аполлоновича через город на работу в первой главе романа А.Белого может также использоваться как базис для тематического сравнения с версией Стругацких; для этого приведем отрывок:
«Аполлон Аполлонович Аблеухов покачивался на атласных подушках сиденья; от уличной мрази его отграничили четыре перпендикулярные стенки; так он был отделен от людей и от мокнущих красных оберток журнальчиков, продаваемых вон с того перекрестка.
Планомерность и симметрия успокоили нервы сенатора, возбужденные и неровностью жизни домашней, и беспомощным кругом вращения нашего государственного колеса.
Гармонической простотой отличалися его вкусы.
Более всего он любил прямолинейный проспект: этот проспект напоминал ему о течении времени между двух жизненных точек.
Там дома сливалися кубами в планомерный, пятиэтажный ряд; этот ряд отличался от линии жизненной: здесь средина жизненных странствий носителей бриллиантовых знаков оказалась для скольких сановников окончанием жизненного пути.
Вдохновение овладевало душою сенатора, когда линию Невского разрезал лакированный куб: там виднелась домовая нумерация; и шла циркуляция; там, оттуда — в ясные дни, издалека-далека, сверкали слепительно: золотая игла, облака, луч багровый заката; там, оттуда — в туманные дни, — ничего, никого.
А там были — линии: Нева, острова. Верно, в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман, на теневых своих парусах полетел к Петербургу Летучий Голландец из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков.
Аполлон Аполлонович островов не любил: население там — фабричное, грубое; многотысячный рой людской там бредет по утрам к многотрубным заводам; жители островов причислены к народонаселенью Империи; всеобщая перепись введена и у них.
Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: острова — раздавить! Приковать их железом огромного моста, проткнуть проспектными стрелами…
Глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед пролетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя, чтобы…»
(Белый А. Петербург. — М.: Худож. лит., 1978. — С. 32–33.)«Петербург» А.Белого описывает столицу Российской империи в 1905 году, вскоре после унизительного поражения России в русско-японской войне, на пути к катастрофическим социальным и политическим изменениям, завершившимся революцией 1917 года. Все литературные мифы, связанные с городом Петра, проникаются острой апокалиптической значимостью в романе Белого.
Противоречивая преданность российской интеллигенции «западному» рационализму и «восточному» православию и мистицизму ведет к прямому и яростному противостоянию между теми, кто предпочел бы «западные» демократические принципы правления, и теми, кто настаивал бы на «восточном» принципе автократии, чтобы сдержать пугающую волну народной анархии. Более того, конфликт между «Западом» и «Востоком», спонтанностью и порядком, религией и рационализмом и т. д. различим на всех уровнях: он проходит между социально-экономическими классами, между поколениями, и между индивидуальным сознанием и подсознанием.
Аполлон Аполлонович стремится передать «западный» принцип рационализма «восточной» спонтанности масс, чтобы «сокрушить» их. Напротив, его сын, последователь Коэна и Канта, потворствует «восточной» части своего русско-татарского наследия, одеваясь в преувеличенно восточном стиле и, сочетая мистические занятия с нигилистическими предпосылками гностицизма, соглашается принять участие в революционно-террористическом заговоре.
В «Петербурге» Белого, накануне революции, бомба должна взорваться, положив конец старому порядку. Как заметил Бердяев, «Белый, конечно, не враг революционной идеи […] Зло революции для Белого происходит от зла старой России. По сути, он хотел показать художественными методами иллюзорный характер петербургского периода российской истории, нашего бюрократического и интеллектуального западничества, так же, как в „Серебряном голубе“ он показал темноту и невежество, происходящие от восточного элемента в жизни нашего народа».[51]
Хотя восприятие России писателями рубежа веков, балансировавшее на грани между апокалипсисом и миллениумом, стало вновь уместно к концу ХХ века, образность и термины Конца изменились.
Во-первых, как было замечено выше, решающий характер самого Апокалипсиса-откровения «износился» к 70-м годам после революции. Апокалиптические мотивы в прозе Стругацких вобраны в реалистическое описание современного быта, они «одомашнены» и «обыденны». Мистические и гностические мотивы также придают различное выражение «городу-преддверью» у Белого и у Стругацких.
В «Петербурге» Белого Аполлону Аполлоновичу является видение мистического символа Уробороса, змеи, окружающей мир и вцепившейся в собственный хвост. Сознание старшего Аблеухова временно покидает его тело и сливается с «астральным» планом реальности, где реализуется апокалиптический (для Белого) образ «сферической поверхности планеты […], охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами». Стиль Белого, который Бердяев сравнивает с «литературным кубизмом», органически связан с его собственными мистическими предположениями, выходящими за рамки данного анализа. Впрочем, то же самый гностический образ проецируется на фантастический ландшафт в романе Стругацких «Град обреченный». Сорокин вводит его, открывая источник своего вдохновения:
«…И была наклеена на титульный лист дрянная фоторепродукция: под нависшими ночными тучами замерший от ужаса город на холме, а вокруг города и вокруг холма обвился исполинский спящий змей с мокро отсвечивающей гладкой кожей»
(С.22)Фотография — репродукция картины Рериха, изображающей Уробороса, обвившегося вокруг «города-преддверья», мирового микрокосма.
В законченной версии романа Стругацких «Град обреченный» картина Сорокина трансформировалась в фантастический пейзаж конца мира. Двое Горожан-путешественников (Андрей и Изя) приближаются к Антигороду, и в конце своего духовного путешествия…
«Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была Желтая Стена — не ровная и гладкая, как в пределах Города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменное поле не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит — и тянулось это поле, насколько хватал глаз…»
(С.479)В соответствии с подтекстом романа, взятым из Данте, Андрей и Изя прошли через первый круг, и их восхождение по кругам ада закончено. Таким образом, они стоят на границе Верхнего мира, окруженного ровной, гладкой поверхностью изначального змея. Неровная поверхность справа, подобная «коре чудовищного дерева», напоминает о Древе Жизни, которое зачастую обивает змея, символизирующая вечность. Впрочем, Уроборос также символизирует знание.
Путь Андрея заканчивается здесь, но он подошел к новой ступени познания.
Путь Сорокина к высшему знанию проводит его как через традиции российской литературы — в частности, он пытается преодолеть наследие Белого и Булгакова, — так и через дневное перемалывание московской жизнью. Последнее, подобно первой, пропитана гностическими мотивами и апокалиптическим настроением.
Господство социалистического реализма в советской литературе продолжалось с начала 1930-х годов до первой «оттепели» начала 1960-х. Идеологические и эстетические тенета социалистического реализма препятствовали обращению к апокалиптической теме, — кроме всего прочего, современная реальность должна была походить на миллениум.
Таким образом, между шедевром Белого об апокалиптических предчувствиях, в котором русская революция приравнивалась к концу истории, и современной переформулировкой Стругацкими этой темы, лежит только несколько полузапрещенных произведений, которые могли бы служить литературными связями.
Одно из них — «Мастер и Маргарита» будет рассмотрено, как оказавшее очевидное влияние на Стругацких.
Другая нить между российской апокалиптической и «постапокалиптической» литературой творчество Андрея Платонова.
«Котлован» Платонова
Прямые ссылки на Платонова редки в произведениях Стругацких, хотя авторы в 1970-е были знакомы с его запрещенными работами.[52]
Впрочем, имплицитное признание платоновских апокалиптической образности и языка обеспечивает решающую отсутствующую связь между грандиозными видениями символистов и ироническим видением Стругацких. Наиболее прямая аллюзия на Платонова в творчестве Стругацких относится, что характерно, к роману «Котлован», мрачнейшему из его романов.
Книга 2, часть 4 романа Стругацких «Град обреченный» начинается сценой с рабочими, копающими котлован.
«В котловане копошились сотни людей, летела земля с лопат, вспыхивало солнце на отточенном железе. […] Ветер крутил красноватую пыль, […] раскачивал огромные фанерные щиты с выцветшими лозунгами: „Гейгер сказал: надо! Город ответил: сделаем!“, „Великая Стройка — удар по нелюдям!“, „Эксперимент — над экспериментаторами!“.»
(С.348)Лозунги, побуждающие рабочих, не оставляют сомнений: котлован — тот же самый, что у Платонова, в его романе, показан как общая могила для всего человечества, жестокое и иллюзорное основание для социализма.
Во введении к «Котловану» Иосиф Бродский писал:
«… первое, что надлежит сделать, закрыв книгу, — это отменить существующий миропорядок и объявить новую эру».[53]
Вот, в сущности, то, что сделали Стругацкие: они использовали условия научной фантастики и/или фэнтези для образного выпрыгивания из существующего миропорядка и основали экспериментальный новый порядок в романе «Град обреченный». Впрочем, ничего не изменилось. История пришла к завершению; но, по каким-то причинам никто не объявил результатов Эксперимента.
Кошмары, давшие рождение литературному стилю, — говоря шире, сюрреализму, — в 1920-е-1930-е годы больше не кошмары, но повседневная реальность. Сюрреализм замещен реализмом.
Если мы еще раз вернемся к московскому кафе «Жемчужница», мы обнаружим сюрреалистический намек, скрытый под реалистическими декорациями. Несовместимость проявляется в первую очередь на лексическом уровне:
«В нашем жилом массиве есть такое симпатичное заведение…»
(«Град обреченный», С.188)Хотя бюрократическо-архитектурный термин «жилой массив» уже настолько зафиксировался в языке — и пейзаже! — что рассказчик использует его явно без иронии, прилагательное «симпатичное» в такой близости является достаточным для подсознательного убеждения читателя в оттенке иронии, несовместимости и — ирреальности. Слова «жилой массив» вызывают в воображении некую геологическую структуру типа первобытного горного кряжа, жизнь в котором давно превратилась в окаменелости, или, наоборот, один из распространенных научно-фантастических образов жизненных условий в далеком дистопичном будущем. Здесь не может быть и речи о «симпатичном маленьком кафе».[54]
Но действие происходит не в далеком дистопичном будущем, термин не имеет прямого отношения к реальности, являясь лишь бюрократическим штампом: рассказчик использует выражение «жилой массив» как фигуральную замену термину «микрорайон». Правда, конечно, где-то посередине между буквальной абсурдностью термина и фигуральным клише. Как и в прозе Платонова, повседневная реальность персонажа показана в смеси абсурда и клише.
Использование Стругацкими стилистических приемов Платонова, хотя и не повсеместное, заслуживает упоминания из-за своей тематической важности. Об использовании Платоновым языка Иосиф Бродский написал, что «… можно сказать с одинаковой долей истины, что [Платонов] подвел русский язык к семантическому концу, или — более точно — он открыл конец философии, неотъемлемый от этого языка».[55] В конце концов, в Москве Сорокина может быть некая «языковая энтропия».
За Булгаковым
Как мы видели, встреча Сорокина с обладателем партитуры труб, возвещающих наступление Апокалипсиса, происходит в кафе под названием «Жемчужница». Если отвлечься от забавной и липкой несообразности — называть городскую столовую в городе, расположенном далеко от моря, в честь морской драгоценности, — что, очевидно, является широко распространенной в мире практикой, — можно выявить отсылки, ведущие от названия кафе к литературным и философским целям Стругацких.
Поскольку поверхностный сюжет романа может быть понят и без этих отсылок, Стругацкие стараются придать добавочное измерение фантастическому сюжету. Название кафе — часть сети отсылок к важному гностическому мотиву, появляющемуся в нескольких поздних романах Стругацких. Гностический символ жемчужины также связывает Стругацких с их наиболее значимыми предшественниками в области российской апокалиптической литературы, а именно — Андреем Белым и Михаилом Булгаковым.
В христианской традиции жемчужина появляется в Библии, в Евангелии от Матфея (13:45):
«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.»
Эта притча подразумевает, что некоторые люди отвечают посвящением от всего сердца на призыв Иисуса, желая только получить то, что он приносит. Трудно увидеть, что у этой притчи общего с событиями, случившимися с повествователем в повести «Хромая судьба».
Впрочем, есть и другой источник значений, ассоциирующихся с жемчужиной, который служит подтекстом для произведения Стругацких более одного мгновения. Это гностические Евангелия.
Гностическая «ересь» представляет собой наиболее ранний и наиболее заметный вызов установлению православного христианства и католического (всемирного) канона, который явно господствовал. Хотя гностицизм как альтернативное религиозное движение был тщательно подавлен к третьему столетию Р.Х., а тексты с изложением гностического кредо в буквальном смысле слова ушли в подполье, движение это полностью никогда не исчезало.
В гностических учениях жемчужина получает сложное символическое значение — в потической притче «Гимн Жемчужине».
Возможно реконструировать апокрифический подтекст для сцены в московском кафе, если мы рассмотрим контекст, в котором образ жемчужины встречается в двух других произведениях Стругацких. В набросках Сорокина к роману «Град обреченный» встречаются отголоски образов из «Гимна Жемчужине».
Также в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», опубликованном лишь двумя годами позже романа «Хромая судьба», присутствует целое рассуждение о значении жемчужницы.
«Гимн Жемчужине» относится к «Деяниям апостола Фомы», которые, в свою очередь, являются ныне частью кодекса Наг Хаммади. Эффектная находка в 1945 году тайника с апокрифическими манускриптами 1–2 веков, написанными на коптском (древнем языке египетских христиан) вдохнула новую жизнь в дискуссии о Христе как историческом персонаже и о влиятельных альтернативных течениях, основанных на Его учении, пышно расцветавших на протяжении по крайней мере трех столетий после Его смерти.
В Советском Союзе и Восточной Европе научные и полупопулярные отрывки и толкования гностических текстов были в моде. Они читались образованной публикой, умеющей отделять официальную интерпретацию и находить религиозные и политические истины между строк.[56]
«Гимн жемчужине» рассказывается от первого лица принцем, путешествующим с востока в Египет, где храпящий змей опоясывает единственную жемчужину, которую принц должен добыть. Когда принц попадает в Египет, он одевается так же, как и местное население — чтобы не быть узнанным — но стремится оградить себя в сердце от их «злых путей». Рано или поздно он, однако, оказывается вовлечен обманом в отведывание местной пищи (можно предположить, что это символ материального комфорта в общем) и забывает о том, что надо уговорить змея уснуть, чтобы забрать у него жемчужину. Когда принц получает письмо, напоминающее о его цели, сердце принца пробуждается, он вспоминает жемчужину и оказывается способным усыпить змея на достаточно долгое время, чтобы забрать у него жемчужину и вернуться — в славном одеянии света, символизирующем свет внутренний — на родину.
Змей Уроборос, который, в гностической мифологии, представляет злое начало, окольцовывающее мир. Жемчужина представляет духовную сущность, или божественное начало, с которым большая часть людей временно разделена в своих скитаниях по Земле.
Принц встречает в своем поиске много препятствий, но значительная разница между гностической притчей и другими мифами и волшебными сказками, использующими парадигму поиска, заключается в том, что у гностиков величайшее препятствие для принца заключается не в нарушении запрета, обнаружении активно действующей злой воли или даже смерти. В гностической мифологии, скорее, этим препятствием является падение в невежество, забвение, самодовольство и сон.
Привлекательность скорее гностического учения, чем ортодоксального христианства или иных религиозных систем (например, индуизма) для советский/российских интеллектуалов в этом свете понятна. Поколения советских граждан не получали религиозного воспитания (если не считать таковым убеждения против религии, «опиума для народа», если использовать знаменитое высказывание Ленина). Для многих тексты и учения христианства были не более знакомы, нежели любые другие, и было естественным из эклектического разнообразия информации создать собственные укрепления против светского и секуляризующего государства. По крайней мере во времена Сталина советский высококвалифицированный средний класс был склонен неохотно соглашаться с тем, что Вера Данхам (Vera Dunham) назвала «Большой Сделкой», по которой Советское государство обеспечивало умеренное, но стабильное улучшение материального положения и социального статуса тем, кто закрывал глаза на этические недостатки режима. Внутри контекста советской тоталитарной системы, таким образом, грех добровольного невежества, самодовольного сна и забвения был величайшим грехом.
Не удивительно, что Стругацкие воплотили в своих повествованиях о полууснувших интеллектуалах символы, происходящие из гностической мифологии.
В романе Стругацких 1988 года «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» гностическая притча о жемчужине пересказывается псевдонаучно объективным языком. Вводный абзац является, по сути, статьей под названием «Жемчужница» из популярной энциклопедии:
«В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы немного, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.»
(С.590–591)Популярно-научный жаргон легко смешивается с бюрократическим и его незаконными отпрысками — пассивными дополнениями и возвратными конструкциями. Что касается этого вида жемчужниц, «употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется». Стилистическое яркое освещение неуместных стилей бросает сатирический свет на весь отрывок. Более важно, что это относится и к эпистемологическому базису, на котором произрастает «научно-бюрократический» язык: чисто утилитарный, материалистический взгляд на мир. Раковина, не годящаяся ни в пищу, ни на пуговицы, считается, по сути, бесполезной.
Формирование жемчужины (драгоценности!) внутри раковины описано в биологических терминах, подобно полу в учебнике, чтобы максимально подчеркнуть контраст между читательским предчувствием красоты жемчужины и ее натуралистическим, почти непристойным происхождением:
«Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает […] какой-нибудь омерзительный клещ-паразит…»
(С.591)Язык научного описания превосходно подходит для изображения биологических процессов, но не подходит для процессов духовных. Почему же Стругацкие решили переписать гностические Евангелия в псевдонаучном стиле?
Мы сможем полнее ответить на этот вопрос, если вспомним Булгакова, который, в «Мастере и Маргарите», переписал Евангелия литературным языком исторического реализма. Его версия встречи Понтия Пилата с Иешуа и распятие последнего (по «реалистической» версии Булгакова, «казни») явственно основана на человеческом масштабе, с описанием восприятия момента каждым персонажем, данным с ощутимыми деталями. Булгаков намеревался сотворить версию Евангелий, которая бы поразила современную аудиторию как исторически точная и политически соответствующая, даже если бы она переворачивала многие основные моменты канонических Евангелий.
Стругацкие сознательно следуют за Булгаковым (и за Львом Толстым, предшественником последнего), но добавляют элементы пародии и стилистического снижения к своему анти-Евангелию. (Например, включение кулинарных деталей в контекст евангельского повествования, типичное для Булгакова, воспроизводится — с отрицанием — Стругацкими). Выбор для пересказа популярно-научного стиля вместо булгаковского стиля исторической непосредственности частично обязан собственным художественным ограничениям Стругацких, но, возможно, он является мерилом изменений, произошедших со времен написания Булгаковым апокалиптического романа. Ясно, что Стругацкие намеревались имитировать стиль советской антирелигиозной пропаганды, пытавшейся объяснить религию, давая «объективные» сведения о ее примитивном, мифологическом происхождении. Поскольку язык однажды был успешно очищен от религиозной и культурной терминологии, восприятие духовных ценностей человеческой жизни оказалось в опасности.
Роман Булгакова является мощным оправданием абсолютного добра и зла перед относительной правдой истории. Любая цивилизация, замещающая Бога кесарем (Булгаков сравнивает имперский Рим со сталинской Россией), — цивилизация апокалиптическая.
Персонажи Стругацких по крайней мере одним поколением позже булгаковского — они сироты, лишенные духовной или культурной памяти. Затруднение, с которым персонажи Стругацких выражают интуитивное понимание духовных ценностей, — еще один показатель их положения вне значащей истории. Например, в романе «Град обреченный» Изя с большим трудом описывает систему этических ценностей, придающую значение и направление истории, без обращения к религиозным терминам.
«Храм [культуры] — это же не всякому дано… […]. У храма есть (Изя принялся загибать пальцы) строители. Это те, кто его возводит. Затем, скажем, м-м-м… тьфу, черт, слово не подберу, лезет все религиозная терминология… Ну ладно, пускай — жрецы.»
(«Град обреченный», С.478)В предыдущем разделе у нас уже был случай заметить, с каким трудом Андрей пытается сформулировать этический взгляд на мир, используя известный ему вариант русского языка. Его недостаточное знакомство с Изиной «религиозной терминологией» указывает на недостаточное знакомство с культурными вехами, направляющими историю (и будущее) его цивилизации.
Современная притча Стругацких о жемчужине увязывается с последующим развитием христианской культуры после открытия Агасфером и Св. Иоанном гностической аналогии между жемчужиной и человеческим духом. Двусмысленность в датировке намеренная: с исторической точки зрения, оба прототипа Вечного Жида — раб Малх и апостол Иоанн — были современниками Иисуса. Деятельность Иоанна в «конце восьмидесятых» относится к первому веку н. э. Аналогия со смешением веры в конце тысяча девятьсот восьмидесятых годов так же присутствует:
«Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. маргаритафера и существами вида хомо сапиенс имеет место определенное сходство. Только то, что у П. маргаритафера называлось жемчужиной, у хомо сапиенсов того времени было принято называть тенью. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. […] Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней, как товара, была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.»
(«Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», С.591)Переключаясь с обычного названия жемчужницы на ее латинское наименование P.Margaritafera, авторы усиливают впечатление научной отстраненности, но в то же самое время и ссылаются на интертекстуальный контекст — на роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита».
В своем исследовании гностических мотивов в «Мастере и Маргарите» И.Галинская выявила многочисленные указания в булгаковском тексте, подтверждающие ее предположение, что Маргарита является воплощением гностического женского начала.[57] Галинская предполагает, что на выбор Булгаковым имени для своей героини повлияло чтение украинского философа Сковороды. В одном из отрывков, цитируемом Галинской, Сковорода ссылается на женское начало мира как на «перломатерь… сего маргарита». (Галинская, с.88).
Белый также знал о притягательности мистических, анти-эмпирических работ украинского философа для «восточного» направления мысли российской интеллигенции. В предпоследней строке «Петербурга» о Николае Аполлоновиче говорится, что «в последнее время читал он философа Сковороду».
Не похоже, что Стругацкие ссылаются на Сковороду через Белого или Булгакова. Возможно, как я предположила выше, они взяли этот образ прямо из знаменитой гностической притчи, «Гимна Жемчужине». Может показаться, впрочем, что сходство их темы с булгаковской, выраженное в обычном имени Маргарита, косвенно подтверждает основной тезис Галинской о гностической философии, «спрятанной» в романе Булгакова.
В одном из интервью Аркадий Стругацкий утверждал: «Мы были бы, наверное, гораздо более интересными писателями, прочитай Булгакова раньше…» (то есть, вероятно, до первых официальных публикаций в середине 1960-х годов). Это утверждение поддерживает мою точку зрения на роль Стругацких в развитии российской традиции апокалиптической литературы после Булгакова и Белого. Дань Стругацких форме апокалипсиса в современной российской литературе происходит не от имитации булгаковских стиля и мировоззрения, но является ответом на них.
Я показала, что современные, реалистические декорации романов Стругацких могут быть пропитаны метафизической значимостью. Городская квартира Сорокина и соседнее кафе заполнены апокалиптическими образами. В захудалом ташлинском общежитии на кухонной стене — апокалиптические граффити. «Град обреченный», подобно своему географическому двойнику, Санкт-Петербургу (Ленинграду), расположен между двумя метафизическими полюсами — материи и вечности.
Любопытна разница между апокалиптическими образами у Стругацких и их предшественников. В общем, в поэзии и прозе Серебряного Века, равно как и в булгаковском романе, предчувствия конца времени отражаются в смутных символических ландшафтах, наполненных туманом, полными лунами, драматическими закатами и т. д. Можно охарактеризовать их как «метеорологический апокалипсис».[58]
Например, на декорации Москвы 1930-х годов не влияет сверхъестественное присутствие Воланда и его свиты. Только в финальных сценах «Мастера и Маргариты» заставляет сам пейзаж стать апокалиптическим:
«Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно.
[…]
Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх и оказались во дворике. Первое, что они увидели там, это сидящую на земле кухарку застройщика; возле нее валялся рассыпавшийся картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю».[59]
Булгаковская «реалистичная» Москва, затемненная садящимся солнцем и опустошаемая адским огнем, перестает существовать. Апокалиптические события забирают героев — и читателя — за эмпирические пространство и время в чисто фантастические слои романа.
Уникальность стиля Стругацких в том, что он стирает различие между современными реалистическими и апокалиптическими декорациями. С одной стороны, главные герои, похоже, существуют вне исторического времени и пространства: в дантовском подтексте романа «Град обреченный», в гностической рукописи романа «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», в литературных подтекстах (Акутагава, Булгаков) повести «Хромая судьба». Хотя они ощутимы и в Советском Союзе последних десятилетий ХХ века. Декорации колеблются между фантастическим и реалистическим слоями текста и принадлежат к обоим одновременно.
В конце романа «Хромая судьба» полуавтобиографический рассказчик ведет воображаемый диалог со своей музой — автором «Мастера и Маргариты». Диалог поучителен, ибо на голос духа Булгакова накладывается опыт Сорокина. Поиск Сорокиным (и авторами) значения и ценности был переадресован экзистенциалистской реакцией на апокалиптические события середины ХХ века. Было разъедание веры возможностью трансцендентного — либо через искусство, либо через религиозное спасение. Булгаков, воскресающий в перевозбужденном уме Сорокина, говорит от лица поколения, которое дожило до того, что наихудшие опасения Булгакова более чем сбылись. Наиболее знаменитое утверждение Булгакова — о бессмертии искусства — переворачивается в романе «Хромая судьба»:
«Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы он ни утверждал обратное.»
(С.278)Судьба Мастера (Художника) так же пересматривается. Если булгаковский Мастер заслужил мир (хотя и не свет) — как результат вмешательства Маргариты в его участь, Сорокин не заслужил ничего.
«… Людям свойственно ожидать награды за труды свои и за муки, и в общем-то это справедливо, но есть исключения: не бывает и не может быть награды за муку творческую. Мука эта сама заключает в себе награду. Поэтому, Феликс Александрович, не ждите вы для себя ни света, ни покоя. Никогда не будет вам ни покоя, ни света.»
(С.278)Возможно, что Феликс Александрович Сорокин вкладывает слова своего собственного сознания в уста воскресшего Михаила Афанасьевича (Булгакова), появляющегося в конце романа «Хромая судьба». В конце концов, Сорокин характеризует себя как преуспевающего писателя военно-патриотической темы в стиле социалистического реализма, наслаждающегося теми материальными выгодами, которые ему приносит принадлежность к элите.
Тем не менее, это не предотвратило написание книги, отражающей правду. Он относится к своей книге, «Гадкие лебеди», как к «новому Апокалипсису». В моменты страха и безнадежности он собирается сжечь свою книгу об истине, но не делает этого, поскольку «Да и как бы я ее стал жечь — при паровом-то отоплении. […] исчезли по городам печки». Эта слабая шутка повторяет основную предпосылку — о неизмеримой связи между советскими городскими условиями и проявлениями глобальной духовной битвы — битвы, которая ведется в Городах-преддверьях русской литературы.
Глава 4 Пришельцы нашего времени
Горбачев: У нас может быть расхожие мировоззрения, но все-таки нас объединяет одно отечество, одно прошлое и одно будущее.
Отец Иннокентий: Конечно, если смотреть с исторической точки зрения… но все дело в том, что мы, христиане, смотрим за пределы истории, и тут-то наши будущие могут очень отличаться.
Диалог, 1989 годВлияние Николая Федорова
В залитом дождем городе романа «Гадкие лебеди» появилась раса генетических мутантов, и, подобно Пестрому Флейтисту, эта раса мутантов угрожает увести за собой городских детей, не могущих противостоять их обещанию лучшего мира. Снаружи мутанты, известные как «мокрецы», выглядят физически отталкивающими и больными. Они мокрые, мрачные, лысые, с желтыми кругами вокруг глаз (отсюда их второе прозвище — «очкарики»). Они поселены в «лепрозории» вне города. Впрочем, у них своя, высоко развитая интеллектуальная культура, и Виктор Банев упоминает философа мокрецов, Зурзмансора, наряду со Шпенглером, Фроммом, Гегелем и Ницше.
Мокрецы в романе «Гадкие лебеди» представляют тот же самый тип суперцивилизации, что и Странники (в цикле истории будущего) или людены (в романе «Волны гасят ветер»). Они отделываются от своих менее развитых человеческих братьев, как человек отделывается от значительной дискуссии с маленькими детьми, но они не отягощают себя разрушением или насилием. Они просто отбирают наиболее многообещающих человеческих особей, чтобы населить ими свой утопический мир (в этом романе городские дети отобраны для будущего человечества) и уводят их от дистопического настоящего. Мокрецы феноменально начитанны (похоже, что книги нужнее им, чем пища) и они асексуальны. В отличие от ранних утопических героев Стругацких, у них нет гуманистических иллюзий и моральных сомнений в своем праве выбирать и «спасать».
Стоит заметить, что переход от ранней научной фантастики Стругацких к тому, что можно назвать «зрелой прозой», отражает фундаментальное изменение в настроении социума. Он отражает переход гуманизма и культурного релятивизма от авангарда до слабой защиты. Это та точка, с которой начинается подтекстовый диалог с Федоровым.
Влияние идей философа Николая Федорова (1828–1903) на российскую/советскую литературу и науку долго недооценивалось. Наиболее явно от изучения влияния Федорова отпугивало то, что его имя и работы были табу на протяжении более чем тридцати лет, последовавших за появлением власти у Сталина.
По Янгу, первое упоминание Федорова в советской печати после долгого молчания было в 1964 году, в публикации мемуаров В.Шкловского.[60] В них Шкловский восстановил тот факт, что Константин Циолковский, гений ранней советской космической технологии, был учеником ни кого иного как Николая Федорова.[61]
С этого времени постепенно растущее число исследований стало прослеживать влияние Федорова на российскую интеллектуальную жизнь — распространенное, но далеко заметное. Федорова полагали гением его современники Достоевский, Лев Толстой и Владимир Соловьев. Но последующие поколения нашли прямое приложение в искусстве и науке грандиозному синтезу религиозного идеализма и научного эмпиризма.
Для Федорова христианство имело несомненную притягательность на фоне апокалиптических предчувствий и диких милленаристских ожиданий рубежа веков. Далее, его видение конкретных достижимых с помощью науки шагов, которые надо предпринять в направлении утопической цели всемирного братства, оставалось соответствующим духу времени даже после революции. В начале 1920-х триумф марксизма все еще шел рука об руку с некоторым родом космического романтизма, который стремился распространить новый порядок за пределы государства, в космос. Так, с другой стороны, идеи Федорова проникли во многие модернистские течения российской литературы; с другой стороны, они обеспечили импульс для научных исследований и технологических экспериментов, которые привели к запуску в космос первого советского спутника.
Поколение писателей, бывших лидерами (или начинавших творческий путь) в Серебряный Век, почти все, в некотором роде, обязано Федорову различными аспектами своих размышлений. Одержимость Маяковского мотивом вечной жизни и физического воскрешения была вскормлена его пониманием мыслей Федорова.
«Космические» поэмы Брюсова о жизни на других планетах, его аллегорические научно-фантастические произведения, равно как и его мистический фантастический роман «Огненный ангел», подвержены влиянию философской системы Федорова.
Видение Заболоцким разумного и одушевленного растительного и животного царства на Земле, а также колонизации человечеством иных планет явно формировалось под влиянием работ Федорова и Циолковского.
Влияние Федорова на Андрея Платонова уже исследовалось в последние годы.[62]
И для нас не окажется большим сюрпризом обнаружение аспектов философии Федорова, нашедших новую жизнь в произведениях Стругацких, особенно когда мы осознаем их продолжающийся диалог не только с Булгаковым, но со множеством апокалиптических и милленаристских мотивов, характеризовавших российскую литературу примерно до 1930 года. Впрочем, глава в истории российской литературы, которая сформировала бы более подходящий фон для ниже представленного материала, еще не написана — глава, повествующая о значительном влиянии философии Федорова на форму и начальное развитие российской научно-фантастической традиции. Леонид Геллер только коснулся этой темы в обширном исследовании истории советской научной фантастики, заключив:
«Три главные темы явственно проступают на фоне этой фантастической пестряди: преобразование земной природы и всей планеты, проблема бессмертия и завоевание космоса. Темы эти пришли в советскую литературу не с Запада; они взяли свое начало в системе взглядов […] Николая Федорова.»[63]
Рассмотрение деталей, оставленных Геллером вне его поля зрения, не входит в задачи данного исследования. Вместо этого мы рассмотрим в плане синхронии появление федоровских тем и мотивов в произведениях Стругацких.
Целостность и полнота посмертно опубликованных работ Федорова не поддается простому объяснению и описанию. Его философия «сверхморали» основана на той идее, что человечество может «обмануть» Апокалипсис, ища по предписанию Христа «вечную жизнь». По Федорову, Апокалипсиса можно избежать, если человечество последует по прямой дороге к Богу, то есть научится побеждать смерть. В человечестве есть явное моральное побуждение, равно как и научный императив, победить смерть — крайнее воплощение хаоса и энтропии, то есть противоположность космосу и гармонии. Смерть — Зло, и задача человечества — прогнать смерть из природы. Чтобы сделать так, мы должны перестать тратить время и энергию, убивая, и соединиться в общем деле физического воскрешения наших предков, равно как и достижения бессмертия для живущих. Огромное увеличение численности населения, вызванное воскрешением предков, может быть сглажено за счет космоса, который Федоров полагает подходящим местом обитания для homo sapiens.
Пионерская работа Циолковского по аэронавтике была прямым практическим ответом на потребность в большем пространстве для человечества в бессмертном будущем.
Второй, связанный с этим аспект теории Федорова заключается в том, что все в мироздании живое, и люди ответственны за формирование и контроль всей жизни путем покорения хаоса и смерти. Иными словами, Федоров расширяет далее тенденцию, которая уже присуща восточному православному христианству, то есть рассматривание всего существующего как «духоносного», и истории космоса — как истории эволюции материи к духу.
Для Федорова, существующая ныне разница между жизнью камней и жизнью людей заключается только в том, что они живут в разных скоростях времени и на разных уровнях сознания в пространстве. Отсюда следует, что Человек, как высшая форма сознания, ответствен за регулировку остальной природы и руководит ею на ее подъеме к существованию чисто духовного уровня. Бог оказывается связан с довольно неудачной трансцендентностью, в то время как Человек играет центральную, активную роль в собственном спасении. Этот «прометеевский» аспект федоровской мысли, соединенный с его усилением человеческой трансцендентности, приводит к полному отрицанию светского гуманизма. Федоров делает упор не на культивировании гуманистических наук во имя постепенного социального прогресса, он, скорее, пытается соединить принципы восточного православия с жесткой научной этикой, чтобы радикально изменить состояние человечества.
«Философия общего дела» Федорова основана, во-первых, на утверждении, что смерть может и должна быть преодолена. Наука и технология должны быть направлены на то, чтобы достичь физического, личного бессмертия. Когда Человек найдет средства победить смерть, исчезнет потребность в размножении половым путем (вместо этого люди будут заняты воскрешением предков). Этот аспект федоровской мысли имеет много общего с основными принципами гностицизма — превращенными в буквальность.
В романе «Волны гасят ветер», последнем произведении из цикла истории будущего, спятивший ученый разъясняет загадочные цели и методы Странников в документе, ставшем известным как «Меморандум Бромберга». Действия, приписываемые инопланетянам-Странникам, основаны на пересказе основных идей Федорова.
«Либо вступление на путь эволюции второго порядка, на путь эволюции планируемой и управляемой, на путь к Монокосму.
[…]
Понятие „дом“ расширяется до масштабов Вселенной. […] Возникает новый метаболизм, и как следствие его — жизнь и здоровье становятся практически вечными. Возраст индивида становится сравним с возрастом космических объектов — при полном отсутствии психической усталости. Индивид Монокосма не нуждается в творцах. Он сам себе и творец, и потребитель культуры. По капле воды он способен не только воссоздать образ океана, но и весь мир населяющих его существ, в том числе и разумных.
Каждый новый индивид возникает как произведение синкретического искусства: его творят и физиологи, и генетики, и психологи, эстетики-педагоги и философы Монокосма. Процесс этот занимает, безусловно, несколько десятков земных лет и, конечно же, является увлекательнейшим и почетнейшим родом занятий Странников. Современное человечество не знает аналогов такого рода искусству, если не считать, быть может, столь редких в истории случаев великой любви.
„СОЗИДАЙ, НЕ РАЗРУШАЯ!“ — вот лозунг Монокосма.»
(С.18–19)В «меморандуме» демонстрируются основные принципы Федорова: православное видение гармоничного, альтруистичного и духовного братства людей, достигаемого планируемым и контролируемым подчинением природы науке, которая не только побеждает смерть, но также делает возможным богоподобное воскресение и сотворение новой жизни. Бессмертная раса будет свободно обитать во всем космосе.
Слово «Монокосм» является точной греческой калькой для русского слова «соборность» — собирание частей в целое, концептуальное для русского православия вообще и для федоровской интерпретации в частности.
Далее, дисгармонирующее сопоставление в «меморандуме Бромберга» религиозных концепций и языка материализма выглядит пародией на стиль работ Федорова, состоящий из смеси церковных старославянизмов и новейшей научной терминологии.
В эволюции поэтики Стругацких фигура главного героя гуманиста-просветителя (например, дон Румата в «Трудно быть богом») постепенно уменьшается, в то время как роль чуждого сверхчеловека увеличивается. Принцип характеризации переходит от поражения и разочарования просветителя к мощи федоровского сверхчеловека. Переход от человека к чужаку полностью логичен и неизбежен, поскольку реальность главного героя-чужака в фантастике Стругацких растет прямо пропорционально ослаблению позиции персонажей-гуманистов.
Если отойти в сторону и посмотреть на все произведения Стругацких разом, модель становится ясна: неуловимые Странники из раннего цикла об истории будущего появляются в более поздних произведениях как вполне конкретные, развитые образы — в форме «мокрецов», «люденов», ученого Вечеровского из «За миллиард лет до конца света» (1976). Что у всех этих образов общего так это их схожесть с федоровскими или гностическими мотивами и образами. Эти мотивы зачастую смешиваются: элементы федоровской мысли и элементы гностической мифологии зачастую сплавляются в одну систему образов.
Таким образом, Стругацкие и записывают, и участвуют в интересном процессе культурной трансформации. Их произведения отражают воссоединение тайных интеллектуальных течений и смешение различных течений, приводящее к творению новых культурных мифов.
Ученые
Действие повести «За миллиард лет до конца света» (1976) происходит в эмпирических параметрах пространства и времени — в современной ленинградской квартире. Даже телефонный номер главного героя отличается от номера телефона Бориса Стругацкого всего одной цифрой. Читатель должен чувствовать себя дома, вместе с обычным российским ученым, обдумывающим научную проблему жарким июльским днем середины 1970-х.
Сюжет начинает развиваться, когда несколько ученых — специалистов в весьма различных областях знания — встречаются с необъяснимыми препятствиями и угрозами, долженствующими помешать им продолжить весьма перспективные исследования. По различным причинам они полагают, что находятся под воздействием абстрактной сверхцивилизации. Она защищает основы «гомеостазиса», не допуская человеческий ум проникнуть чересчур далеко.
К концу романа только один ученый, математик Вечеровский, не ломается под давлением сверхцивилизации, будь то гипотетическая сила мирового гомеостазиса или вполне конкретная сила советских спецслужб (роман можно понять двояко). Вечеровский покидает своих неудачливых коллег и их семьи, собираясь продолжить свои и их исследования на Памире.
Малянов, главный герой, напротив, ломается. Встретившись с решением противостоять сверхцивилизации — проявляющейся в шантаже на сексуальной почве, материальных лишениях, допросах КГБ и угрозе жизни сына Малянова (другой возможностью является конец Малянова как ученого и человека, борющегося за знание), он не видит иного выхода.
Таким образом, не только пространственно-временные параметры жанра сужаются до настоящего, но и этические горизонты главного героя.
У Малянова и его друзей можно обнаружить следы оптимизма и иронической уверенности в разумном социальном прогрессе, характерные для ученых персонажей ранних произведений Стругацких. В начальной сцене «За миллиард лет до конца света» Малянов характеризуется своим отношением к науке как к оригинальному призванию, а не как к бездушной профессии или к опасной игрушке в фаустовском духе. Его шутливое восхищение теоретической физикой выражено, в частности, средствами разговорных, «нежных» моделей речи. Он обращается к интегралу, над которым он работает, в юмористических, полуиронических уменьшительных формах:
«Малянов […] уселся и взял ручку. Та-ак… Где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный… Где я его видел? И даже не константа, а просто-напросто ноль! Ну, хорошо. Оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб…
Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей богу… Ай да Малянов! Ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось.»[64]
Впрочем, теоретическому прорыву Малянова мешает серия разочаровывающих и пугающих «совпадений», не дающих ему закончить работу. Несколько коллег Малянова, специалистов в иных отраслях знаний, постигла та же судьба. Они вскоре убедились, что стали мишенями враждебной сверхцивилизации, по каким-то причинам желающей предотвратить научные открытия. Когда они обсуждают стратегию защиты (выпив несколько бутылок водки), один из них демонстрирует знание французского, говоря: «… А ла гер ком а ла гер». Весь диалог звучит вполне натурально, но читается двояко: транслитерированное кириллицей, «ла гер» повторяет русское слово «лагерь».
Иными словами, «типичные» главные герои Стругацких все еще едят, пьют и шутят в промежутках между научными открытиями, но шутки стали мрачнее, отражая новое положение героев — маленьких людей, борющихся с превосходящими силами, чтобы отстоять свое чувство свободы и личной целостности в единственной области жизни, которую они могут назвать своей — в науке. В конце концов Государство — сверхцивилизация — контролирует даже это.
Постепенно знакомый современный быт, которым живет главный герой, начинает демонстрировать сюрреалистические очертания. Еще один из коллег Малянова, находясь под невыразимым давлением, кончает той ночью жизнь самоубийством. По ходу нарастающих кафкианских событий Малянов обнаруживает, что его допрашивают как главного подозреваемого. После допроса он спасается бегством к соседу — за успокоением:
«Слава богу, Фил [Вечеровский] был дома. И как всегда, у него был такой вид, словно он собирается в консульство Нидерландов на прием в честь прибытия ее величества и через пять минут за ним должна заехать машина. Был на нем какой-то невероятной красоты кремовый костюм, невообразимые мокасины и галстук. Этот галстук Малянова всегда особенно угнетал. Не мог он представить себе, как это можно дома работать в галстуке.
[…]
Они отправились на кухню. […] По кухне прекрасно запахло кофе. Малянов уселся поудобнее. Рассказать или не стоит? В этой сверкающей ароматной кухне, где было так прохладно, несмотря на ослепительное солнце, где всегда все стояло на своих местах и все было самого высшего качества — на мировом уровне или несколько выше, — здесь все события прошедших суток казались особенно нелепыми, дикими, неправдоподобными… нечистоплотными какими-то.»
(С.33)Все, что говорится о существовании Вечеровского, отделяет того от соседей и коллег. Его экстраординарный уровень жизни добавляет неизвестности сюжета, хотя он действует как одно из указаний на то, что сверхъестественные силы могут быть вовлечены в положение героев. Тот факт, что все, связанное с Вечеровским, превосходит нормальный советский уровень жизни, подчеркивает таинственный ореол, окружающий его, словно бы высокий уровень его одежды и домашнего хозяйства является материальным подтверждением его фантастического личного положения.
Ясно, с другой стороны, что равенство между несоветским, западным, уровнем жизни (для любого российского читателя очевидно, что «на мировом уровне» относится к развитому, западному миру) и сверхчеловеком Вечеровским, ученым, устойчивым к угрозам и искушениям, который будет продолжать исследования свои и своих товарищей.
С другой стороны, как раз для материального положения Вечеровского, где все «самого высшего качества на мировом уровне или несколько выше», подходит ситуация, что материальный, эмпирический мир подтверждает себя. Вне присутствия Вечеровского, в контексте повседневной советской жизни, непрошеные визитеры Малянова и мертвый сосед кажутся частью неудачной, но неизбежной цепи событий. На кухне Вечеровского события, свалившиеся на Малянова, выглядят невероятными и абсурдными.
Впрочем, вся экстраординарность Вечеровского заключается в том, что он живет и работает на уровне своих коллег из Западной Европы или Северной Америки; этот разрыв между той нормой и положением советского интеллектуала позволяет проникнуть внутрь сюрреалистическому и фантастическому.
Надлежит указать, что фигура «чужака» к середине 1970-х перестала быть непостижимыми «Странниками». Скорее, он является человеком, близким соседом и коллегой главного героя. В сюрреалистической ситуации, описанной выше, этот коллега начинает приобретать родовые характеристики «пришельца».
В один из моментов Малянов замечает, что «у Вечеровского был совершенно нечеловеческий мозг». Другой момент:
«Вечеровский […] разразился глуховатым уханьем, которое обозначало у него довольный смех. Наверное, так же ухали уэллсовские марсиане, упиваясь человеческой кровью, и Вечеровский так ухал, когда ему нравились стихи, которые он читал. Можно было подумать, что удовольствие, которое он испытывал от хороших стихов, было чисто физиологическим.»
(С.37)И интеллектуальная доблесть Вечеровского, и его личные вкусы соотносятся с приписываемыми во всех биографических работах философу Николаю Федорову. Говорят, что Федоров, работавший в ведущей московской публичной библиотеке на протяжении 25 лет, знал не только заглавие и расположение, но и содержание каждой книги в библиотеке.[65]
Его примечательное равнодушие к искусству и эстетике также отмечается всеми биографами.
Некоторые иные «случайные» детали связывают тему «чуждого» в «За миллиард лет до конца света» с русским философом.
У Малянова случается галлюцинация, при которой ему кажется, что в паспорте его жены значится отчеством Федоровна, а не Ермолаевна.
Вечеровский собирается продолжать работу на Памире — в месте, исключительно важном для федоровского понимания космической истории:
«Центром […] могил предков отдельных племен оказывается Памир, в котором библейское предание отождествляется с преданиями других народов. Эдем, царство жизни, стал Памиром (бесплодною пустынею по-нынешнему)…»
Наиболее важна, впрочем, теория Вечеровского, по которой несчастья ученых вызваны противопоставлением второго закона термодинамики и федоровским представлением об «общем деле» человечества.[66] Идеология, выраженная в этом споре, утверждает, что цель человечества — подняться над природой; жить по природным законам хаоса и случая означает поддаться энтропии.
Малянов резюмирует, говоря о теории Вечеровского:
«Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель: изменение природы Природы. Поэтому сама суть Гомеостазиса Мироздания состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции Гомеостатического Мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается.
[…]
Вот так примерно — не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть, и вовсе неправильно — я его понял. Я даже спорить с ним не стал. И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи! Малянов Д.А. версус Гомеостатическое Мироздание!»
(С.74)Теория Вечеровского обеспечивает больше, чем просто «инопланетянина из машины», ввести которого авторы сочли необходимым для разгадки тайны и завершения сюжета.
Характерно, что в «За миллиард лет до конца света» герои более чем готовы принять федоровские предположения Вечеровского как единственное логическое объяснение их положения. Их гуманистическая вера в научный прогресс оказалась несостоятельной в мире «гомеостатической» силы — явная аллегория на парализующую нехватку разделения Науки и Государства, на протяжении большей части советского периода. В этих (мета)физических обстоятельствах оживает извечное российское восхищение мистическими, синтетическими философскими системами.
Оптимизм и вера, характеризовавшие ранних гуманистических героев Стругацких, перешли образу чуждого.
Малянов, у которого остались только юмор и человеческая слабость, может только восхищаться силой и оптимизмом нового федоровского героя:
«[Вечеровский] уедет на Памир и будет там возиться с вайнгартеновской ревертазой, с Захаровыми феддингами, со своей заумной математикой и со всем прочим, а в него будут лупить шаровыми молниями, насылать на него привидения, приводить к нему обмороженных альпинистов и в особенности альпинисток, обрушивать на него лавины, коверкать вокруг него пространство и время, и в конце концов они-таки ухайдакают его там. Или не ухайдакают. И может быть, он установит закономерности появления шаровых молний и нашествий обмороженных альпинисток… А может быть, вообще ничего этого не будет, а будет он тихо корпеть над нашими каракулями и искать, где, в какой точке пересекаются выводы из теории М-полостей и выводы из количественного анализа культурного влияния США на Японию, и это, наверное, будет очень странная точка пересечения, и вполне возможно, что в этой точке он обнаружит ключик к пониманию всей этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею… А я останусь дома, встречу завтра Бобку с тещей, и мы все вместе пойдем покупать книжные полки.»
(С.101–102)Несмотря на слегка истерический юмор рассказчика, «За миллиард лет до конца света» является одним из наиболее пессимистических произведений Стругацких. Авторы оказались неспособны согласиться со взглядами героев на решение проблемы. Неустрашимый ученый, который откроет Великую Точку Пересечения, — в лучшем случае федоровский сумасшедший, а в худшем фанатик, желающий превзойти границы собственной человеческой природы.
С другой стороны, «человеческий» ученый, семейный человек и законопослушный советский гражданин, показан патетически бессильным в наше время, охарактеризованное Ханной Арендт как эпоха, в которую доминируют две силы — Науки и Государства (тоталитарного).
Гностицизм и метафизический дуализм
Мы уже обнаружили гностические мотивы и образность в декорациях произведений Стругацких. Радикальный дуализм, делящий мир между Добром и Злом (что характерно для всех гностических систем), закодирован в «шизофреническом» пейзаже — сине-зеленое ничто с одной стороны, вечная материя — с другой. Символизм Тьмы, противопоставленной Свету; этого мира, противопоставленного иномирной вселенной; материи, «отягощенной злом», противопоставленной «чистому» духу, в частности, хорошо развит в манихейской ветви гностической мысли.[67] (Вспомним, что комсомолец Андрей из романа «Град обреченный» обвиняется в манихействе).
В манихейском разделении мироздания на божественный мир (Свет) и дьявольский мир (Тьма), земное существования относится к последнему, то есть наше материальное бытие полностью принадлежит к миру дьявола. В исключительно хорошем мире Бога нет человеческих существ; там только чистый (нематериальный) дух. Таким образом, жить в человеческом теле — означает жить во зле, но живущий вне зла, как чистый дух, по определению прекращает быть человеческим существом.
Мой подход к изучению гностических мотивов и символов в произведениях Стругацких основан на той предпосылке, что этот очевидно иностранный, фантастический метафизический дуализм не просто так используется в роли научно-фантастического причудливого образа. Стругацкие хорошо знали, что «манихейство» не было занесено в современный Советский Союз из космоса. Скорее, этот тип дуалистической мысли — каковы бы ни были его корни — в течение долгого времени был составной частью российской культуры. Это проявляется теперь с удивительной яркостью не только в распространенных увлечениях спиритизмом, йогой, исцелением верой и другими оккультными науками, но и в серьезных исторических документах, написанных ведущими интеллектуалами страны. Например, в документальном романе, посвященном сталинистскому прошлому, Василий Гроссман пишет:
«Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека. Вот из этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути и рождаются стукачи. Государство людей не рождает. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство — земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую.»[68]
Наиболее разителен в этом утверждении Гроссмана его фундаментальный дуализм — зло есть неискупаемый, неотъемлемый аспект любой телесной сущности. Вся человеческая, животная, минеральная и растительная жизнь неизбежно виновна и, типично, непристойна. Проблески хорошести в человеческой жизни происходят из внешнего мира, из намеков на полузабытую божественную сущность, которая была когда-то (по гностической мифологии) чистым богом. По сути, это замечание — объяснение, по которому материальный мир — совсем не творение бога, это работа демиургов.
Значащая примесь восточного, гностического, дуалистического мистицизма в российской мирской, равно как и в религиозной культуре проявилась отчетливо в первые десятилетия ХХ века. Частично это было реакцией на волну научного позитивизма, доминировавшего в интеллектуальной жизни на протяжении большей части XIX века.
Поэтому, когда Стругацкие изображают персонажей, относящихся к (маскулинной) научной интеллигенции, их стиль во многом обязан начавшейся с Хемингуэя традиции западной литературы реализма (не социалистического), а их изображение Иного — женщин, детей и нечеловеческого разума — вдохновлялось полностью иной, исконной традицией. В общем, похоже, что Стругацкие для характеристики женщин, детей и чуждого разума использовали образы гностического дуализма и «Востока».
Элементы антиэмпирических, не подражательных стилей российских движений модернизма и авангарда первых десятилетий ХХ века проявляются наиболее ярко в характеристиках Иного.
Женщины
При изучении романа «Мастер и Маргарита» И.Л.Галинская предполагает, что в образе Маргариты Булгаков хотел дать литературное воплощение теологической Софии — соловьевского начала Вечной Женственности. София Соловьева, в свою очередь, — часть валентинианской традиции гностицизма.
Кратко говоря, валентинианские рассуждения полагают, что источник тьмы, и тем самым дуалистический разлом между материей и (божественным) духом — внутри самого божества. «Божественная трагедия», как Джонас (Jonas) назвал это, и необходимость спасения являются результатом изначальной божественной ошибки и неудачи. В некоторый момент чистый дух (Бог) обнаруживает, что часть его желает творить:
«И однажды эта Бездна задумала создать начало всех вещей, и он вложил этот замысел, подобно семенам, в чрево Молчания (женского начала), что было с ним и она приняла это, и понесла Разум (Nous, мужское начало)….»
(Джонас, с.181)Впоследствии чистое, непостижимое божество (Бездна) отделилось от своих эманаций, сотворивших затем мир — это разъясняется по-разному в различных гностических системах.
Валентинианские размышления представляют две символические фигуры, изображающие своей судьбой божественное падение. Это мужской Изначальный Человек и женская Божественная мысль. Последняя, обычно известная как «София» или «Мудрость», в сущности, является причиной падения Бога: это ее страсть и ее ошибка привели к активности демиургов, творивших мир. Двусмысленная фигура Софии, заключающая в себе широкий спектр толкований от наиболее духовной «Божественной мысли» до чувственной страсти, развилась в философии Соловьева в Вечную Женственность.
Галинская без затруднений находит в тексте Булгакова многочисленные указания, подтверждающие ее предположение, что Маргарита — воплощение гностического женского начала, и, более узко, — соловьевской Софии. Среди этих указаний — и наблюдение, что в романе все сексуальные, плотские отношения между Мастером и Маргаритой отсутствуют. Поскольку Маргарита взята на роль божественной Софии, способной дать рождение Слову (то есть вдохновить Мастера на написание романа), ее «обманчивое воплощение» земной красоты (София-Пруникос — Мудрость-Блудница) отходит в сторону.
За исключением женского сообщества Леса в романе «Улитка на склоне» женщины занимают менее значащие, подчиненные места в романах Стругацких. Впрочем, роль, наиболее часто отводимая женским персонажам — быть жертвами грубого, пьяного, животного совокупления, проходящего без любви.
В романе «Трудно быть богом» единственный женский главный персонаж погибает в ходе фашистского переворота.
В романе «Град обреченный» присутствуют два менее важных женских персонажа: Сельма — блудница, а Мымру насилуют солдаты.
В романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя» сама мысль о том, что у подобного Христу учителя Г.А. когда-то была жена и семья, кажется его ученикам неуместной. Женский персонаж в романе, фальшивая пророчица ислама Саджах изображена блудницей.
В романе «Гадкие лебеди» героиня — Диана играет большую роль, что является исключением. Подобно другому выбивающемуся из общего ряда изображению женщины (Майя Глумова в романе «Волны гасят ветер»), это исключение подтверждает правило: главный герой-женщина является сплетением паутины аллюзий на «Божественную Софию» гностических и мистических православных философских традиций.
В романе «Гадкие лебеди» Диана — любовница Виктора Банева. Он подозревает ее в неверности, поскольку она не отказывается участвовать в пьяных оргиях, характеризующих социальную жизнь усталого, циничного и развращенного взрослого населения города. Впрочем, Диана также тайно связана с диссидентами, противопоставляемыми государству и деградировавшей культуре, которую государство поощряет. Она и другие диссиденты защищают преследуемое меньшинство — «мокрецов», чьей целью является увод детей из развращенного настоящего в новое, сверхчеловеческое будущее.
В постапокалиптической сцене конца романа, когда старый мир сметается прочь, и солнце в первый раз за три года сияет над новым миром, Диана-блудница превращается в Диану Счастливую:
«Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна — Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне вернуться.»[69]
Таким образом, единственный положительный образ женщины появляется у Стругацких в контексте нового, иного мира (отсюда желание Банева вернуться в человеческое настоящее), в котором Диана Блудница превращается в божественное создание. Как Диана, так и София — имена, асоциирующиеся с богиней мудрости. Прообразом этой концепции Дианы Счастливой у Стругацких является — по крайней мере частично — Божественная София гностических — и соловьевских — размышлений.
Второе исключение из общего шаблона женских образов в романах Стругацких Майя Глумова в романе «Жук в муравейнике». Майя — не блудница и не жертва изнасилования, но ее отношения со необычным сиротой Львом Абалкиным носят иной, более необычный оттенок насилия. В нижеследующем отрывке Майя вспоминает детские драки со своим однокашником Аабалкиным. Он, вероятно, является созданием Странников, но об этом не знает ни он сам, ни кто-либо еще; он — агент среди человечества, созданный чуждым разумом. Майя вспоминает странное поведение своего товарища:
«…Он [Абалкин] лупил ее — ого, еще как! Стоило ей поднять хвост, как он выдавал ей по первое число. Ему было наплевать, что она девчонка и младше его на три года — она принадлежала ему, и точка. Она была его вещью, его собственной вещью. Стала сразу же, чуть ли не в тот день, когда он увидел ее. Ей было пять лет, а ему восемь. Он бегал кругами и выкрикивал свою собственную считалку: „Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали!“ Десять раз, двадцать раз подряд. Ей стало смешно, и вот тогда он выдал ей впервые…
…Это было прекрасно — быть его вещью, потому что он любил ее. Он больше никого и никогда не любил. […]
…У него было еще много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными, кроме старого лося по имени Рекс, которого он признал равным себе, но потом с ним поссорился и прогнал его из леса…»
(«Жук в муравейнике». С. 215–216)Один из критиков пытался интерпретировать этот отрывок как подтверждение того, что Лев Абалкин представляет евреев — поскольку уже в детстве он хотел владеть вещами![70]
Выбор образов для описания странного детства Абалкина может быть лучше понят при рассмотрении определенного набора интертекстуальныых аллюзий.
Лесное королевство, с королем — лосем (Рексом) и непостижимые лесные законы вызывают в памяти символизм леса в творчестве Хлебникова и поэтов, черпавших вдохновение в последнем, в частности, Введенского и Заболоцкого. В общем, для Хлебникова и поэтов-футуристов и абсурдистов лес является символом природного мира, королевства, «не оскверненного временем и смертью», воплощающего не достижимый для человека идеал: жить в гармонии и понимании с непреклонными и безмолвными законами природы. Грандиозное, мистическое это видение заметно, например, у Хлебникова — в образе лося в поэме «Саян».[71]
Поэзия Заболоцкого тридцатых годов, во многом развивающая утопические идеи Хлебникова о возможности математического понимания и контролирования природы, также содержит образ леса как микрокосма радикально новой, «научно» улучшенной утопии будущего. Несмотря на весь научный пафос, образы поэзии Заболоцкого свидетельствуют о принадлежности поэта к обериутам, русскому абсурдистскому движению. Животные и даже вещи у него зачастую антропоморфны, а его поэтический мир выглядит до странности пантеистичным.
Поэт Введенский, один из основателей абсудистского течения обериутов, часто писал о разрыве между человечеством, к которому он принадлежит, и более совершенной, вневременной гармонией, в которой пребывают звери и даже неодушевленные объекты.[72]
Наконец, старик в утопическом городе Чевенгур у Платонова оплакивает разрушение родственных уз в городе (любимая тема Федорова) в стихах:
«Кто отопрет мне двери, Чужие птицы, звери? И где ты, мой родитель, Увы — не знаю я!»[73]Нельзя утверждать, что какой-либо из вышеприведенных текстов является прообразами пассажа о лесном королевстве Льва Абалкина. Впрочем, разительный, архетипический образ таинственного лесного королевства, контролируемого инопланетным сиротой, и абсолютное подчинение «падшей женщины» не могут быть истолкованы на уровне поверхностного сюжета и образности романа «Жук в муравейнике». История Майи Глумовой противоречит ее характеристике как (незначащей) героини научно-фантастического сюжета. С другой стороны, сцены детства объединяют ее с лежащей ниже философской темой романа, являясь отголоском литературы, наиболее подходящей к теме. Стоит заметить, что название школы, в которой учились Абалкин и Майя, «Евразийская».
Предположительно, в мире будущего, показанном Стругацкими в цикле истории будущего, геополитическая ситуация резко изменилась, но Россия по-прежнему занимает культурную позицию на распутье между Европой и Азией. Российская литература модерна, которая является прообразом образности истории Майи, была связана с поисками равновесия (или синтеза) между «азиатским» и «европейским» аспектами судьбы России, чтобы выковать новое, утопическое будущее.
Мужская и женская топография
Но мы оставим в покое лес, мы ничего не поймем в лесу. Природа вянет как ночь. Давайте ложиться спать. Мы очень омрачены.
А.И.Введенский«Улитка на склоне» сначала была опубликована как два раздельных коротких произведения — в разные годы и в разных изданиях. Главы 2, 4, 7, 8 и 11 полного текста романа были опубликованы в сборнике «Эллинский секрет» в 1966. Главы 1, 3, 5, 6, 9, 10 были опубликованы в сибирском журнале «Байкал» двумя годами позже. Последняя часть в особенности была подвергнута враждебной критике со стороны идеологически консервативных критиков. Публикация была отложена, и многие годы варианты романа «Улитка на склоне» циркулировали только в виде самиздатовских копий.
Атака, нацеленная на Стругацких защитниками социалистического реализма при Брежневе была, по сути, банальной и предсказуемой, и значимость идеологического спора для литературного климата тех лет была хорошо проанализирована Дарко Сувином (Darko Suvin).[74] И критики, и поклонники были согласны, что Стругацкие отошли от привычной прямой формы приключенческого стиля. Роман был воспринят как более сюрреалистический, нежели научно-фантастический, ближе к Кафке, чем к Булгакову. Один из хорошо относившихся обозревателей в англоязычном издании увидел «кафкианскую мрачность… соединенную с бессмыслицей Кэрролла». И наоборот, обозреватель советского литературного журнала «Литературная газета» — как часть официальной кампании против романа — в 1969 году сожалел, что многие читатели попросту не могут понять последние работы Стругацких.
Неофициальные опросы, проводимые поклонниками Стругацких в своей среде в 1991–1992 годах отнесли роман «Улитка на склоне» к наиболее удачным произведениям Стругацких. Это также единственный роман Стругацких, вызвавший — по крайней мере, на Западе — хорошо обоснованные феминистские опровержения.[75]
Похоже, что в этом романе авторы отказались от удобного для чтения и популярного жанра ради более усложненного символического стиля. В ретроспективе, как исключение, «Улитка на склоне» подтверждает правило: освобожденный от условностей детективной и приключенческой литературы (крепкий напряженный сюжет) и от эмпирического «научного» характера (логически мотивированные диалоги и действия в фантастических обстоятельствах), наиболее экспериментальный роман Стругацких содействует дуальными декорациями наиболее мощному погружению в роман. Шизофренические декорации романа показывают тот же самый композиционный принцип, который мы обнаружили в произведениях, рассмотренных в предыдущих главах. Почти все культурные и философские мотивы, которые, как мы обнаружили, зашифрованы в поздних произведениях, уже представлены в романе «Улитка на склоне» (1966 год).
В романе пересекаются истории двух главных героев, которые (герои) никогда не встречаются. Оба — интеллектуалы, прибывшие по ошибке в мир романа из какого-то места, которое в разговорах именуется Материком. Поскольку действие романа происходит в сюрреалистическом, дистопическом мире, Материк представляет, в подтексте, эмпирическую реальность и гуманистическую культуру: точка отсчета, в соответствии с которой герои борются и — в начале — пытаются сориентироваться.
Мир, описанный в романе «Улитка на склоне», разделен на две антагонистичные сферы: Лес и Управление.
Лес — фантастически плодородная, биокибернетическая сущность, управляемая партеногенетически размножающимися женщинами. Один из главных героев, Кандид, приземлился в Лесу. Он поселяется в одной из деревень рядом с вечно вторгающейся растительностью Леса. Жители деревни женят его на местной девочке Наве. Кандид заботится о Наве как о приемной дочери. Мирные жители деревни описаны как примитивная культура, хотя и не столь «до современная», как постцивилизация: некая деградировавшая культура по сути честных и псевдонародных идиотов. Близость к лесу почти делает жителей деревни более растениями, нежели людьми: они едят «сырные» ломти вездесущего мха; они потеряли всю культурную память и интеллектуальную остроту. Только слабое сопротивление, иногда оказываемое ими «мертвякам», которые посылаются из Леса забирать женщин, поднимает жителей деревни над полностью растительным существованием.
Управление, с другой стороны, — управляемая мужчинами бюрократия, посвященная изучению Леса. Каждый в Управлении втянут в мощную сеть правил и ограничений, которые давно уже вышли за пределы эффективности в дегуманизирующий мир кафкианского абсурда. Здесь смертельная органическая плодородность Леса встречается со злом гипертрофированной технологии и жесткой, механизированной социальной структуры. Перец, главный герой, попавший в ловушку этого мира, постепенно затягивается механизмом Управления, и в конце концов становится его Директором — что кратко изображается подписанием противоречивого и убийственного приказа «…сотрудникам Группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки».
Враждебная советская критика, сопровождая появление части «Перец» в 1968 году, основывалась на невысказанном утверждении, что Управление, описанное в романе, является злонамеренной насмешкой над советской бюрократией. Непривычный сюрреалистический стиль Стругацких был принят многими критиками за попытку отвлечь цензуру от скрытых антисоветских аллегорий.
Западные критики тоже восприняли антисталинистский или антитоталитарный уклон романа, но правильно поняли, что у Леса и Управления значение глубже, чем просто политическая уловка для прохождения цензуры. Можно увидеть основную политическую и этическую тему, лежащую под конфликтом двух воображаемых миров: реакция Переца на подавляющую властную структуру может быть интерпретирована как соответствие; в то время как Кандид отказывается сдаться — героический, но бесполезный жест, делающий его чем-то вроде «святого-блаженного». Оба главных героя пытаются защитить этическую позицию в современных структурах (доведенных до крайности), делающих их этические принципы почти устаревшими.
Далее, можно увидеть в Кандиде и Переце представителей советских интеллектуалов, попавших между своими соотечественниками, не доверяющими им, с одной стороны, и правительством, подавляющим их — с другой.
Другой аспект романа, который большая часть критиков, по-видимому, пропустила, — идентификация мира Леса с нацизмом. Фактически, сравнение сталинизма и фашизма накладывается на симметрию противопоставляемых в романе мужского и женского миров.[76]
Чтобы осмыслить множество противоречивых и незавершенных интерпретаций, предложенных во время публикации романа, необходимо более внимательно взглянуть на необычный выбор образности, присущий этому произведению.
Вопрос, поднятый Дианой Грин в ее статье «Мужское и женское в „Улитке на склоне“» («Male and Female in The Snail on the Slope») более уместен для нашего понимания места данного произведения в творчестве Стругацких в целом. Почему Стругацкие, по-видимому, уравнивают борьбу интеллектуала против авторитарной власти с борьбой мужчин против взявших верх женщин? (Грин, с.106). Ее статья «документально подтверждает» «… буквальную войну полов между патриархальным Управлением и матриархальным Лесом». Две женщины, имеющие значение в Управлении, в котором доминируют мужчины, «…более похожи на враждебные силы природы, чем на человеческих существ. Фактически, эти два персонажа приближаются к стереотипам женщины: Рита вызывает в уме отказывающую Суку-Богиню, а Алевтина предполагает поглощающую мать, желающую превратить всех людей в зависимых детей» (Грин, с.101). Грин находит, что три женщины, правящие Лесом, не просто стереотипы; они воплощают три женских архетипа — девы, матери и старухи.
Сам Лес, как гео-биологическая сущность, описан в терминах женского — вполне отталкивающих. Когда Перец приезжает в Лес для знакомства с ним, он обнаруживает отвратительные сточные ямы. Как указывает Грин, Стругацкие называют такую яму «маткой», и она «щенится», ее отпрыски подобны щенкам.
«Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле […], разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли…»[77]
Более того, для Грин просто показать, что «…все мужчины в романе относятся к женщинам по одному из трех нездоровых шаблонов: они могут попытаться контролировать женщин, деградируя их, как поступают менее чувствительные работники Управления (символически — Управление строит латрины на скале, возвышающейся над Лесом); они могут позволить женщинам молиться на себя, платясь душой, как делают Перец и Квентин; наконец, они могут отказываться от женщин и избегать сексуальных отношений — таково решение Кандида (единственное, которое Стругацкие одобряют).»[78]
Но ее анализ не объясняет, почему Стругацкие изображают борьбу индивида против тоталитарного государства в терминах неравной борьбы между мужчинами и более могущественными женщинами. Далее, появляется парадокс, когда мы осознаем реальное политическое и социальное положение женщин в Советском Союзе.
«…В работе, показывающей угнетение советского общества, можно ожидать обнаружить женщин борющимися против господства мужчин… хотя много было сделано для предполагаемой свободы советских женщин, у них никогда не было такой личной или политической власти, как у мужчин».
(Грин, с.106)Иными словами, феминистический подход приводит к парадоксу: показанный Стругацкими пол сил подавления противоречит, по-видимому, реальному политическому положению женщин как угнетаемого класса в Советском Союзе. Парадокс может быть разрешен, по крайней мере, частично, когда мы узнаем в образе Леса специфические политические отсылки скорее к нацистской Германии, нежели к любому угнетающему классу в Советском Союзе. В тексте присутствует значительное число указаний на конкретные аналогии между Управлением и сталинизмом, а также между Лесом и фашизмом. Поскольку указания на первое вполне очевидны и не нуждаются в приведении детальных документированных свидетельств, несколько примеров из текста помогут сделать последнее менее туманным.
Когда Кандид, интеллектуал из реального мира, попавший в мир Леса, и его спутница, аборигенка Нава, в своих странствиях направляются в сердце Леса, они проводят ночь в странной деревне. Деревня похожа на «театральные декорации»: ее обитатели говорят, но у них нет лиц, и произносимые ими слова кажутся полузнакомыми, словно Кандид «слышал их в предыдущей жизни». Кандид просыпается в середине ночи и узнает силуэт человека, стоящего рядом: это его бывший коллега, хирург по имени Карл Этингоф. Затем он бежит в ночь и видит «длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает». Из этого длинного строения «раздался… громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза».
Кандид обнаруживает себя стоящим перед этим длинным строением с его квадратной черной дверью и держащим Наву на руках. Карл, хирург, раздраженно спорит с двумя женщинами, и Кандид разбирает «полузнакомое слово „хиазма“». Этого единственного слова, с его коннотациями с хирургическим разрезом и генетической инженерией, было бы довольно для декораций этой сцены. Фантомные обитатели фантомной деревни все причитают и прощаются друг с другом перед строением, и Кандид, «потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое „надо“», порывается войти с Навой в здание первым. Карл жестом отодвигает их в сторону. Они спаслись — они не были включены в список приговоренных. Они убегают далеко от деревни и, наконец, проводят остаток ночи в лесу под деревом.
Когда они просыпаются следующим утром, единственным ощутимым свидетельством существования фантомной деревни является скальпель, сжимаемый Навой. Все это непонятно Кандиду, описывающему данный эпизод как «какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель».
Очевидно, что воспоминания о холокосте, являющиеся частью его (и читательского) опыта на Материке, теперь только смутно присутствуют в его подсознании (у читателя такого извинения нет).
Еще менее понятны Кандиду (и читателю) действия трех женщин, управляющих Лесом. Младшая — длинноногая девушка, средняя беременна (почти очевидно, не познав мужчины), и старшая, которая, как выясняется, была давно потерянной матерью Навы, настаивает, что «мужчины больше не нужны». Для лесных женщин размножение — результат полностью контролируемого партеногенеза, но до какого предела и по каким критериям… это уже вне человеческого понимания. Ничего не может и Кандид понять из эллиптических речей трех женщин, правящих Лесом:
«…Очевидно, не хватает… запомни, девочка… слабые челюсти, глаза открываются не полностью… переносить наверняка не может и потому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка… надо чистить, переменить место, а здесь все почистить…»
(С.66)Отточия — часть текста. В его непосредственном контексте слова беременной женщины бессмысленны. Единственной их связью с непосредственным содержанием повествования является фантастическое существо с большими челюстями, называемое «рукоедом», которого, очевидно, мучают женщины. На смещенный смысл deja vu прямо указывают ключевые фразы: «слабые челюсти, глаза открываются не полностью… надо чистить…».
Более того, фантастический, внечеловеческий Лес с его неизмеримой жестокостью связан с реальной жизнью рассмотренной выше отсылкой к нацистской Германии — в сцене в фантомной деревне (рассмотренной выше), и финальным, полуинтуитивным отрицанием Кандидом идеологии, пытающейся оправдать уничтожение расы людей по псевдонаучным мотивам:
«Но, может быть, дело в терминологии, и, если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники… идеалы… великие дела… естественные законы природы… И ради этого уничтожается половина населения.»
(С.81)Фактически, Стругацкие отдали все аллюзии на нацистскую Германию и генетическую инженерию биологическим сверхженщинам, управляющим женским миром Леса, а не мужскому миру Управления. Это все еще проблематично: обычно, в других произведениях Стругацких, персонажи, ассоциирующиеся с фашистскими принципами, мужчины, явно отмеченные «ярлыками» в виде нордической внешности и/или немецкого имени.[79]
Впрочем, есть исконно русский прецедент народных, реакционных, антисемитских движений, которые эксплицитно ассоциируются с «женской» стороной национального характера. Определение пола национального характера было предпринято в поэзии и философии российской дореволюционной культуры Серебряного Века, которая была преследуема конфликтом на всех уровнях духовном, социальном и политическом — между «женскими» и «мужскими» элементами российской идентификации.
В обзоре романа А.Белого «Серебряный голубь», написанном Н.Бердяевым, двусмысленное отношение российской интеллигенции к коллективному духу народа, к православию и западным моделям эмпирического рационализма строго привязано к половым архетипам:
«Русская интеллигенция в сущности всегда была женственна: она способна на героические подвиги, на жертвы, на отдание своей жизни, но никогда не была способна на мужественную активность, никогда не имела внутреннего упора; она отдавалась стихии, не была носителем Логоса.
[…]
Есть черты сходства, роднящие русского революционера и народника старого образца и русского декадента и мистика нового образца. И те и другие находятся во власти женственной народной стихии и бессильны внести в нее оформляющее начало Логоса; и те и другие готовы поклониться народу, одни во имя света революционного, другие во имя света мистического […].
[…]
Сам А.Белый неспособен овладеть мистической стихией России мужественным началом Логоса, он во власти женственной стихии народной, соблазнен ею и отдается ей.
[…]
Чем более его соблазняет Матрена [женщина, женская составляющая], чем более тянет его раствориться в мистической стихии России с ее темным и жутким хаосом, тем более поклоняется он гносеологии, методологии, научности, критицизму и проч. Культ Матрены и культ методологии — две стороны одной и той же разорванности, разобщенности земли и Логоса, стихии и сознания.»
(С.186, 190)[80]Бердяевская формулировка и «разделение по родам» вечного российского конфликта между «востоком» и «западом», между «хаосом» и «порядком» придает «сюрреалистическому» описанию Стругацкими декораций новую, более ясную перспективу. Лес описан в терминах женского архетипа:
«С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которого никто еще никогда не видел.»
(«Улитка…», С.5)Перец, интеллектуал с Материка, попавший в Управление, соблазняется лесным обещанием изначальных, мистических, народных секретов:
«Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни […]
— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. […] — Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.
— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.
— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?»
(«Улитка…», С.20)Этот лес, с его «женственными» соблазнами, языческими духами и «непонятными» обитателями деревень, является символом русского народа (в противоположность интеллигенции) par excellence. Соответственно, представитель Востока — Ким — предупреждает наивного, ориентированного на Запад русского интеллектуала, что тот не найдет ничего, кроме «горьких истин», если попытается попасть в Лес — символически поддастся популистскому убеждению, что будущее России лежит в прошлом, в «стихийной» жизни народа.
Опыт Кандида (в части «Лес») подтверждает эти горькие истины: деревенские жители невежественны, охвачены предрассудками, невосприимчивы к просвещению, не говоря уже о демократических идеалах. Впрочем, они и не плохи, и обладают истинной верой. Это просто не та вера, которую интеллектуал способен разделить, или приспособить к своему, более усложненному взгляду на мир.
Кандид узнает из первых рук разницу между мечтой российского интеллектуала о мировой гармонии и «судьбой» жителей деревни. Жители деревни готовы раствориться в темном, все окружающем чреве Леса, поскольку они не обладают «маскулинным» активным началом:
«Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начали надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес всегда был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Это просто жизнь.»
(«Лес», С. 77–78)В таком случае, Лес — в первую очередь символ того, что Бердяев идентифицирует как реакционные, мистические, сектантские тенденции, неотъемлемые от «женского» характера русского народа, и лишь частично символ нацизма. Иными словами, немецкий фашизм «русифицирован» декорациями Леса.
Описание Стругацкими бюрократического Управления, пытающегося постичь Лес, также большим обязано исконной российской литературной и философской традиции, нежели Кафке.
Бердяев «предсказал» в вышеприведенной статье 1910 года, что русская интеллигенция будет пытаться постичь свою фатальную привязанность к мистической народности путем направления западной «методологии, сциентизма и критицизма» против народа. Так, на русской почве марксизм мутировал в сталинизм, а методология превратилась в свою противоположность — в абсурд.
Пейзаж Управления описан в терминах маскулинных архетипов — сухой, строгий, цивилизованный (городской), механический, проникающий:
«Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажных гаражей для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешенное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. […] Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще недостроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва.»
(«Улитка…», С.19)Теперь этот пейзаж узнается как знакомый прообраз пейзажа в романе «Град обреченный»: сине-зеленая пустота с одной стороны, Желтая Стена — с другой, «бесконечная пустота слева и бесконечная твердь справа, понять эти две бесконечности не представляется никакой возможности».
Любое число примеров из текста покажет, что разделенный пейзаж в романе «Улитка на склоне» является символическим представлением разделенной души и разделенной национальной идентификации.
В последнем аспекте роман должен быть рассмотрен как часть литературного и философского наследия, особенно знакомого российским читателям.
Дети
В произведениях Стругацких иногда фигурируют и дети, но они никогда не показываются как «нормальные», то есть «реалистичные» ребята. Наиболее разительные их черты — это сексуальная андрогинность и иномирное умственное развитие.
В романе «Гадкие лебеди» дочь Банева Ирма, как и ее одноклассники, значительно превосходит интеллектуальный уровень своих родителей:
«Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, длинноногая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. Это не ребенок, думал он ошеломленно. Дети так не говорят. Это даже не грубость, — это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно. Как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная.»[81]
Неестественно взрослое поведение Ирмы не сочетается с ее внешностью маленькой девочки. И остальные дети в произведениях Стругацких выказывают аналогичную несообразность.
Маленький мальчик Кир из романа «Волны гасят ветер» больше напоминает андрогинного «ребенка джунглей» из волшебной сказки, нежели «реального» маленького мальчика.
В романе «За миллиард лет до конца света» заботам одного из героев-ученых поручен его собственный пятилетний незаконный сын, о котором он не знал — очевидно, это часть замысла сверхцивилизации, целью которого является помешать ученому в работе. Мальчик странно серьезен и склонен к пророчествам, так что взрослые к нему относятся скорее со страхом, нежели со снисходительностью.
Дочь сталкера в романе «Пикник на обочине» — также таинственное андрогинное существо: походы ее отца в Зону вызвали в ней генетические изменения, так что с возрастом она превращается в заросшего золотистым мехом, не разговаривающего, похожего на обезьяну ребенка.
Характерные черты, присущие будущему поколению, развиты в не по годам развитом ребенке — родственнике фокусника в одной из наименее известных повестей Стругацких — «Отель „У погибшего альпиниста“» (1972). Главный герой ее — полицейский офицер, проводящий отпуск в простом отеле, где живут любители горных лыж. Нескольких деталей достаточно, чтобы понять: его жизнь дома полностью рутинна и избавлена от удивительных, а тем более сверхъестественных происшествий. Его пребывание в отеле «У погибшего альпиниста» оказывается приправленным необычными происшествиями, которые нелегко приводятся к обычным законным решениям и обыденным правилам, порядку, морали. Граница между необычным и действительно сверхъестественным остается неопределенной, чтобы показать напряжение между простой разгадкой центрального преступления романа и более трудным, требующим большей нравственной отваги, решением. Остальные гости, живущие в отеле, являются первым намеком на то, что главный герой попал в мир необычного.
Один из постояльцев — знаменитый фокусник Барнстокл, отдыхающий с еще более странным ребенком своего брата.
«…Длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее аристократическим носом. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.
— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.
— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.
— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?
Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то несвойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно.
— Какая прелесть! — пропел вдруг дю Барнстокр, хватая меня за лацкан. — Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!
В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.
— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.»[82]
На протяжении всего романа с Брюн связано местоимение среднего рода. Контексту стилизованной под fin du siecle атмосферы, напоминающей смесь отороченного кокаином декаданса и торжествующего рационализма в духе историй про Шерлока Холмса, странный ребенок вполне подходит. Впрочем, его присутствие дисгармонирует с тем очень приземленным миром советского быта, из которого прибыл главный герой — полицейский. Противопоставляются упорядоченный, рационализированный, «западный» взгляд на мир российского Шерлока Холмса и хаотический, волшебный, андрогинный мир странных постояльцев отеля.
Наконец, есть герой повести «Малыш» («The Kid») (1971 год), рожденный от родителей-людей, но выращеный негуманоидной «разумной» планетой, столь же непостижимой, как Солярис Лема. «Малыш» так хорошо был приспособлен к суровому миру планеты, что его контакт с людьми может закончиться только трагически.
Уже тогда одним из главных героев прямо формулируется вопрос, который почти всегда присутствует в описании Стругацкими иномирных детей:
«Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона… Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество, все-таки…»[83]
Дети всегда представляют в произведениях Стругацких будущее. Они — часть иной, чуждой реальности, той, в которую предстоит превратиться настоящему. Будущее, которое они представляют, — более совершенное, более логичное, более разумное, но всегда нечеловеческое будущее. Асексуальность детей просто еще одно указание на то, что будущее общество, которое они представляют, лишено человеческой теплоты и любви, равно как и «иронии и жалости».
В романе «Гадкие лебеди» Виктор Банев, защищая вечный гуманизм, переходит на оправдание иронии и жалости. Он противостоит федоровскому убеждению детей в возможности «строительства без разрушения»:
«— Ребята, — сказал Виктор. — Вы, наверное, этого не замечаете, но вы жестоки. Вы жестоки из самых лучших побуждений, но жестокость — это всегда жестокость. […] И не воображайте, что вы говорите что-то особенно новое. Разрушить старый мир, на его костях построить новый — это очень старая идея. Ни разу пока она не привела к желаемым результатам. То самое, что в старом мире вызывает особенно желание беспощадно разрушать, особенно легко приспосабливается к процессу разрушения, к жестокости, и беспощадности, становится необходимым в этом процессе и непременно сохраняется, становится хозяином в новом мире и в конечном счете убивает смелых разрушителей. Ворон ворону глаз не выклюет, жестокостью жестокость не уничтожить. Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!
— Боюсь, вы не так нас поняли, господин Банев, — сказал он [мальчик]. — Мы совсем не жестоки, а если и жестоки с вашей точки зрения, то только теоретически. Ведь мы вовсе не собираемся разрушать ваш старый мир. Мы собираемся построить новый. Вот вы жестоки: вы не представляете себе строительства нового без разрушения старого. А мы представляем себе это очень хорошо. […] Строить, господин Банев, только строить.»
(«Гадкие лебеди». с. 87–88)Речь Банева, будь она в произведении иного жанра — не беллетристическом эссе или историческом романе, могла бы быть приравнена к обвинению ленинизма и самой революции. Она не оставляет шансов предположению, что сам план Ленина — разрушить жесткость и несправедливость старой России был хорош, только вот позже его извратили сталинские садизм и паранойя. Она даже объясняет, почему ближайшие соратники Ленина в разрушении старого мира стали первыми жертвами нового. Внутри абстрактного или «будущего» хронотопа научной фантастики речь Банева действует как пророчество или предостережение. В то время, как описания современного быта и речи «реалистических» персонажей (противопоставляемых чужакам и детям) подтверждают, что марксизм практически полностью был в Советском Союзе дискредитирован, они также показывают, что пустота не заполняется гуманистической культурой «иронии и жалости». Вместо того оживает старая и опасная мечта, проистекающая из «восточных» глубин российского характера.
Новое решение проблем евразийской империи снова принимает популярную форму гностических и нигилистических систем, игнорирующих настоящее во имя более совершенного будущего, в котором будут запрещены хаос и случайность.
Вечный Жид
На протяжении всего зрелого периода творчества Стругацких сопоставление приземленного и фантастического, настоящего и будущего, человеческого и чуждого использовалось как приспособление для оправдания научно-фантастического сюжета. На уровне темы эти противопоставления служили для показа того, что общество в состоянии кризиса склонно изобрести жестокое, нечеловеческое будущее, безжалостное, хотя действует оно во имя научного или религиозного идеализма. Когда гуманистические предположения (человек по природе своей добр) и тактика (достижение более высокого уровня жизни и образования) оказываются неспособны принести лучший мир — даже с помощью фантастической технологии XXII века, реакцией на гуманизм и нетерпение по отношению к самой истории является неизбежной альтернативой для тех, кто по прежнему хочет видеть реализованным некое утопическое общество.
Как мы видели, женщины в романах Стругацких обычно представляют достойное сожаления нынешнее состояние человечества, порабощенного основными инстинктами.
Дети и инопланетяне обычно представляют альтернативное, «иномирное», «духовное» будущее.
Далее, даже декорации и топография могут воплощать метафизические полюса, противостоящие — и зачастую парализующие — «обычного» героя романа.
Типичный герой Стругацких исходит из реалистического плана повествования, до тех пор, пока он не столкнется с миром фантастических подтекстов и литературных пейзажей. Герой — атеист по воспитанию, гуманист по убеждениям.
В заключение можно утверждать, что Стругацкие лично не придерживаются дуалистической метафизики, описываемой в их романах. Чисто духовное, нечеловеческое будущее, показанное в их произведениях, выглядит столь же нежелательным, как и настоящее. Светские гуманисты всегда ставятся перед выбором из двух зол, одно из которых Абсолютное Добро. В этом смысле Стругацкие пишут антиутопии (не дистопии).
Достаточно интересно, что в некторых из наиболее сложных попыток Стругацких совместить философию с выдумкой появляется новый тип героя способного пройти по тонкой границе между утопическим и антиутопическим решениями. Этот новый герой — осовремененная версия легендарного Вечного Жида.
Легенда о Вечном Жиде приобрела отчетливые очертания в памфлете 1602 года, озаглавленном «Kurtze Beschreibund und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahasverus».[84] Этот памфлет дает всей истории оболочку: когда Христос по дороге к распятию нес крест, он немного отдохнул у дома какого-то еврея. Еврей не позволил ему отдохнуть, и сказал ему, чтобы он продолжал идти. Христос ответил: «Я останусь здесь и отдохну, а ты должен идти!» Оскорбивший Христа Вечный Жид ходит по Земле до сих пор. Памфлет этот переводился на многие языки, в том числе и на русский.[85]
Еврей Изя Кацман, наряду с русским Андреем, является одним из двух главных героев романа «Град обреченный». Изя не является позитивным воплощением «нового человека», каких мы находим на пути к коммунистической утопии XXII века в ранних работах Стругацких. Он также не принадлежит к тем запутавшимся и лишенным иллюзий интеллектуалам, которые действуют в большинстве произведений Стругацких, написанных после «Трудно быть богом» (1964). Он не представляет собой и чуждое будущее, характеризуемое равнодушием к прошлому и решительным отрицанием настоящего. Изя признанный традиционалист, ищущий в прошлом культуры строительный материал для будущего. Духовная сущность Изи не стремится отделиться от человеческого и низкого. Напротив, он буквально погряз в материальном («отягощен злом»), поскольку он редко моется и бреется. Изя подпадает под классический стереотип Вечного Жида как неопрятного, бородатого, растрепанного субъекта.
Однажды Андрей описывает его так:
«Страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом, серой от пыли шевелюрой, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывало волосатое мокрое тело. Бахрома его порток едва прикрывала колени, а правый башмак вопиял о каше, выставляя на свет грязные пальцы со сломанными черными ногтями…»
(с.468)Но, как ворчливо-саркастически замечает Андрей, этот растрепанный странник — «Корифей духа. Жрец и апостол вечного храма культуры…» (с. 468).
Изя единственный, кто поднимается над материальными и политическими иллюзиями, которыми живут Андрей и остальные «обреченные» горожане. Во второй половине романа, когда они с Андреем, покинув Город, бредут сквозь время и место в поисках Антигорода, метафорически путешествуя по преисподней, он говорит о «храме культуры». Невзирая на препятствия, он должен сделать свой вклад в строительство этого храма. Храм культуры, по словам Изи, — это памятник человечества духу, он создается из благородных деяний и великих произведений искусства. Он строится случайно и периодически на протяжении всей истории человечества немногими избранными, способными выразить в словах, образах или деяниях узнавание человеком самого себя в неком трансцендентном начале:
«…Я знаю совершенно точно: что храм строится, что ничего серьезного, кроме этого, в истории не происходит, что в жизни у меня только одна задача — храм этот оберегать и богатства его приумножать. Я, конечно, не Гомер и не Пушкин — кирпич в стену мне не заложить. Но я — Кацман! И храм этот — во мне, а значит, и я — часть храма, значит, с моим осознанием себя храм увеличился еще на одну человеческую душу. […] Ничего я этого не понимаю, сказал Андрей. Путано излагаешь. Религия какая-то: храм, дух… Ну еще бы, сказал Изя, раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия.»
(с. 478)Читатель, конечно, может узнать то, чего не узнает Андрей: в вере Изи в храм нет ничего оригинального, она заимствована прямиком из западной традиции светского гуманизма. Впрочем, в образе Изи Стругацкие впервые разделили западный идеал светского гуманизма и «восточное» стремление к утопии. Идеал помещен в грубое, негероическое тело одного из уцелевших; он больше не относится к характеристике «нового человека». Изя — не оптимистичный Прогрессор XXII века, несущий «слово» отсталым планетам; не является он также агентом Странников, люденов или мокрецов. Хотя он и выполняет ту же самую роль, что и остальные иномирные «крысоловы», уводя Андрея прочь от материального комфорта, скуки и духовной пустоты большинства, но он не уводит его в нечеловеческое будущее, хорошее или плохое. Изя — постоянно человек, как воплощение Вечного Жида, он всегда остается на земле, на что указывает и его большее внимание к экологии, а не к технике:
«…И ни одна [из моих дочек] не знает, что такое кета. Я им объяснил, что кета и осетрина — это такие вымершие рыбы. А они будут то же самое рассказывать своим детям про селедку.»
(с. 476)В своем исследовании архетипа Вечного Жида Г.Андерсон рассматривает новую роль странника в XX веке:
«…Вечное скитание является самым тяжелым наказанием во многих мифологиях. Проклятие проистекает от чрезмерной гордости, и именно из-за этого греха пали ангелы. И когда нынешние люди унаследовали легенду, им показалось, что суть ее — Ecce Homo! Да, этот человек согрешил и был наказан — среди всех тех ужасов; но взгляните снова: он представляет дух восстания, непобедимой отваги, самой еврейской нации; и „всего непреодолимого“.»
(Андерсон, С.10)Изя построил в пустыне пирамидку из камней, под которой спрятал «Путеводитель по бредовому миру», описывающий путь от конца истории («Хрустального Дворца» Чернышевского, означающего полное материальное изобилие) до конца мира (истинного духовного просветления). Начальное непонимание Андреем сути Изиного храма культуры сменяется восхищением финалом их совместного путешествия:
«Нет, ребята, подумал он [Андрей]. Все правильно и все верно: никакой нормальный человек до этой пирамиды не доберется. Нормальный человек, как до Хрустального Дворца дойдет, так там на всю жизнь и останется. Видел я их там — нормальных людей… […] Нет, ребята, если сюда кто-то и доберется, так только какой-нибудь Изя-номер-два… И как он раскопает эту пирамиду, как разорвет конверт, так сразу про все и забудет — так и умрет здесь, читаючи… Хотя, с другой стороны, меня ведь сюда занесло?.. Чего для?»
(с. 476)Изя является наиболее ранним воплощением Вечного Жида, появляющимся в произведениях Стругацких, и его присутствие указывает на то, что авторы поставили себе новую художественную задачу: искать не столько «нового человека» будущего, сколько те черты в людях настоящего, которые позволят немногим двигаться дальше.
Заключение
Постскриптум о науке в научной фантастике Стругацких
В предыдущих главах я выявила апокалиптический мотив в творчестве Стругацких и рассмотрела, как эти авторы используют некоторые условности научно-фантастического жанра для двойной экспозиции — двух повествовательных планов: 1) реалистического описания современного общества в кризисе; 2) фантастического описания мифов этого общества о происхождении, значении и путях выхода из кризиса.
Было четко показано, что «апокалиптический реализм» не полагается на науку и технологии ни для образов, ни для мотивации сюжета. Роль науки в произведениях Стругацких одновременно и меньше, и глубже. Парадигмы науки, равно как и парадигмы религии и искусства, присутствуют и обладают глубоким значением прообразов во всех произведениях Стругацких.
Развитие науки, динамика научных сообществ, «способ, которым делалась наука» в бывшем Советском Союзе и феномен «стругацкизма» (то есть жадное поклонение читателей) среди российской научной и технической интеллигенции — все это тесно связано и открыто для изучения с междисциплинарной точки зрения.
Надо учитывать и последние изменения фокуса (то есть доминирующих научных направлений) в физике, математике, генетике, нейробиологии и т. д.
Надо учитывать и связи Стругацких — личные и профессиональные — на протяжении последних четырех десятилетий — с работающими российскими учеными.
Надо учитывать и то, как именно Стругацкие становились в курсе и как они реагировали на изменение научных парадигм, отражая это в своем творчестве.
В последней главе мы выясняем, что «новый человек» Стругацких постепенно замещается двумя символическими фигурами: безмерно чуждой, воплощающей нереалистические и опасные утопические ожидания в упоминании лучшего общества, и Вечного Жида, олицетворяющего способность существовать без иллюзий.
Далее, оптимисты-ученые, работавшие в институте парапсихологии (роман «Понедельник начинается в субботу», 1965), оказались брошены в безнедежный бой с силами, выходящими за пределы их контроля («За миллиард лет до конца света», 1976).
Надо вспомнить, что советский «новый человек» был не только обязательным строителем коммунизма в советской реалистической литературе и пропаганде, но и — в 1960-е — положительным новым образом образованного гражданина с надеждами на то, что развитие науки (в частности, кибернетики) будет сочетаться с социальным прогрессом.
Наиболее популярное из ранних произведений Стругацких, «Понедельник начинается в субботу», показывает «новых людей» этого поколения за работой: молодые ученые-энтузиасты с впечатляющими результатами преодолевают как и технологические препятствия, так и жесткость советской бюрократиию Роман был tour de force юмористичского социального моделирования и похожей на истину commedia dell'arte существующих структур научно-исследовательского сообщества.
Теперь мне кажется, что заметное изменение в стиле и тоне позднейших работ Стругацких также отражает изменение в динамике научных сообществ, которые Стругацкие моделировали. Я не рассматривала это здесь, поскольку данная тема представляет собой продолжение настоящего исследования, равно как и удобное заключение.
Распад Советского Союза вызвал исход научных талантов из России — на Запад. Таким образом, остающиеся ученые, не покинувшие ни страны, ни занятий, остались без фондов и оборудования (государство больше не могло их предоставлять), без коллег и без преемственности поколений, обеспечивавшей в данном обществе передачу научной традиции. Многое уже сделано, как в научных, так и в правительственных кругах, как на Востоке, так и на Западе, по поводу «апокалиптического» положения научного сообщества России. Негативные аспекты «утечки мозгов» уравновешиваются надеждами на продуктивное сотрудничество истинно интернационального научного содружества.
В любом случае, похоже, что научная фантастика Стругацких приобретет новое значение в истории науки — как портрет интеллектуальных, межличностных, политических, лингвистических и мирских устоев, формировавших научную культуру в Советском Союзе.
Приложение
Хронологический обзор прозы Стругацких
Наиболее полный список всех рассказов, книг, пьес, статей, сценариев фильмов и критических работ составлен в частном порядке «Люденами», небольшой группой учеников Стругацких, обменивающихся между собой изданием под названием «Понедельники».
Российский издательский кооператив «Текст» (125190, Москва, А-190, а/я 89) составляет полную библиографическую справку по Стругацким (дата публикации неизвестна).
В хронологическом обзоре романы и повести Стругацких перечислены ниже в соответствии с датами первых публикаций в Советском Союзе. За несколькими исключениями, все эти произведения много раз переиздавались и включались в сборники различными отраслями советского книгоиздания.
1959.Страна багровых туч.
1960.Путь на Амальтею.
1962.Стажеры.
1962.Попытка к бегству.
1962.Полдень, XXII век; переработан, расширен и издан в 1967.
1963.Далекая Радуга.
1964.Трудно быть богом.
1965.Понедельник начинается в субботу.
1965.Хищные вещи века.
1966.Улитка на склоне; только главы «Кандид». Впоследствии не рекомендовано к изданию.
1967.Второе нашествие марсиан. Впоследствии не рекомендовано к изданию.
1968.Улитка на склоне; Только главы «Перец». Впоследствии не рекомендовано к изданию.
1968.Сказка о Тройке. Впоследствии не рекомендовано к изданию.
1969.Обитаемый остров.
1970.Отель «У Погибшего Альпиниста».
1971.Малыш
1972.Пикник на обочине.
1974.Парень из преисподней.
1976.За миллиард лет до конца света.
1979.Жук в муравейнике.
1985.ВНВ.
1986.Хромая судьба. Часть этого романа была написана в начале 1970-х, и он включает в себя текст романа «Гадкие лебеди» внутри основного текста.
1987.Гадкие лебеди. Написан в начале 1970-х, опубликован на Западе в 1972 (в Германии) и 1979 (английский перевод).
1988.Град обреченный. Написан в середине 1970-х.
1988.Отягощенные злом, или Сорок лет спустя.
Избранная библиография
1. Работы А. и Б.Стругацких
Русскоязычные издания, цитируемые в основном тексте, в хронологическом порядке публикаций.
Лес. Ann Arbor: Ardis, 1981. Содержит главы «Кандид» из повести «Улитка на склоне».
Улитка на склоне. Frankfurt/Main: Possev Verlag, 1972. Содержит только главы «Перец».
Отель «У Погибшего Альпиниста». М.: Детская литература, 1983.
Малыш. Мельбурн (Австралия): Изд-во Артол, 1985.
За миллиард лет до конца света // Стругацкий А., Стругацкий Б. Избранное. М.: Московский рабочий, 1990. — С. 3–102.
Жук в муравейнике // Жук в муравейнике: Рассказы и повести. Рига: Лиесма, 1986.
Волны гасят ветер. Хайфа (Израиль): Б.и., 1986.
Хромая судьба // Хромая судьба; Хищные вещи века. — М.: Книга, 1990. С. 3–283.
Град обреченный // Стругацкий А., Стругацкий Б. Избранное. М.: Московский рабочий, 1990. — С. 169–483.
Отягощенные злом, или Сорок лет спустя // Стругацкий А., Стругацкий Б. Избранное. М.: Московский рабочий, 1990. — С. 484–639.
«Жиды города Питера…», или Невеселые беседы при свечах // Нева. — 1990. - № 9. — С. 92–115.
2. Английские переводы произведений Стругацких
Следующие произведения были опубликованы в твердом переплете издательством «Макмиллан» в серии «Best of Soviet Science Fiction Series» (New York: Macmillan Publishing Co., Inc.) и переизданы в бумажных обложках издательством «Солльер Букс» (New York: Collier Books). В общем переводы достаточно хорошие.
Roadside Picnic / Tale of the Troika. Macmillan, 1977. «Roadside Picnic» был также опубликован в бумажной обложке: Penguin Books, 1982.
Prisoners of Power. Macmillan, 1977; Collier, 1978. Это перевод повести «Обитаемый остров».
Definitely Maybe. Macmillan, 1978; Collier, 1978. Это перевод повести «За миллиард лет до конца света».
Noon: 22nd Century. Macmillan, 1977; Collier, 1979.
Far Rainbow / The Second Invasion from Mars. Macmillan, 1979; Collier, 1980.
Beetle in an Anthill. Macmillan, 1980.
Escape Attempt. Macmillan, 1982.
The Ugly Swans. Macmillan, 1979; Collier, 1980.
Вне серий издательства «Macmillan» на английском языке были опубликованы следующие произведения:
Hard to Be a God. New York: DAW Books, Inc., 1973.
Monday Begins on Saturday. New York: DAW Books, Inc., 1977. Этот перевод не соответствует одному из популярнейших произведений Стругацких, но читать его можно.
The Final Circle of Paradise. New York: DAW Books, Inc., 1976. Это перевод повести «Хищные вещи века».
The Snail on the Slopf. New York: Bantam Books, 1980. Это издание включает в себя информативное предисловие Д.Сувина.
The Time Wanderers. New York: St. Martin's Press, 1986. Это исключительно плохой перевод романа «Волны гасят ветер».
3. Книги, статьи, интервью
Adorno, T. «Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda.» // The Essential
Alewyn, R. «Das Ratsel des Detektivromans.» // Definitionen: Essays zur Literatur, 117–136. Frankfurt/Main, 1963.
Амусин М. Далеко ли до будущего? // Нева. — 1988. - № 2. — С. 153–160.
Anderson, G. The Legend of the Wandering Jew. Providence: Brown University Press, 1965.
Arendt, H. On Revolution. New York: Viking, 1963.
Auerbach, E. «„Figura“ in the Phenomenal Prophecy of the Church Fathers.» // Scenes from the Drama of European Literature. New York, 1959.
Бартольд В.В. «Мусейлима» // Сочинения: работы по истории ислама и арабского халифата. Т.6. Москва: Академия наук, 1966. — С. 549–574.
Bailes, K. «Science, Philosophy and Politics in Soviet History: The Case of Nikolai Vernadski.» // Russian Review 40, no. 3 (July 1981): 278–299.
Бердяев Н. Русская идея. Paris: YMCA Press, 1946. Переведено как: The Russian Idea. New York: Macmillan, 1948.
Berdiaev, Nikolai. «An Astral Novel: some Thoughts on Andrei Bely's Petersburg.» // The Noise of Change. Translated and edited by Stanley Rabinowitz. AnnArbor: Ardis, 1986.
Bethea, D. The Shape of the Apocalypse in Modern Russian Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Bloch, E. The Utopian Function of Art and Literature: Selected essays. Translated by Jack Zipes and Frank Mecklenburg. Cambridge: МIT Press, 1988.
Бочаров А. Литература и время: Из творческого опыта прозы 60-х — 80-х годов. М., 1988.
Бритиков А.Ф. «Детективная повесть» в контексте приключенческих жанров // Русская советская повесть 20-х — 30-х годов. Л., 1976.
Бритиков А.Ф. Советский научно-фантастический роман. Л., 1970.
Browning, R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. 3. Ohio University Press, 1971.
Cioran, S. Vladimir Soloviev and the Knighthood of the Divine Sophia. Canada:: Wilfred Laurier University Press, 1977.
Court, J. Myth and History in the Book of Revelation. Atlanta: John Knox Press, 1979.
Csicsery-Ronay, I. «Towards the Last Fairy Tale: On the Fairy Tale Paradigm in the Strugatskys' Science Fiction, 1963-72.» // Science Fiction Studies 13 (1986): 1-41.
Dunham, Vera. In Stalin's Time: Middleclass Values in Soviet Fiction. Cambridge
Dodds, E. R. «On Misunderstanding Oedipus.» // Greece and Rome 13, 1966.
Eickelman, D. «Musaylima: An Approach to the Social Anthropology of Seventh-Century Arabia.» // Journal of the Economic and Social History of the Orient 10 (July, 1967): 17–52.
Федоров Н. Философия общего дела. Edited by Peterson. 2 vols. England: Gregg International Publishers, 1970.
Фролов А.Ф. Научно-фантастическое произведение и его читатель: Повесть А. и Б.Стругацких «За миллиард лет до конца света» // Проблема жанра. Душанбе, 1984.
Fisch, H. A Remembered Future. Bloomington: Indiana University Press, 1984.
Галинская И.Л. Загадки известных книг. М.: Наука, 1986.
Геллер Л. Вселенная за пределом догмы. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1985.
Grahaia, L. Science, Philosophy and Human Behavior in the Soviet Union. New York: Columbia University Press, 1987.
Greene, D. «Male and Female in The Snail on the Slope by the Strugatsky Brothers.» // Modern Fiction Studies 32, no. 1 (Spring 1986): 97-107.
Heisserbuttel, H. «Spielregein des Kriminalromans.» // Trivialliteratur, 162–175. Berlin: Schmidt-Henkel, 1964.
Holquist, M. «The Philosophical Bases of Soviet Space Exploraion» // The Key Reporter 51, no. 2 (Winter 1985-6).
Jameson, F. «Generic Discontinuities in Science Fiction: Brian Aldiss' Starship.» // Science Fiction Studies 1: 1973.
Jonas, H. The Gnostic Religion. Sd ed. Boston: Beacon Press, 1963.
Каганская М. «Роковые яйца (Раздумья о научной фантастике вообще и братьях Стругацких в особенности)» // Двадцать два. №№ 43, 44, 55. - 1985-7.
Канчуков Е. «Детство в прозе Стругацких» // Детская литература, 57, № 3 (1988): 29–33.
Ляпунов Б. В мире фантастики. — М. 1975.
Lieu, S. N. C. Manichaeism in the later Roman Empire and Medieval China: a historical survey. Manchester and Dover, N.H.: Manchester University Press, 1985.
Lotman, Iu. M. and Uspenskii, B. A. «Binary Models in the Dynamics of Russian Culture.» // The Semiotics of Russian Cultural History. Edited by Alexander and Alice Nakhimovsky, 30–66. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985.
Лемхин М. Три повести братьев Стругацких // Грани 139 (1986): 93-117.
Manuel F.E., and Manuel, F.P. Utopian Thought in the Western World. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1979.
Marsch, E. Die Kriminalerzahlung: Theorie, Geschichte, Analyse. Munich, 1972.
Masing-Delic, I. «Zhivago as a Fedorovian Soldier» // Russian Review 40, no. 3 (July 1981): 300–316.
McGuire, P. «Future History, Soviet Style: The Work of the Strugatsky Brothers» // Critical Encounters. Edited by Tom Staicar. New York, 1982.
Mieder, W. Tradition and Innovation in Folk Literature. Hanover and London: University Press of New England, 1987.
Nakhimovsky, A. S. Laughter in the Void. An Introduction to the Writings of Daniil Kharms and Alexander Vvedenskii. Vienna: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 5, 1982.
Perrie, M. «Popular Socio-Utopian Legends in the Time of Troubles» // Slavonic and East European Review 60, no. 2, 1982.
Пятигорский А. Заметки о «метафизической ситуации» // Континент 1 (1974): 211–224. Переведено как: Remarks on the «Metaphysical Situation» // Kontinent, 51–62. New York: Anchor Press, 1976.
Prawer, S. Heine's Jewish Comedy. A Study of his Portraits of Jews and Judaism. Oxford: Clarendon, 1983.
Quispel, G. Gnostic Studies. 2 vols. Istanbul, Leiden: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, 1974.
Rabinowitz, S. trans. and ed.. The Noise of Change: Russian Literature and the Critics 1891–1917. Ann Arbor: Ardis, 1986.
Revzin, I.I. «Notes on the Semiotic Analysis of Detective Novels, with Examples from the Novels of Agatha Christie» // New Literary History 9, no. 2 (1978): 385-8.
Rose, M. Alien Encounters. An Anatomy of Science Fiction. Cambridge: Havard University Press, 1981.
Sandoz, E. Political Apocalypse. A Study of Dostoevsky's Grand Inquisitor. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1971.
Scholes, R., and Rabkin, E. Science Fiction. Oxford, New York: Oxford University Press, 1977.
Seifrid, T. «Writing Against Matter: On the Language of Andrei Platonov's Kotlovan». // Slavic and East European Journal 31, no. 3 (Fall 1987): 370–387.
Suvin, D. Metamorphoses of Science Fiction. New Haven: Yale University Press, 1979.
Suvin, D. «Criticism of the Strugatsky Brothers' Work.»// Canadian-American Slavic Studies 6, no. 2 (Summer 1972): 286–307.
Стругацкий А.Н. Исполнение желаний // Литературная учеба. 6, 1985.
Стругацкий Б.Н. «Арьегадные бои феодализма» // Литератор 14, no. 9 (Mar. 1990).
Стругацкий А.Н. и Стругацкий Б.Н. «Через настоящее — в будущее» // Вопросы литературы 8, 1964.
Стругацкий А.Н. и Стругацкий Б.Н. «Нет, фантастика богаче» // Литературная газета (Dec. 3), 1964.
Стругацкий А.Н. и Стругацкий Б.Н. «Давайте думать о будущем» // Литературная газета (Feb. 4), 1970.
Стругацкий А.Н. и Стругацкий Б.Н. «Жизнь не уважать нельзя» // Даугава, 1987.
Стругацкий А.Н. и Стругацкий Б.Н. «Между прошлым и будущим» // Литературное обозрение 16, no. 9, 1989.
Стругацкий А.Н. и Стругацкий Б.Н. «В зеркалах будущего» // Литературное обозрение 6, 1989.
Семенова С. «Идея жизни у Андрея Платонова» // Москва 32, 1988.
Teskey, A. Platonov and Fedorov. The influence of Christian philosophy on a Soviet Writer. England: Avebury Publishing Company, 1982.
Todorov, T. «The Typology of Detective Fiction.» // The Poetics of Prose, 42–52. Cornell: Cornell University Press, 1977.
Васюченко И. «Отвергнувшие воскресенье» // Знамя 5 (1989): 216–225.
White, J. Mythology in the Modem Novel. A Study of Prefigurative Techniques. Princeton: Princeton University Press, 1971.
Wiles, P. «On Physical Immortality. Materialism and Transcendence» // Survey 56, 57 (1965): 125–143, 142–161. Включает анализ убеждений Федорова в области физического бессмертия.
Yates, F. The Art of Memory. Chicago: University of Chicago Press, 1966.
Young, G. Fedorov. An Introduction. Belmont, Mass.: Nordland Publishing, 1979.
Ziolkowski, T. Fictional Transfigurations of Jesus. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1972.
Примечания
1
«Жиды города Питера», или Невеселые беседы при свечах // Нева. — 1990. № 9. — С. 92–115.
Эпиграф из Акутагавы цитируется по этому изданию, с.92.
(обратно)2
Suvin D. Metamorphoses of Science Fiction. - New Haven: Yale University Press, 1979. - P.6.
(обратно)3
Примером этого может служить начальное восприятие повести Стругацких 1968 года «Улитка на склоне». Необычная структура и сюрреалистическая образность повести составили драматический разрыв с предыдущим, более привычным циклом «истории будущего», породив многие противоречивые интерпретации миров «Леса» и «Управления». На самом деле, большая часть характерных для Стругацких тем и противопоставлений наличествует и в повести «Улитка на склоне», как доказывается в Главе 4.
(обратно)4
Амусин М. Далеко и до будущего? // Нева. — 1988. - № 2. — С.153.
(обратно)5
Лемхин М. Три повести братьев Стругацких // Грани. — 1986. - № 139. С.92.
(обратно)6
Первые три повести — «Страна багровых туч» (1959), «Путь на Амальтею» (1960) и «Стажеры» (1962).
Рассказы появлялись с 1959 по 1960 год в ежемесячных выпусках научно-популярного журнала «Знание — сила», затем они зачастую включались в сборники.
(обратно)7
Наиболее значимым непосредственным предшественником Стругацких в жанре научной фантастики был Иван Ефремов, практически в одиночку освободивший жанр из его заточения в безопасных границах рассказов о борьбе человека с природой и/или врагами-империалистами, длившегося в течение господства «высокого» социалистического реализма, приблизительно с 1934 по 1954 годы. Ключ к изначальному успеху Стругацких и сути их отхода от наследия Ефремова заключается в их стилистическом «реализме», противопоставленном высокопарным, «классицистическим» героям будущего из романов Ефремова. Мир будущего по Стругацким имел «живой» вид.
(обратно)8
Дарко Сувин, «Введение» к роману Стругацких «Улитка на склоне» (Darko Suvin. «Introduction» // The Snail on the Slope. - Bantam Books, 1980).
Там представлен краткий впечатляющий анализ творчества Стругацких до 1968 года.
«Трудно быть богом» был опубликован отдельно, без предисловия (Hard to Be a God. - New York: DAW Books, Inc., 1973).
(обратно)9
McGuire P. Future History, Soviet Style // Critical Encounters / Ed.T.Staicer. - New York, 1982. - P. 104–124.
(обратно)10
Стругацкий А., Стругацкий Б. Волны гасят ветер. — Хайфа (Израиль): Б.и., 1986. — С. 140–141.
(обратно)11
См. Csicziny-Ronay I., jr. Towards the Last Fairly Tale: Paradigm in the Strugatskys' Science Fiction 1963-72. // Science-Fiction Studies (Montreal). - 1986. - Vol. 13, Pt.1. - March. - P. 1–42.
(обратно)12
Даниил Андреев в «Розе мира» относится к работам русских символистов рубежа веков как к творениям «сквозящего реализма», чьи символические образы позволяют реальному (в понимании Андреева) просветить наш мир, подобно тому, как свет сияет сквозь щель в двери.
(обратно)13
Н.Бердяев. Русская идея. — Paris: YMCA Press, 1946.
Бердяев (1874–1948) эмигрировал из России в 1922. Его работы по философии религии, этики и истории, основанные на его концепции свободы и человеческой личности, вошли в моду в России периодов гласности и следующего за ней.
(обратно)14
Ю. Лотман и Б.Успенский. Бинарные модели в развитии русской культуры: Iu.Lotman, B.Uspenskii. Binary Models in the Dinamics of Russian Culture // The Semiotics of Russian Cultural History / Ed. by A.D. Nakhimovsky, A.S.Nakhimovsky. - Ithaka: Cornell University Press, 1985. — С.32.
(обратно)15
E.Auerbach. Figura in the Phenomenal Prophecy of the Church Fathers // Scenes from the Drama of European Literature. - New York, 1959. - P.30.
(обратно)16
Теоретическое рассмотрение литературных прообразов основано на работах: J.J.White. Mythology in the Modern Novel: A Study of Prefigurative Techniques. - Princeton University Press, 1971; Th.Ziolkowski. Fictional Transfiguration of Jesus. - Princeton University Press, 1972.
(обратно)17
Frances A. Yates. The Art of Memory. - Chicago: University of Chicago Press, 1966.
(обратно)18
Yates, P.16.
(обратно)19
Howell W.S. The Rhetoric of Charlemagne and Alcuin. - Princeton and Oxford, 1941. - P.136.
(обратно)20
Роман «Обитаемый остров» был переведен на английский язык как «Prisoners of Power» (New York: Macmillan, 1977) с предисловием Т.Старджона.
В этом романе Максим Каммерер предстает как новичок-прогрессор, попавший на планету, населенную в неком роде антицивилизацией — мир после ядерной войны поделен между враждующими тоталитарными режимами. Он пытается присоединиться к небольшой группе диссидентов и помочь свергнуть существующий режим. Его намерения — и характерное для приключенческого романа деление на «хороших» и «плохих» парней — подрываются политической и психологической многозначностью. Диссиденты столь же непривлекательны и марионеточны, сколь и правящая элита.
Роман является классическим примером использования «эзопова языка» и условностей научной фантастики для обмана цензуры при очевидном критическом изображении советской политической действительности. Но даже в этом случае Стругацкие были вынуждены идти на компромисс с цензурой и изменить многие моменты исходного текста.
Исходный текст будет доступен, когда появится новое издание, подготавливаемое издательством «Текст».
Как «эзопов» портрет социальных, политических и психологических напряжений внутри советского общества на грани застоя (1970-х годов), роман прослеживал контуры гласности и перестройки задолго до того, как кто-либо, включая самих авторов, мог точно предсказать их появление.
(обратно)21
Ссылки на страницы в тексте относятся к книжному изданию произведения вместе с несколькими более ранними работами: Жук в муравейнике: Повести и рассказы. — Рига: Лиесма, 1986.
(обратно)22
Каганская М. Роковые яйца // Двадцать два (Израиль). - 1987. - № 55. С.173.
(обратно)23
Братья Гримм скомпилировали свою версию легенды из нескольких уже существовавших источников, но после ее публикации в 1816 г. версия братьев Гримм стала первичным текстом, с которым сравнивались последующие адаптации.
(Mieder W. Tradition and Innovation in Folk Literature. University Press of New England, 1987. - P.54).
(обратно)24
Перевод А.Желтухина.
(обратно)25
Было ли убийство Абалкина справедливым? Этот вопрос вызвал жаркие дискуссии в среде поклонников Стругацких. В клубах любителей фантастики этому посвящались (безрезультатно) целые вечера.
(обратно)26
Волны гасят ветер // Знание — сила. — 1985. - №№ 6-12; 1986. - №№ 1–3.
Перепечатано за границей и распространяется фирмой Кешет (Хайфа, Израиль).
Страницы приводятся по этому изданию.
(обратно)27
Во имя Прогресса современные общества (как на Востоке, так и на Западе) ищут путь к утопии в научных и технологических «решениях». В результате обещанный религией Апокалипсис угрожает уже с другой стороны: опасностью развязанной человеком ядерной катастрофы или разрушения биосферы.
Стругацкие четко выявили связь между культурным апокалипсисом и катаклизмами окружающей среды. В то время как данное обсуждение сосредотачивается на апокалиптических результатах основных марксистско-ленинских постулатов о «научном» историческом и экономическом развитии, сопутствующее разрушение окружающей среды по идеологическим и политическим причинам всегда подразумевается.
Уже в раннем произведении «Далекая Радуга» (1962) технология вызывает катастрофу.
«Пикник на обочине» (1972) оказался превосходной моделью того, как военно-промышленный комплекс (капиталистический или социалистический) не может ограничить неподконтрольную технологию, но вместо этого стремится преуспеть с ее помощью, не обращая внимания на риск для населения.
(обратно)28
Ziolkowski Th. Fictional Transfigurations of Jesus. - Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1972. - P.10.
Он добавляет: «Воскрешение относится к миру христианской веры; исторический Христос был распят, но только Христос веры воскрес».
(обратно)29
Revzin I.I. Notes on the Semiotic Analysis of Detective Novels: With Examples from the Novels of Agatha Christie // New Literary History. 1978. - Vol.IX. - № 2 (Winter). - P. 385–388. - (Перепечатка, перевод).
Оригинальная публикация: Ревзин И.И. Заметки о семиотическом анализе детективных романов: С примерами из романов Агаты Кристи // Программа и тезисы докладов в летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964.
Ревзин формулирует вывод из семиотического анализа традиций детективных повествований: «Детективный роман — конструкция, в которой за знаком не стоит никакой реальности».
(обратно)30
Heissenbuttel. Spielregeln des Kriminalromans // Uber Literatur. - Olten: Walter-Verlag, 1966. - P. 96–112.
(обратно)31
Читатели, знакомые с первой главой булгаковского «Мастера и Маргариты» узнают аналогии между материализацией Альбины в полуденную жару, ее «дьявольски элегантным стилем», ее баритоном и появлением Дьявола перед двумя писателями на Патриарших прудах.
(обратно)32
Даниил Хармс (1905–1941) и Александр Введенский составляли ядро недолгого «абсурдистского» движения в российской литературе конца 1920-х годов. Оба писателя умерли в заключении в 1941 году, и только по прошествии примерно двух десятилетий самиздатовские копии некоторых их произведений снова стали циркулировать. Хорошо известная Хармсовская пародия на Толстого существует в самиздате.
(обратно)33
Полное рассмотрение мотива Пестрого Флейтиста в поэме Цветаевой можно найти в книге: Wytrzens G. Eine russische dichterische Gestaltung der Sage vom Hamelner Rattenfanger. - Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaft, 1981. - Band 395.
(обратно)34
Отягощенные злом, или Сорок лет спустя // Стругацкий А., Стругацкий Б. Избранное. — М.: Московский рабочий, 1990. — С. 484–639.
(обратно)35
Заглавная кириллическая буква «З» выглядит очень похожей на арабскую цифру «3». Русский читатель может их спутать.
(обратно)36
Anderson G. The Legend of the Wandering Jew. - Brown University Press, 1965. - P.12.
(обратно)37
Бартольд В.В. Мусейлима // Бартольд В. Сочинения. — М.: Акад. наук, 1966. — Т.6: Работы по истории ислама и арабского халифата. — С. 49–74.
(обратно)38
Eickelman D.F. Musaylima: an approach to the social anthropology of seventh century Arabia // Journal of the Economic and Social History of the Orient (Brill-Leden; the Netherlands). - 1967. - Vol.X (July). - P.45.
(обратно)39
Град обреченный // Стругацкий А., Стругацкий Б. Избранное. — М.: Московский рабочий, 1990. — С.483.
(обратно)40
Режиссер Абуладзе использовал тот же самый ужасающий образ в фильме «Покаяние», когда жена и дочь узника ГУЛАГа ищут среди огромных куч бревен свидетельства о любимом человеке.
(обратно)41
Данте Алигъери. Божественная комедия / Пер. М.Лозинского. — М.: Худож. лит., 1967. — С.77.
(обратно)42
У всех советских граждан в паспортах была указана их этническая принадлежность (грузин, русский, украинец и т. д.). Еврей считался единственной проблемной национальностью (отсюда ясен Изин ответ) до того, как рухнула советская империя и ее попытки игнорировать этнические раздоры.
(обратно)43
Иосиф Бродский. Путеводитель по переименованному городу. Joseph Brodsky. A Guide to a Renamed City // Less Than One: Selected Essays. New York: Farrar Straus Giroux, 1986. - P.69.
(обратно)44
Более подробное рассмотрение вопроса о «городе-преддверье» можно найти в: Bethea D. The Shape of the Apocalypse in Modern Russian Literature. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989.
(обратно)45
Хромая судьба // Хромая судьба; Хищные вещи века. — М.: Книга, 1990. С.123.
(обратно)46
В 1985 году журнал «Изобретатель и рационализатор» опубликовал написанный Стругацкими сценарий фильма под названием «Пять ложек эликсира». Этот сценарий развивал фантастический сюжет о тайной группе бессмертных, не получивший развития в романе.
(обратно)47
В журнальной версии романа «Хромая судьба» (Нева. — 1986. - №№ 8, 9) главный герой пьет минеральную воду, известную своими целебными качествами. В книжной версии он пьет вино. В обеих версиях он сожалеет, что здоровье больше не позволяет ему пить или курить.
(обратно)48
«Все, что ты придумываешь».
(обратно)49
«Хромая судьба», версия, опубликованная в журнале «Нева», (№ 8, С.81).
Интересно заметить, что записная книжка Сорокина содержит наброски романа «Град обреченный» — в журнальной версии, но в полной книжной версии тот же самый отрывок описывает дождливый город из романа «Град обреченный». Это создает отчетливое ощущение, что в рамку вставлены два романа, хотя, конечно, Сорокин мог работать «в стол» над двумя романами и выбрал для показа только пейзажный набросок к роману «Град обреченный».
(обратно)50
Bely A. Petersburg / Transl., annot., introd. by Robert A. Maguire, John E. Malmstad. - Bloomington: Indiana University Press, 1978. - P.XIV.
(обратно)51
Berdyaev N. An Astral Novel: Some Thoughts on Andrey Bely's «Peterburg» // Noise of Change / Ed. by S.Rabinowits. - Ardis: Ann Arbor, 1986. P. 197–203.
(обратно)52
Андрей Платонов (1899–1951). Шедевры Платонова «Чевенгур» (1927) и «Котлован» (1930) были впервые опубликованы в последние годы существования Советского Союза. Оба романа являются видениями утопической идеи, превращающейся в свою противоположность — уничтожение будущих поколений.
(обратно)53
Brodsky J. Introduction // Platonov A. The Collected Works. - Ardis, 1978. - P.X.
(обратно)54
По сути дела, в книжном издании романа «Хромая судьба» одним из немногих изменений, сделанных авторами, была замена слов «симпатичное заведение» на «питейное заведение». Ироническое несоответствие от такой дистопической неряшливости усиливается.
(обратно)55
Brodsky J. Introduction // Platonov A. The Collected Works. - Ardis, 1978. - P.IX.
(обратно)56
Источником моего описания «Гимна Жемчужине» является чешский перевод и толкование, выполненные чешским библеистом Петром Покорны (Petr Pokorny), чья книга «Pisen' o Perle» вышла в Праге в 1986 году. Книга была быстро распродана.
Интеллектуалы хвалили автора за симпатию к гностикам, проявившуюся в написании «про-гностического» текста, хотя и старающегося придерживаться партийной линии. Например, говоря о гностическом взгляде на историю как на хаотический, случайный процесс без божественной, не говоря уже о марксистской, телеологии, Покорны в некотором роде извиняется: «Мы должны попытаться понять».
(обратно)57
Галинская И.Л. Загадки известных книг. — М.: Наука, 1986.
(обратно)58
Термин «метеорологический апокалипсис» был предложен Львом Лосевым (в личном разговоре).
(обратно)59
Булгаков М. Романы. — Л.: Худож. лит., 1978. — С.779, 787.
(обратно)60
Young J. Nikolai Fedorov: An Introduction. - Nordland Publishing Company (Mass.), 1979
(обратно)61
Константин Циолковский (1957–1935) заложил теоретический и практический фундамент для современной космической технологии Советского Союза.
Отличное краткое исследование отношений между Циолковским и Федоровым можно найти в: Holquist M. The Philosophical Bases of Soviet Space Exploration // The Key Reporter. - Vol.51, № 2 (Wint.1985-86).
(обратно)62
Валерий Брюсов (1873–1924), поэт, романист и критик, был главой российского символистского движения начала века.
Владимир Маяковский (1893–1930) — один из наиболее выдающихся русских поэтов ХХ века, отдал свой выдающийся талант в искусстве как дореволюционному футуристскому движению, так и новому послереволюционному пропагандистскому искусству.
Николай Заболоцкий (1903–1958), поэт. Жажда индивидуального бессмертия — тема, проходящая через всю его поэзию.
О влиянии Федорова на Платонова см.: Teskey A. Platonov and Fyodorov. - Avery Publishing Company (England), 1982.
(обратно)63
Геллер Л. Вселенная за пределом догмы. — London: Overseas Publications, 1985. — С.63.
(обратно)64
За миллиард лет до конца света // Стругацкий А., Стругацкий Б. Избранное. — М.: Московский рабочий, 1990. — С.5.
(обратно)65
Young, p.11.
(обратно)66
Федоров Н. Философия общего дела. Т.1, с.247.
(обратно)67
См. Jonas H. The Gnostik Religion. - 2nd ed. - Boston: Beacon Press, 1963; Lieu S. Manichaeism. - Manchester & Dover (N.H.): Manchester University Press, 1985.
(обратно)68
Гроссман В. Все течет. — С. 295–296.
(обратно)69
Гадкие лебеди. С.267.
Первой русскоязычной публикацией романа «Гадкие лебеди» было неавторизованное издание, вышедшее на Западе в 1972 году. Роман не был официально опубликован в Советском Союзе до 1987 года (и был опубликован впервые под названием «Время дождя»).
В последних изданиях произведений Стругацких текст романа «Гадкие лебеди» публикуется, в согласии с оригинальной авторской концепцией, как часть романа «Хромая судьба».
(обратно)70
Этот неподходящий аргумент был выдвинут Майей Каганской в ошеломляюще натянутой, но забавной статье: «Роковые яйца: Раздумья о научной фантастике вообще и братьев Стругацких в особенности» // Двадцать два. 1985, 1987. - №№ 43, 44, 55.
(обратно)71
Велимир Хлебников (1885–1922). Один из лидеров российских кубофутуристов. Его своеобразное творчество включает в себя примитивизм, космическую мифологию, характерный славянский утопизм, находящиеся за гранью смыслового восприятия вербальные эксперименты и убеждение, что магия отражается в языке. Он был источником вдохновения как для лингвистов, так и для авангардистов.
(обратно)72
Обериу (Объединение реального искусства) было авангардистской литературной группой, действовавшей в Ленинграде с 1927 по 1930 годы.
См. также: Nakhimovsky, A.S. Laughter in the Void. An Introduction to the Writings of Daniil Kharms and Alexander Vvedenskii. Wien: Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 5, 1982.
(обратно)73
Платонов А. Чевенгур. — Paris: YMCA Press, 1972. — С.224.
Стихи Платонова очень похожи на странные строки, которые повторяет Абалкин. Это: «Стояли звери около двери, они кричали, их не пускали»; в «Чевенгуре» же мы находим: «Кто отопрет мне двери, чужие птицы, звери? И где ты, мой родитель, увы, не знаю я».
(обратно)74
Suvin D. Criticism of the Strugatsky Brothers' Work // Canadian-American Slavicc Studies. - 1972. - № 2 (Summer).
(обратно)75
Greene D. Male and Female in The Snail on the Slope // Modern Fiction Studies. - 1986. - Vol. 32. - № 1. (Spring). - Pp.97-107.
(обратно)76
Suvin D. Introduction // Strugatsky A., Strugatsky B. The Snail on the Slope. - Bantam, 1980. - pp. 11–20.
За другие точки зрения я благодарна Константину Кустановичу (Konstantin Kustanovich), чья неопубликованная диссертация (Колумбийский университет) рассматривает этот роман, а также Омри Ронену (Omry Ronen), чья склонность к превосходным интерпретациям позволила лучше разглядеть изнанку образов.
(обратно)77
Лес. — Ann Arbor: Ardis, 1981. - с. 83–84.
Цитаты приводятся по русскоязычным изданиям, напечатанным на Западе. В варианте «Ардиса» присутствуют только главы про Кандида, отсюда и название — «Лес».
Издание издательства «Посев», озаглавленное «Улитка на склоне», содержит только главы о Переце.
Цитаты приводятся по изданию: Улитка на склоне. Frankfurt/Main: Possev Verlag, 1972.
Существующий английский перевод (Bantum Books, 1980) содержит обе части. Оригинальный вариант романа теперь издан целиком.
(обратно)78
Грин, с. 105.
(обратно)79
Фриц Гейгер является «гитлероподобным» диктатором в романе «Град обреченный»; у Марека Парасюхина (несмотря на его очень русское имя) светлые волосы, нордические черты лица и он носит черную кожаную куртку, похожую на эсэсовскую, в романе «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя».
(обратно)80
Бердяев Н. Русский соблазн: По поводу «Серебряного голубя» А.Белого // Русская мысль. — 1910. - № 11.
Переведено Стэнли Рабиновицем (Stanley Rabinowitz) и опубликовано в: The Noise of Change. - Ardis: Ann Arbor, 1986. - Pp. 185–195.
Нумерация страниц приводится по английскому переводу.
(обратно)81
С.5.
(обратно)82
Отель «У погибшего альпиниста». — М.: Дет. лит., 1983. — С.13.
(обратно)83
Малыш. — Мельбурн (Австралия): Артол, 1985. — С.140.
(обратно)84
Anderson G.K. The Legend of Wandering Jew. - Brown University Press, 1965.
Всей фоновой информацией о легенде я обязана исследованию Андерсона.
(обратно)85
Лучший библиографический список по проблеме этой легенды на славянской территории можно найти в: Yarmolinsky A. The Wandering Jew // Studies in Jweish Bibliography and Related Subjects. - New York, 1929.
(обратно)
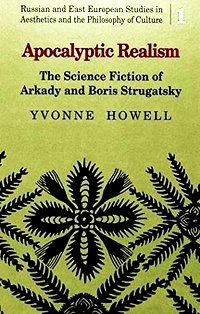



Комментарии к книге «Апокалиптический реализм: Научная фантастика А. и Б. Стругацких», Ивонна Хауэлл
Всего 0 комментариев