Александр Солженицын Бодался телёнок с дубом
Информация от издательства
В издании сохранены орфография и пунктуация автора.
Его взгляды изложены в работе «Некоторые грамматические соображения» (Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3).
В настоящем Собрании сочинений статья будет напечатана в т. 24.
Редактор-составитель Наталия Солженицына
© А. И. Солженицын, наследники, 1975, 1996, 2018
© Н. Д. Солженицына, составление, краткие пояснения, 2018
© «Время», 2018
* * *
Оговорка
* * *
Есть такая, немалая, вторичная литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рождённая литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям всё меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да ещё литературные, – не совестно ли?
И уж никак не предполагал, что и сам, на 49-м году жизни, осмелюсь наскребать вот это что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня.
Одно – наша жестокая и трусливая потаённость, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям рассказывать, что думаем и как истинно было дело, – мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира висит над каждой нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаённость ещё продлится – не предсказать, может многих нас раньше того рассекут, и пропадёт с нами невысказанное.
Обстоятельство второе – что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а наступающею весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвётся, шею ли сдушит, – предвидеть точно нельзя.
А тут как раз между двумя глыбами[1], – одну откатил, перед второй робею, – выдался у меня маленький передых.
И я подумал, что, может быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить.
Апрель 1967Писатель-подпольщик
То не диво, когда подпольщиками бывают революционеры. Диво – когда писатели.
У писателей, озабоченных правдой, жизнь и никогда проста не бывала, не бывает (и не будет!): одного донимали клеветой, другого дуэлью, того – разломом семейной жизни, того – разорением или испоконной невылазной нищетою, кого сумасшедшим домом, кого тюрьмой. А при полном благополучии, как у Льва Толстого, своя же совесть ещё горше расцарапает грудь изнутри.
Но всё-таки: не о том печься – мир бы тебя узнал, а наоборот, нырять в подполье, чтобы не дай Бог не узнал, – этот писательский удел родной наш, русский, русско-советский! Теперь установлено, что Радищев в последнюю часть жизни что-то важное писал и глубоко, и предусмотрительно таил: так глубоко, что мы и нынче не найдём и не узнаем. И Пушкин с остроумием зашифровывал 10-ю главу «Онегина», это знают все. Меньше знают, как долго занимался тайнописью Чаадаев: рукопись свою отдельными листиками он раскладывал в разных книгах своей большой библиотеки. Для лубянского обыска это, конечно, не упрятка: ведь как бы много ни было книг, всегда же можно и оперативников пригнать порядочно – так, чтобы каждую книгу взять за концы корешка и потрепать с терпением (не прячьте в книгах, друзья!). Но царские жандармы прохлопали: умер Чаадаев, а библиотека сохранилась до революций, и несоединённые, не известные никому листы томились в ней. В 20-е годы они были обнаружены, разысканы, изучены, а в 30-е наконец и подготовлены к печати Д. И. Шаховским, – но тут Шаховского посадили (без возврата), а чаадаевские рукописи и по сегодня тайно хранятся в Пушкинском Доме: не разрешают их печатать из-за… их реакционности! Так Чаадаев установил рекорд – уже 110 лет после смерти – замалчивания русского писателя. Вот уж написал так написал!
А потом времена пошли куда вольнее: русские писатели не писали больше в стол, а всё печатали, что хотели (и только критики и публицисты подбирали эзоповские выражения, да вскоре уже лепили и без них). И до такой степени они свободно писали и свободно раскачивали всю государственную постройку, что от русской-то литературы и выросли все те молодые, кто взненавидели царя и жандармов, пошли в революцию и сделали её.
Но, шагнув через порог ею же порождённых революций, литература быстро осеклась: она попала не в сверкающий поднебесный мир, а под потолок-укосину, и меж сближенных стен, всё более тесных. Очень быстро узнали советские писатели, что не всякая книга может пройти. А ещё лет через десяток узнали они, что гонораром за книгу может стать решётка и проволока. И опять писатели стали скрывать написанное, хоть и не доконечно отчаиваясь увидеть при жизни свои книги в печати.
До ареста я тут многого не понимал. Неосмысленно тянул я в литературу, плохо зная, зачем это мне и зачем литературе. Изнывал лишь оттого, что трудно, мол, свежие темы находить для рассказов. Страшно подумать, что б я стал за писатель (а стал бы), если б меня не посадили.
С ареста же, года за два тюремно-лагерной жизни, изнывая уже под грудами тем, принял я как дыхание, понял как всё неоспоримое, что видят глаза: не только меня никто печатать не будет, но строчка единая мне обойдётся ценою в голову. Без сомнения, без раздвоения вступил я в удел: писать только для того, чтоб об этом обо всём не забылось, когда-нибудь известно стало потомкам. При жизни же моей даже представления такого, мечты такой не должно быть в груди – напечататься.
И – изжил я досужную мечту. И взамен была только уверенность, что не пропадёт моя работа, что на какие головы нацелена – те поразит, и кому невидимым струением посылается – те воспримут. С пожизненным молчанием я смирился как с пожизненной невозможностью освободить ноги от земной тяжести. И вещь за вещью кончая то в лагере, то в ссылке, то уже и реабилитированным, сперва стихи, потом пьесы, потом и прозу, я одно только лелеял: как сохранить их в тайне и с ними самого себя.
Для этого в лагере пришлось мне стихи заучивать наизусть – многие тысячи строк. Для того я придумывал чётки с метрическою системой, а на пересылках наламывал спичек обломками и передвигал. Под конец лагерного срока, поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько – и сплошную прозу. Память вбирала! Шло. Но больше и больше уходило времени на ежемесячное повторение всего объёма заученного, – уже неделя в месяц.
Тут началась ссылка, и тотчас же в начале ссылки – проступили метастазы рака. Осенью 1953 очень было похоже, что я доживаю последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трёх недель.
Грозило погаснуть с моей головой и всё моё лагерное заучивание.
Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге освобождения и гибель всего написанного, всего смысла прожитого до тех пор. По особенностям советской почтовой цензуры никому вовне я не мог крикнуть, позвать: приезжайте, возьмите, спасите моё написанное! Да чужого человека и не позовёшь. Друзья – сами по лагерям. Мама – умерла. Жена – не дождалась, вышла за другого.
Эти последние обещанные врачами недели мне не избежать было работать в школе, но вечерами и ночами, безсонными от болей, я торопился мелко-мелко записывать, и скручивал листы по нескольку в трубочки, а трубочки наталкивал в бутылку из-под шампанского, у неё горлышко широкое. Бутылку я закопал на своём огороде – и под Новый, 1954 год поехал умирать в Ташкент.
Однако я не умер. (При моей безнадёжно запущенной остро-злокачественной опухоли это было Божье чудо, я никак иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор – не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель.) Тою весной в Кок-Тереке, оживающий, пьяный от возврата жизни (может быть, на 2–3 года только?), в угаре радости я написал «Республику труда». Эту я уже не пробовал и заучивать, это первая была вещь, над которой я узнал счастье: не сжигать отрывок за отрывком, едва знаешь наизусть; иметь неуничтоженным начало, пока не напишешь конец, и обозреть всю пьесу сразу; и переписать из редакции в редакцию; и править; и ещё переписать. Путь к этому открыл мне Николай Иванович Зубов (см. Пятое Дополнение, очерк 1): как хранить редакции рабочие и окончательную. Затем я и сам стал осваивать новое ремесло, сам учился делать заначки, далёкие и близкие, где все бумаги мои, готовые и в работе, становились бы недоступны ни случайному вору, ни поверхностному ссыльному обыску. Мало было тридцати учебных часов в школе, классного руководства, одинокого кухонного хозяйства (из-за тайны своего писания я и жениться не мог); мало было самого подпольного писания, ещё надо было теперь учиться ремеслу – прятать написанное.
А за одним ремеслом потянулось другое: самому делать с рукописей микрофильмы (без единой электрической лампы и под солнцем, почти не уходящим в облака, – ловить короткую облачность). А микрофильмы потом – вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: Соединённые Штаты Америки, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого более на Западе не знал, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне.
Мальчишкой читаешь про фронт или про подпольщиков и удивляешься: откуда такая смелость отчаянная берётся у людей? Кажется, сам бы никогда не выдержал. Так я думал в 30-е годы над Ремарком («Im Westen nichts neues»), а на фронт попал и убедился, что всё проще гораздо, и вживаешься постепенно, а в описаниях – куда страшнее, чем оно есть.
И в подполье если с бухты-барахты вступать, при красном фонаре и чёрных масках, да клятву какую-нибудь произносить или кровью расписываться, так наверно очень страшно. А человеку, который давным-давно выброшен из семейного уклада, не имеет основы (уже и охоты) для постройки внешней жизни, – тому зацепка за зацепкою, похоронки за похоронками, с кем-то знакомство, через него другое, там – условная фраза в письме или при явке, там – кличка, там – цепочка из нескольких человек, – просыпаешься однажды утром: батюшки, да ведь я давно подпольщик!
Горько, конечно, что не для революции надо спускаться в то подполье, а для простой художественной литературы.
Шли годы, я уже освободился из ссылки, переехал в Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилитирован и допущен в умеренно-благополучную, ничтожно-покорную жизнь – но к подпольно-литературной изнанке её я так же привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер страницы взять, как стеснить строки, на какой машинке, и куда потом экземпляры – все эти вопросы решались не дыханием непринуждённым писателя, которому только бы достроить произведение, наглядеться и отойти, – а ещё и вечно напряжёнными расчётами подпольщика: как и где это будет храниться, в чём будет перевозиться, и какие новые захоронки надо придумывать из-за того, что всё растёт и растёт объём написанного и перепечатанного.
Важней всего и был объём вещи, – не творческий объём в авторских листах, а объём в кубических сантиметрах. Тут выручали меня ещё не испорченные глаза и от природы мелкий, как луковые семена, почерк; бумага тонкая, если удавалось привезти её из Москвы; полное уничтожение (всегда и только – сожжение) всех набросков, планов и промежуточных редакций; теснейшая, строчка к строчке (не в один интервал, два щелчка, но после каждой строчки я выключал сцепление и ещё сближал их от руки), без всяких полей и двусторонняя перепечатка; а по окончании перепечатки – сожжение и главного беловика рукописи тоже: один огонь я признавал надёжным ещё с первых литературных шагов в лагере. По этой программе пошёл и роман «В круге первом», и рассказ «Щ-854», и сценарий «Знают истину танки», не говоря о более ранних вещах. (До слёз было жалко уничтожать подлинник сценария, он особенным образом был написан. Но в один тревожный вечер пришлось его сжечь. Сильно облегчалось дело тем, что в рязанской квартире было печное отопление. При центральном сожжение гораздо хлопотливей.)
Усвоением уроков Зубова я очень гордился. В Рязани я придумал хранение в проигрывателе: внутри нашёл полость, а сам он так тяжёл, что на вес не обнаружишь добавки. И халтурную советскую недоделку верха шкафа использовал для двойной фанерной крыши.
Все эти предосторожности были, конечно, с запасом, но бережёного Бог бережёт. Статистически почти невероятно было, чтобы безо всякого внешнего повода ко мне на квартиру нагрянуло бы ЧКГБ, хоть я и бывший зэк: ведь миллионы их, бывших зэков! (А если бы нагрянули, то – смерть, ничто меньшее не ждало меня при тогдашней беззвестности и беззащитности, – как сможет убедиться читатель, прочтя когда-нибудь ну хотя бы исходный полный текст «Круга», 96 глав.) Однако это всё – пока соблюдается пословица: «Никто в лесу не знал бы дятла, если бы не свой носок».
Безопасность приходилось усилить всем образом жизни: в Рязани, куда я недавно переехал, не иметь вовсе никаких знакомых, приятелей, не принимать дома гостей и не ходить в гости – потому что нельзя же никому объяснить, что ни в месяц, ни в год, ни на праздники, ни в отпуск у человека не бывает свободного часа; нельзя дать вырваться из квартиры ни атому скрытому, нельзя впустить на миг ничьего внимательного взгляда, – жена строго выдерживала такой режим, и я это очень ценил. На работе среди сослуживцев никогда не проявлять широты интересов, но всегда выказывать свою чужесть литературе. (Литературная «враждебная» деятельность ставилась мне в вину ещё по следственному делу – и по этому особому вопросу, остыл я или не остыл, могли за мной агенты наблюдать.) Наконец, на каждом жизненном шагу сталкиваясь с чванством, грубостью, дуростью и корыстью начальства всех ступеней и всех учреждений и иногда имея возможность меткой жалобой, решительным возражением что-то очистить или чего-то добиться – никогда себе этого не разрешать, не выделяться ни на плечо в сторону бунта, борьбы, быть образцовым советским гражданином, то есть всегда послушным любому помыканию, всегда довольным любою глупостью.
Понурая свинка глубок корень роет.
Это было очень нелегко! Как будто не кончилась ссылка, не кончился лагерь, как будто всё те же номера на мне, нисколько не поднята голова, нисколько не разогнута спина и каждый погон надо мною начальник. Всё негодование могло укипеть только в очередную книгу, а этого тоже нельзя, потому что закон поэзии – быть выше своего гнева и воспринимать сущее с точки зрения вечности.
Но все эти дани я платил спокойно: мне работалось всё равно хорошо, плотно, даже при скудости свободного времени, даже без подлинной тишины. Мне дико было слушать, как объясняли по радио обезпеченные, досужие, именитые писатели: какие бывают способы сосредоточиться в начале рабочего дня, и как важно устранить все помехи, и как важно окружиться настраивающими предметами. А я ещё в лагере научился складывать стихи на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой души!) я стал попривередливее, мешало мне и радио, и разговоры, – но даже под постоянный рёв грузовиков, наезжающих на наше рязанское окно, я одолел неведомую мне манеру киносценария. Лишь бы выдался свободный часик-два подряд! Обминул меня Бог творческими кризисами, приступами отчаяния и безплодия.
Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания – пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, «второй жизни» после удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературные газеты, её безчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и натужные радиоинсценировки – раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов, – наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо не то у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они – и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные, и уж тем более публицисты и критики, – все они соглашались о всяком предмете и деле не говорить главной правды, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась соцреализмом. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.
И ещё с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких – замкнутых, упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда, – составляют её не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придёт пора – и все мы разом выступим из глуби моря, как Тридцать Три богатыря, – и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно.
И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохранённые верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрём. Я всё ещё не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы, и туда-то сразу двинется наша подпольная литература – объяснить потерянным и смятенным умам: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 1917 года вьётся и вяжется.
Но вот прошли года – и к тому, кажется, склонилось, что ошибся я по всем трём своим убеждённостям.
Не такое уж безплодное оказалось поле литературы. Как ни выжигали в нём всё, что даёт питание и влагу живому, а живое всё-таки выросло. Можно ли не признать за живое и «Тёркина», и «Тёркина на том свете», и крутолучинских мужиков Залыгина? Как не признать живыми имена Шукшина, Можаева, Тендрякова, Белова, Астафьева да и Солоухина? И Максимов. И Владимов. И какой же сильный и добротный был бы Ю. Казаков, если бы не прятался от главной правды? Я не перечисляю всех имён, сюда это не идёт. А ведь есть ещё – смелые молодые поэты. Вообще: союз писателей, не принявший когда-то Цветаеву, проклявший Замятина, травивший Булгакова, отдавший на смерть Мандельштама, Павла Васильева, Пильняка, Артёма Весёлого, исторгнувший Ахматову и Пастернака, этот прожжённый союз представлялся мне из подполья совершенным Содомом и Гоморрой, теми ларёшниками и менялами, захламившими и осквернившими храм, чьи столики надо опрокидывать, а самих бичом изгонять на внешние ступени. Удивлён же я и очень рад своей ошибке.
Ошибся я и во втором предвидении, но уже на беду: хитрых таких, и упорных таких – и счастливых таких! – оказалось совсем мало. Целая литература из нас никак уже не получится, работала чекистская метла железнее, чем я думал. Сколько светлых умов и даже, может быть, гениев – втёрты в землю без следа, без концов, без отдачи. (Или они ещё упорнее и хитрее нас? – и даже сегодня пишут безмолвно и не высовываются, зная, что час Свободы не достигнут? Допускаю. Потому что и обо мне бы кто-нибудь рассказал в секции прозы годиком раньше – ведь не поверили ж бы?)
Варлам Шаламов раскрыл листочки по самой ранней весне: уже XX съезду он поверил, и пустил свои стихи первыми ранними самиздатскими тропами уже тогда. Я прочёл их летом 1956 и задрожал: вот он, брат! из тайных братьев, о которых я знал, не сомневался. Была ниточка и мне ему тут же открыться, но оказался я недоверчивее его, да и много ещё было у меня не написано тогда, да и здоровье и возраст позволяли терпеть, – и я смолчал, продолжал писать.
Ошибся я и в третьем своём убеждении: гораздо раньше, ещё при нашей жизни, начался наш первый выход из бездны тёмных вод. Мне пришлось дожить до этого счастья – высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбину Голиафа. Лоб оставался цел, отскакивали камешки, но, упав на землю, зацветали разрыв-травой, и встречали их ликованием или ненавистью, никто не проходил просто так.
А дальше, наоборот, замедлилось – потянулось как протяжная холодная весна. Стала петлями, петлями закидываться история, чтобы каждою петлёю обхватить и задушить побольше шей. И так всё пошло неохотливо (да так и надо было ждать), что сейчас и выбора у нас не осталось, и придумать ничего не придумаешь, как в этот лоб непроимчивый швырнуть последние камешки из последних силёнок.
Да, да, конечно, кто же не знает: не проткнуть лозою железобетонных башенных стен. Да вот догадка: может, они на рогоже нарисованы?
* * *
Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на тринадцатом дрогнул. Это было лето 1960 года. От написанных многих вещей – и при полной их безвыходности, я стал ощущать переполнение, потерял лёгкость замысла и движения. В литературном подпольи мне стало не хватать воздуха.
Сильное преимущество подпольного писателя – в свободе его пера: он не держит в воображении ни цензоров, ни редакторов, ничто не стоит против него, кроме материала, ничто не реет над ним, кроме истины. Но есть в его положении и постоянный ущерб: нехватка читателей, и особенно литературно-изощрённых, требовательных. Ведь своих немногих читателей (у меня их было меньше десятка, главным образом бывших зэков, да и то никому из них не удалось прочесть все вещи, – ведь живём в разных городах, ни у кого нет ни лишних дней, ни лишних средств для поездок, ни лишних комнат для гощения), своих читателей писатель-подпольщик выбирает совсем по другим признакам: политической надёжности и умению молчать. Эти два качества редко соседствуют с тонким художественным вкусом. Итак, жёсткой художественной критики со знанием современных литературных норм писатель-подпольщик не получает. А оказывается, что эта критика, трезвая топографическая привязка написанного в эстетическом пространстве, – очень нужна, каждому писателю нужна, хоть в пять лет раз, хоть в десять лет разочек. Оказывается, пушкинский совет:
«Ты им доволен ли, взыскательный художник?» –хотя и очень верен, но не до самого полна. Десять и двенадцать лет пиша в глухом одиночестве, незаметно распоясываешься, начинаешь прощать себе, да не замечать просто: то слишком резкой тирады; то пафосного всклика; то пошловатой традиционной связки в том месте, где более верного крепления не нашёл.
Позже, когда я из подполья высунулся и облегчал свои вещи для наружного мира, облегчал от того, чего соотечественникам ещё никак на первых порах не принять, я с удивлением обнаружил, что от смягчения резкостей вещь только выигрывает и даже усиляется в воздействии; и те места стал обнаруживать, где не замечал раньше, как я себе поблажал: вместо кирпича целого, огнеупорного, уставлял надбитый и крохкий. Уже от первого касания с профессиональной литературной средой я почувствовал, что надо подтягиваться.
Из-за полного своего невежества я особенного маху дал в пьесах. Когда стал писать пьесы в лагере, потом в ссылке, я держал в представлении единственно виденные мною театральные спектакли провинциального Ростова 30-х годов, которые уже тогда никак не соответствовали мировому театральному уровню. Уверенный, что главное в творчестве – правда и жизненный опыт, я недооценил, что формы подвержены старению, вкусы XX века резко меняются и не могут быть оставлены автором в пренебрежении. Теперь-то, походив в московские театры 60-х годов (театры, увы, уже не артистов и даже не драматургов, театры режиссёров как почти единственных творцов спектакля), я стал иногда и жалеть, что писал пьесы[2].
В 1960 году всего этого я не мог бы точно назвать и объяснить, но ощутил, что коснею, что бездействует уже немалый мой написанный ком, – и какую-то потяготу к движению стал я испытывать. А так как движения быть не могло, некуда было пошевельнуться даже, то я стал тосковать: упиралась в тупик вся моя так ловко задуманная, беззвучная, безвидная литературная затея.
Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: писателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напечатают пусть после смерти. Не говоря о том, что Толстой ко всем благим мыслям приходил лишь после круга страстей и грехов, – здесь он ошибся даже и для медленных эпох, а уж для быстрой нашей – тем более. Он прав, что жажда повторного успеха у публики портит писательское перо. Но больше портит перо многолетняя невозможность иметь читателей – и строгих, и враждебных, и восхищённых, невозможность никак повлиять пером на окружающую жизнь, на растущую молодёжь. Такая немота даёт чистоту, но и разгружает от ответственности. Суждение Толстого опрометчиво.
Современная печатная литература, до той поры только смешившая меня, тут уже стала раздражать. Появились как раз мемуары Эренбурга и Паустовского – и я послал в редакции резкую критику, конечно никем не принятую, потому что моего имени никто не знал. По форме статья моя получилась как бы против мемуарной литературы вообще, а на самом деле это был упрёк, что писатели, видевшие большую мрачную эпоху, всё стараются юзом проскользнуть, не сказать нам ничего главного, а пустячки какие-нибудь, смягчающей мазью глаза нам залепливают, чтоб мы дольше не видели истины, – а чего уж так они боятся, писатели с положением, неугрожаемые?
В ту осень, мыкаясь в своей норе и слабея, стал я изобретать: не могу ли я всё-таки что-нибудь такое написать, чего пусть нельзя будет печатать – но хоть показывать людям можно! хоть не надо прятать! Так я задумал писать «Свечу на ветру» – пьесу на современном, но безнациональном материале: о всяком благополучном обществе нашего десятилетия, будь оно западное или восточное.
Эта пьеса – самое неудачное изо всего, что я написал, далась мне и труднее всего. Верней: первый раз я узнал, как трудно и долго может не получаться вещь, хоть переписывай её 4–5 раз; и можно целые сцены выбрасывать и заменять другими, и всё это – сочинённость. Много я на неё потратил труда, думал – кончил, а нет, не получилась. А ведь я взял в основу подлинную историю одной московской семьи, и нигде душой не покривил, все мысли писал только искренние и даже излюбленные, с первого акта отказавшись угождать цензуре, – почему же не удалось? Неужели потому лишь, что я отказался от российской конкретности (не для маскировки только, не только для «открытости», но и для большей общности изложения: ведь о сытом Западе это ещё верней, чем о нас), – а без русской почвы должен был я и русский язык потерять? Но другие же свободно пишут в этой безликой, безъязыкой манере – и получается, почему ж у меня?.. Значит, нельзя в абстракции сделать полтора шага, а всё остальное писать конкретно.
Другую попытку я сделал в 1961, но совсем неосознанно. Я не знал – для чего, у меня не было никакого замысла, просто взял «Щ-854» и перепечатал облегчённо, опуская наиболее резкие места и суждения и длинный рассказ кавторанга Цезарю о том, как дурили американцев в Севастополе 1945 года нашим подставным благополучием. Сделал зачем-то – и положил. Но положил уже открыто, не пряча. Это было очень радостное освобождённое состояние! – не ломать голову, куда прятать новозаконченную вещь, а держать её просто в столе – счастье, плохо ценимое писателями. Ведь никогда ни на ночь я не ложился, не проверив, всё ли спрятано и как вести себя, если ночью постучат.
Я уставал уже от конспирации, она задавала мне задачи головоломнее, чем само писательство. Но никакого облегчения ни с какой стороны не предвиделось, и западное радио, которое я слушал всегда и сквозь глушение, ничего не знало о глубинных геологических сдвигах и трещинах, которые скоро должны были отдаться ударом на поверхность. Ничего никто не знал, ничего я радостного не ожидал, и взялся за новую отделку и перепечатку «Круга». После безцветного XXI съезда, втуне и безмолвии оставившего все славные начинания XX, никак было не предвидеть ту внезапную заливистую яростную атаку на Сталина, которую назначит Хрущёв XXII съезду! И объяснить её мы, неосведомлённые провинциалы, никак не могли!
Однако она произошла, и не тайная, как на XX съезде, а открытая! Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII съезде! В маленькой комнатке деревянного прогнившего дома, где все мои многолетние рукописи могли сгореть от одной несчастной спички, я читал, читал эти речи – и стены моего затаённого мира заколебались, как занавеси театральных кулис, и в своём свободном колебании расширялись и меня колебали и разрывали: да не пришёл ли долгожданный страшный радостный момент – тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?
Я не смел ошибиться! Нельзя было высунуться прежде времени. Но и пропустить редкого мига тоже было нельзя!
А тут ещё хорошо выступил на XXII съезде и Твардовский, и такая у него была нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а «мы не используем». Такая нотка, что просто нет у «Нового мира» произведений посмелее и поострее, а то бы он мог.
Твардовского времён «Муравии» я нисколько не выделял из общего ряда поэтов, обслуживающих курильницы лжи. И примечательных отдельных стихотворений я у него не знал, не обнаружил, просматривая в ссылке двухтомник 1954 года. Но со времён фронта я отметил «Василия Тёркина» как удивительную удачу: задолго до появления первых правдивых книг о войне (с некрасовских «Окопов» не так-то много их и всех удалось, может быть полдюжины), в потоке угарной агитационной трескотни, которая сопровождала нашу стрельбу и бомбёжку, Твардовский сумел написать вещь вневременную, мужественную и неогрязнённую – по редкому личному чувству меры, а может быть, и по более общей крестьянской деликатности. (Этой деликатности под огрубелой необразованностью крестьян и в тяжком их быту я не могу перестать изумляться.) Не имея свободы сказать полную правду о войне, Твардовский останавливался, однако, перед всякой ложью на последнем миллиметре, нигде этого миллиметра не переступил, нигде! – оттого и вышло чудо. Я это не по себе одному говорю, я это хорошо наблюдал на солдатах своей батареи во время войны. По условиям нашей звукоразведывательной службы они даже в боевых условиях много имели времени для слушанья чтения (ночами, у трубок звукопостов, а с центрального читали что-нибудь). Так вот из многого, предложенного им, они явно выделили и предпочли: «Войну и мир» и «Тёркина».
Но потом лагерный, и ссыльный, и преподавательский, и подпольный недосуг не дали мне прочесть ни «Дома у дороги», ни другого чего. (Только «Тёркина на том свете» читал я в списках ещё в 56-м году. Самиздату всегда предпочтение и внимание.) Я не знал даже, что публиковалась в «Правде» глава «За далью даль», что поэма в том году получила ленинскую премию. «За далью даль» я прочёл гораздо позже, а главу «Так это было» – когда попалась мне в «Новом мире».
По тому времени, по всеобщей робости она выглядела смелой: трудоночь тётки Дарьи, «ура! он снова будет прав…» и даже «Москва высотная вставала, как некий странный павильон». И был уже тогда у меня первый толчок: не показать ли чего-нибудь написанного Твардовскому? не решиться ли?
Но всё ту же главу перелистывая и раздумывая, я встречал и «грозного отца», и «правоту» его обок с неправотою, и ему мы «обязаны победой», и родство Сталина с бранной сталью,
И в нашей книге золотой… Ни строчки, даже запятой… Чтоб заслонила нашу честь. Да, всё, что с нами было, – Было!Уж слишком мягко: сорокалетний позор лагерей – не заслонил чести? Уж слишком безконтурно: «что было – то было», «тут ни убавить, ни прибавить». Так и обо всех видах фашизма можно сказать. Тогда и Нюрнберга не надо? – что было, то было…? Философия безпомощная, не вытягивающая на суждение об истории[3]. Поэт трогал ногой рядом с мощёной тропкой, но страшно было ему сходить.
И я не знал: если выдраться к нему из трясины и руки протянуть: сходи! – то пойдёт или упрётся?
И о «Новом мире» я не имел отличительного суждения: по тому, чем наполнены были его главные страницы, он для меня мало отличался от остальных журналов. Те контрасты, которые между собою усматривали советские журналы, были для меня ничтожны, а тем более для дальней исторической точки зрения – спереди ли, сзади. Все эти журналы пользовались одной и той же главной терминологией, одной и той же божбой, одними и теми же заклинаниями, – и всего этого я даже ложкой чайной не мог принять.
Но – что-нибудь же значил гул подземных пластов, прорвавшийся на XXII съезд?.. Я – решился. Вот тут и сгодился неизвестно для какой цели и каким внушением «облегчённый» «Щ-854». Я решился подать его в «Новый мир». (Не случись это – случилось бы другое, и худшее: я послал бы фотоплёнку с лагерными моими трудами – за границу, под псевдонимом Степан Хлынов, как она уже и была заготовлена. Я не знал, что в самом удачном варианте, если на Западе это будет и опубликовано и замечено, – не могло бы произойти и сотой доли того влияния. Но уже целый год тошнота моего тупикового положения нудила меня к какому-то прорыву.)
Сам я в «Новый мир» не пошёл: просто ноги не тянулись, не предвидя успеха. Мне было 43 года, и достаточно я уже колотился на свете, чтоб идти в редакцию начинающим мальчиком. Мой тюремный друг Лев Копелев взялся передать машинопись. Хотя шесть авторских листов, но это было совсем тонко: ведь с двух сторон, без полей и строка вплотную к строке.
Я отдал – и охватило меня волнение, только не молодого славолюбивого автора, а старого огрызчивого лагерника, имевшего неосторожность дать на себя след.
Это было начало ноября 1961. (В случайной записи от того месяца: «Ощущение высокого взлёта на качелях: страшно, дух захватывает – и хорошо».) Я и пути не знал в московские гостиницы, а тут, пользуясь предпраздничным безлюдьем, получил койку. Здесь я пережил дни последних колебаний – ещё можно было остановить, вернуть. (Остался я не для колебаний, а для чтения самиздатского «По ком звонит колокол», полученного на три дня. До той поры я и Хемингуэя ни одной строчки не читал.)
Гостиница оказалась в Останкине, совсем рядом с той семинарией-шарашкой, где происходит действие моего «Круга» и где, уже с первым лагерным опытом, я по-серьёзному начал писать в 1948. Перемежая с Хемингуэем, я выходил побродить мимо забора своей шарашки. Он всё так же стоял, по тому же периметру обмыкая всё то же малое пространство, где когда-то стиснуто было столько выдающихся людей и кипели наши споры и замыслы.
В десятке метров брёл я теперь от того архиерейского домика-ковчега и тех лип, вечных лип, под которыми три года вышагивал-вышагивал-вышагивал утром, днём и вечером, мечтая о далёкой светлой свободе – в иные, светлые, годы и в посветлевшей стране.
А теперь, в пасмурный осклизлый день, по мокренькой ноябрьской слякоти, я шёл по другую сторону забора, по тропинке, где только смена караула от вышки к вышке пробиралась раньше, и думал: что ж я наделал? Ведь я – опять в их руках.
Как мог я, ничем не понуждаемый, сам на себя отдать донос?..
Обнаруживаясь
А потом целый месяц в Рязани я тягостно жил: где-то невидимо двигалась теперь моя судьба, и я всё больше уверялся, что – к худшему. Исконному зэку, сыну ГУЛАГа, почти недоступно верить в лучшее. И за лагерные годы отвыкши от всякого собственного решения (почти всегда во всём крупном ты отдан течению рока), мы даже привыкаем, что безопаснее ничего не решать, не предпринимать: живёшь – и живи.
А я вот нарушил этот лагерный закон, и теперь было страшно. Да шла ж работа и над новой редакцией «Круга»; все тексты, и лагерных всех вещей, были у меня в квартире, и тем более губительным легкомыслием казалась эта затея с «Новым миром».
Как бы ни гремел XXII съезд, какой бы памятник ни сулились поставить погибшим зэкам (впрочем – только коммунистам, впрочем – и по сей день не поставили), а поверить, что вот уже пришло время правду говорить – ну в это же поверить нельзя, ну слишком отучены головы наши, сердца и языки! Мы уже смирены, что и никогда не скажем правды и никогда не услышим.
Однако 9 декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищён статьёй» («статьёй» договорились мы зашифровать рассказ, статья могла бы быть и по методике математики). Как птица с лёта ударяется в стекло – так пришла та телеграмма. И кончилась многолетняя неподвижность. Ещё через день (в день моего рожденья как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского – вызов в редакцию. А ещё назавтра я ехал в Москву и, пересекая Страстную площадь к «Новому миру», суеверно задержался около памятника Пушкину – отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы.
Вместе с Копелевым мы поднялись по широкой барской лестнице «Нового мира» – в кино эту лестницу снимать для сцены бала. Был полдень, но Твардовский ещё не приезжал, да и редакция только что собралась, так поздно они начинали. Стали знакомиться в отделе прозы. Редактор его Анна Самойловна Берзер сыграла главную роль в вознесении моего рассказа в руки Твардовского.
Это так получилось (только не в тот год мне было рассказано). Долго хранимая и затаённая моя рукопись пролежала на столе у А. Берзер целую неделю неприкрытая, даже не в папке, доступная любому стукачу или похитителю, – Анну Самойловну не предупредили, оставляя, о свойствах этой вещи. Как-то А. С. начала расчищать стол, прочла несколько фраз – видит: и держать так нельзя и читать надо не тут. Взяла домой, прочла вечером. Поразилась. Проверила впечатление у подруги – Калерии Озеровой, редактора критического отдела. Сошлось. Хорошо зная обстановку «Нового мира», А. С. определила, что любой из членов редакционной коллегии, в ладу со своим пониманием благополучия журнала, непременно эту рукопись перехватит, зажмёт, заглотнёт, не даст ей дойти до Твардовского. Значит, надо было исхитриться перебросить рукопись через всех них, перешвырнуть через топь осторожности и трусости, – и в первые руки угодить – Твардовскому. Но! – не отвратился бы он от рукописи из-за её убогого, слепленного, сжатого вида. Попросила А. С. перепечатать за счёт редакции. Ушло на это время. Ещё ушло – на ожидание, пока Твардовский вернётся из очередного приступа своей слабости (несчастных запоев, а может быть, спасительных, как я понял постепенно). Но главная трудность была – как заманеврировать членов редакции и прорваться к Твардовскому, который редко её принимал и несправедливо недолюбливал, то ли не оценивал её художественного вкуса, трудолюбия и отдачи всей себя интересам журнала. Хорошо, однако, зная суть и слабые места всех своих начальников, она у первого из них, зав. отделом прозы Е. Н. Герасимова, в прошлом достаточно тряхнутого судьбой, спросила: «Есть вещь о лагерях. Будешь читать?» Герасимов отмахнулся: «Не морочь мне голову этими лагерями». Тот же вопрос – второму заместителю Главного, А. Кондратовичу – маленькому, как бы с ушами настороженными, дёрганому и запуганному цензурой. Ответил Кондратович, что о лагерях он всё уже знает, ничего ему не надо. К тому ж печатать всё равно нельзя. Тогда А. Берзер положила рукопись перед ответственным секретарём Б. Заксом и спросила коварно так: «Посмотрите, вам хочется это читать?» Нельзя было спросить ловчей. Уже много лет Б. Г. Заксу, сухому невесёлому джентльмену, никак не хотелось от художественной литературы, чтоб она испортила ему конец жизни, коктебельские солнечные октябри и лучшие зимние московские концерты. Он прочёл первый абзац моего рассказа, положил молча и ушёл. (Да ведь печатать же нельзя.)
Теперь А. Берзер имела полное право обратиться и к Твардовскому, – ведь все отказались! Она дождалась случая, правда в присутствии Кондратовича, наедине не удалось, и сказала Главному, что есть две особых рукописи, требующих непременно его прочтения: «Софья Петровна» Лидии Чуковской и ещё такая: «лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Опять-таки, в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского! Он сразу сказал – эту давайте[4]. Но опомнился и подскочил Кондратович: «Уж дайте до завтра, сперва я прочту!» Не мог он упустить послужить защитным фильтром для Главного!
Взял Кондратович, и с первых же строк понял, что безымянный (подписана фамилия не была, тем я как бы замедлял враждебный ход событий) тёмный автор лагерного рассказа даже расстановки основных членов предложения толком не знает, да и слова-то пишет какие-то дикие. Пришлось ему карандашом исчеркать первую, вторую, пятую, восьмую страницу, возвращая подлежащие, сказуемые да и атрибуты на свои места. Но рассказ оказался весь до конца неграмотный, и Кондратович с какой-то страницы работу эту бросил. Какое у него к утру сформировалось мнение – неизвестно, а думаю, что легко могло оно повернуться и в ту, и в другую сторону. Твардовский же, мнения его не спрося, взял читать сам.
Узнав потом жизнь редакции, я убедился, что не видать бы Ивану Денисовичу света, если б А. Берзер не пробилась к Твардовскому и не зацепила его замечанием, что это – глазами мужика. Не пустили б моего Денисовича три охранителя Главного – Дементьев, Закс и Кондратович.
Не скажу, что такой точный план, но верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твардовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее.
Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ – первый раз, потом и второй (ничего моего последующего он второй раз не читал, и вообще, говорят, никаких рукописей второй раз не читает, даже и после авторских уступок). Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянскому утренние, но для литераторов ещё ночные, и приходилось ждать ещё. Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнавать у Берзер: кто же автор и где он. Так получена была цепочка на Копелева, и теперь Твардовский звонил туда. Особенно понравилось ему, что это – не мистификация какого-нибудь известного пера (впрочем, он и уверен был), что автор – и не литератор, и не москвич.
Для Твардовского начались счастливые дни открытия: он бросился с рукописью по своим друзьям и требовал выставлять бутылку на стол в честь появления нового писателя. Надо знать Твардовского: в том он и истый редактор, не как другие, что до дрожи, до страсти золотодобытчика любит открывать новых авторов.
Он кинулся по друзьям, но вот странно: в пятьдесят один год, известный поэт, редактор лучшего журнала, важная фигура в Союзе писателей, немелкий и среди коммунистов, – Твардовский не имел ярких друзей: свой первый заместитель (недобрый дух) Дементьев; да собутыльник, мутный И. А. Сац, шурин и посмертный оруженосец шутовского Луначарского; да М. А. Лифшиц, ископаемый марксист-догматик. Говорят, были периоды дружбы с Виктором Некрасовым, с Эм. Казакевичем, ещё с кем-то, но потом шла дружба по колдобинам, утыкалась, перепрокидывалась. Значит, и по окружной среде, и в самом Твардовском было: обречённость на одинокое стоянье. И от крупности. И от характера. И оттого что из мужичества он пришёл. И от неестественной для поэта жизни советского вельможи.
Пока распивались эти бутылки и затребовалась для дивления моя исходная рукопись, где буквы были стеснены как согнанные овцы и не было полоски белой пройтись редакционному карандашу, – в редакции, как велось у них для важных случаев, составлялись письменные заключения о рукописи. Кондратович написал: «…Мы это, наверно, не сможем напечатать… Автору стоило бы прежде всего посоветовать ввести мотив ожидания заключёнными конца страданий… Нужно бы почистить язык». Дементьев: «Угол зрения: в лагере ужасно и за границами лагеря всё ужасно. Случай сложный: не печатать – бояться правды… печатать – невозможно, всё же показывает жизнь с одного боку». (Да не выведет отсюда читатель, что Дементьев действительно колебался – печатать или нет. Он хорошо знал, что печатать и невозможно, и вредно, и не будут, однако раз его шеф так втравился и увлёкся, нельзя было слишком круто отваливать.)
______________
Но всё это я потом, не в один год, узнал и сметил. А в тот мой первый приезд Кондратович, стараясь быть важным (впрочем, его неосновательность и несамостоятельность видны были мне с летучего взгляда), значительно спросил меня как осчастливленного робкого автора:
– А что у вас есть ещё?
Лёгкий вопрос! Естественный вопрос – им надо понять, насколько случайна или неслучайна моя удача. Но то и была моя главная тайна. Не для того я хитрил пять лет на лагерных обысках, восемь лет изобретал заначки в ссылке и на воле, чтобы поддерживать теперь любезную беседу. Я отломил Кондратовичу:
– Я не хотел бы начинать наше знакомство с этого вопроса.
Приехал Твардовский, и меня позвали в их большую редакционную комнату (новомирцы тогда располагались тесно, и кабинет Твардовского считался в открытом углу той же комнаты). Лишь по плохим газетным фотографиям я его знал и при слабой моей схватчивости на лица мог бы не узнать. Он был крупный, кругом широкий, но подкатился и ещё один, тоже крупный и тоже кругом широкий, да просто-таки симпатяга, еле сдерживающий своё добродушие. Этот второй оказался Дементьев. А Твардовский соответственно моменту держался с достойной церемонностью, однако и сквозь неё сразу поразило меня детское выражение его лица, – откровенно детское, беззащитно детское, ничуть, кажется, не испорченное долголетним пребыванием в высоких слоях и даже обласканностью троном.
Вся головка редакции расселась за большим старинным долгоовальным столом, я – против Александра Трифоновича. Он очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он всё больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я – он.
Он смотрел на меня с доброжелательством, уже почти переходящим в любовь. Он неторопливо перебирал те разные примеры из рассказа, мелкие и крупные, что приходили ему на ум, – перебирал с удовольствием, гордостью и радостью даже не открывателя, не покровителя, а творца; он с такой ласковостью и умилением цитировал, будто сам это всё выстрадал и это даже любимая его вещь. (Другие члены редакции все кивали и поддакивали похвалам Главного, только, пожалуй, Дементьев сидел умеренно-безучастный. Он и не выступил в этот день.)
А сдержанней всех и даже почти мрачен сидел я. Эту роль я себе назначил, ожидая, что вот сейчас начнут выламывать кости, требовать уступок и выбросов, а я ни за что их делать не буду – ведь не знают они, что держат в руках уже облегчённую редакцию, уже обкатанную. Я понимал, что это только стелют мягко, а сейчас-то и приступят с ножницами – отрезать всё, чем колется лагерь, и все лохмотья, и все цветки. И своим мрачным видом я им заранее показывал, что нисколько я не вскружен и не очень-то дорожу новым знакомством.
Но чудо! – мне не выламывали рук. Но чудо! – не вытаскивали и не раззевали ножниц. Да не сошёл ли я с ума? Неужели редакция серьёзно верит, что это можно напечатать?
Всего-то замечаний было у Твардовского – обходительных просьб, самым бережным голосом высказанных! – два: что не может Иван Денисович зариться на левую чужую работу – раскраску ковров; и что не может он совсем уж не допускать, что ступит когда-нибудь на волю. Так это, пожалуй, и верно было, это я легко тут же пообещал. А Закс произнёс, что не может Иван Денисович всерьёз верить, что Бог луну на звёзды крошит. А Марьямов указал мне на два-три неверных украинских слова.
Так приятели задушевные, так же сотрудничать можно! Не такими я представлял себе наши редакции…
Предложили мне для весу назвать рассказ повестью, – ну, ин пусть будет повесть[5]. Ещё, не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием «Щ-854» повесть никогда не сможет быть напечатана. Не знал я их страсти к смягчающим, разводняющим переименованиям и тоже не стал отстаивать. Переброской предположений через стол с участием Копелева сочинили совместно: «Один день Ивана Денисовича». (Мой подзаголовок и был: «Один день одного зэка».)
Предупредил меня Твардовский, что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад был, что в ЧКГБ не передали!) и срока не укажет, но не пожалеет усилий.
С любопытством задавали мне разные смежные вопросы. Сколько времени я писал эту повесть? (Осторожно, взрывается! Сорок пять дней я её писал. А что ж тогда остальные годы?) Да видите, трудно подсчитать, ведь всё урывками, после школы… В каком году начал, в каком кончил, сколько она у меня лежала? (Все даты огнём горели во мне! – но начни их называть, и сразу станет ясно, сколько ещё пустого времени.) Я как-то не запоминал годов… А почему я так тесно печатаю – без просветов, с двух сторон? (Да вы понимаете, что такое кубические сантиметры, вислоухие?!..) Просто, знаете, в Рязани бумаги не купишь… (Что тоже правда.)
Расспрашивали о моей жизни, прошлой и настоящей, и все смущённо смолкли, когда я бодро ответил, что зарабатываю преподаванием шестьдесят рублей в месяц и мне этого хватает. (Я в Рязани и не хотел полной ставки, чтобы время было, а при высокой зарплате жены она сама содержала своих трёх старушек.) Такие цифры для литераторов вообще за чертой понимания, за несколько строк рецензии столько платят. Да и одет я был в уровень со своей зарплатой. Властно и радостно распорядился Твардовский тут же заключить со мной договор по высшей принятой у них ставке (один аванс – моя двухлетняя зарплата). Я сидел как в дурмане, силясь держать внимание на том, чтобы не сказать о себе лишнего.
Упорнее всего Твардовский и редакция добивались: а что у меня есть ещё? ещё – что? ещё? Пробегая мои похороненные от 1948 года пласты, я выбирал, что ж им назвать. Едучи сюда, я не готовился ничего больше открывать, но что-то надо было, трудно было убедить их, что «Иван Денисович» написан как первая проба пера.
Говорила лиса мужику: ты мне дай только на воз лапку положить, а вся-то я и сама вспрыгну.
Так и со мной.
Пообещал я, что покопаюсь к следующему разу, что кажется, ещё у меня рассказик найдётся, да несколько этюдиков, да несколько стихов. (Тут обрадованно изрек Кондратович, что и – хорошо, лагерная тема исчерпана «Иваном Денисовичем», и хорошо бы мне взяться за фронтовую. Двадцать лет, тысячи ртов, они дружно дудили в армейскую дуду – и тема не была исчерпана! А пятидесяти миллионам, погибшим в ссылках и лагерях, довольно было бугорка моего рассказа!..)
За тот декабрь ещё раза два мне пришлось приезжать в Москву. Смягчили в рассказе десяток выражений, но правильно предупредила меня Берзер, с которой мы быстро и тепло сдружились, что никогда не поймёшь, что пройдёт в цензуре, а что зацепится, и лучше подольше ничего не исправлять. Да у меня и настроения не было уступать. Мне легче было забрать рассказ назад, чем его изувечить.
В те приезды я и привёз Твардовскому: несколько лагерных стихотворений, несколько «Крохоток» побезобиднее и рассказ «Не стоит село без праведника», облегчённый от самых непроходимых фраз. «Крохотки» он признал «записями в общую тетрадь про запас», их жанра совсем не почувствовал. О стихах сказал: «Иные печатать можно, но выстрела не получится, а хочется выстрела». (Мятежный просил бури! – нет, он совсем не заплеснел!) О «Матрёне» же состоялось 2 января 1962 редакционное обсуждение.
(С этого времени я догадался, что сгодятся когда-нибудь записи литературных встреч, и стал записывать всегда посвежу, а то и при самих обсуждениях. Так записано и всё о Твардовском – и теперь жалко не привести тех встреч достоверно и объёмно, хотя это может отяготить построение «Очерков», лишить их краткости и лёгкости, каких бы я хотел.)
За тем же большим долгоовальным столом, где недавно так много их сидело, теперь Твардовский не собрал кворума: кто прочесть не успел, кого в редакции не было. Пришёл Дементьев (на полной ставке в Институте Мировой Литературы, он в «Новом мире» появлялся ненадолго, здесь был не заработок его, а – важная миссия). Твардовский пригласил: «Саша, садись!» Но Дементьев отмахнулся, как от пустого: «Да чего ж тут говорить!» Он это по виду сокрушённо сказал (всё равно, де, не напечатать), но я воспринял иной тон: рассерженность, что я несу им рассказы один наглее другого и совлекаю Твардовского с проверенного мощёного пути. Я тогда же ощутил верный смысл этого их короткого перекора.
Они были на «ты», очень всегда запросто, оба – Саши. Никто в редакции не смел Твардовскому возражать, один Дементьев поставил себя с независимым мнением и вволю спорил, и даже так уставилось, что Твардовский никакого решения не считал окончательным, не столковавшись с Дементьевым, – не убедя или не уступя. А особенно дома (они в одном доме на Котельнической жили) Дементьев умел брать верх над Главным: Твардовский и кричал на него, и кулаком стучал, а чаще соглашался. Так незаметно один Саша за спиной другого поднаправлял журнал. Говорят, влиял Дементьев осторожно, очень взвешенно. Твардовский вряд ли бы потерпел, если б Дементьев всегда только удерживал его. Немало было случаев, что он и подталкивал – нечего, де, робеть (так было с рассказами В. Гроссмана, например). И почти неизменно он выставлял: «Саша, ты не прав! Это будем печатать!» – когда Твардовский упирался по каким-то личным причинам. Дементьев спорил – но и знал меру, где отступить, признать себя побитым. Он никогда не бывал пусто-чванен, надут, и это облегчало существование ему самому и членам редакции. К нему не боязно было обратиться любому редактору, Дементьев всегда был настроен делово, живо выхватывал суть, и какую статью или абзац можно было пособить протолкнуть, – набросив ширмочку, переставив слова, – пособлял непременно. Он способствовал, чтобы журнал был и посвежей, и посочней, и даже поострей – но всё в рамках разумного! но стянутое проверенным партийным обручем и накрытое проверенной партийной крышкой!
Он и с авторами разговаривал свободно, успешно: лишённый самодовольства, он имел глаза рассмотреть автора и правильно с ним обратиться. Он очень приятно окал, улыбался приятно, и знал за собой, как он нравится собеседникам – толстоморденький симпатичный мужичок, с очень уже прореженными, чуть вьющимися волосами, под шестьдесят лет. Он и прищуриться умел и вполголоса намекнуть – свойский парень, понятный каждому. Да вот он охотно принимает вашу рукопись! – «ну поработаем, конечно, поработаем!» (и исковеркаем). Он и перед Главным, перед которым вы робеете, умеет за вас замолвить: «Саша, ты прав, это дерьмо, но автору же нельзя вложить твою голову. Ну, поддержим его, подправим, напечатаем».
Но там, где разрывался партийный обруч, где выбивалась крышка, – там Дементьев не понимал: о чём можно толковать? Там вступало сердце и зрение Твардовского. Так сорвалось у Дементьева с «Иваном Денисовичем»: впечатления безсонной ночи и двойного чтения были слишком сильны над Твардовским, чтобы рывку его поэтического и мужицкого чувства Дементьев отважился противостать.
Впрочем, это тоже всё годами позже я узнал и понял. А тогда только чувствовал в Дементьеве врага. Я ещё не понимал, что главное обсуждение «Матрёны» уже состоялось между ними двумя, дома, втихую, что на этот раз второй Саша уже одолел первого «партийной истиной». Одолел редактора, но не мог заглушить чувства в поэте. И Твардовский, обречённый отказать мне, мучился, и для того и кликал второго Сашу за стол ничего не решающего обсуждения, чтобы тот помог разобраться в его собственном смятении и объяснить мне, почему рассказ о Матрёне ни в коем, ни в коем случае не может быть напечатан. (Как будто я им это предлагал! Я принёс рассказ, чтоб только откупиться от расспросов.) Но ушёл Дементьев, не помог, – и досталось Твардовскому «обсуждать» самому – при трёх молчащих сотрудниках редакции и моих редких слабых ответах. Почти три часа длилось это обсуждение – монолог Твардовского.
Это была сбивчивая, растерянная и сердечная речь. (Сидевшая среди нас Берзер говорила мне потом, что за все годы в «Новом мире» не помнила, не слышала Твардовского таким.)
Он делал круг над рассказом и потом круг общих рассуждений, и опять над рассказом, и опять – общих рассуждений. Художник истинный, он не мог упрекнуть меня, что здесь неправда. Но признать, что это и есть правда в полноте, – подрывало его партийные, общественные убеждения.
Да не первый же раз, да сколько раз уже, конечно, он переживал это разрушительное душевное столкновение, только может быть не сходилось таким острым клином! Он и жил-то единственным истоком: русской литературой – с тех первых некрасовских стихов, заученных босоногим мальчишкой, и со своего первого стихотворения, написанного в тринадцать лет. Он предан был русской литературе, её святому подходу к жизни. И хотелось ему быть только – как те, Пушкин и кто за ним. Повторяя Есенина, он охотно бы умер от счастья, сподобленный пушкинской судьбе. Но не тот был век, и всеми и всюду была признана и в каждого внедрена, – а тем более в главного редактора, – другая, более важная истина – партийная. Направлять сегодня русскую литературу, помогать ей он не мог бы без партийного билета. А партийный билет он не мог носить неискренно. И как воздух нужно было ему, чтоб эти две правды не раздваивались, а сливались. (Потому вскоре он так полюбит и приблизит Лакшина, что тот сумеет ловко ладить между этими двумя правдами, сумеет пластично переходить от одной к другой, не выявляя трещины.) Всякую рукопись полюбив сперва чувством первым, Твардовский непременно должен был провести её через второе чувство и лишь тогда печатать – как произведение советское.
Мы все сидели неподвижно, а он вставал и использовал простор позади своего стула, похаживал два-три шага туда-сюда. Говорил так: «Уж до такой степени у вас деревня с непарадной стороны – ну хоть бы один заходик с парадной… Все вокруг – дегенераты, вурдалаки, – а ведь из каких-то же деревень и генералы выходят, и директора заводов, и потом сюда в отпуск приезжают». Но тут же сам себя поворачивал: «Нет, я не говорю вам, чтоб вы сделали Киру комсомолкой». То находил он «слишком христианским» отношение повествователя к жизни. То, как на приколе, ходил вокруг мысли, что стало у нас добро – имуществом, и Толстой выступал ему напомин: «дети, старик добро вам говорил!» И хвалил мой рассказ за сходство с моральной прозой Толстого. И упрекал, что он «художественно пожиже», чем «Иван Денисович». (Ведь если художественно пожиже, так вот почему и можно не печатать…) Но тут же опять хвалил то за народные слова, то за сельские наблюдения.
Дошёл до того, что хвалил «реализм без прилагательных» и признавался, что ему приходится критический нисколько не хуже социалистического.
И потом ещё много было о материально-технической базе – о той, которая и в Америке, и в Швеции выше, и мы за 20 лет её не достигнем, но уже сейчас «с отвращением от неё отталкиваемся». И тут же вспоминал, как Сталин, возражая Троцкому, обещал построить социализм «не за счёт ограбления деревни». И вдруг остановился, как застигнутый снопом света, и, изумлёнными глазами обведя нас, спросил: «А за счёт же чего он построен?» Но мы не протянули ему соломинки, мы молчали, и снова он брёл по вязкому паркетному полу и рассуждал о разрыве между материально-технической базой и моралью. Однако, настаивал он, «религия имела слабое сдерживающее влияние на дурные инстинкты». (Непонятно, что ж их тогда сдерживало?..)
Так он вёл свой почти непрерывный монолог, то светясь благородством, то сгибаясь под догматическим потолком; то вздрагивая от чутья правды, опережающего и слух, и глаза поэта, то как бульдозер натужно выталкивая наперёд себя баррикадой авгиевы завалы.
А мы не возражали и не соглашались – мы молчали. Возражал же ему – рассказ о нищей старухе Матрёне, безмолвная рукопись, которую он обещал Дементьеву отвергнуть. И не получив ни единого возражения вслух, но как будто битый по всем аргументам, Александр Трифонович с раскаянным стоном выложил свой последний и главный:
– Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!
Никто из нас этого не говорил. Боже упаси! никто не писал! Но вот конфуз – и сейчас никто из нас не подтвердил, не улыбнулся, ни даже кивнул. Мы неприлично молчали.
Как? – мы и этого простейшего не понимали? В недоумении, как всё ещё переослеплённый светом фар, Александр Трифонович стал против нас быковато и воскликнул в тоске:
– Так ведь если б не революция – не открыт бы был Исаковский!.. А кем бы был я, если б не революция?..
Только эти факультативные поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту! (А Есенин, а Клюев, Клычков – стали и без революции? А что получили от неё?)
И завершилось обсуждение тем, что – нет, конечно нет, безусловно нет, «эта вещь не может быть напечатана».
Но хотя естественно было после того вернуть рукопись автору, Твардовский с виноватой заминкой сказал:
– А всё-таки оставьте её пока в редакции. Почитает кое-кто…
Всё равно её обнаружив, ничего я теперь не терял, хоть и оставить.
И ещё А. Т. попросил меня (после сказанного многого это совсем изумительно звучало):
– Только пожалуйста, не станьте идейно-выдержанным! Не напишите такой вещи, которую бы редакторы и без моего ведома, сами, решились бы запустить.
То есть ничего из принесенного мною он не мог напечатать – и просил впредь писать не иначе!!
Как раз это я легко ему мог обещать…
Тем более желая смягчить отказ, А. Т. стал говорить о мерах по печатанию «Ивана Денисовича» – пока ещё фантастических. И упнулся. Он действительно сам не знал: что предпринимать? с какой стороны? когда? Сказал мне примирительно:
– Ну, вы нас не торопите. Не спрашивайте, в каком номере будет.
Да я и не собирался. Обошлось без Лубянки – и спасибо. Проиграл я только то, что вообще рассекретился и теперь должен был с тройной осторожностью прятать свои готовые рукописи и текущую работу. Я ответил:
– Это в молодости важно – скорей увидеть себя в печати. А теперь уж у меня другое дыхание.
* * *
Так мы и расстались довольно надолго. Я не торопил Твардовского и в тот год не находил ничего неправильного в его медлительности. Да и с чем было эту медлительность сравнивать, какой единицей измерять? Разве в нашей литературе до того был подобный случай?
В пустой след упрекать легко. Когда куриное яйцо поставлено с малой смятинкой тыльца, то все видят, что оно может стоять. А до того оно у всех валилось. Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме Твардовского захотел бы и одерзел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх? В начале 1962 года совсем нельзя было догадаться: какими путями придумает он действовать? насколько всё это ему удастся?
Но миновали годы, мы знаем, что Твардовский напечатал рассказ с задержкой в 11 месяцев, и теперь легко его упрекнуть, что он не торопился, что он тянул. Когда мой рассказ только-только пришёл в редакцию, Никита ещё рвал и метал против Сталина, он искал, каким ещё камнем бросить, – и так бы пришлось ему к руке свидетельство пострадавшего! Да если б сразу тогда, в инерции XXII съезда, напечатать «Ивана Денисовича», то ещё бы легче далось противосталинское улюлюканье вокруг него и, думаю, Никита в запальчивости охотно бы закатал в «Правду» и мои главы «Одна ночь Сталина» из «Круга первого». Такая правдинская публикация с тиражиком в 5 миллионов мне очень ясно, почти зрительно рисовалась, я её видел как въявь.
Однако не сам же бы я понёс и донёс рассказ Никите? Без содействия Твардовского никакой бы и XXII съезд не помог. Но вместе с тем как не сказать теперь, что упустили и мы золотую пору, приливную волну, которая перекинула бы наш бочонок куда-куда дальше за гряду сталинистских скал и только там бы раскрыла содержимое. Напечатай мы тогда, в 2–3 месяца после съезда, ещё и главы о Сталине – насколько бы непоправимей мы его обнажили, насколько бы затруднили позднейшую подрумянку. Литература могла ускорить историю. Но не ускорила.
Виктор Некрасов, нервничая, говорил мне в июле 1962:
– Я не понимаю, зачем такие сложные обходные пути? Он собирает какие-то отзывы, потом будет составлять письмо. Ведь ему же доступна трубка того телефона. Ну сними трубку и позвони прямо Никите!
Характер Твардовского действительно таков, что ему тошнотно напарываться на отказ в просьбах. Говорили, что он переносит с мучением, когда просят его походатайствовать о ком-нибудь, о чьей-нибудь квартире: а вдруг ему, депутату Верховного Совета и кандидату ЦК, откажут? – унизительно…
Можно понять, что он и рассказу боялся повредить слишком прямым и неподготовленным обращением к Хрущёву. Но думаю, что больше здесь была привычная осмотрительность того номенклатурного круга, в котором так долго он обращался: они не привыкли спешить ковать ускользающую историю – потому ли, что никуда она не уйдёт? потому ли, что не ими, собственно, куётся? А ещё была у Твардовского на несколько месяцев и некая насыщенность своим открытием, рассказ довлел ему и ненапечатанный. Он, не торопясь, давал читать его Чуковскому, Маршаку – и не только, чтоб их именами подкрепить будущее движение рукописи, но чтоб отзывами этими и самому понаслаждаться, почитать их вслух и членам редакции и повезти хорошим знакомым (только мне не показал, боясь меня испортить). И Федину давал рукопись (тот никак не отнёсся), и не мешал дать прочесть Паустовскому и Эренбургу (недолюбливая, сам им не предложил). Он долго подгонял к повести предисловие. Так вёл он многомесячную неторопливую подготовку, ещё не определив, как же продвигаться выше. Просто отдать в набор и послать в цензуру виделось ему губительно (да губительно и было): цензура не только запретит, но немедленно донесёт в «отдел культуры» ЦК, и тот успеет с враждебными предупредительными шагами.
А месяцы шли – и остывал, и совсем уже миновал пыл XXII съезда. Непостоянный во всех своих начинаниях, а тем более в продолжениях, неустойчивый в настроении, Хрущёв должен был ещё и поддерживать Насера, и снабжать ракетами Кастро, и изобретать окончательный (уже самый наилучший) способ спасения и полного расцвета сельского хозяйства, да где-то же и космос подогнать, и лагеря укрепить, ослабшие после падения Берии.
И ещё одна, неожиданная для Твардовского, опасность была в этом методе прочтений, рекомендаций и планомерной подготовки: в наш машинописный и фотографический век быстро растекались копии рукописи. (Кажется, первичной виной всему были: тот же В. Некрасов взял по-дружески у Твардовского на одну ночку и отдал перефотографировать, да наш вскоре близкий друг Н. И. Столярова, см. Пятое Дополнение, очерк 9. Оба доброжелателя действовали естественно, а на самом деле губительно.) В сейфе «Нового мира» исходные экземпляры хранились под строгим учётом – а между тем уже десятки, если не сотни перепечатков и отпечатков расползлись по Москве, по Ленинграду, проникли в Киев, Одессу, Харьков, Нижний Новгород. Распространение подогревалось всеобщей уверенностью, что эту вещь никогда не напечатают. Твардовский сердился, искал «измену» в редакции, не понимая техники и темпов нашего века, не понимая, что сам же он, с этим сбором устных восторгов и письменных рецензий, был главный распространитель. Он всё мялся, не решался, месяцы шли – и вот наросла уже явная опасность, что рассказ утечёт на Запад, а там люди попроворнее, – и, напечатанный там, он никогда уже не будет напечатан у нас. (Логика, вполне понятная советскому человеку и совершенно непонятная западному. Ведь для нас мир – не мир, а постоянно воюющие «лагеря», мы так приучены.) Что уплыв на Запад не произошёл почти за год – чудо не меньшее, чем само напечатание в СССР. А не уплыло – по западному верхоглядству: кто из иностранцев и узнал о такой повестушке – не придал значения.
Пожалуй, эта опасность и заставила Твардовского поспешить. В июле он передал рукопись, окружённую букетом рекомендаций, эксперту Хрущёва по культуре Владимиру Семёновичу Лебедеву.
Между тем меня Твардовский ни разу не звал, и я лишь по рассказам Аси Берзер вызнавал, что там в редакции делается. Да начинал иногда знакомиться с людьми, уже читавшими мою повесть. После подпольной глухоты два десятка таких читателей создавали для меня ощущение толпы и бурной известности.
Я спешил подготовиться к новому опасному периоду жизни. Одно дело прятать рукописи, когда я песчинка среди других таких же; другое – когда я открылся, и Лубянка может проявить более настойчивую любознательность, чем «Новый мир», и прислать своих неторопливых лоботрясов – поискать, что ж у меня написано ещё. Стал я пересматривать свои похоронки – и показались они мне слишком простыми, вполне отгадными для этих взломщиков. И я сам теперь взламывал и уничтожал вторую крышку шкафа так, чтоб не было и следа; дожигал все лишние варианты и черновики. Остального решил дома не держать, и под Новый, 1962 год мы с женой повезли мой хранимый архив к её приятелю Теушу в Москву (через три с половиной года часть этого архива и будет захвачена опричниками). Этот переезд я особенно запомнил потому, что в праздничной электричке какой-то ворвавшийся пьяный хулиган стал глумиться над пассажирами. И так получилось, что никто из мужчин не противодействовал ему: кто был стар, кто слишком осторожен. Естественно было вскочить мне – недалеко я сидел, и ряжка у меня была изрядная. Но стоял у наших ног заветный чемоданчик со всеми рукописями, и я не смел: после драки неизбежно было потянуться в милицию, хоть участником, хоть свидетелем, – обое рябое. Вполне была бы русская история, чтобы вот на таком хулигане оборвались бы мои хитрые нити. Итак, чтобы выполнить русский долг, надо было не русскую выдержку иметь. И я позорно, трусливо сидел, потупя глаза от женских упрёков, что мы – не мужчины.
Может быть, не в такой постыдной форме, но так же отяготительно сколько раз моя изнуряющая литературная конспирация лишала меня свободы поступков, свободы высказываний, свободы выпрямленной спины. Всех нас гнуло, но меня ещё этот подвальный огрузняющий этаж как пригибал, сколько души отбирал от литературы. Все кости ноют, все кости просят – разогнуться!! – и хоть умереть.
Отвёз я архив, но из январской встречи в «Новом мире» понял, что в печать, собственно, ничто не идёт. В новом уязвимом положении надо было и дальше, совмещая со школой, писать в урывки дней. Была у меня потребность ещё в одной, последней, редакции «Круга», и с января 1962 я рискнул. Четыре месяца, до конца апреля, ничем другим я не был занят, а в судьбе «Ивана Денисовича» только тем озабочен, чтоб лучше эти месяцы ничего не страгивалось, не менялось, пусть и не продвигается, – лишь бы спокойно мне кончить роман.
И молиться было не надобно: ничего с «Иваном Денисовичем» и не стронулось. На майские праздники я, ещё не следимый, благополучно отвёз экземпляр отпечатанного романа к Зубовым в Крым (куда они переехали после ссылки), и ещё набор тайных плотных отпечатков. Потом дома занимался разными доработками, и уж лето подошло, и надо было славно провести его в движении, а по пути развезти ещё копии микрофильмов на Каму (моему тюремному другу Н. А. Семёнову) и на Урал (лагерному другу, Ю. В. Карбе). Всё дело с «Новым миром» настолько казалось заглохшим (и к лучшему! – думал я, вернусь постепенно в безопасное состояние), что придумали мы с женой ехать на Енисей и на Байкал (был я в Сибири, но только в «вагон-заке» и только до Новосибирска). Так и вышло по пословице «бедному жениться…». Именно в Иркутске, не ближе никак, ожидала меня копия срочной телеграммы Твардовского, приглашающего «на короткое время» заехать в редакцию.
Ещё до того «короткого времени» езды от Иркутска было четверо суток.
Опять устроили всередакционное заседание. Неопределённо было мне объявлено, что в одной важной инстанции (это значило – В. С. Лебедевым) повесть моя одобрена. Но высказаны некоторые пожелания к её улучшению. Твардовский считал, что этих пожеланий совсем немного, и он бы очень просил меня выполнить их, не упустить появившейся возможности.
Он очень себя сдерживал, чтобы не ликовать слишком открыто. Детскость его проявлялась непогасимой радостью в глазах. Очень он был доволен своим удающимся многомесячным планом и только из редакционной церемонийности делал вид, что добавляет какие-то свои замечания, а иных от меня не хотел, лишь бы я принял лебедевские. Но так прямо он не говорил, а серьёзно вёл заседание и предлагал всем членам высказываться о необходимых исправлениях.
Говорили что-то, но ничего существенного, потому что не имели другого порыва, как согласиться с главным редактором, и не хотели даже иметь собственного мнения, от него отличного. (И это не Твардовский так сложил, это само так сложилось в журнале, естественно, по подобию всякой части своему целому, это сложилось как во всяком учреждении, во всяком звене советской системы.) Но Дементьев-то сидел здесь, и он-то видел, что лопается обруч, что выбивается крышка. Александр Григорьевич Дементьев, кто не заминался на должности парторга ленинградской писательской организации, а в хрущёвские времена стал комиссаром самого либерального журнала, – кем-то же и зачем-то же был послан сюда? – долею освежиться, долею очиститься, – но и не пущать же! Перед теми, кем послан был он сюда на полставки, но с ответственностью двойной, не мог он теперь признать авторитет даже хрущёвского референта и поддаться благодушию всей редакции. Деловой человек, он не спорил тогда, в декабре 1961, когда все меня хвалили и ласкали: он-то знал, что рассказ этот всё равно будет зарублен. Но сейчас, когда искажённым, незаконным ходом событий прорисовалось рассказу вырваться в свет, – сейчас он должен был сделать всё, чтоб его исправить.
И куда же делось то лукаво-дружеское, то душевно-дружеское его выражение в приятном отклоне седеющей головы? И как ожестело его покоряюще-милое оканье! Как нарумянило его, как распалило, и до самых ушей! Одно только: он не вещал с Олимпа, а спорил, волнуясь, – волнуясь не выиграть, не убедить. Раскаты были только в самих формулировках – в коммунизме, в патриотизме, в материализме, в соцреализме. Воля бы Дементьева, он весь рассказ мой сострогал бы под гладь, не осталось бы ни задоринки. Но уж тут надо было бить по ядру. И обвинил он меня, что я позорю знамя и символ советского искусства – «Броненосец Потёмкин», и весь разговор о нём надо снять. А ещё надо снять разговор Шухова с Алёшкой о Боге – потому что он художественно совсем невыразительный, а идеологически неправильный, и длинный слишком, и только портит хорошую повесть. А ещё не должен автор уклоняться от политически точной оценки бандеровцев, даже в их лагерном существовании, ибо они запачканы кровью наших советских людей. А ещё… Да оказывается, он на машинописи сделал много пометок и может мне их конкретно показать, только машинопись ту забыл дома.
Распалённым яростным кабаном выглядел Дементьев к концу своего монолога, и положить бы сейчас перед ним полтораста страниц той машинописи – он бы, кажется, клыками их разметал.
А Твардовский молчал. Ещё бы не верно! очень верно рассуждал политический комиссар, он хотел из моего аморфного рассказа выковать оружие соцреализма, – и что же мог возражать ему главный редактор? Он не мог ему возражать, но он почему-то молчал. Он не поддержал его ни кивком, ни бровью. И ожидательно на меня смотрел. Если б я уступил, значит так бы и было.
Однако – перебрал Дементьев! При своём несомненном и быстром уме совсем он не знал породы зэков, племенного нашего закала. Выражайся он осторожно, требуй он маленьких, но гадких уступочек, достаточно портящих вещь, – я бы это всё записал, а потом вперемежку с требованиями хрущёвского эксперта обдумал и, наверно, что-нибудь бы испортил. Но перед напирающими обозлёнными глазами я ответил без колебания, без труда, совсем не задумываясь, насколько это выгодно. Перед моими зэками, перед моими братьями, перед экибастузской голодовкой, перед кенгирским мятежом мне стыдно и отвратно стало, что я ещё обсуждаю тут с ними что-то, что я серьёзно мог думать, будто литераторы с красными книжечками даже после XXII съезда способны напечатать слово правды.
– Десять лет я ждал, – ответил я освобождённо, – и могу ещё десять лет подождать. Я не тороплюсь. Моя жизнь от литературы не зависит. Верните мне рукопись, я уеду.
Тут вмешался переполошенный Твардовский:
– Да вы ничего не должны! Всё – на ваше доброе усмотрение, что сказано было сегодня. Но просто всем нам очень хочется, чтобы рукопись прошла.
И – не спорил больше Дементьев! Он стих. Он смяк. Он дошёл до того упора, где обрывалось его влияние на Главного. Дальше он не мог рисковать.
И тут же потребовалось мне ехать… именно к Дементьеву домой – забирать основной экземпляр. Как он переменился, как он стал дружественен! Да разве это он полчаса назад так разгорячённо шёл на меня, стуча копытами? Вдруг он предложил мне… свою квартиру для работы. Вдруг, совсем позабыв ту терминологию раскатистых измов, он какими-то смутными намёками стал искать у меня понимание. Э-э, не из куска чугуна был этот комиссар. Он, кажется, был за перегородками многими, и за каждой следующей всё грустней. (Кстати, слышал я потом, что он происходил из богатой купеческой семьи; по возрасту должен был тот быт ещё захватить. Из опасений ли анкетных он так выпирал в ортодоксальность? Бывает. Ведь и Софронов, кажется. И несколько их, таких услужателей, в литературной верхушке.)
И остался я перед своим рассказом опять. Я-то знал, чего не знала редакция: что это совсем не истинный вариант, что здесь уже было и трогано, и стрижено, совсем это не целокупная недотрога. Где начато, можно и продолжать. Заряду хватит здесь и после отбавки. Но дурным казалось мне такое начало литературного пути: уступать, как и все они. Отчётливо помню, что для себя мне было в этот момент ничего бы лучше не исправлять, а – чёрт с ними, пусть не печатают. Однако глупо было бы не попробовать вовсе. Ослабленное на полпроцента, на три четверти процента (так по значению и объёму весило то, что решил я Лебедеву и «Новому миру» уступить), – как это всё-таки будет разить в напечатанном виде! Нет, попробовать стоило.
Если вникнуть, то требования Лебедева даже поражали своей незначительностью. Они ничего не трогали в рассказе главного. Самые отчаянные места, которые, сердце сжав, я, пожалуй бы, и уступил, были им обойдены, как будто не замечены. Да что ж это за таинственный либерал там, наверху, в первой близости к первому секретарю ЦК? Как он пробрался туда? Как держится? Какая у него программа? Ведь надо ему помочь!
Главное, чего требовал Лебедев, – убрать все те места, в которых кавторанг представлялся фигурой комической (по мерке Ивана Денисовича), как и был он задуман, и подчеркнуть партийность кавторанга (надо же иметь «положительного героя»!). Это казалось мне наименьшей из жертв. Убрал я комическое, осталось как будто «героическое», но «недостаточно раскрытое», как находили потом критики. Немного вздут оказывался теперь протест кавторанга на разводе (замысел был – что протест смешон), однако картины лагеря это, пожалуй, не нарушало. Потом надо было реже употреблять к конвойным слово «попки», снизил я с семи до трёх; пореже – «гад» и «гады» о начальстве (было у меня густовато); и чтоб хоть не автор, но кавторанг осудил бы бандеровцев (придал я такую фразу кавторангу, однако в отдельном издании потом выкинул: кавторангу она была естественна, но их-то слишком густо поносили и без того). Ещё – присочинить зэкам какую-нибудь надежду на свободу (но этого я сделать не мог). И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, – хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно – он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул «батьку усатого» один раз…
Внёс я исправления, уехал из Москвы, и снова начался для меня период полной затиши и темноты (ах, не дали Байкал досмотреть!). Снова всё пришло в неподвижное прежнее состояние, как будто движение рассказа никогда не начиналось, как будто это всё сон. Лишь в конце сентября, и то под большим секретом, от Аси Берзер, узнал я, как развивались дела. На даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущёву вслух (сам Никита вообще читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно смеялся, где нужно ахал и крякал, а со средины потребовал позвать Микояна, слушать вместе. Всё было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, «как Иван Денисович раствор бережёт» (это Хрущёв потом и на кремлёвской встрече говорил). Микоян Хрущёву не возразил, судьба рассказа в этом домашнем чтении и была решена. Однако Хрущёв хотел всё обставить демократично.
Недели через две, когда уже вернулся он из отпуска в Москву, получил «Новый мир» среди дня распоряжение из ЦК: к утру представить ни много ни мало – 23 экземпляра повести. А в редакции их было три. Напечатать на машинке? Невозможно успеть! Стало быть, надо пустить в набор. Заняли несколько наборных машин типографии «Известий», раздали наборщикам куски повести, и те набирали в полном недоумении. Так же по кускам и корректоры «Нового мира» проверяли ночью, в отчаянии от необычных слов, необычной расстановки их и дивуясь содержанию. А потом переплётчик в предутреннюю вахту переплёл все 23 в синий картон «Нового мира», и утром, как если б это труда не составило никому никакого, 23 экземпляра было представлено в ЦК, а типографские наборы упрятаны в спецхранение, под замок. Хрущёв велел раздать экземпляры ведущим партвождям, а сам поехал налаживать сельское хозяйство Средней Азии.
Он вернулся недели через две под роковыми для себя звёздами середины октября. На очередном заседании политбюро (тогда – «президиума») стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется, всё-таки члены политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались («Чего молчите?» – требовал Никита), кто-то осмелился спросить: «А на чью мельницу это будет воду лить?» Но был в то время Никита «я всех вас давишь!» по сказке, да не обошлось, наверно, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладёт. И постановлено было – печатать «Ивана Денисовича». Во всяком случае, решительного голоса против не раздалось.
Так стряслось чудо советской цензуры или, как точней его назвали через три года, – «последствие волюнтаризма в области литературы».
20 октября, в субботу, Хрущёв принял Твардовского – объявить ему решение. Это была не знаю первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к голове. В сердце Твардовского, как, наверно, во всяком русском да и человеческом сердце, очень сильна жажда верить. Так когда-то, вопреки явной гибели крестьянства и страданиям собственной семьи, он отдался вере в Сталина, потом искренно оплакивал его смерть. Так же искренно он потом отшатнулся от разоблачённого Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в нового человека, испускающего свет этой правды. Именно таким он увидел в эту двух-трёхчасовую встречу Хрущёва; через месяц, в пору нашей самой восприимчивой близости, А. Т. говорил мне: «Что это за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!»
В то свидание с Твардовским Хрущёв был мягок, задумчив, даже философичен. Можно этому поверить. Уже кинжальным клином сошлись против него враждебные звёзды. Уже наверно имел он телеграмму от Громыки, что накануне в Белом Доме тот спрошен был: «Скажите честно, господин Громыко, держите вы ракеты на Кубе?» И, как всегда честно и уверенно, ответил Громыко: «Нет». Не знал, конечно, Хрущёв, мирно разговаривая с Твардовским о художественной литературе, что уже готовятся в Вашингтоне щиты с увеличенными фотоснимками советских ракет на Кубе, что в понедельник они будут предъявлены делегатам американских государств и Кеннеди получит согласие на свой безпримерно-смелый шаг: досматривать советские суда. Всего только одно воскресенье отделяло Хрущёва от его недели позора, страха и сдачи. И как раз в эту последнюю субботу довелось ему дать визу на «Ивана Денисовича».
«Я даже его перебивал! – вспоминал мне Твардовский, сам удивляясь. – Я сказал ему: от поцелуев дети не рождаются, отмените цензуру на художественную литературу! Ведь если ходят произведения в списках – хуже же нет!» И Никита примирительно выслушивал, он будто сам был близок к тому, как показалось Твардовскому. (Из сопоставления его пересказов в редакции можно допустить, что А. Т. невольно приписал молчащему Хрущёву свои собственные мысли.)
Хрущёв рассказал Твардовскому, что собрано уже три тома материалов о преступлениях Сталина, но пока не публикуются[6]. «История рассудит, что мы предприняли». (Никита всегда возвышался и смягчался, когда говорил о всеобщей смертности, об ограниченности человеческих сроков. Это звучало у него и в публичных речах. Это была у него неосознанная христианская черта, – у него-то, худшего гонителя церкви со времён Ленина! Никто из коммунистических вождей, ни до ни после него, ни западнее ни восточное его, никогда так не говорил. Никита был царь, совершенно не понимавший своей сущности, ни своего исторического назначения, подрывавший всегда те слои, которые хотели и могли его поддержать, никогда не искавший и не имевший ни одного умного советника. Проворный хваткий зять его Аджубей тоже был неумён, только авантюрист, ещё ускоривший падение тестя.) В убийстве Кирова Сталиным Хрущёв был уверен, но и понимал, что сам по себе Киров был личностью незначительной.
Кажется, всё было решено с повестью, и скомандовал Твардовский запускать её в 11-й номер. Но тут началась ракетная драма с Америкой. Могло и так, что от карибской бури завихрение по коридору ЦК смело бы мою повестушку.
Однако утихло! Перед ноябрьскими, как раз через год с тех пор, как я выпустил рассказ из рук, я был вызван на первую корректуру[7]. Пока я сидел над машинописными текстами – всё это был миф, не ощущалось нисколько. Но когда передо мной легли необрезанные журнальные страницы, я представил, как всплывает на свет к миллионам несведущих крокодилье чудище нашей лагерной жизни, – и в непривычной роскоши гостиничного номера я первый раз плакал сам над рассказом.
Тут передали мне просьбу Лебедева: ещё выпустить из рукописи слова Тюрина: «Перекрестился я и говорю: “Всё ж Ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьёшь”». Досмотрелись… Досмотрелись, но поздно, до этого главного места в повести, где я им опрокинул и вывернул всю легенду о гибели руководящих в 37-м году! Склоняли меня в редакции: ведь Лебедев так был сочувственен! ведь это он пробил и устроил! надо ему теперь уступить. И правильно, и я бы уступил, если б это – за свой счёт или за счёт литературный. Но тут предлагали уступить за счёт Бога и за счёт мужика, а этого я обещался никогда не делать. И всё ещё неизвестному мне мифическому благодетелю – отказал.
И такова была инерция уже сдвинутого и покатившегося камня, что сам советник Хрущёва ничего не мог исправить и остановить!
Это попробовал сделать Аджубей: не остановить качение, но хоть перенаправить. Может быть – под давлением ортодоксов-благомыслов, которые хотели всё же по-своему в первый раз представить историю лагерей (себя – как главных страдальцев и главных героев); но скорее – мельче того: просто перехватить инициативу («вставить фитиля»), обскакать Твардовского уже после трудного пути и выхватить приз первым. На редакционном сборе «Известий» гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что был такой рассказик из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам – уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста, и тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали, – напечатали с безстыжей «простотой», без всякого даже восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настряли всем. Твардовский очень тогда расстроился и обиделся на Аджубея. А я думаю – ничего им «Самородок» не дал: неотвратимо катился наш камень, и именно в таком виде суждено было русским читателям впервые увидеть контуры лагеря.
Уже осознав победу, Твардовский, как предусмотрительный наторелый редактор, заглядывал дальше, и в те же ноябрьские праздники прислал мне большое письмо:
«…Хотел бы Вам сказать по праву возраста и литературного опыта. Уже сейчас столько людей домогалось у нас в редакции Вашего адреса, столько интереса к Вам, подогретого порой и внелитературными импульсами. А что будет, когда вещь появится в печати?.. Будет всё то, что называется славой… Речь я веду к тому, чтобы подчеркнуть мою надежду на Ваше спокойствие, выдержку, на высокое чувство собственного достоинства… Вы прошли многие испытания, и трудно мне представить в Вас нестойкость перед этим испытанием… наоборот, порой казалось, что не чрезмерна ли уже Ваша несуетность, почти безразличие… Мне, вместе с моими товарищами по редакции… пережившему настоящий праздник победы, торжества в день, когда я узнал, что “всё хорошо”, – мне показалась чуть-чуть огорчительной та сдержанность, с которой Вы отозвались на мою телеграмму-поздравление, то словечко “приятно”, которое в данном случае было, простите, просто обидным для меня… Но теперь я взываю как раз к Вашей сдержанности и несуетности – да укрепятся они и останутся неизменными спутниками Вашего дальнейшего труда… К Вам будут лезть с настырными просьбами “дать что-нибудь”, отрывок, кусочек, будут предлагать договоры, деньги… Умоляю – держитесь… не давайтесь в руки, ссылайтесь (мы имеем некоторое право надеяться на это) на обязательство перед “Новым миром”, который, де, забирает у Вас всё, что выйдет из-под Вашего пера».
У них был «праздник победы»! А я объяснил ему свою обстановку:
«Знаете ли Вы, с какими мыслями я вскрыл ваш конверт? Жена принесла и говорит встревоженно: “Толстое письмо из “Нового мира”. Почему такое толстое?” Я пощупал и сказал: “Совершенно ясно. Кто-то хочет от меня ещё уступок, а я их больше делать не могу. На этом печатание пока закончено…” Моя жизнь в Рязани идёт во всём настолько по-старому (в лагерной телогрейке иду с утра колоть дрова, потом готовлюсь к урокам, потом иду в школу, там меня корят за пропуск политзанятий или упущения во внеклассной работе), что московские разговоры и телеграммы кажутся чистым сном… Для меня из Вашей телеграммы только то и стало ясно, что пока запрета нет. Поэтому, дорогой А. Т., не оставляйте в сердце обиды на моё словечко “приятно”, я был бы неискренен, если бы выразился сильней, никакой буйной радости я тогда не испытал. Вообще вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью. Я усвоил ещё в лагере русскую пословицу: “Счастью не верь, беды не пугайся”, приладился жить по ней и надеюсь никогда с неё не сойти… Главную радость “признания” я пережил в декабре прошлого года, когда Вы оценили “Денисовича” безсонной ночью».
Но призыв его «держаться» и «в руки не даваться» ещё бы не нашёл у меня отзыва! меня эта роскошь гостиницы «Москва» в Охотном ряду, бархаты, ковры и услуги портье не радовали, а пугали. Первое ощущение славы – как будто язык твой перестал чувствовать вкус, а пальцы уже не осязают так тонко, как прежде. «Почему не ездишь на такси?» – удивлялся Копелев. А мне сесть в такси казалось предательством, я понимал только – с рюкзаком в автобусе. И теперь уверенно отвечал Твардовскому: «Слава меня не сгложет… Но я предвижу кратковременность её течения – и мне хочется наиболее разумно использовать её для моих уже готовых вещей». (А и «Новый мир»-то ещё не знал их…)
Но Твардовский, после хрущёвской милости, вот этой-то кратковременности – никак не понимал.
Мы уже стали так теплы, хотя с глазу на глаз, без редакции, ещё и не встретились ни разу. Вскоре я был у него дома – и как раз курьер из редакции (потом – уличённый стукач) принёс нам сигнальный экземпляр 11-го номера. Мы обнялись. А. Т. радовался как мальчик, медвежьим телом своим порхая по комнате: «Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж – почти невозможно!» (Почти… И он тоже до последнего момента не был уверен. Да разве не случалось – уничтожали весь отпечатанный тираж? Труд ли, деньги ли нам дороги? Нам дорога идеология.) Я поздравлял: «Победа – больше ваша, чем моя».
«Шпарьте прямо ко мне!» – в таком необычном тоне заговорил он со мной по телефону в мой следующий приезд. Сразу после выхода тиража 11-го номера был пленум ЦК, кажется – о промышленности. Несколько тысяч журнальных книжек, предназначенных для московской розницы, перебросили в ларьки, обслуживающие пленум. С трибуны пленума Хрущёв заявил, что это – важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем). Он даже жаловался пленуму на своё политбюро: «Я их спрашиваю – будем печатать? А они молчат!..» И члены пленума «понесли с базара» книжного – две книжечки: красную (материалы пленума) и синюю (11-й номер «Нового мира»). Так, смеялся Твардовский, и несли каждый под мышкой – красную и синюю. А секретарь новосибирского обкома до заключительной речи Хрущёва сказал Твардовскому: «Ну, было и похуже… У меня в области и сейчас такие хозяйства есть, знаю. Но зачем об этом писать?» А после Никитиной речи искал Твардовского, чтобы пожать ему руку и замять свои неправильные слова.
Такова была сила общего захвала, общего взлёта, что в тех же днях сказал мне Твардовский: теперь пускаем «Матрёну»! «Матрёну», от которой журнал в начале года отказался, которая «никогда не может быть напечатана», – теперь лёгкой рукой он отправлял в набор, даже позабыв о своём отказе тогда!
«Самый опасный – второй шаг! – предупреждал меня Твардовский. – Первую вещь, как говорят, и дурак напишет. А вот – вторую?..»
И с тревогой на меня посматривал. Под «второй» он имел в виду не «Матрёну», а – что я следующее напишу. Я же, переглядывая, что у меня написано, не мог найти, какую вытянуть наружу: все кусались.
К счастью, в этот именно месяц написалась у меня легко «Кочетовка»[8] – прямо для журнала, первый раз в жизни. (Истинный случай 1941 года с моим приятелем Лёней Власовым, когда он комендантствовал на ст. Кочетовка, с той же подробностью, что проезжий именно забыл, из чего Сталинград переименован, – и чему никто поверить не мог, начиная с А. Т. А, по-моему, для человека старой культуры очень естественно и не помнить такой новой пришлёпки.) А. Т. очень волновался, беря её, и ещё больше волновался, читая, – боялся промаха, боялся, как за себя. С появлением Тверитинова его опасения ещё усилились: решил он, что это будет патриотический детектив, что к концу поймают подлинного шпиона.
Убедясь, что не так, тут же послал мне радостную телеграмму. Над «Кречетовкой» и «Матрёной», которые по его замыслу должны были утвердить моё имя, он первый и последний раз не высказывал политичных соображений «пройдёт – не пройдёт», а провёл со мной в сигаретном дыму честную редакторскую работу[9]. Его уроки (моей самоуверенности) оказались тонкими, особенно по деревенскому материалу: нельзя говорить «деревенские плотники», потому что в деревне – каждый плотник; не может быть «тёсовой драни»; если поросёнок жирный, то он не жадный; проходка в лес по ягоды, по грибы – не труд, а забава (впрочем, тут он уступил, что в современной деревне это уже – труд, ибо больше кормит, чем работа на колхозном поле); ещё – что у станции не может расти осинка, потому что там всё саженое, а её никто никогда не посадит; что «парнишка» старше «мальчишки». Ещё он очень настаивал, что деепричастия не свойственны народной речи, и поэтому нельзя такую фразу: «заболтав, замесив, да испеку». Но тут я не согласился: ведь наши пословицы иные так звучат.
Эти частые наши встречи осенью 1962 были как будто и непринуждённы, и очень теплы. В те месяцы не чаял А. Т. во мне души и успехами моими гордился как своими. Особенно ему нравилось, что я веду себя так, как он бы и замыслил для открытого им автора: выгоняю корреспондентов, не даю интервью, не даюсь фото- и киносъёмкам. У него было ощущение, что он меня сотворил, вылепил и теперь всегда будет назначать за меня лучшие решения и вести по сияющему пути. Он так подразумевал (хотя ни разу я ему этого не обещал), что впредь ни одного важного шага я не буду делать без совета с ним и без его одобрения. Например, он сам взялся определить, какому фотографу я могу разрешить сфотографировать себя (фотограф оказался плох, но то, что мне нужно было – выражение замученное и печальное, мы изобразили). Подошла необходимость какой-то сжимок биографии всё-таки сообщить обо мне – А. Т. сам взял перо и стал эту биографию составлять. Я считал нужным указать в ней, за что я сидел, – за порицательные суждения о Сталине, но Твардовский резко воспротивился, просто не допустил. (Он не знал, как это ещё сможет пригодиться, когда партия на своих инструктажах объявит меня изменником родины. Его взгляд больше охватывал настоящее, а будущего – почти никогда. К тому ж, очень подслойны бывали истинные причины его внешних движений. Например, сам он долго верил в Сталина, и всякий уже тогда не веривший как бы оскорблял его сегодняшнего. Так он отклонил и моё объяснение, что Тверитинов может не любить Сталина из одной только тонкости вкуса. Как бы это мог тот не любить? – значит, либо сам сидел, либо его родственники, иначе А. Т. не принимал.)
Я не спешил бунтовать против его покровительства, не рвался доказывать, что к сорока четырём годам уж какой отлился, такой отлился. Но – не может быть подлинной дружбы без хотя бы признаваемого равенства. А. Т. преувеличивал соотношение наших кругозоров, целей и жизненного опыта. Важнейшей частью своего опыта он считал хорошее знание иерархии, ходов заседательских, телефонных и закулисных. Но он преувеличивал охватность и долготу всей этой системы. Он не допускал, что эту систему можно не принять с порога. Он не допускал, что в литературе или политике я могу разглядеть или знать такое, чего не видит или не знает он.
Со мной пережил он вспышку новой надежды, что вот нашёл себе друга. Но я не заблуждался в этом. Я полюбил и его мужицкий корень; и проступы его поэтической детскости, плохо защищённой вельможными навыками; и то особенное природное достоинство, которое проявлялось у него перед врагами, иногда – перед вышепоставленными, и оберегало его от смешных или ничтожных положений. Но слишком несхожи были прошлое моё и его, и слишком разное мы вывели оттуда. Ни разу и никогда я не мог быть с ним так откровенен и прост, как с десятками людей, отемнённых лагерной сенью. Ещё характеры наши как-то могли бы обталкиваться, обтираться, приноровляться, – но не бывает дружбы мужской без сходства представлений.
Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, – но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведёт их по разным путям.
На поверхности
Как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному многоатмосферному внешнему давлению, всплыв на поверхность, гибнет от недостатка давления, оттого что слишком стало легко и она не может приспособиться, – так и я, пятнадцать лет благорассудно затаённый в глубинах лагеря, ссылки, подполья, никогда себя не открыв, никогда не допустив ни одной заметной ошибки в человеке или в деле, – выплыв на поверхность внезапной известности, чрезмерной многотрубной славы (у нас и ругать, и хвалить – всё через край), стал делать промах за промахом, совсем не понимая своего нового положения и новых возможностей.
Я не понимал степени своей приобретенной силы и, значит, степени дерзости, с которой могу теперь себя вести. Я сохранял инерцию осторожности, инерцию скрытности. И та и другая были нужны, это верно, потому что случайный прорыв с «Иваном Денисовичем» нисколько не примирял Систему со мной и не обещал лёгкого движения дальше.
Не обещал движения, да, – но пока, короткое время, два месяца, нет, месяц один, я мог идти безостановно: холопски-непомерная реклама открыла мне на этот месяц все редакции, все театры!
А я не понимал… Я спешил сам остановиться, прежде чем меня остановят, снова прикрыться, притвориться, что ничего у меня нет, ничего я не намерен. Как будто возврат этот был возможен! Как будто теперь упустили бы меня из виду!
И ещё, невольное торжество напечатания загораживало, что мы с Твардовским не выиграли, а проиграли: потерян был год, год разгона, данного XXII съездом, и подъехали мы уже на последнем доплеске последней волны. По скромным подсчётам я клал себе по крайней мере полгода, а то и два года, пока передо мной несомненно заколотят все лазы и ворота. А у меня был один месяц – от первой хвалебной рецензии 18 ноября до кремлёвской встречи 17 декабря. И даже ещё меньше – до первой контратаки 1 декабря (когда Хрущёва натравили в Манеже на художников-модернистов, а задумано это было расширительно). Но и за две недели я мог бы захватить несколько плацдармов! объявить несколько названий моих вещей.
А я ничего этого не сделал из-за ложной линии поведения. Я собирался «наиболее разумно использовать» кратковременный бег моей славы, но именно этого я не делал – и во многом из-за ложного чувства обязанности по отношению к «Новому миру» и Твардовскому.
Это надо верно объяснить. Конечно, я был обязан Твардовскому – но лично. Однако я не имел права считаться с личной точкой зрения и что обо мне подумают в «Новом мире», а лишь из того исходить постоянно, что я – не я, и моя литературная судьба – не моя, а всех тех миллионов, кто не доцарапал, не дошептал, не дохрипел своей тюремной судьбы, своих поздних лагерных открытий. Как Троя своим существованием всё-таки не обязана Шлиману, так и наша лагерная залегающая культура имеет свои заветы. Потому, вернувшись из мира, не возвращающего мертвецов, я не смел клясться в верности ни «Новому миру», ни Твардовскому, не смел принимать в расчёт, поверят ли они, что голова моя нисколько не вскружена славой, а это я плацдармы захватываю с холодным расчётом.
Хотя по сравнению с избыточной осторожностью новомирские оковы были на мне – вторичные, а всё ж заметно тянули и они.
У меня, как и предсказывал А. Т., просили «каких-нибудь отрывков» в литературные газеты, для исполнения по радио – и я должен бы был без промедления их давать! – из «Круга», уже готового, из готовых пьес – и так объявленными названиями остолблять участки, с которых потом нелегко меня будет сбить. В четырёхнедельной волне ошеломления, прокатившейся от взрыва рассказа, всё бы у меня прошло безпрепятственно – а я говорил: «нет, нет». Я мнил, что этим оберегаю своё написанное, ещё не вскрытое… И горд был, что так легко устаиваю против славы…
Ко мне ломились в рязанскую квартиру и в московские гостиничные номера корреспонденты, звонили из московских посольств в рязанскую школу, слали письменные запросы от агентств, даже с такими глупыми просьбами, как: оценить для западного читателя, насколько блестяще «разрешил» Хрущёв кубинский конфликт. Но никому из них я не сказал ни слова, хотя безпрепятственно мог говорить уже очень много, очень смело, и всё бы это обалдевшие корреспонденты разбросали по миру. Я боялся, что, начав отвечать западным корреспондентам, я и от советских получу вопросы, предопределяющие либо сразу бунт, либо унылую верноподданность. Не желая лгать и не осмелев бунтовать, я предпочёл – молчание.
В конце ноября, через десяток дней после появления рассказа, художественный совет «Современника», выслушав мою пьесу («Олень и шалашовка», тоже уже смягчённую из «Республики труда»), настойчиво просил разрешить им ставить тотчас, и труппа будет обедать и спать в театре, но за месяц берётся её поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я – отказал…
Да почему же?? Ну, во-первых, я почувствовал, что для выхода в публичность нужна ещё одна перепечатка пьесы, это – семь чистых дней, а при работе в школе и наплыве бездельно-восторженной переписки – как бы и не месяц. «Современник» шёл и на это, пусть я текст доизменю на ходу, – так я не мог бросить школу! Да почему же? а: как же так вдруг стать свободным человеком? вдруг да не иметь повседневных тяготящих обязанностей? И ещё: как же ребятишек не довести до конца полугодия? кто ж им оценки поставит? А тут ещё, как назло, нагрянула в школу инспекторская комиссия именно на оставшийся месяц. Как же подвести директора, столько лет ко мне доброго, и ускользнуть? За неделю я мог дать «Современнику» текст, приготовленный к публичности; дважды в неделю мог выдавать по «облегчённому» отрывку из «Круга» и читать их по радио, и давать интервью, – а я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите…
Да и потом: а вдруг «люди с верху» увидят пьесу ещё до премьеры – и разгневаются? и не только пьесу прихлопнут, но и рассказы, которые вот-вот должны появиться в «Новом мире»? А тираж «Нового мира» – сто тысяч. А в зале «Современника» помещается только семьсот человек.
Да и опять же: ведь я обещал всякую первинку Твардовскому! Как же отдать пьесу в «Современник», пока её не посмотрит «Новый мир»? Итак, замедлив с боевым «Современником», я отдал пьесу в дремлющий журнал. Но там был кое-кто и не дремлющий, это Дементьев, и в саму редакцию пьеса не попала: она не вышла из двух квартир дома на Котельнической набережной, от двух Саш. Между ними и было решено, а мне объявлено Твардовским: «искусства не получилось», «это не драматургия», это «перепахивание того же лагерного материала, что и в “Иване Денисовиче”, ничего нового». (Ну как самому защищать свою вещь? Допускаю, что не драматургия (хотя очень живые характеры, сцены). Но уж и не перепахивание, потому что пахать как следует и не начинали! В пьесе не Особлаг, а ИТЛ; смесь полов, статей, господство блатных и их психологии; производственное надувательство. И немало юмора вокруг всего того.)
Ну, после «Ивана Денисовича» выглядит слабовато? Легко, что Твардовскому пьеса и не понравилась. Да если б дело кончилось тем, что «Новый мир» отклонял пьесу и предоставлял мне свободу с нею. Не тут-то было! Не так понимал Твардовский моё обещание и наше с ним сотрудничество ныне и присно и во веки веков. Ведь он меня в мои 43 года открыл, без него я как бы и не писатель вовсе, и цены своим произведениям не знаю (одно принеся, а десяток держа за спиной). И теперь о каждой вещи будет суд Твардовского (и Дементьева): то ли эту вещь печатать в «Новом мире», то ли спрятать и никому не показывать. Третьего не дано.
Именно так и было присуждено об «Олене и шалашовке»: не давать, не показывать. «Я предупреждаю вас против театральных гангстеров!» – очень серьёзно внушал мне А. Т. Так говорил редактор самого либерального в стране журнала о самом молодом и смелом театре в стране! Откуда эта уверенность суждения? Был ли он на многих спектаклях «Современника»? Ни одного не видел, порога их не переступал (чтобы не унизиться). Высокое положение вынуждало его получать информацию из вторых (и нечистых) рук. Где-нибудь в барвихском правительственном санатории, где-нибудь на кремлёвском банкете, да ещё от нескольких услужливых лиц в редакции услышал он, что театр этот – дерзкий, подрывной, безпартийный, – и значит, «гангстеры»…
Всего две недели, как я был напечатан, ещё не кончился месяц мёда с Твардовским, – я не считал достойным и полезным взбунтоваться открыто, и так я попал в положение упрашивающего – о собственных вещах упрашивающего кому-то показать, а Твардовский упирался, не советовал, возражал, наконец уже и раздражался моей ослушностью. Едва-едва он дал согласие, чтобы я показал пьесу театру… только не «Современнику», а мёртвому театру Завадского (лишь потому, что тот поставил «Тёркина»). Позднее согласие! Я остался связан с «Современником». Однако задержал пьесу на месяц – неповторимый месяц! – ждал, чтобы цензура подписала «Матрёну» и «Кречетовку». После этого я полностью отдал пьесу «Современнику» – да упущено было время: уже сказывалось давление на театры после декабрьской кремлёвской встречи. «Современник» не решился приступить даже к репетициям, и пьеса завязла на многие годы. Твардовский же с опозданием узнал о моём своевольстве – и обиделся занозчиво, и в последующие годы не раз меня попрекал: как же мог я обратиться в «Современник», если он просил меня не делать этого?
Впрочем же, и без Твардовского: вскоре приехала ко мне представительница «Ленфильма» с четырьмя экземплярами договора на «Кречетовку», уже подписанного со стороны «Ленфильма», мне оставалось только поставить подпись и получить небывалые для меня деньги – и «Кречетовка» появится на советских экранах. Я – сразу же отказался: отдать им права, а они испортят, покажут нечто осовеченное, фальшивое? – а я не смогу исправить…
А. Т. в письме назвал меня «самым дорогим в литературе человеком» для себя, и он от чистого сердца меня любил безкорыстно, но тиранически: как любит скульптор своё изделие, а то и как сюзерен своего лучшего вассала. Уж конечно не приходило ему в голову поинтересоваться: а у меня не будет ли какого мнения, совета, предложения – по журнальным или собственным его делам? Ему не приходило в голову, что мой внелитературный жизненный опыт может выдвинуть свежий угол зрения.
Даже в темпах бытового поведения мы ощущали разность. Теперь, после нашей великой победы, отчего было не посидеть за большим редакционным столом, попить чайку с бубликами, покалякать то о важном, то о пустячном? «Все писатели так делают, например Симонов, – шутливо внушал мне А. Т., – прилично сядут, неторопливо покурят. Куда вы всё торопитесь?» А я туда торопился, что на пятом десятке лет ещё слишком много ненаписанного разрывало меня, и слишком стойко стояли глиняные, однако и железобетонные, ноги Неправды. И цвела лопухами враньевая литература[10].
Первую рецензию обо мне – большую симоновскую в «Известиях», А. Т. положил передо мной с торжеством (она только что вышла, я не видел), а мне с первых абзацев показалось скучно-казённо, я отложил её не читая и просил продолжать редакторский разговор о «Кречетовке». А. Т. был просто возмущён, то ли счёл за манерность. Он не видел, какой длинный-длинный-грозный путь был впереди и какие тараканьи силёнки у всех этих непрошеных рецензий.
Тем более расходились наши представления о том, что надо сейчас в литературе и каким должен быть «Новый мир». Сам А. Т. считал его предельно смелым и прогрессивным – по большому успеху журнала у отечественной интеллигенции, по вниманию западной прессы.
Это было так, да. Но приверженцы «Нового мира» не могли иметь первым масштабом иной, как сравнение с бездарной вереницей прочих наших журналов – мутных, даже рвотных по содержанию и дохлых по своей художественной нетребовательности. (Если в тех журналах – я обхожу «Юность» – и появлялось что-либо интересное «для заманки», то либо спекуляция на именах умерших писателей, такими же шавками затравленных, чем прослыла «Москва», либо статьи, далёкие от литературы.) Прирождённое достоинство и благородство, не изменявшие Твардовскому даже в моменты самых обидных его ослеплений, помогали ему не допускать в журнал прямой пошлости (вернее, она текла и сюда, особенно в мемуарах чиновных людей вроде Конева, Емельянова, но всё же сдержанным потоком), а сохранять равновесный тон просвещённого журнала, как бы возвышенного над временем. В первой половине журнальной книжки бывало и пустое, и ничтожное, но во второй, в публицистике, критике и библиографии, всегда была обстоятельность, содержание, всегда много интересного.
Однако существовал и другой масштаб: каким этот журнал должен был бы стать, чтобы в нём литература наша поднялась с колен. Для этого «Новый мир» должен был бы по всем разделам печатать материалы следующих классов смелости, чем он печатал. Для этого каждый номер его должен был формироваться независимо от сегодняшнего настроения верхов, от колебаний страхов и слухов, – не в пределах разрешённого вчера, а каждым номером хоть где-то раздвигая пределы. Конечно, для этого частенько бы пришлось и лбом о стенку стучать с разгону.
Мне возразят, что это – бред и блажь, что такой журнал не просуществовал бы у нас и года. Мне укажут, что «Новый мир» не пропускал ни пол-абзаца протащить там, где это было возможно. Что как бы обтекаемо, иносказательно и сдержанно ни выражался журнал – он искупал это своим тиражом и известностью, он неутомимо расшатывал камни дряхлеющей стены. Столкнуться же разик до треска и краха и потом совсем прекратить журнальную жизнь редакция не может: журнал, как и театр, как киностудия, – своего рода промышленность, это не воля свободного одиночки. Они связаны с постоянным трудом многих людей, и в эпоху гонений им не избежать лавировать.
Наверно, в этом возражении больше правды, чем у меня. Но я всё равно не могу отойти от ощущения, что «Новый мир» далеко не делал высшего из возможного, – ну хотя бы первые после XXII съезда, неповторимо-свободные месяцы – как использовал «Новый мир»? А сколько номеров «Нового мира» еле-еле выбарахтывались на нейтралке? Сколько было таких, где на две-три стоющих публикации остальное была несъедобщина и серятина, так что соотношение страниц тех и этих давало к.п.д. ниже, чем у самого никудышного теплового двигателя?
Год за годом свободолюбие нашего либерального журнала вырастало не так из свободолюбия редакционной коллегии, как из подпора свободолюбивых рукописей, рвавшихся в единственный этот журнал. Этот подпор был так велик, что сколько ни отбрасывай и ни калечь цензура – в оставшемся всё равно было много ценного. Внутри либерального журнала каменела своя иерархия, не всё и докладывалось Главному, а неприличное так же успешно (но более дружественно) задушивалось на входе, как и в «Москве» или «Знамени». Об этих отвергнутых смелых рукописях Твардовский даже и не узнавал ничего, кроме искажённого наслуха. Он так мне об этом сказал:
– В «Новый мир» подсылают литераторов-провокаторов с антисоветчинкой: ведь вы, мол, единственный свободный журнал, где же печататься?
И заслугу своей редакции он видел в том, что «провокации» вовремя разгадывались и отвергались. Конечно, могли соваться и совсем безответственные, но – «провокации» эти и была свобода.
Я всё это пишу для общей истины, а не о себе вовсе (со мной наоборот – Твардовский брался и через силу продвигать безнадёжное). Я это пишу о десятках произведений, которые гораздо ближе подходили к норме легальности и для которых «Новый мир» мог сделать больше, если б окружение Твардовского не так судорожно держалось за подлокотники, если б не сковывал их постоянный нудный страх: «как раз сейчас такой неудобный момент», «такой момент сейчас…». А этот момент – уже полвека.
Я как-то спросил А. Т., могу ли я, печась о журнале, рекомендовать ему вещи, которые мне особенно нравятся. А. Т. очень приветливо пригласил меня это делать. Два раза я воспользовался полученным правом – и не только неудачно, но отягощающе для моих отношений с журналом.
Первый раз – ещё в медовый наш месяц, в декабре 1962. Я убедил В. Т. Шаламова подобрать те стихи «Из колымских тетрадей» и «Маленькие поэмы», которые казались мне безусловными, и передал их А. Т. через секретаря в закрытом пакете.
Во главе «Нового мира» стоял поэт – а отдел поэзии журнала был скуден, не открыл видного поэтического имени, порой открывал имена некрупные, быстро забываемые. Много внимания уделяя дипломатическому «национальному этикету», печатая переводные стихи поэтов союзных республик[11] или 2–3 маленьких стихотворения какого-нибудь уже известного поэта, он не давал сплотки стихов, которая составила бы направление мысли или формы. Стихотворные публикации «Нового мира» не бывали художественным событием.
В подборке Шаламова были из «Маленьких поэм» – «Гомер» и «Аввакум в Пустозерске», да около 20 стихов, среди которых «В часы ночные, ледяные», «Как Архимед», «Похороны». Для меня, конечно, и фигура самого Шаламова и стихи его не укладывались в область «просто поэзии», – они были из горящей памяти и сердечной боли; это был мой неизвестный и далёкий брат по лагерю; эти стихи он писал, как и я, еле таская ноги, и наизусть, пуще всего таясь от обысков. Из тотального уничтожения всего пишущего в лагерях только и выползло нас меньше пятка.
Я не считаю себя судьёй в поэзии. Напротив, признаю за Твардовским тонкий поэтический вкус. Допустим, я грубо ошибся, – но при серости поэтического отдела «Нового мира» так ли нетерпимо отвергать? К тому времени, когда смогут быть опубликованы эти мои очерки, читатель уже прочтёт и запрещённые стихи Шаламова. Он оценит их мужественную интонацию, их кровотечение, недоступное опытам молоденьких поэтов, и сам произведёт суждение, достойны ли они были того, как распорядился Твардовский.
Мне он сказал, что ему не нравятся не только сами стихи, «слишком пастернаковские», но даже та подробность, что он вскрывал конверт, надеясь иметь что-то свежее от меня. Шаламову же написал, что стихи «Из колымских тетрадей» ему не нравятся решительно, это – не та поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя.
Стал я объяснять Твардовскому, что это – не «интрига» Шаламова, что я сам предложил ему сделать подборку и передать через меня, – нисколько не поверил Твардовский! Он удивительно бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у него уверенность в кознях Шаламова, играющего мной.
Второй раз (уже осенью 1964) мне досталось напористо побуждать редколлегию напечатать «Очерки по истории генетики» Ж. Медведева. В них было популярное изложение неизвестной народу сути генетической дискуссии, но ещё больше там был – накал и клич против несправедливости на материале вполне уже легальном, а между тем клич этот разбуживал общественное сердцебиение. И книга эта, что называется, «единодушно нравилась» редакции (ну, Дементьев-то был против), и на заседании редакции Твардовский просил меня прекратить поток аргументов, потому что «уже убеждены» все. И только «о небольших сокращениях» они просили автора; а потом о больших; а потом «потерпеть несколько месяцев», – да так и заколодило. Потому что эта книга «выдавала» свободу мысли ещё не разрешённой порцией.
Непростительным же считал Твардовский и что с «Оленем и шалашовкой» я посмел обратиться к «Современнику». Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу, не просто говорил о ней недоброжелательно, но предсказывал, что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных надолб. Более того, он сказал мне (16 февраля 1963, через три месяца от кульминации нашего сотрудничества!):
– Я не то чтобы запретил вашу пьесу, если б это от меня зависело… Я бы написал против неё статью… Да даже бы и запретил.
Когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже белели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское. (А ведь для чего запретить? – чтоб моё имя поберечь, побуждения добрые…)
Я напомнил:
– Но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения?
Ничего не ответил. Но и душой не согласился, нет, внутренне у него это как-то увязывалось.
Такие ответы Твардовского перерубали нашу дружбу на самом первом взросте.
Твардовский не только грозился помешать движению пьесы, он и действительно помешал. В тех же числах, в начале марта 1963, ища путей для разрешения пьесы, я сам переслал её В. С. Лебедеву, благодетелю «Ивана Денисовича». «А читал ли Твардовский? Что он сказал?» – был первый вопрос Лебедева теперь. Я ответил (смягчённо). Они ещё снеслись. 21 марта Лебедев мне уверенно отказал:
«По моему глубокому убеждению пьеса в её теперешнем виде для постановки в театре не подходит. Деятели театра “Современник” (не хочу их ни в чём упрекать или обвинять) хотят поставить эту пьесу для того, чтобы привлечь к себе публику – (а какой театр хочет иного?) – и вашим именем и темой, которая безусловно зазвучит с театральных подмостков. И я не сомневаюсь в том, что зрители в театр будут, что называется, “ломиться”, желая познакомиться… какие явления происходили в лагерях. Однако… в конце концов театр вынужден будет отказаться от постановки этой пьесы, так как в театр тучами полетят “огромные жирные мухи”, о которых говорил в своей недавней речи Н. С. Хрущёв. Этими мухами будут корреспонденты зарубежных газет и телеграфных агентств, всевозможные нашенские обыватели и прочие подобные люди».
Обыватели и «прочие подобные люди»! То есть попросту – народ? Театр «сам откажется»? Да, когда ему из ЦК позвонят… Вот – и эпоха, и театральные задачи, и государственный деятель!
Отношения Твардовского с Лебедевым не были просто отношениями зависимого редактора и притронного референта. Они оба, кажется, называли эти отношения дружбой, и для Лебедева была лестна дружба с первым поэтом страны (по табели рангов это было с какого-то года официально признано). Он дорожил его (потом и моими) автографами (при большой аккуратности, думаю, и папочку особую имел). Когда Твардовский принёс Лебедеву «Ивана Денисовича», обложенного рекомендациями седовласых писателей, Лебедеву дорого было и себя выказать ценителем, что он прекрасно разбирается в качествах вещи и не покусится трогать её нежную ткань грубой подгонкой.
Откуда он взялся в окружении Хрущёва и чем он занимался раньше? – я так и не узнал. По профессии этот таинственный верховный либерал считал себя журналистом. Может быть, руководило им личное соперничество с Ильичёвым, которого обскакать он мог только на либеральной лошадке?.. Познакомились мы на первой «кремлёвской встрече руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией» – 17 декабря 1962.
Вызов на первую встречу настиг меня расплохом: в субботу вечером пришло в школу распоряжение из обкома партии, что в понедельник я вызываюсь в ЦК к товарищу Поликарпову (главный душитель литературы и искусства), а повезёт меня туда в 6 утра обкомовская машина. По своему подпольному настрою я вдался в мрачные предположения. Я решил, что Поликарпов, не сумев задержать вещь, теперь будет меня хоть в партию вгонять: не может же среди них толкаться чужеродный, надо его повязать той же клятвой. Я готовился к разговору, как к большой беде, так я и знал, что напечатание к добру не поведёт. В партию я конечно не пойду, но аргументы выглядят шатко. И я нарочно поехал в своём школьном костюме, купленном в «Рабочей одежде», в чиненых-перечиненых ботинках с латками из красной кожи по чёрной, и сильно нестриженным. Так легче было мне отпираться и придуряться: мол, зэки мы, и много с нас не возьмёте. Таким-то зачуханным провинциалом я привезен был во мраморно-шёлковый Дворец Встреч.
И вот тут-то в одном из перерывов как бы случайно (а на деле – нароком) мимо нашего с Твардовским дальнего конца стола стали проходить то краснолицый надменный Аджубей, зять Хрущёва, то ничтожный вкрадчивый Сатюков (редактор «Правды»), то невысокий, очень интеллигентный, простой и во взгляде и в обращении человек, с которым Твардовский поспешил меня познакомить. Это и был Лебедев. Меня поразила непохожесть на партийных деятелей, его безусловная тихая интеллигентность (он был в безоправных очках, только стёкла и поблескивали, оставалось впечатление, как от пенсне). Может быть, потому, что он был – главный благодетель и смотрел ласково, я его и охватил таким. Разговора содержательного не было, он заверил меня, что я «теперь на такой орбите, с которой не сбить» меня. Спросил, не намерен ли я сегодня выступить. Нет, конечно, мне даже дико показалось (о чём бы я мог перед этой публикой?!). Он, кажется, и доволен, что я не выступлю. Похвалил, что я интервью не даю (знал бы он, что не верноподданность за этим, а не хочу ни в чём приоткрыться), и просил «Ивана Денисовича» с автографом. Это был просто от неба приставленный к безпутному Хрущёву ангел чеховского типа. (Объяснил, почему так экстренно меня вызвали: «Про вас в ЦК забыли». Да охотней зубами бы растёрли.)
(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 г.): Об этих встречах в печати почти никто не рассказал, я не встречал. Да большинство участников всё ещё в той же сфере и остались, и под той же пятой, для кого и сладостной, – им и не рассказать, и незачем. И конечно, с отдалением нашим от тех дней всё ничтожней и само событие и участники его. Уже сейчас не все имена запомнены, а следующему поколению они будут и в дичь. Но в дичь будет когда-нибудь и всё наше рабство, – и как его потом вообразить? У меня сохранились записи – самих совещаний, прямо там и сделанные, на коленях, и в те же вечера ещё добавленные посвежу. Всё в подробностях не буду, но даже глоток того воздуха вырвать из тех залов и дать подышать опоздавшим – может быть, стоит.
Идея «встречи руководителей партии и правительства с деятелями культуры и искусства» – не была нова: по каким-то поводам и Сталин встречался, изрекал для направки несмышлёнышей, да и Хрущёв летом 1957 принимал у себя на подмосковной даче избранную группу литераторов и внушал, как не надо расшатывать основы, эту встречу воспела Алигер – то ли в стихах, то ли в воспоминаниях. Что руководители правительства покидают государственные дела и занимаются выправлением искусства – для тоталитарного государства нисколько не диво, оно только тогда и тоталитарно, тогда и держится, если не упускает ни единого живого места, так что живопись, музыка, а тем более литература для них так же важны, как и своевременное вооружение. А самих «деятелей искусства» эти встречи не только не удивляли – но были искренним праздником для большинства и предметом жестокого соревнования: как попасть в число приглашённых? Почти все приглашённые были тем самым уже награждены: ЦК относит их к «ведущим», а значит, им обезпечены впредь тиражи, выставки, спектакли. В то утро помню разговор в отделе культуры ЦК при мне, что Исаковский, впервые обойденный, слёзно вымаливал себе приглашение: впервые ему не оказалось места в важном собрании, и значит, он перестал быть ведущим, и карьера его как бы заканчивалась. А приглашённых в тот раз было немало – 300 человек, но вместе с нацреспубликами, которые летели и ехали в Москву, за несколько дней предупреждённые, – сам же отбор производился в ЦК, конечно перезванивались с ЦК нацкомпартий и с руководством творческих союзов, и много тут сталкивалось желаний, обид, личных протекций и партийных ошибок. А помимо «ведущих» вызывались и те, кого надо было осадить, призвать к порядку (в тот раз такой был Эрнст Неизвестный, а Евтушенко – и такой, но и ведущий, уже он пробил себе дорогу).
Эта встреча 17 декабря произошла через месяц без дня от публикации «Ивана Денисовича» 18 ноября – и события были связаны. Всем благоразумным коммунистам показал «Иван Денисович», что дальше им отступать нельзя, что этак развалится и государство и партия. Сталин, сколько ни проявлял как будто своих личных прихотей, а на самом деле никогда не вымётывал из партийной колеи: даже уничтожая ленинскую партию, он был не против партии, а с ней, – он катил инерционно-косно, ленинским путём. А Хрущёв, никогда не уничтожая и внешне блюдя партийную линию (он мышлением куда ближе был к 20-м годам, чего стоит его лютая ненависть к церкви), – то и дело по характеру и сердцу выпрыгивал в стороны неожиданно, как не может себе позволить равномерная тоталитарность. Из таких разрушительных явных выпрыгов было разделение партии на промышленную и сельскохозяйственную, но и послабление в литературе было для коммунистов предусмотрительных достаточно грозно: ведь если позволить печатно обсуждать ГУЛАГ, то что ж останется от системы? Итак, после прорыва «Ивана Денисовича» надо было срочно образумить Хрущёва и втянуть его обратно в колею. Кто из ЦК руководил этим поворотом – достоверно не известно, но очень можно подозреть Суслова. (В противоречие с этим, единственный из вождей, кто в перерыве подошёл ко мне знакомиться, – был Суслов же. Но может быть, тут противоречия и нет: он присматривался, как и меня захватить в их колею?) Разработано было недурно: если бы вразумление делали против Хрущёва, а он бы выбрыкивался, – развалил бы он всё, ничего бы не получилось. Прямо на рожон лезть и убеждать Хрущёва, что «Иван Денисович» был ошибкой, – никак было невозможно. Но придумали, как против Хрущёва пустить самого же Хрущёва! – этим обезпечены были натиск и энергия обратного поворота. Уже 1 декабря подстроили в Манеже выставку художников недопускаемых направлений (в том числе и работы 20-х годов!) – и дружески повели Хрущёва показывать, до чего вольность искусства доводит. Хрущёв, конечно, в простоте рассвирепел – и тут же его уговорили на образумление деятелей искусства, хоть завтра, оставалось дело за организацией. Рассчитывали правильно, что инерция общего поворота потом захлестнёт и лагерную литературу. Но я попадал на эту встречу пока – не главным виновником, а главным именинником.
Близ 10 утра подкатили меня к зданию самого ЦК на Старой площади, о котором раньше лишь понаслышке я ведал, сюда и не забраживал, это – особенно чистое место, машины стоят только большие чёрные, охраняемые, а пешеходы, случайно попавшие на этот кусок тротуара, – скромно, строго, быстро мимо, чтобы глазами своими преступными чего непозволительного не выказать охране да не быть захваченным. А я вот – вхожу даже, сказываюсь в окошко, – там звонят и сразу дают мне пропуск, и я подымаюсь мимо стражи по пустой лестнице, не смея на лифт, дальше по обширным пустым коридорам – а на дверях одни фамилии, без чинов и должностей (между своими все всё понимают, а чужим и не надо).
К облегчению, сам Поликарпов видеть меня не пожелал (мерзко, наверно, ему было, и правильно сердце его чувствовало), зато отдел принял меня восхитительно-заботливо (да они всю жизнь, наверно, сочувствовали лагерной литературе! зря я сюда ещё раньше повесть не принёс?), сразу разъяснилось, что вызван я всего лишь на торжество, а младшие сотрудники аппарата спешили в дверь заглянуть, на меня посмотреть. Дали мне кусок изукрашенного картона – это и был пропуск на сегодня в Кремлёвский дворец приёмов, любопытный: цвет, литер, номер – что-то значат, а не известно что, ни даты, ни места приглашения, и если вот на улице найдёшь, оброненный, то никогда не догадаешься, что это – пропуск, и куда. А сперва – в гостиницу «Москва» (автомобилем, разумеется), – ту самую, как бастион на центральной московской площади, – и мимо неё, раздавленный величием, я сколько мимо прохаживал, тут в 1945 шёл с тремя конвоирами сдавать себя на Лубянку, тут после 1956 протаскивал сумки тяжёлые с московской провизией – скорей в метро да на Казанский вокзал. И вот – внутрь, да направленный не к безнадёжному барьеру вестибюля, где номеров никогда никому нет, кроме иностранцев, но в рядовую, как бы жилую комнату, а там-то, для знающих, и распределяют все места. И едва овладел я своим невиданным пышным номером – как уже новая большая чёрная машина ждёт внизу – нас, нескольких почётных; рядом со мной – холёный мужчина в годах, изволит знакомиться, оказывается – Соловьёв-Седой, сколько его надоедные песни нам на шарашке в уши лезли из приёмников – думал ли я когда, что нас сведёт? Однако, кажется, весь сон мой – не на один день, а мне теперь среди них – жить и обращаться, и надо как-то привыкать. Тем временем широченная машина взносит нас виадуком Комсомольского проспекта – да на Воробьёвы горы. Сколько меня в жизни давило это Государство, как оно было всегда безжалостно, неприступно, неуговорчиво, и большинство людей в этом верном впечатлении так и проживут всю жизнь, – а вот, оказывается, у этой мощи есть и оборот: она вовсе не давит насмерть, не закрыта вся железными створками, но распахнута бархатно, но несёт такими уверенными крылами, как, может быть, ни одна сила в мире носить не умеет. Эй, берегись, старый зэк, это всё не к добру!
Сперва обширный каменный забор на высоком взлёте (да не здесь ли Герцен с Огарёвым клялись о свободе?), у ворот – проверка машин часовыми, тогда уже въезд (а кто на случайных машинах приехал – тот через двор пешком, даже и Федина так узнаю; а мы – к самому входу). В раздевалке ливрейные молодцы приняли моё тёртое, унылое, длинное провинциальное пальто, как будто и не удивясь. А дальше – залы крупного паркета, да, кажется, день же сегодня будний или вообще не день? задёрнуты все великолепные оконные белоснежные занавесы, льётся белизна от ламп дневного света, да и то скрытых. Где-то там тужатся по стране – трудовые вахты, шахты, виснут трудящиеся на ступеньках автобусов, ухающих через грязные колдобины, – здесь переполнены залы разодетой праздной публикой, все мужчины – в остроносых лакированных ботинках, в каких и по уличному снежному месиву не пройдёшь, – и все друг ко другу так и спешат – здороваться, наговариваться, шутить, все друг друга знают в лицо, кроме некоторых нацменов. Есть и дамы, разряженные, но мало их. Я шёл сторонкой, рыла своего не выказывая, ботинками ступая понезаметней, никого я тут не знал, не узнавал, одного Шолохова, фотографируемого при многих молниях и под треск аппаратных ручек, а он стоял и преглупо им улыбался. До того мне было тут зажато-чуже, что обрадовался я, увидав казахов, хорошо отличаемых мною после ссылки, пошёл и сел подле них, думая тут перебыть втихомолку, но и сюда подошла какая-то большая, недобрая пиковая дама и мнимо-радостно с казахами знакомилась, что она тоже из Казахстана, – и тогда я сообразил, что это Серебрякова.
Просидел я при казахах, глаз не поднимая, очень опасаясь всяких вопросов и разговоров, а когда позвали в обеденный зал, то пошёл опять при казахах и при них же сел, места были неназванные. Весь зал, обставленный белыми колоннами с золочёными основаниями, занимал широкий стол буквой «П» – и тут же мы все опять поднялись, душевно-радостными аплодисментами приветствуя вход за короткую сторону стола десятка руководителей партии и правительства. Длинный Суслов там был среди них, тучный Брежнев, устало-досадливый Косыгин, непроницаемый Микоян, – но посредине маленький лысый Хрущёв мягким голосом пригласил: «Когда человек поест – он становится добрей», и предложил пока пообедать. С большой готовностью усаживались – а съёмочные аппараты все исчезли. А на столе-то было уже наставлено – я такого в живой жизни не видывал: перед каждым по 5 фужеров, три ножа – нормальный, малый и кривой, зачем ещё этот кривой? икра, осетрина, мясо, курятина, салаты, вина, боржомы, – да одного этого холодного должно было на всех хватить досыта – но нисколько не хватило. Растерялся я в этом изобилии и только думал справиться примером соседей, но не казахов же. А с другого боку и противу меня сидели русские – да отменные ряжки, крупнолицые, крупнотелые мужчины в живой весёлой беседе друг с другом, очень запросто о Поликарпове, и тут я начал смекать, что это всё – важные направители: истинный руководитель всего Союза писателей Георгий Марков, а рядом со мной – тучный уверенный Вадим Кожевников, а невдали наискосок – невзрачный Шолохов, средь двух невероятно крупных морд. (Софронов, кажется.) А ещё между ними – небольшой пронырливый Чаковский, кожей носа то и дело подбрасывающий свои очки, и первый с бокалом, кланяясь наискосок: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» – и все вдогон, чтоб не отстать: «Ваше здоровье, Михаил Александрович!» (Я – не шевелюсь, я – из другой республики.)
Это – всё грозные были имена, звучные в советской литературе, и я совсем незаконно себя чувствовал среди них. В их литературу я никогда не стремился, всему этому миру официального советского искусства я давно и коренно был враждебен, отвергал их всех вместе нацело. Но вот втягивало меня – и как же мне теперь среди них жить и дышать?
Тем временем, пользуясь, что смотрят на меня не внимательней, чем на любого казаха, я, тайком от соседа Кожевникова, на коленях записывал в блокнотик: суп с осетриной, лимоном и маслинами; осетрина с картофелем; битки с картофельной стружкой; пирожки; фруктовое блюдо; мороженое; кофе. Всё подавали молодые безшумные дрессированные официанты во фраках, в изогнутой позе, одна рука с блюдом, другая за спиной. И это – все десятилетия, что мы вырабатывали пайку, а в Саратове и сегодня душатся за макаронами, – а они вот так едят! И церемониал обслуживания не сегодня же возник, да и деятели искусств к нему, кажется, весьма привычны.
Шёл обед часа полтора, потом гуляли в перерыве – и втекали в отдельный зал смотреть картины художников, осуждаемых партией, – так предварялась тема совещания. Тут я набрёл на Твардовского, и он меня взял под руку и водил, выбирая, с кем знакомить, а с кем нет. В этот и в следующий перерыв он так знакомил меня – с композитором Свиридовым, которого я всё же отличал, да и сам он оказался симпатичен; с прославленным тогда кинорежиссёром Чухраем, с Берггольц, Пановой, Кетлинской, Борщаговским, Мальцевым (Пупко). Знакомился я, знакомился, все они высказывали радостное сочувствие, а я учился с ними разговаривать, но за своих никого тут признать не мог. Не предстояло мне выбирать, с кем я, ясно – что ни с кем, кроме вожатого моего: а все они – тут же годами были, когда за одним столом с правительством, когда за соседними, – однако за макаронами не душился никто. И какие они ни либералы, какая ни оппозиция, – но все на государственных заказах и работают на государство, и по сравнению с тем, что волок я позади своих плеч, – все они друг другу равнялись.
Так мы с Твардовским гуляли-гуляли (за это время ещё обнаружив забавный приём: в мужскую уборную того этажа, где банкет, пускали только членов Политбюро, специально дежурил чин в проходе, – а всех остальных направляли этажом ниже). Уже и звонок дали, и все ушли в зал, а Твардовский чего-то поджидал, или это уговорено у него было, я и не понял, – в пустом и уже полутёмном вестибюле вдруг оказались только мы двое да кинооператоры с диковинными, подсунутыми нам микрофонами – и тут Твардовский меня повернул – а шёл через вестибюль один Хрущёв. Твардовский меня представил. Хрущёв был точно как сошедший с фотографий, а ещё крепкий и шарокатный мужик. И руку протянул совсем не вельможно, и с простой улыбкой сказал что-то одобрительное, – вполне он был такой простой, как рассказывал нам в лубянской камере его шофёр Виктор Белов. И я испытал к нему толчок благодарного чувства, так и сказал, как чувствовал, руку пожимая:
– Спасибо вам, Никита Сергеич, не за меня, а от миллионов пострадавших.
Мне даже показалось, что в глазах у него появилась влага. Он – понимал, что сделал вообще, и приятно было ему от меня услышать.
Пока ещё руки наши были соединены, пока ещё длилось это мгновение немешаемое рядом – я мог сказать ему что угодно, я мог какой-то важный и необратимый шаг сделать – а не был подготовлен, не сообразила голова: чувствую, что упускаю, а не сообразил.
Не сообразил, только потом понял, через месяцы: надо было мне просить аудиенции, хотя и не составлена была беседа в голове. Надо было понять, что весь наш успех, едва достигнутый, уже шатается, что не осталось и мне того полугода открытости, на которые я рассчитываю, что вообще мы в последнем крайнем залёте в свободу, а теперь всё попятится, – и чтоб это пытаться остановить, предупредить – мне надо было смело говорить с Хрущёвым! Он был человек – индивидуальных решений, вполне возможно – я подвиг бы его на закрепление начатого? Но я оказался не вровень с моментом – с первым прямым касанием к ходу русской истории. Слишком резок и быстр для меня оказался взлёт.
Да, наверно, и долго просидев, не мог бы я составить правильного плана разговора с Хрущёвым.
И так я руку опустил. И говорить больше нечего было (киношники между тем крутили – и в кинохронике наше пожатие было). Оставалось повернуться и идти в зал. И я – повернулся. И там – до закрытых дверей, где никого не было, точно, – теперь одиноко стоял малоросток Шолохов и глупо улыбался. Как Твардовский ловил Хрущёва – так и Шолохову, значит, этот момент высмотрели, и он выперся сюда, назад, тоже присутствовать, как царь литературы. Но Хрущёв миновал его стороной, а мне предстояло идти прямо на Шолохова, никак иначе. Я – шагнул, и так состоялось рукопожатие. Царь не царь, но был он фигурой чересчур влиятельной, и ссориться на первых шагах было ни к чему. Но и – тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного.
– Земляки? – улыбался он под малыми усиками, растерянный, и указывая путь сближения.
– Донцы! – подтвердил я холодно и несколько угрожающе.
Пошли в зал. Начинали.
Теперь на столах остался один боржом, и уже кинооператоры снимали беззапретно. Увёл меня Твардовский за дальний-дальний конец, где стягивалась как бы оппозиция и где – вот знамение времени! – сидел и Сурков. Да что там, не только с нами сидел, но мне пошутил: «Знаете, как этот дворец называется? Колхоз “Заветы Ильича”». Вот как шатались тогда столпы, и никто не понимал, куда же кружат небесные светила!
На краю стола вождей поднялся низкий узкий Ильичёв, заведующий отделом пропаганды ЦК, и стал делать доклад, изгибаясь узкой шеей на подобие змеиное. Может быть, и несильный, голос его громко повторялся стенными динамиками, да и смысл слов был партийно-сильный. Что полезно время от времени сверять свои часы. Что абстракционисты действуют чрезвычайно активно и заставляют соцреалистов уйти в оборону. (Наличие войны разумелось само собою.) Формалисты навязывают партии новый диктат. И поступают в ЦК письма: неужели решения партии (несчётно было их за годы, но все в один бок) устарели? Нет! – вздрагивал Ильичёв всей шеей, – мы не допустим кощунственно распространять про Ленина, будто он был сторонник лозунга «пусть расцветают сто цветов»! – То втягивал голову в плечи, то губы закусывал от негодования: – И кинематографисты копаются на заднем дворе, слепнут к генеральной магистрали. И в литературе молодые бравируют фыркающим скептицизмом. А иностранцы выискивают проходимцев вроде Есенина-Вольпина. (Хрущёв: Порнография, а не искусство.) А часть поэтов пропагандирует общечеловеческое начало, как Новелла Матвеева, – мол, всем пою, всем даю. Наступила пора безнаказанного своеволия анархических элементов в искусстве! Требуют выставок без жюри, книг без редакторов. Требуют мирного сосуществования в области идеологии! На собраниях бывают такие условия, что отстаивать партийную позицию становится неудобно. (Сталинцев хрип!)
Так представил партию совсем маленькой, слабой, утеснённой, – а интеллигенцию грозно наступающей. Но, сам такой маленький, выстаивал против неё, крутя головой. Оказывается, откуда-то поползли фальшивые слухи, что будет новый поход против творческой интеллигенции, – и пришло письмо самому Никите Сергеевичу за подписью таких видных деятелей, как Фаворский, Конёнков, Завадский, Эренбург. (И… Сурков! – вот куда он подался!) Сделайте всё, чтобы не повторился произвол! Без возможности разных направлений искусство, мол, обречено на гибель. Потом – отозвали своё письмо назад. (Хрущёв: И лучше б совсем не присылали!)
Жидкие аплодисменты зала.
А Ильичёв нагнетает и пошёл в наступление, распухая от малого своего объёма: диверсия буржуазии в области идеологии, мы не имеем права недооценивать. Не молодые художники «ищут путей» – а их нашли и потащили за собою. У нас – полная свобода для борьбы за коммунизм, но у нас нет и не может быть свободы для борьбы против коммунизма! Великое счастье, что партия определяет всё направление искусства.
Становилось всё жутковатее в зале. Настолько смешались в одной церемонии именины с похоронами, что мелькнуло у меня: пожалуй, и со мной отбой дают, сейчас навалятся, уж никак мой Денисович не за коммунизм. Да когда стеснялись наши дать обратный ход? Я единственный тут вызывал двоение, что сегодня – ещё и именины тоже.
А там близко перед ними стояла, нам не видно, медная скульптура Эрнста Неизвестного, и Хрущёв зарычал на неё внеочередь: «Вот произвол! Стали бы они большинством – в бараний бы рог нас свернули!»
А – мастера же поворачивать, когда руль всегда им послушен. С новым изгибом шеи, как от очень неудобного воротника, Ильичёв повёл совсем новую руладу: в отличие от произведений упадочнических партия должна отличать произведения хотя и острокритические, однако жизнеутверждающие. В последнее время появились очень правдивые, смелые произведения – такие, как «Один день Ивана Денисовича». Показаны человечные люди в нечеловеческих условиях.
Хрущёв брал инстинктом, чем и отличался ото всех коммунистических вождей: что рассказ мой против коммунизма – он не заметил, потому что не голова тут сработала и не бронированная догма. А что честно по-крестьянски – заметил. Теперь, настороженно перебивая Ильичёва, забубнил:
– Это не значит, что вся литература должна быть о лагере. Что это будет за литература! Но как Иван Денисович раствор сохранял – это меня тронуло. Да вот меня Твардовский познакомил сегодня. Посмотреть бы на него.
А уже просмотрен я был чутким залом, как прошёл с Твардовским, – и теперь стали сюда оборачиваться и аплодировать – самые угодливые раньше Хрущёва, а уж после Хрущёва совсем густо.
Я встал – ни на тень не обманутый этими аплодисментами. Встал – безо всякой и минутной надежды с этим обществом жить. Перед аплодирующим залом встал, как перед врагами, сурово. Всей глубины нашей правды они не представляли – и нечего даже пытаться искать их сочувствие.
Поклонился холодно в одну сторону, в другую, и тут же сел, обрывая аплодисменты, предупреждая, что я – не ихний.
Ещё продолжался доклад Ильичёва, но всё более переходя в непрерывный комментарий Хрущёва. Отвечал он всё авторам того, взятого назад, письма – что нет, нет, возврата к культу личности не будет. «В тюрьму сажать никого не будем, – уверенно объявил Хрущёв. – Получайте паспорта, и скатертью дорога, проявляйте свои таланты там».
(Это была тогда ещё настолько неправдоподобная нота, что никто всерьёз не принял.)
Как всякий новичок никогда не охватывает всей обстановки местности, всеми прогляжен, но ничего не видит, я не смекнул, что для меня обстановка от первого перерыва до второго решительно изменилась. В первом перерыве ещё не известен был доклад Ильичёва, ещё никак ко мне не проявился Хрущёв, – и многие думать могли: а вдруг опять поворот? а вдруг Партия уже насчёт «Ивана Денисовича» передумала? И потому в первом перерыве к нам с Твардовским мало кто подходил, то ещё были отчаянные, а вот когда повалили – в следующем перерыве (теперь-то и Чухрай подошёл), когда я был уже заведомо утверждён партией и можно было ожидать моего дальнейшего взлёта. Тут-то – мимо нашего дальнего конца стола оказался крюк самым коротким – с лицом незапоминаемым, никаким, подошёл Сатюков. Так он дружески к нам вник, что дальше мы выходили уже втроём, и Сатюков сам спросил нетерпеливо: не предстоит ли моя новая публикация и не дам ли я отрывка в «Правду»? Я не совсем понял: зачем же это, портить новомирский рассказ. Я не сообразил, что, значит, «Правда» за честь берёт – перехватить меня у «Известий» и выколыхать перед Хрущёвым. И не сообразил, что для самого рассказа и для «Нового мира» это открывает дорогу без критики. Но Твардовский мгновенно всё понимал – и обещал непременно дать.
А ещё минут пять спустя к нам подошёл какой-то высокий, худощавый, с весьма неглупым удлинённым лицом и энергично радостно тряс мне руку и говорил что-то о своём крайнем удовольствии от «Ивана Денисовича», так тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Все другие себя называли, а этот не назвал. Я: «Простите, с кем же…?» Твардовский укоризненно вполголоса: «Михаил Андре-е-ич!» Я: «Простите, какой Михаил Андреич?» Твардовский сильно забезпокоился: «Да Су-ус-лов!» Ведь мы должны на сетчатке и на сердце постоянно носить две дюжины их портретов! – но меня зрительная память частенько подводит, вот я и не узнал. И даже как будто не обиделся Суслов, что я его не узнал, ещё продолжал рукопожатие. Так разворачивалась моя орбита! Те крупные бандиты из Союза писателей тоже, конечно, теперь жалели, что упустили моё соседство в начале банкета, но при Твардовском подойти не могли никак, это был другой лагерь.
Хотя мнение партии было ясно, начался третий сеанс – прения. Чтобы тот же гвоздь теперь подтверждали и забивали сами деятели искусства. И они спешили выговориться, иногда выразительнее самого ЦК. Грозный Грибачёв так и лепил: хотят подменить идеологическое общечеловеческим, вообще о добре, в духе христианской морали, – так чем мы тогда будем отличаться от наших врагов? Призывал, «чтоб молодое поколение не мешало старому поколению мужественно стирать пятна прошлого». И уже знакомая мне Галина Серебрякова: «Я вся молодею при Никите Сергеиче» (она хотела этим передать политическую весну, но Твардовский очень смеялся), заявляла уверенно и даже властно: «И в Органах и в охране есть честные люди, которые спасали нас (то есть старых большевиков) и верили в нас». Её и выдвинули против моей опасности, и она поучала теперь: «Лагерная тема может быть столь же полезна, сколь и вредна. Закономерно не то, что такие вещи были, но что они миновали, ЦК очистил нас от них». Ещё выступал здоровый упитанный художник Серов (иронический однофамилец великого предшественника) и откровенно объявлял, что в искусстве бездарность – не опасность, лишь несчастье, а опасность – абстракционизм. Чистый ленинский путь – это не мармелад, и хороши только те грани жизни, в которых отражается солнце построения коммунизма.
Я пишу эти заметки через 16 лет – и всё это так уже ушло в прошлое, измельчилось, овторостепенилось по сравнению с новыми кусающими ударами и болями, которых тогда нельзя было и предвидеть, – что меня самого охватывает скучающее чувство, и останавливается перо. Но и опоминаюсь: да ведь это – царствовало полвека и ещё сегодня в Союзе забивает мозги, – так свидетельство не может быть лишним.
Собственно, три нити вились в дискуссии этого дня. Первая – абстракционизм в живописи, уже безусловно осуждённый, безнадёжный и не подлежащий отстаиванию. Но полуниткою оттрёпывалось от него – «общечеловеческое», которое тоже осуждала партия и здравые деятели искусств, но которое – на это смелость требовалась! – можно было попытаться и чуть отстаивать. Общечеловеческое как часть абстрактного искусства! – вот была вся наша уродливая щель свободы! Но седой джентльмен с благородным голосом, Щипачёв (в другие времена – обрядоверный марксист), тут осмелился сказать: «Нам принадлежит будущее – и темы должны быть очень широки. Именно нашей литературе принадлежат общечеловеческие темы, а буржуазная – потеряла на них свои права». С сильной было песочной подмесью, но даже это в тот день в том зале звучало смелостью, – и я поторопился в этом месте первый сдвинуть аплодисменты зала, – и были хорошие.
Вторая нить вилась – лагерная тема. А третья – тёмно-накалённая – антисемитизм. Московская творческая интеллигенция остро опасалась, чтобы новое гонение не стало противоеврейским, и этот сгущённый страх вошёл и в этот зал во многих грудях, и хорошо известен был ЦК. Ильичёв хоть и час говорил, а тему эту обминул, но Никита ещё в репликах высказал: неправильно «Бабий Яр» написан, будто Гитлер одних евреев истреблял, а славян он истребил ещё больше. Есть ли у нас сейчас антисемитизм в стране? Нет! А – был ли? В первые годы советской власти процентный перевес евреев был хотя и очень понятен, но антисемитизм – вызывал. А Шостакович, написав на стихотворение Евтушенко симфонию, совершил работу вредную. (Но – мягко Шостаковичу: «Я вас уважаю. Я думаю, что вы ошибаетесь».) И даже Грибачёву (хотя уж как поддержанному аппаратом) пришлось оправдываться, что он не антисемит. И когда затем выступали Евтушенко и Эренбург, то самим фактом выступления и собою – напоминали, что позиций так не отдадут.
Евтушенко находился (он ещё этого не знал) на последнем докате своей гремящей роли и славы, дальше предстоял спад. Если уверенность Грибачёва крепла на поддержке власти, то Евтушенко держался именно самоуверенно, повышенно значительно, театрально (и Твардовский сказал мне по соседству: «Ведь не ты же выступаешь, а почему-то неловко»). Не обошёлся он и без театрализованных басен – как он сейчас разговаривал с таксёром, по пути сюда (любимый сюжет городских щелкопёров), или как приходил в их семью освободившийся зэк и рассказывал о преданности ленинизму его деда, умершего в лагере, – и голос Евтушенко содрагивал сочувствием. Осмелился судить о Сталине – что он, «может быть, даже иногда верил коммунизму» (Хрущёв горячо поправил: «Сталин был предан коммунизму всей душой! но вот – как он его строил…»). Осмелился назвать догматизм также формой ревизионизма – и отсюда сделал самый смелый выпад: «А сколько на выставке было бездарно-догматических картин? Никита Сергеич, вот ваш там портрет – плохой!» (Это тогда – очень дерзко звучало, хотя уверен был Евтушенко, что на личное Хрущёв не обидится.)
А Эренбург, напротив, вышел – дряхлым губошлёпом, уже близким к своему концу. Сколько за свою жизнь он придворничал, лгал, изворачивался, ходил по лезвию. И сейчас, который раз, соображая всё новеющую обстановку, он ступал где посмелей, где порабистей. Да, он – боялся Сталина. Сколько раз он немо спрашивал себя: «за что?» тот губит людей. И – неужели никто не скажет Сталину правды? И вот теперь задача (?): объяснить молодым, почему народ (и Эренбург) продолжал работать и при Сталине? Но, но! – Сталин не был антисемитом! (Как урок нынешним, наиболее удобная форма высказать позицию.) Сталин будто бы вызывал редакторов и ругал их: что за безобразие – раскрытие еврейских псевдонимов в газетах? (Какие смельчаки редакторы!) В общем, деды (ленинские соратники) – были хороши, отцы подгуляли. Признался: «Я сам не понимал, что писал в 20-е годы». (Но скольких же отравил!) А сейчас если что его безпокоит – то «неполное согласие с Никитой Сергеевичем». – Вот с таким ничтожным итогом кончал этот наш учитель коммунистических десятилетий. Мне противно было его слушать и вспоминать, что в 1941 его статьи меня сильно волновали.
А между тем – за обедом, докладом, променадом и прениями прошло уже более шести часов, за белоснежными занавесами уже стемнело, рабочий день страны перекатился в отдых трудящихся, – а мы всё сидели, и в какой-то особо удручённо-ослиной позе, не разделяя этого сборища и не касаясь его, сидел Косыгин. Глава правительства – сам тут был раб безысходный, комический, хотя ждали его дела поважнее. По необъятному размаху задуманного партией – ещё было говорить и говорить, записалось 40 человек, а выступило только 8, сегодня – уже явно не уместиться. Перенести? Но на завтра нельзя было перенести: предполагался несколькодневный визит Тито. Значит – на неопределённое время. А если так – то неизбежно было предварительное заключительное слово Никиты Сергеича. Оно и наступило.
Ну, конечно, о печати как дальнобойном орудии партии. Внутри нашей страны – нет сосуществования систем, здесь – вопрос чистоты или грязи. (Ещё раз видно, какой манёвр для них – сосуществование.) Борьба не терпит компромиссов. (Оговариваясь: хотя с Кеннеди мы пошли на разумный компромисс. – Ведь Хрущёв только-только вынырнул из страшных дней, первый раз проведя мир вплотную к ядерной войне, и вот из первых его мирных занятий – с нами.) Идёт борьба за умы людей. Ваши умы – для нас очень ценны, вы сами – маршалы. То, что мы вас вызвали, – уже и доказывает (?), что культа личности нет. Да, партия допускала ошибки. Возможны ошибки и в будущем. (Обрадовал. Но – смело это, обычно так не говорилось.) Я тоже буду в ваших глазах сталинист: я – поддерживал эти устои. Чем меньше ответственности за будущее – тем больше жадности к тюремной теме. (Как раз наоборот!) Считать, что всё написанное – Богом данное, и тащи в типографию, – так нельзя. Такое общество неуправляемо, оно – не выживет. «Живи и жить давай другим» – я этого не признаю. Мы живём на средства, созданные народом, – и надо народу платить. (И, рассердясь, тыкая на выставленную скульптуру Неизвестного:) «Шелепин! Проверь, откуда они медь берут? Здесь – 8 килограмм народной меди!» (То потише:) Я призываю и к миру и к борьбе! (То непримиримо:) Я – за войну, не за мир! В войне отстаивать то, что облагораживает душу человека. Судья – история, но мы – отвечаем за государство и будем отстаивать то, что полезно. Наверно, Ной был неглупый человек, раз не брал с собой нечистого.
А дальше Хрущёв всё больше терял тон государственного человека и сбивался на выражение личных вкусов, как и считал себя вправе, будучи царём. Весь день обругивался Есенин-Вольпин (в том числе и Евтушенкой), теперь Хрущёв обругал и Есенина-старшего: «Кто кончает жизнь самоубийством, тот у меня уважением не пользуется. Видимо, и Есенин (как сын его) был заражён сумасшествием. Я спросил у Неизвестного: вы – настоящие мужчины или педерасты? От музыки Шостаковича – колики, живот болит. Не хочу обидеть негров – но весь американский джаз – от негров. А я, когда слушаю Глинку, – у меня текут слёзы радости. Я – старорежимен. Мне нравится Ойстрах, коллектив скрипачей. Другой раз и не знаю, что они играют, – а нравится… Я воспитывался в русской деревне, на русской музыке. Постоим за старину!»
Постоим за старину! – так это необычно для большевиков прозвучало: нет, было в Хрущёве помимо коммунизма и исконное.
Но и на этом Хрущёв не кончил, уж разнесло его. Стал вспоминать эпизоды из сталинского времени, – «вот, Анастас помнит» (Микоян хорошим истуканом просидел всё заседание). Как было написано постановление о «Богдане Хмельницком», – сидели в ложе, Ворошилов выступил, Сталин продиктовал… Потом уже совсем что-то несуразное: будто Сталин принимал Хрущёва за польского шпиона и велел его арестовать…
Все охотно слушали. Часам к 9 вечера это кончилось.
Всё отошло – и уже поверить нельзя. А какая-то особенная возможность была у меня в те недели, я не улучил её. Я жил – у себя на родине, и несло меня сразу признание снизу и признание сверху. «Новые миры» с «Денисовичем» были давно распроданы – а в редакцию шли паломники, студенты приносили пачки студенческих билетов в залог за экземпляр на сутки. Ворохи писем со всей страны шли на редакцию и в Рязань. Уже набиралась 700-тысячная «Роман-газета», 300-тысячное отдельное издание (вдруг распоряжение: снизить до 100 тысяч! мне сказали, но я не придал значения, не стал оспаривать). Через несколько дней после совещания – «Правда» напечатала отрывок из «Кречетовки». Это уже давало гарантию, что не задержит цензура набираемые в «Новом мире» «Кречетовку» и «Матрёну». Я не ощущал своего разлёта, но при всей зэчьей предусмотрительности не представлял и как короток он – вот уже к февралю оборвётся.
Из двух борющихся сторон я настолько безповоротно выбрал интеллигенцию, что вместе с ними считал позорным даже повидаться с так называемой «чёрной сотней» – руководством Союза писателей РСФСР. Под Новый год они приняли меня в Союз без обычной процедуры, без поручительств, даже сперва без заявления (я для издёвки не дал его в спешке рязанскому секретарю, не хотел давать им росписи, но потом пришлось дослать), ещё и прислали мне коллективную поздравительную телеграмму (Соболев, Софронов, Кожевников и другие), а приехал я 31 декабря в Москву – звали меня к себе на Софийскую набережную, собрались там все (изумляясь моему раскату, они могли предвидеть ещё любой вперёд, подозревали мои особые тесные связи с Хрущёвым), звали меня, чтобы в полчаса выписать мне московскую квартиру (это – в их руках), – я гордо отказался ехать. Чтобы только не повидаться с «чёрной сотней», чтоб только этого пятна на себя не навлечь, я гордо отказывался от московской квартиры (совсем уже чушь, впрочем отчасти – боялся я и московской сутолоки, расхвата, что здесь работать не дадут, не усвоил, что все работают в Подмосковьи), – обрёк себя и жену на 10-летнее тяжкое существование в голодной Рязани, потом и притеснённый там, в капкане, и вечные поездки с тяжёлыми продуктами, – о жене-то я меньше всего подумал, и потом она, в разрыве со мною, только через выступление против меня смогла переехать в Москву. (А в дальнем просвете жизни хорошо: не стал я москвичом, а разделил судьбу униженной провинции.)
Ещё и в январе на перевыборы рязанского секретаря приезжал от них М. Алексеев и очень доброжелательные повторял приглашения, да прежде всего сразу после перевыборов приглашался я на процедуру пьянки, где все речи уже произносятся не формально-собранчески, а по существу, в открытую, – я и тут не пошёл. Я всё делал не так, как все, не так, как ожидается и как разумно.
Тем временем, откладывали-откладывали, наконец состоялось продолжение кремлёвских встреч – 7 и 8 марта 1963.
Собрали в белом, совершенно круглом Екатерининском зале Кремля под куполом, который и с Красной площади виден всем хорошо. Круглый, но колоннами выделялась зрительная часть с голубою мякотью кресел – и председательское, как бы судейское возвышение из жёлтого дерева, а сзади в нише, под лепными нимфами – портрет Ленина. Голубой цвет умеренно повторялся в обрамлении зала, там и сям. Дневного света через купол не хватало, был электрический.
Теперь всё правительство, или политбюро, как его считать, – сидело не где-то вдали на нашем уровне, а высоко взнесенное над нами, ясно видимое – и пришедшее нас судить. Теперь среди публики было много незнакомых лиц, не только мне, но и для деятелей искусств: этих поменело, а позвали человек сто-полтораста партийных рож. И Никита был не тот хлебосольный хозяин – сперва покушать из семи блюд и быть добрей, но встал – и свирепо, а у него свирепость тоже получалась выразительно, заявил:
– Всем холуям западных хозяев – выйти вон!
Даже охолонули все – кому это? что? не мне ли? Даже покосились – не выходит ли уже кто? (А он имел в виду: кто-то что-то шептал западным корреспондентам о прошлой встрече – так чтоб не шептали об этой. Давно ли, кажется, был 1956-й? А вот уже и шептать нельзя.)
Ещё догремливал Никита:
– Применим закон об охране государственных тайн! – (То есть: до 20 лет лагеря.)
Напугал – и сел.
И над судейским помостом, над трибуной, высунулся снова щуплый Ильичёв. Змеиного даже меньше было в нём, чем прошлый раз, потому что повернулись события в его и их пользу.
Оказывается, «под влиянием оздоравливающих идей партии исчезло чувство незащищённости» (почему-то верится этому их чувству; вот так: стоят десятилетиями на командных высотах – и от одной повести, от одной выставки уже не защищены), «люди в полный голос заговорили о соцреализме». На Западе уже идут россказни о бунте детей против отцов, якобы запятнавших себя в годы культа. Эренбург ввёл двусмысленное понятие «оттепель» – а теперь предсказывают «заморозки».
Хрущёв (грозно): «А для врагов партии – морозы». (Его, видать, сильно накрутили с декабря, узнать его нельзя. Его руку направили рубить сук, на котором сидит он сам, и он рубит с увлечением.)
Косыгин сидит, всё так же уныло ссунувшись плечьми между рук, показывая, что он тут ни при чём, не участвует, такой бы глупостью он не стал заниматься. Брежнев, рядом с Хрущёвым, крупный, полноплечий, в цветущем состоянии. И Суслов, недоброжелательно-вобленный (не так сам худ, как все они толсты).
В лад с Хрущёвым и у Ильичёва появляется угрожающая жестикуляция: «Выступают, разоблачают, а за душой ни талантишка. Выдают себя за вождей молодёжи, а вождь молодёжи – один: КПСС». Дальше похвалил Эрнста Неизвестного, Евтушенку, которые за это время успели признать свои ошибки. А такие-то художники (кажется: Андронов, Нефёдов, Гастев, Вилковир) заняли воинственную и неправильную позицию. И о писателях: «Можно понять таких, которые долго пишут, но нельзя понять тех, кто вообще молчит». (Я сижу, всё записываю и думаю – ну, угодить с ними! Раньше-то я мог молчать и молчать, а теперь и молчать нельзя!) Затем навалился на Эренбурга (им тогда он казался – вождём оппозиции, грозной фигурой): пока его мемуары повествовали о давних событиях – наша печать молчала. А сейчас – читатели протестуют: Эренбург выдвинул «теорию молчания». (То есть: обо всём давно знали – но молчали.)
Как всё меняется в проекции времени! А в тот год не было острей вопроса, чем этот: знали или не знали все вожди, все партийные верхи о том, что творилось при Сталине? Вот в какое идиотское положение поставил их Хрущёв. Для спасения лица им оставалось только принять теорию незнания.
Ильичёв: «Так что ж получается по Эренбургу: знали и спасали свою шкуру? Но ЦК в постановлении о преодолении культа объяснил, почему народ молчал». (И тут народом загородились.) «Но вы, Илья Григорьич, не молчали, а восхваляли. В 1951 вы сказали: “Сталин помог мне написать большинство моих книг”. В 1953: “Сталин любил людей, знал слёзы матери, знал думы и чувства миллионов”».
И что ж Эренбургу ответить, если б и пригласили? Цитаты подобраны неплохо, да наверно десятки их есть, и хуже. Уж он-то вымазан так вымазан. (И не на том бы уровне ему мемуары писать – а в раскаянии. И, при его европейской известности, не так бы гнуться в них.)
И так поворачивает Ильичёв уверенно: «Я выделяю вас, Илья Григорьич, не для того, чтобы поставить вам в вину восхваление. Мы – все верили и восхваляли. А вы восхваляли – и оказывается, не верили». (Наказали его и за то малое, что он осмелился сказать.)
Так разбит главный лидер оппозиции. А ещё одно имя нужно у неё отнять – Мейерхольда. «И о Мейерхольде вы пишете не всё. Мейерхольд умел возразить на критику: “Вы так хотите поставить пьесу, чтоб она могла идти в любом городе Антанты?” – (Хрущёв даже подпрыгивает от смеха. И Суслов выражает смех, так: вымахивая обе длинные руки по диагонали и там всплескивая ими.) – Мейерхольд писал: “Мой театр служит и будет служить делу революции. Нам и нужны пьесы тенденциозные”. Поэтому мы его и реабилитировали».
И опять же верно: свой. В первые годы революции кто ж и был палач в искусстве, если не Мейерхольд?
Дальше вышел жердяй и заика Михалков с тремя медалями трёх сталинских премий. Удивил он меня, что сослался на письмо Александра Николаевича Бенуа: «Абстракционизм – исчадие ада, а поддерживается и католической церковью. Западное общество не способно сопротивляться эстетическому террору». Записал я, всё дивясь. И до сих пор не знаю, так ли Бенуа сказал, где, когда, – а насчёт эстетического террора ведь верно! Впрочем, сам Бенуа в 1917 каких наивностей не нагородил.
Дальше Михалков читал ядовитое стихотворение против кого-то молодого и прогрессивного, то ли Евтушенко. А затем зацепил вопрос первостепенный: как «под видом борьбы с религией» (не под видом!) уничтожали деревянное народное зодчество, – но Ильичёв его оборвал: «Доложено, устранено, об этом можно не говорить. Бьёте ложную тревогу».
Сразу осадили – это не в цвет. От своего они не ожидали такого выпада. (Всё-таки время какое – пробивалось и через этого!)
А список ораторов у них был подготовлен тщательно – одна железная когорта, и чтобы все били в одно место, нагнетать ужас. Вышел свинокартошка Александр Прокофьев, поэт, просто исходил ядом. Особенно подковыривал Андрея Вознесенского, – стихи формалистичны, кому они служат, назвал «Треугольную грушу» (Никита опять подскакивал, смеясь). Вот, мол, я получил письмо (это распространённый советский ораторский приём: не самому ругать – а получил письмо от Пролетарского Читателя, поди поспорь), пишут: «молодые хотят выйти к славе любой ценой». Стихи Вознесенского крикливы и рассчитаны на моду (хоть и так, да не вам бы критиковать). Маяковский без Вознесенского давно Америку описал – чего Вознесенский суётся?
А в общем, Прокофьев «почувствовал великое доверие партии к нам». Мелкий подхалим Андрей Малышко: «Стыдно, что мы так долго боялись бороться с формализмом. Пикассо тоже ещё надо от многого очиститься, мы признали у него только “Разрушение Герники” и голубя мира». Пафосный Петрусь Бровка: «Мы благодарны ЦК и лично Никите Сергеевичу. Чего стоят утверждения, будто в годы культа создавались ничтожные произведения, – а на каких же произведениях воспитаны легендарные борцы? Да золотой фонд был создан тогда!»
Так потянули шеренгу одних своих, до самого перерыва. Сидячей еды теперь не полагалось – но пустили к закускам стоя. Лауреаты и деятели очень жадно толкались у столов, захватывая кто что успеет. Слышал я в кулуарах: Ермилов: «Да мы бы с ума сошли, если б знали» (то есть об ужасах культа). И рыжая Шевелёва кинулась к какому-то оратору: «Спасибо, что защитили советских людей!»
Встретились мы с Твардовским, и он мне сказал, поблескивая весело, но не без тревоги: «Есть фольклор, что Шолохов на подмосковной даче со 140 помощниками приготовил речь против Солженицына». А я ещё так был самоуверен, да и наивен, говорю: «Побоится быть смешным в исторической перспективе». Твардовский охнул: «Да кто там думает об исторической перспективе! Только о сегодняшнем дне».
Познакомил меня с Солоухиным. «Какое знакомое лицо», – сказал я. А знакомое потому, что – общекрестьянское. Он и заговорил – о «Матрёне» и что можно с Кориным познакомиться (давно я мечтал посмотреть «Русь уходящую»). Правда, была у меня на Солоухина обида: ещё из неизвестности посылал я ему письмо в газету против громкого радиовещания, бича сельской тишины (у него во «Владимирских просёлках» сходное место), – и просил что-нибудь сделать, напечатать, от себя. А Солоухин мне – вовсе не ответил. Я ему сейчас сказал – он не вспомнил, Твардовский же осадил меня: «А вы теперь – всем отвечаете? А сколько у вас неотвеченных писем?» (И чем более идут годы – тем более вздыхаю я об этом.)
Вернулись в зал – но не только не было просветления в ораторской череде, а снова вышел Ильичёв и стал читать бывшие стихи Эренбурга (кто-то, значит, ему в перерыве подсунул). Но Хрущёв нетерпеливо перенял речь себе, – к трибуне он не выходил, да не помню, вставал ли и за помостом, да ведь и так высоко сидел – и оттуда метал ничем не ограниченные громы. С интересом он, де, читал мемуары Эренбурга: потому что сам Хрущёв того же возраста, честно воевал в Красной Армии, а Эренбург то на Дону, то в Крыму, и видел лакеев буржуазии. «Эренбург не радуется революции, а страдает с окна на чердаке. Что ж, как вы к нам, так и мы к вам, товарищ Эренбург. Сейчас, когда враг трепещет перед нашей мощью, – нам предлагают идеологическое сосуществование? Свободно продавать у нас западные газеты? Неплохая идея, только не торопитесь. – (Ильичёв подкидывал голову с блинной улыбкой.) – Вы – неплохо умеете скрывать свои мысли. Но жизнь заставляет читать между строк». Оказывается, прошлый раз Хрущёв просто недослышал, что говорил Евтушенко, оттого и не отозвался. «Вы говорите – времена не те? Но – и не те, которые были временно созданы в Будапеште! Москва – не Будапешт! И клуба Петефи не будет! И конца такого – не будет! Да, обстоятельства заставляют нас читать между строк. – (Как будто они иначе когда делали.) – В Малом театре поставили “Горе от ума” с подкашливанием – мол, у отцов учиться не надо. И “Застава Ильича” (фильм Хуциева) – туда же. Товарищ Хуциев, не верю! Сука всегда спасает щенка (то есть как КПСС – молодёжь). – Ну хорошо, дайте сатиру. Но и сатира разная бывает. Не так, что: в сельском хозяйстве провал, в промышленности провал – из-за того, что началась борьба с абстракционизмом. Мне очень нравится прошлое и сегодняшнее наше совещание. Но надо, чтобы не партия, а сами вы боролись за чистоту своих рядов. Как чеховский мужичок говорит: одну гайку завинтить, другую отвинтить, чтобы крушения не было. Не пора ли и в театрах перестать водить на казнь несчастную шотландскую королеву?» – (Это – против классики, не могу сейчас воссоздать всю связь речи.) – И кончил решительно: «Извините, партийное руководство мы ни с кем делить не будем. Партия и народ – единое! А вы думаете – при коммунизме будет абсолютная свобода? Это – стройное, организованное общество, автоматика, кибернетика, – но и там будут ходить люди, облечённые доверием, и говорить, что кому делать». (Очень откровенная картина. Вряд ли она попала в газеты, как и большая часть той речи. Откровенность – редкая, полезная.)
И собственно, после такого Никитиного разъяснения, после уже двух выступлений Ильичёва и нескольких угодливых – совещание могло бы и закончиться, уже всё главное было высказано. Ещё же надо охватить, сколько было насовано в зал партийных деятелей – по крайней мере 40 %, они и сидели сплочённо и сильно, дружно аплодировали всем правильным речам – это тоже внушало, рокот и неотвратимость партийной силы.
Но нет, провороты бюрократической машины требовали теперь всему правительству и всем нам сидеть и преть ещё полтора суток, чтобы партийная воля лучше дошла бы до нашего смятенного сознания.
Тут – объявили Шолохова, я вспомнил слова Твардовского, и сердце моё пригнелось: ну, сейчас высадят из седла и меня, не много же я проехал!
В своих записях я помечал время начала каждого оратора. Ильичёв и Хрущёв начали в 13.25, Шолохов – в 13.50. А следующего за ним я записал – 13.51. Всего-то одну минуту, без преуменьшений, говорил наш литературный гений, это ещё и со сменой. На возвышенной трибуне выглядел он ещё ничтожнее, чем вблизи, да и бурчал невнятно. Он вытянул вперёд открыто небольшие свои руки и сказал всего лишь: «Смотрите, я безоружный. – (Пауза.) – Вот Эренбург сказал – у него была со Сталиным любовь без взаимности. А как сейчас у вас – с нынешним составом руководства? У нас – любовь со взаимностью».
И – всё, и уже сходил, как Хрущёв подал ему руку с возвышенности: «Мы – любим вас за ваши хорошие произведения и надеемся, что вы тоже будете нас любить».
И всё. Этот жест безоружности и был показ, что заготовленной речи Шолохов говорить не будет. (Потом узналось: его и Кочетова предупредили не произносить речей против меня, чтобы «пощадить личный художественный вкус Хрущёва». А – должны были две речи грянуть, шла банда в наступление!)
Тут вышел первый не из когорты – кинорежиссёр Ромм. У московской интеллигенции он был как бы вторым лидером, после Эренбурга, и теперь, когда Эренбурга громили, противостояния ждали от него. Но – он никак не был готов, ему трудно. Вся смелость его (как и большинства) ушла в аналогии («Обыкновенный фашизм»), а – прямо вот так, напрямую? У него были извинчивые обороты, извинительный голос, прикладывание пальцев к груди. «Мне трудно спорить с первым секретарём ЦК». (Но и тем не попал, Хрущёв откликнулся сердито: «Тогда вы лишаете меня права подавать реплики. Но я тоже – гражданин своего народа!») С одной стороны – кинематограф наш на правильном пути, с другой стороны – тревожно за молодых. (Хрущёв: «Острее чтоб направленность была!») Возражал против уже прослышанной ликвидации Союза кинематографистов. (И так и было, Хрущёв: «Я хочу, чтоб вы помогали не министерству, а партии!») А Ромм всё о Союзе (поручили ему отстаивать – дома творчества, курсы). И прямо просил: оставьте! (Хрущёв: «Положитесь на партийное руководство!» Так и не дал ему говорить.) И вот – всё выступление ожидаемого лидера.
Теперь вылезла та рыжая вольная Шевелёва и читала стих «Я верю в судьбу твою, Индия», почему-то. Потом вышел, как разжиревший вышибала, председатель композиторского союза Хренников. Он громил «душок либерализма в творческих объединениях», Москву назвал джазоубежищем, за приём джазов. (Хрущёв хмуро: «Это министерство культуры так несерьёзно приглашает».)
Затем – цыгановатый Чухрай, такой модный среди передовых, надежда либерализма, – и такой осторожный. Во-первых, мол, выступать при членах правительства – высокая честь. Прыгал в тыл противника (вероятно, делать киносъёмки партизан), воевал, лежал в госпитале, – но так высоко, как сейчас, – не приходилось. Лозунг сосуществования идеологий – безсмыслица. (Очень потрафил.) В Югославии этот опыт произведен. (Хрущёв: «Но сейчас-то Тито и-на-че смотрит!») Чухрай сразу и в отступление: «Я, может быть, отстал, я был там два года назад». Есть западные фильмы – только половые проблемы, и режиссёр гордится, если показал половой акт на экране.
Тут захотел Хрущёв показать нам картину советского художника. И произошёл лучший номер всего совещания: тучного Брежнева, возвышенного рядом, Хрущёв потыкал пальцем в плечо – «а ну-ка, принеси». И Брежнев – а он был тогда Председателем Президиума Верховного Совета, то есть президентом СССР – не просто встал достойно сходить или кого-нибудь послать принести, но побежал – в позе и движениях, только по-лагерному описываемых, – на цырлах: не просто побежал, но тряся телесами, но мягкоступными переборами лап показывая свою особую готовность и услужливость, кажется – и руки растопырив. А всего-то надо было вбежать в заднюю дверку и тут вскоре взять. Он тотчас и назад появился, с картиной, и всё так же на медвежьих цырлах поднёс Хрущёву, расплывшись чушкиной ряжкой. Эпизод был такой яркий, что уже саму картину и к чему она – я не запомнил, не записал.
Из той же двери время от времени появлялся один какой-нибудь служка в чёрном костюме и нёс на подносе единственный бокал под салфеточкой с соком или кока-колой кому-нибудь из вождей. И торжественно уносил пустой.
А Чухрай мягко-вкрадчиво продолжал (и уже не понять: он от оппозиции выступает или от власти?): – Конечно, коммунисту надо иметь мужество защищать социалистический реализм. На это нечего жаловаться. Мне доставляет удовольствие, когда на меня свистят враги. Я согласен: опасность формализма велика. Вот, я выслушал речь товарища Ильичёва и спрашиваю себя: ну, и что ты психовал? – (Ильичёв улыбается.) – А потом думаю: нет, здесь есть основания тревожиться. – (Ильичёв нахмурился.) – Во всех моих фильмах искали: а не хочет ли Чухрай подорвать советскую власть?.. Нет! Некоторые бездарные и тупые приняли нынешние мероприятия партии за сигнал пересмотра политики партии. XX съезд провозгласил принцип доверия к художнику. Я – не за либерализм, но я – за доверие. Я – не могу иначе, как с народом. Пускай партия треплет меня, как хочет. – (Хрущёв: «От ошибок никто не застрахован. Несчастье Сталина было: сказал – и всё. А на ошибку надо только указать. Вот если настаивает на ошибке – тогда… Мы указали Евтушенко на ошибку – а сейчас наши посольства в ФРГ и Франции – хвалят его».) – Чухрай, подбодренный сочувствием Хрущёва: Антигероизм – хитрая лошадка капитализма: если нет героев, то кто же выйдет на улицу свергать капитализм? Развелась публика, смотрящая на наши глубокие споры, как на ристалище. Надо бороться за чистоту коммунистической идеологии! (И… и… какой же вывод? вершина речи?) Если вы нам оставите Союз кинематографистов – мы своей честью ручаемся!
За эту речь потом все кинематографисты восхваляли Чухрая, и вся интеллигенция, стало быть, довольна была.
Так, всего-то, в ристалище этого зала, чужом для меня ристалище, соревновались вожди власти, когорта приставленных да интеллигенция: чтоб не отняли у них позиций и благ, какие они считали своими. Вот она и есть, центровая образованщина. Ни народной правды, ни голоса о том, что есть ещё какая-то низовая страна Россия с её страдательной историей, без нужды в этих творческих союзах, – тут не раздавалось. Но все клялись непременно именем Народа.
Затем выступил страшный Владимир Ермилов – карлик, а с посадкою головы, как у жабы. (Всю его речь ему благожелательно кивал Ильичёв.) Наши недостатки стали более заметны оттого, что наша литература выросла. Иметь постоянное чувство идеологии противника. Особо инструктировать выезжающих за границу – и выслушивать их отчёты потом. Особенно бранил Виктора Некрасова: стыдится за свою страну, радуется, что выехал и смотрит. (А кто из них не радовался поездкам?) Нетвёрдо вёл себя с опоздавшими студентами Колумбийского университета. «Может быть, и стукнуть башмаком по столу!» – (Хрущёв: «Можно, можно!») «Глубоко недемократически», что Некрасов в Нью-Йорке рассказал вперёд о ещё не вышедшем фильме «Застава Ильича» (тем самым отрезая возможность запрета). Не создавать ни моду, ни иллюзию гонимости вокруг некоторых имён.
Между тем я стал замечать, что сильно ошибся в выборе места в зале: кроме главных рядов, в середине, ещё были стулья и кресла по возвышенному окружному кольцу, между колоннами, как бы ложи, там я и сидел. Но при этом я оказывался очень виден всему залу и президиуму: что всё время строчу и строчу на коленях в блокнот – именно занятостью карандашом и оправдывая, что руки мои не могут хлопать вместе со всеми, – а те хлопали в самых обидных и верноподданных местах. И то, что я не хлопаю, – слишком видно, и слишком видно, что я, может быть единственный в зале, непрерывно что-то пишу. (Ни стенограммы, ни протокола не велось.)
И после перерыва я пошёл и спрятался на одном из задних мест, за спинами всех, близ Олега Ефремова.
Возобновил заседание опять словоохотливый Хрущёв, он чувствовал себя вполне как глава дома на семейном сборище. Сказал Чухраю: «Ну, вы своей речью разложили руководство». То есть насчёт Союза кинематографистов: останется он, так и быть. Но пусть оправдает себя «дальнобойное орудие – кино». И опять – на тему, где единственный он смел трактовать: «Наше понимание: Сталин был деспот, но деспотизм свой понимал в интересах партии. Мы не прощаем деспотизма, конечно (о, ещё пока хоть так!), но люди с душком хотели бы, чтоб мы вместе со Сталиным выбросили коммунизм». (Именно этого хотел от них я.)
Художник Иогансон: «Страдания людей не должны стать модными в нашем искусстве. А появляется мода. Надо, и отрицая, утверждать. Пафос утверждения – лучший памятник тем, кого нет среди нас». (Хорошо вам, в лагере не побывав.)
Хрущёв: «Правильно! Правильно! Нечего мусорные ямы описывать, они и при коммунизме будут. Это – только услаждать врагов».
Роберт Рождественский, тогда известный поэт, вид застенчивого мулата, очень волновался, даже заикался. «Наша партия – самая поэтичная в мире. Проблема непонимания отцов и детей – выдуманная. Нельзя о молодёжи говорить огульно: “не выйдет, мальчики!” Наоборот, молодёжь учится у отцов принципиальности». (Ильичёв хлопал ему. А Хрущёв нашёл неясности выражений: «С кем бороться собираетесь – непонятно. Становитесь в ряды!»)
Наконец, из главных столпов советской литературы, разъеденный и грозный Леонид Соболев. Взвапливал он, где же у нас «свобода критики молодых» по Ленину? Нельзя отказываться от ленинских принципов партийности искусства. Нельзя писать сумеречные произведения, и очень опасно – обтекаемые. Кто не с нами, тот против нас! Мы теперь стали стыдиться создавать положительный образ, боимся упрёков от либералов. «Нужен пафос для того, чтобы восхититься самими собой». (Ему, конечно, густо хлопали, как и всем своим, надёжным.)
А тут, по недосмотру ли, выпустили художника Пластова, который клоунничал под простачка – и так высказал единственное свежее за всю эту полосу встреч. В глубинке не понимают ни соцреализма, ни абстракционизма. Там спрашивают: а деньги вам платят? А то вот мы второй месяц работаем – нам не платят. – (Не второй, а сто второй? – конечно смягчил.) – В деревне нет проблемы отцов и детей: отец – конюхом, сын – скотником. Вы в Москве с жиру беситесь. Меня спрашивают: сколько за эту картину берёшь? Пятёрку дадут? Я знаю, что – полтысячи, говорю – четвертную. Удивляются: ну, золотые у тебя руки! А старик сидит рядом, кивает: «Всё – с нас, всё – с нас». – (Тут Никита искренне схватился двумя руками за голову. Схватиться б ему покрепче.) – Ещё и жалованье получаете? Ещё и премию дают?.. Нельзя жить всё время в Москве, тут правды не увидишь. Здесь мы услышим, что нам надо говорить, – а там увидим, что нам надо делать». – (Хрущёв: «Надо придавать картинам героические черты».)
Вот это, что Пластов, – первое, что и я сказал бы. Это он – от души, за меня сказал.
И заключили Эрнстом Неизвестным, с наружностью французского министра. Где-то он перед тем уже покаялся? Теперь: «Я с верой смотрю в будущее. Может быть, наступит день, когда меня захотят назвать помощником партии».
Нет, заключить мог только Хрущёв: Рождественский может спать спокойно, я не говорю, что его стихотворение антипартийное. А Грибачёв сказал: «Не выйдет, мальчики!», – но он солдат хороший, он имел право сказать.
У-у-уф, уф, кажется бы уж кончить: победили, покорили, раздавили, – кончить, назавтра у всех работа? Нет: перерыв до завтра.
И назавтра опять приходит всё главное правительство заседать с нами об искусстве. Но вчерашняя атака – на Эренбурга, Ромма, старших – исчерпалась. Сегодняшний день посвятить напугиванью молодых.
И для этого подстроено первое выступление старой, сухой, чавкающей Ванды Василевской, польской коммунистки, присоединённой вместе с Западной Украиной. Она шамкала, что выступает вынужденно, – из-за интервью, которое дал в Польше Вознесенский. Он всем предыдущим советским литературным поколениям противопоставил – Гроссмана, Эренбурга и Солженицына. Как можно давать такие интервью в Польше, где сильные буржуазные влияния? Ведь это там воспринимается как директива из СССР. За что же бороться, если Советский Союз за 45 лет достиг таких мрачных перспектив? То, что можно печатать в Париже, – нельзя в тех странах, которые ещё борются.
И вместе с густыми ей аплодисментами раздались подстроенные дружные голоса: «Пусть Вознесенский скажет!.. Пусть Вознесенский!»
Вот для чего нужно было сегодняшнее заседание – новый шаг от вчерашнего, партийная сплотка приободрилась: возвратить атмосферу 30-х годов! Вытаскивать на трибуну тех, кто и слова не просил!
Щуплый, узкий Вознесенский поднялся серый. Ещё не сразу и гул утих. Сдавленным горлом:
– Как и мой любимый поэт и учитель Маяковский – я не член партии.
Хрущёв взорвался (или, пожалуй, велел себе взорваться, но – очень грозно): «Это – не доблесть! Вызов даёте?? – И – кулаком по столу. – Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! Мы бороться – можем, умеем! – (Голоса: «Доло-ой!») – Он хочет партию безпартийных создать? Ведётся историческая борьба, господин Вознесенский!»
Гремели аплодисменты – как похоронный звон.
Сжатый, совсем без привычки, долго ждал Вознесенский. Договорил наконец:
– И, как и он, я не представляю себя без коммунистической партии.
Слышал Хрущёв, не слышал, но продолжал бушевать, да так, наверно, было у них наиграно:
– Для таких будут – самые жестокие меры!.. Мы – те, которые помогали венграм давить восстание!!.. У нас есть более опытные, которые могут сказать, а не вы!.. Мы ещё переучим вас! Хотите завтра получить паспорт – и езжайте к чёртовой бабушке! Не все русские те, кто родились на русской земле!.. Эренбург сидел со сжатым ртом, а когда Сталин умер, так он разболтался! – И всё более подхваченный лихой яростью, показывая как раз на ту ложу, где я вчера сидел, ушёл вовремя:
– А вон те молодые люди почему не аплодируют? Вон тот очкарик! – (Голоса – «Поднять его!» Тот поднялся, в красном свитере и с лицом покрасневшим.)
Тем временем Вознесенский нашёл паузу (его слова у меня не в конспекте, а полностью – он ничего больше не успевал):
– Я не представляю своей жизни без Советского Союза.
Но Хрущёв добушёвывал:
– Вы – с нами или против нас? Никакой оттепели! Или лето, или мороз!
– У меня были неверные срывы, как и в этом польском интервью.
Помягчел Хрущёв:
– Нет людей безнадёжных. Шульгин – лидер монархистов, а патриот. Давайте послушаем его. Меры успеем принять. Во внуки мне годится! Сколько вам лет?
– Двадцать девять.
– Наша молодёжь – принадлежит партии. Не трогайте её, иначе попадёте под жернова партии! – (Это предупреждение – уже всем в зал.)
Вознесенский, желая доказать преданность, прочёл занудное стихотворение «Секвойя Ленина».
Хрущёв слушал стих, опустив брови, надув губы, работа мысли на лбу. Покойнее:
– Вам поможет только скромность. Вам вскружили голову: родился прынц. Не протягивайте руку к молодёжи! Мы, старики, люди цепкие. Вы берёте Ленина, не понимая его. Ладно, чтобы вы были солдатом партии! – И подал ему руку через стол.
– Не буду говорить слов, – обещал Вознесенский. – Работа покажет. – (Уже тогда ли задумал «Лонжюмо»? Или рассчитывал проскользнуть на электронике XXI века и антимирах?)
Тут вытащили того в красном свитере, графика Голицына. Стали его допрашивать, почему не аплодирует, кто он да кто отец, поняли так, что умер в лагере, Хрущёв опять подкинулся:
– А вы нам – за отца мстить, что ли?
(А для людей прежнего времени и достойно было бы.)
Затем надо было ещё одного молодого причесать – Аксёнова. Сам ли он просился на трибуну, его ли вызвали, но говорить не дали. Опять кричал Хрущёв:
– Вы что клевещете на нашу партию? Мы оплакиваем вашего отца. Борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Мы не дадим империализму, чтоб здесь росли семена. При оттепели могут расти сорняки. Мы не признаём лозунга «пусть цветут сто цветов»!
И успел Аксёнов:
– Думаю только о том, чтобы приносить пользу своей стране.
Хрущёв недовольно:
– И Пастернак так говорил. И Шульгин – «за единую неделимую». Пользу родине, – только какой?
Молодых – обуздали без труда. Но по раскатке 30-х годов, всей восстановленной атмосфере «единодушных» собраний, где воспитывались лютые звери, а обречённые доживали только до ближайшей ночи, – уже ревели, требовали дальше: «Давайте спросим московскую организацию!» – то есть кто направлял. «Щипачёва!» Щипачёву надо было ещё за «общечеловеческое» врезать. Но оказалось, что он – уже два месяца как переизбран, – вместо него комичный маленький Елизар Мальцев. (Поставлен фракциями как фигура легкоуправляемая.) Вышел, очки потеряв, ничего не видит.
– Два месяца как я секретарь – и всё время жду продолжения этого совещания. Не имеем указаний. Иностранной информации тоже не имеем…
Хрущёв, осадисто:
– Но вы – коммунист! И контрреволюционеров должны знать!
Контрреволюционеров! – никаких не «ошибающихся»! Звучит-то как страшно! Уже не 30-е, а 20-е годы. Вблизи от меня сбоку сидел пастушок-переросток, большие уши, растрёпанные волосы. Я не узнал его, сосед объяснил: Евтушенко. Теперь я покашивался на него. Он порозовел, живыми губами выражал волнение. В любую минуту удар мог упасть и на него. Счастлив он был, что уже выступил в прошлый раз, в лучшей обстановке.
И – опять покатили верные. Истеричный Василий Смирнов: надо договаривать, Соболев только намекнул, после XXII съезда писательское собрание прорабатывало Кочетова как главную опасность! Мы в московской организации подавлены. Мы вынуждены на съезд РСФСР стараться собрать всех из областей, чтобы нас выбрали. – (Откровенно.) – Рыба тухнет с головы. Союз писателей – с московской организации. Пусть нас поддержит партия, иначе не будет у нас литературы!
Хрущёв:
– Если не справятся сами коммунисты – назначим к вам бюро от ЦК.
(Диктатура пролетариата.)
Худой волковатый Кочетов после Смирнова кажется выдержанным: – Молодые не привыкли к такой встрече, как сегодня. Мы редко выезжаем за границу. А эти молодые поэты утюжат Европу. Там они стыдятся произносить «соцреализм».
Хрущёв: «Я знаю вас и Грибачёва как хороших бойцов. Бороться надо!»
Кочетов: «За рубежом ждут наших книг – именно тех, в которых они увидели бы свой завтрашний день».
А Хрущёв что вспомнит, нет на бумажке записать, а сразу перебивает:
– Как мог безпартийный Эренбург увлечь кандидата в члены ЦК подписать этот документ о мирном сосуществовании? С кем, товарищ Сурков, вы хотите сосуществовать?
Сурков (с места): – Я немножко боролся. – (Непонятно: против Эренбурга или против буржуазии в своё время.)
Хрущёв: – Эх вы, капитулировали. Не солдат партии, разоружился перед врагами. А по врагам – огонь!
Упомянул Кочетов московскую писательскую организацию – Хрущёву новый повод:
– Ложное неправильное направление – переезжать в Москву. Писатель из Сибири – дайте ему квартиру в Москве. Как алмазы должны пронизывать толщу народа… А может быть, московских писателей распределить по одному в заводские парторганизации? Надо подумать. Свежим воздухом будете дышать.
Кочетову нравится: – Конструктивно. Ведь всё у нас перестраивается по производственному принципу. Писательские организации – продукции не выпускают. Фантазия: союз тех, кто пишет. Или – тех, кто склочничает? А может быть: создать новый творческий союз всех вообще творческих работников – и объявить новый приём?
Это был – подготовленный план когорты в те дни. Они думали тем оппозицию смешать, а сами утвердиться.
Хрущёв: – Не аплодирую, не разобрался. Может быть и нужно.
Так и идёт – не докладом, а диалогом с Никитой. Жалуется Кочетов, что ездили в Норвегию – там все о Пастернаке говорят, Никита вслух:
– Если бы «Живаго» была напечатана – никакой бы премии не получил.
Ещё прошёлся Кочетов по «Вологодской свадьбе» Яшина, противопоставил такой пьянствующей деревне – просвещённую, ждущую журналов (его «Октября»), и закончил неудовлетворённо: – Не выбрасывать же со Сталиным и Советскую власть. Я приготовил другую речь, извините, прочёл эту.
Так понять: речь-то была – против «Ивана Денисовича». И самое время им – душить его всеми катками! самая пора атаковать! Но – нельзя. Вот он, «культ личности»!
Потом через одного выступал известный портретист и украшатель Сталина Налбандян. Тоже вот обстановочка, как ему сейчас выглядеть чистым? «Наш народ негодует против абстракционистов, но негодование не попадает в прессу. До каких пор будет демократия?»
Хрущёв, охотно отзываясь:
– Если такие вывихи в Союзе художников, то не надо собирать съезда, а собрать совещание, – только те силы собрать, которые нам нужны. А для тех, кто оппозицию строит, – дадим паспорта на выезд. – (Зрела эта идея у них уже тогда, зрела.) – Демократия – это средство, а не цель. Нужно было Учредительное Собрание разогнать за то, что против Октябрьской революции, – разогнали. Надо на трибуну выходить, а у Свердлова расстройство желудка. Так тем более на нашем этапе теперь – неужели подвергнем опасности наши завоевания?
Налбандян: – Но разве виноваты художники, писатели, которые честно воспевали культ личности? Так что теперь, из этого делать ярмо?
Хрущёв: – Да 99 % непропущенных при Сталине вещей – было верно задержано. Сталин-то – не враг был революции. Теперь рассчитывают: что у меня тогда выпустили – я теперь вставлю и ещё посильней напишу. Нет, не протащите! Что ж, писатель в кабинете сидит – он и судья? Судьёй будет партия! Никто из нас сам от себя никогда не выступает, советуемся. А почему вы считаете, что это принуждение, когда требуют, чтобы вы что-то опустили? Это у вас мания величия. Это уже будет не демократия, а дом сумасшедших. Теперь будет не жёстче, но – больше внимания к вам.
В перерывах я стал замечать, что кто в декабре жаждали со мной знакомиться, теперь не только не искали меня, но ускользали. Правда, Симонов в этот раз сам подошёл, познакомились.
А ещё есть Турсун-Заде, пафосный карлик: – В национальных литературах такая теперь тенденция: Солженицын открыл дорогу – значит, тащи из мусорного ящика. Нет! Критиковать – так надо одновременно и утверждать. А то для положительных героев не хватает слов. Эренбург для Маяковского не нашёл красок…
Эренбург? Никита не может слышать, не отозвавшись:
– В Париже, мол, я писал, дышал, – а тянет в Россию. Чего его тогда в Россию тянет?
Турсун-Заде: – Наши сердца принадлежат партии.
Хрущёв: – Да я вот никогда не имел партийных взысканий, потому что у меня внутренняя дисциплина. Если так и у писателя будет – никакой цензор не нужен тогда. А то думает: как изложить, чтобы проскочило? Это – антипартийность.
Это – всё реплики были. А теперь, оказывается, начинается его сплошная речь. Не помню, занял ли он трибуну, или так и говорил со средины президиумного стола (кажется). Начало речи было отмечено тем, что подали ему бумагу, и он стал читать. Длинно читал. Вроде как бы резолюция, но не нами принимаемая, или заключение ЦК, нам лишь к сведению.
Идейно-творческих провалов не произошло, но ряд ошибок. И посейчас мы с удовольствием поём песни Демьяна Бедного. Некоторые представители искусств судят по запахам отхожих мест. (Перечисляются области искусств и в какой что сделано хорошее и в какой что плохое.) В кино – дело далеко не так благополучно. Нам, ЦК, в предварительном порядке показали «Заставу Ильича». Там ещё есть неприемлемые места, надо исправлять. Но поскольку Некрасов уже об этом высказался за границей – скажем и мы. При таком символическом названии трое молодых героев не знают, зачем живут. Сомнительные гулянки. Отец не может ответить на вопросы сына, – как это может быть? Внести разлад с отцами?
– Не выйдет! В Советском Союзе нет проблем отцов и детей! В Ленинграде поставили «Горе от ума» (видимо, Товстоногов), а на занавеси: «И чёрт меня дёрнул родиться в России с моим умом и талантом». Тут Грибоедов взят как щит. А Грибоедов – прогрессивный писатель. Гнилая идея! Оставьте в покое шотландскую королеву! Велик был Шекспир – но в своё время. А вы дайте нам такое, что вызывает гнев или пафос труда.
Даже Сукарно и тот сторонник направляемой демократии. Вот – острые произведения, разоблачающие культ: «За далью даль», «Один день Ивана Денисовича», «Чистое небо» (фильм Чухрая) и несколько стихов Евтушенко. Но ошибочная тенденция: всё внимание односторонне сосредотачивать на беззакониях. Те годы – не были сплошным беззаконием.
– Если недостатки так называемой лакировки сравнить с недостатками тех, кто сидит на мусорной яме?.. Эренбург был ли другом Сталина – не скажу, но и врагом не был. Враги уже на этом собрании не присутствуют… А вот Галина Серебрякова выдержала – и сразу взялась за оружие… Почему мы не пресекли культ тогда? Мы не знали, что берут невинных. (?..) Классовые враги ещё не были физически искоренены. Хорошо показано в «Поднятой целине». А Сталин звал на борьбу с врагами.
(Жуть пробирает, сгустился над залом давящий мрак. И – что ж осталось от XX, от XXII съезда, и от недавнего «доброго» Хрущёва, распустителя ГУЛАГа?)
– Но Сталин потерял сдерживающие центры, как Ленин говорил ещё в 1923 году.
Дальше какой-то бредовый миф: что ЧК вовсе не столько расстреливала, сколько объявлялось. Давала списки расстрелянных – фиктивные фамилии, просто для острастки. (Уж не говоря о методе «острастки», – какая ж острастка, если никто этих лиц не знает? Напуга не будет, всё расплывётся.) Затем перечислял ценные вклады Сталина, как бы панегирик ему. Сталин особенно возрос в борьбе против враждебных оппозиций. Если бы Бухарин-Рыков-Томский взяли верх – у нас была бы реставрация капитализма. Ленин считал Сталина марксистом. Он только хотел, чтобы генсек был немного вежливей и некапризным. Но мы – отдаём должное Сталину. Он только совершал теоретические и практические ошибки.
– У меня были слёзы на глазах, когда мы его хоронили.
В руинах дымился весь XX съезд. Сейчас внеси портрет Сталина, объяви Никита: «На колени перед портретом!» – и все партийные повалятся, и вся когорта повалится радостно, – и остальным куда ж деваться? Попробуй, устой!
Но – неисчерпаем Никита, знает сто лазеек. И в радости не даст упокоиться, но – и в горе. Тут же без перерыва начинает историю за историей, одна другой дичей, и даже я, ненавистник Сталина, записываю безо всякой веры.
Глубоко-больной, подозрительный. Если б его не сдерживали работавшие рядом – «дел» было бы ещё больше. Например, вызывает Никиту из-подо Львова телефонным звонком. Приехал. «Нате письмо! В Москве – центр контрреволюции». Читаю, какой-то сукин сын пишет: создана организация под руководством Попова, и в ней участвуют все секретари райкомов. Я – спрятал в сейф, ему не напоминаю. Но он – не забудет! «Ну, как?» Да, говорю, мерзавец написал. «Да неужели?» – не любил Сталин недоверия к таким материалам. – Или в Сухуме один раз, говорит мне и Микояну: «Я – пропащий человек, я никому не верю и сам себе не верю». Оставляет Микояна на своей даче: «Не уезжай». Потом меня позовёт: «Поди спроси у Микояна – что у него, своей дачи нет, чего сидит?» Я не любил к нему на дачу ездить: напоят, накачают вином. – («Пляши, хохол!» – не добавляет.) – Отговорюсь. Опять Поскрёбышев звонит: «Вы уже выехали? А товарищ Сталин ждёт». Так и представляю – Сталин рядом с ним стоит, приходится ехать. Обычно за руку не здороваемся – так гигиеничнее. Пришёл я, сел к столу. Сталин нахмурился: «Вас кто звал?» Я ушёл в горы. Через час вызывает меня: «Ну как, Микита? Может, рыбу удить поедем?»
– Да это был сумасшедший на троне. Спрашивают нас: а почему вы его не сняли? На XIX съезде говорит: «Я уже стар, может мне в отставку?» И – смотрит, кто первый скажет «да». А то берёт список Политбюро: «Как это Ворошилов пролез?» – «Да вы же сами его вписали». Это, что я сейчас говорю, завтра не будет в газете… Сам созывал съезд партии раз в 13 лет – а пусть бы Украина не созвала! Но – он был предан уставу, следил, чтоб не было партийных нарушений… Тогда, после доноса, мы с Маленковым: давай, этого Попова подальше сунем, спасём его. А объяснить ему самому – не можем. А Попов: «Куда вы меня из Москвы?» Думает, Москва без него пропадёт… А Каганович жить не мог без дела об украинских националистах. Но мы не поддались и не дали погубить творческую интеллигенцию Украины.
Весной 1933 Шолохов, мол, поднял голос против насилий на Дону, теперь нашли его письмо в архивах. Что над десятками тысяч колхозников творятся надругательства, как у Короленко над тремя. Пошлите в Вёшенский район дополнительных коммунистов! Сталин ответил: ваши письма производят однобокое впечатление. Это – только одна сторона, надо видеть и другую. Хлеборобы вашего района проводили итальянку, тихую войну на измор Советской власти. «Уважаемые хлеборобы» – не такие безобидные люди.
– Берия не скрывал своей радости у гроба Сталина. Берия и Маленков предлагали сдать ГДР. Мы с Молотовым – были заодно, против. Ну, придут они на польские границы. А потом – на наши? Не-е-ет!.. Маленков – он совершенно безвольный. В лето фестиваля сидим, болтаем. А жена приказала ему сделать укол, теперь рука болит.
(Записываю, думаю: да, только при такой последовательности мысли и мог проскочить мой «Иван Денисович».)
– Нам чужды пессимизм, уныние. Отображать их могут только те, кто стоит вне творческого труда… Вот хороший был фильм Торндайка «Русское чудо».
– А вы, мальчики, уважайте умерших и живущих. Позор вам будет, если не сохраните наследства. Надо сохранить! Грибачёв – хороший солдат-дядька, он опытен. Нас сейчас победить силой оружия – невозможно. Значит – вся надежда на «оттепель», взорвать советское общество изнутри… Мне бы сегодня выгодней было не стучать кулаком. Как после XX съезда, когда выступали некоторые учёные, мы их: исключить из партии, установить наблюдение, если не опомнятся – арестовать… Да на кой чёрт людей в тюрьмах держать, их там кормить надо… Но иногда от этого удержаться нельзя… Вот у нас много дела – а мы с вами три дня сидим. Потому что нет вопроса более сложного, чем идеология.
Безпартийности в нашем обществе нет и быть не может. Человека определяет не партийный билет, а его душа. Накипь бывает и на вареньи, хозяйка сбрасывает. Так же и на социализме, её надо снимать. «Как закалялась сталь» – всегда будет нашей настольной книгой… Участие в революции на стороне трудящихся – это самое гуманное дело. Кто не идёт вместе с ними, тот неизбежно идёт против них. Когда во время октябрьских боёв обстреливали Кремль, Луначарский пытался «спасать сокровища искусства», – но Ленин над ним посмеялся… Товарищ Шолохов – борец за счастье трудящихся. Хорошо видит друзей, хорошо распознаёт врагов. Кто знает начало – не должен забывать о конце. Москва – не Будапешт! …«Защитить то далёкое время»? Это значит – вернуть его? Не выйдет!.. А Евтушенко не надо подлаживаться ко вкусам обывателей. Выбирайте, чьи похвалы вам нужны… Центральный театр Советской Армии – глупая идея Кагановича, пятиконечная звезда, самое неразумно построенное здание… А вот мы под Новый год гуляли в лесу – какая красота! Вот это – красота!.. А додекафония – это какофония… Эренбург большой специалист навязывать свои вкусы. Конечно, Ленин не мог так говорить о левых художниках, как Эренбург ему приписывает… А Некрасов возмущается, что молодым ставят в пример старого рабочего…
И – до чего же смелы деятели искусств – те, которые окружали Кочетова и Шолохова, впрочем и вперемежку с партийным подсадом, – смело перебивали самого первого секретаря ЦК! Стали дружно кричать:
– Позор!.. Гражданский позор!.. «Новый мир»!..
(«Новому миру»! – это за Некрасова. Да и за меня же.)
Хрущёв одобрительно принял шквал. И дал вывод:
– Абсолютной свободы личности не будет даже при коммунизме!.. Это что, как муж или жена храпит – так почему лишаете меня свободы храпа?.. При коммунизме отклонения от воли коллектива должны быть – лишь как единичные явления.
Партия поддерживает только такие произведения, которые сплачивают народ. «Оттепель» – осуждаем: неустойчивая, непостоянная, незавершённая погода!.. Не пустим на самотёк! Бразды правления не ослаблены!.. Во всех издательствах – наплыв рукописей о тюрьмах и лагерях. Опасная тема! Любители жареного накидываются! Но – не каждому дано справиться с такой темой. Тут – нужна мера. Что было бы, если б все стали писать?
– Я помню процесс Бейлиса, я уже тогда носил длинные штаны… Сионисты облепили товарища Евтушенко, использовали его неопытность… Анекдот: великий поэт, как ваше здоровье? Лесть – самое ядовитое оружие… Я – против погромов… Богатые евреи сидели в квартирах околоточного. Товарищ Шостакович, и вы не разобрались! А Израиль предлагает вашу симфонию ставить. А там у них – классовое государство. Евреи, уехавшие туда, пишут теперь, что сидят без работы.
(Я покосился – у Евтушенки сильно горят уши. Да всякое грозное обзывание с кафедры при полутысяче человек с грозной трёхсотней – и никому не безразлично. Не такой глупый и процесс обработки, может быть и есть смысл им потерять время.)
– Стихотворение «Бабий Яр» – не антисоветское, говорят – музыка хорошая, я послушаю. Запрещать глупо… Да заместитель маршала Малиновского был еврей Крейзер, и сейчас командует на Дальнем Востоке. В числе первых, кто взял в плен Паулюса, был еврей, полковник Винокур, комиссар бригады.
От поездки во Францию Некрасова, Паустовского, Вознесенского – неприятное впечатление. Ошибки и у Катаева в Соединённых Штатах. Евтушенко не удержался от желания понравиться буржуазной публике: мол, «Бабий Яр» критикуют догматики, а народ принимает.
– Я – не за то, чтоб отгораживаться от Запада. Это – Сталин боялся, думал: если начнём разговаривать – нас сразу забьют. А у нас если слов не хватит – можно выругаться. Общаться – можно, но надо высоко держать достоинство советского человека. Чтоб общение было – на пользу нам.
(И эта программа – великолепно выполнена в последующие годы. Я начал восстанавливать эти записи с улыбкой, как курьёз и анекдот. А по ходу страниц смотрю, – и совещания те имели смысл, и, что называется, победила партия. Биться против партии – там было некому, смелыми становились наши деятели, лишь когда утекали на Запад.)
Этими встречами откатил нас Хрущёв не только позадь XXII съезда, но и позадь XX. Он откатил биллиардный шар своей собственной головы к лузе сталинистов. Оставался маленький толчок.
На второй встрече Лебедев не искал меня видеть, он озабочен был и «очень спешил» совнаркомовским коридором из двери в дверь. Вид его сильно изменился к отстранённости и чиновности. Через две недели ответил он мне и о пьесе. Ему, ходатаю за «Ивана Денисовича», тем более опасны были всякие мои неосторожные шевеления. В порыве умаслить Хрущёва, что его референт не промахнулся со мной, – вот, оказывается, что он тогда сочинил от имени этого Солженицына: никогда мною не произнесенные, немыслимо верноподданные слова – и для гарантии записал их в свой служебный дневник, даваемый на просмотр Хрущёву[12].
А карусель идеологии продолжала раскручиваться, уж теперь трудней её было остановить, чем само солнце. Не успели отгреметь два кремлёвских совещания, как замыслено было ещё важнейшее: пленум ЦК в июне 1963, посвящённый исключительно «вопросам культуры» (не было у Никиты больших забот в его запущенной несуразной державе)! И по хрущёвскому размаху на пленум этот приглашались сотни «работников» избранной области. Теперь предстояло мне в жару неделю ходить и неделю дуреть на этом пленуме, как будто я был член партии «с … года», а не дремучий зэк, а не писатель в первые месяцы приобретенной свободы. Моя несчастная слава начинала втягивать меня в придворно-партийный круг. Это уже порочило мою биографию.
Пришлось мне искать приёма у Лебедева – уговорить его лишить меня высокой чести быть приглашённым на пленум, отпустить душеньку. Так мы увиделись в третий и последний раз – в ЦК, на пятом этаже главной (хрущёвской) лестницы.
Просьба моя удивила его крайне: ведь билетов на эти встречи и пленумы домогались, выпрашивали по телефону, по ним соображалась шкала почёта. Мог ли я говорить ему прямо? Конечно нет. Бормотал о семейных обстоятельствах… (И Твардовский потом порицал меня: а «октябристы» будут думать, что вас лишили внимания, что вы падаете в своём значении; ни в коем случае, мол, вы не имели права отказываться. Ведь я – уже был не просто я, моё снижение снижало и «Новый мир»… Из такой политики и состояла десятилетиями литература…)
Разъяснил мне Лебедев ещё раз, чем дурна моя пьеса: ведь в лагерях же люди и исправлялись, и выходили из них, – а у меня этого не видно. Потом (очень важно!): пьеса эта обидит интеллигенцию, – оказывается, кто-то там приспосабливался, кто-то боролся за блага, а «у нас привыкли свято чтить память тех, кто погиб в лагерях» (с каких пор?!..). И неестественно у меня то, что нечестные побеждают, а честные обречены на гибель. (Уже прошёл шумок об этой пьесе, и даже Никита спрашивал – какая? если по «Ивану Денисовичу», то пусть ставят. Но Лебедев сказал ему: «Нет, не надо». Лебедеву, конечно, пора была со мною хвататься за все тормоза.) Многознающе убеждал меня: «Если бы Толстой жил сейчас, а писал так, как раньше – (ну, то есть против государства), он не был бы Толстой».
И вот был тот закадычный либерал, тот интеллигентный ангел, который совершил всё чудо с «Иваном Денисовичем»! Я долго у него просидел, – и всё более незначительным, ничем не отмеченным казался мне он. Невозможно было представить, чтоб в этой гладенькой голове была не то чтобы своя политическая программа, но отдельная мысль, отменная от партийной. Просто накал сковороды после XXII съезда был таков, что блин мой схватился, подрумянился, просился в сметану. А вот остыло – и видно, как он сыр, как тяжёл для желудка. И не поволокли бы блинщика на конюшню.
То и дело поднимая трубку для разговора с важными цекистами (и всё по пустякам, какие-то шутки, что-то о футболе, разыгрывали кого-то статьёй в «Комсомолке»), он смеялся мелкими толчками, семенил смехом. Он фотографировал меня до головной боли (моей), хвастался новейшей «лейкой» из ФРГ за 550 рублей, «мы же премию за книгу получили» (это – ленинскую, за репортаж, как Никита в Америку ездил). Гордясь и с охотою показывал мне тяжёлые обархатенные альбомы, где под целлулоидовыми плёнками хранились его крупные цветные снимки, по альбому на каждую заграничную прокатку Никиты: Ильичёв то в одежде Нептуна, то жонглирует блюдом на голове; Аджубей и Сатюков с шутовскими выражениями прильнули к статуе богини; Хрущёв целует прелестную бирманскую девушку; Громыко блаженствует в кресле самолёта. Они действительно жили в самом счастливом обществе на земле. (К тому ж всю обработку лебедевских снимков вела фотолаборатория ЦК, а сам Лебедев в служебное время только рассматривал, сортировал и раскладывал негативы и карточки.)
В одном альбоме на фоне тех же книжных полок, где он только что отснял меня, улыбались Шолохов и Михалков. Были места и для меня… Всё-таки Лебедев не предполагал, как жестоко во мне обманулся.
* * *
Но обманулся и я, что хоть полгода есть у меня для забивки всех лазов. Пора моего печатания промелькнула, не успев и начаться. Масленому В. Кожевникову поручили попробовать, насколько прочно меня защищает трон. В круглообкатанной статье он проверил, допускается ли слегка тяпнуть «Матрёнин двор». Оказалось – можно. Оказалось, что ни у меня, ни даже у Твардовского никакой защиты «наверху» нет. Тогда стали выпускать другого, третьего, ругать вслед за «Матрёной» уже и высочайше-одобренного «Денисовича», – никто не вступался (кроме самого «Нового мира», так это им не плотина). Стали цеплять «Денисовича» до идиотизма: почему не отображаю «тайных партийных собраний» зэков в лагерях и почему Иван Денисович к ним не прислушивался. А ходким козырем стало, что он – повторяет Каратаева: примиренчество. (Да посмотрели бы внимательно: за что попал в армию Платон Каратаев? – ведь был черёд не ему, а брату. «Война и мир», т. IV, ч. 1, гл. 12: «Платон рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты». И что же стоит за этой «длинной историей»? Да уж, наверно, и отбивался? Так Каратаев не без плутоватости и мятежа?)
Собственно, после лагерной выучки, эти газетные нападки нисколько меня не задевали, не досаждали. Как говорится, людям тын да помеха, а нам смех да потеха. Напротив, в этой печати меня гораздо больше удивляло и позорило предыдущее непомерное восхваление. А теперь я вполне соглашался на ничью: гавкайте потихоньку, да не кусайте, буду и я тихо сидеть. Рассуждая реально, моё положение было превосходно: с ракетной скоростью меня приняли в Союз писателей и тем освободили от школы, поглощавшей столько времени; впервые в жизни я мог поехать жить за рекой при разливе или в осеннем лесу – и писать; наконец, я получал теперь разрешение работать в спецхране Публичной библиотеки – и сладострастно накидывался на те запретные книги. (Но, не доверяя своему новому положению, я оставался зэком: в конспекты тех книг я вписывал, якобы от себя, в советском духе неодобрительные пометки: чтоб если меня вдруг обыщут, то не докажут, что я сочувствую криминалу. Да умри завтра Хрущёв – что со мной будет? Всё держится на одном Хруще.) Просто грешно было обижаться на непечатанье: не мешают писать – чего ещё? Свободен – и пишу, чего ещё?
Раздвинулись сутки, раздвинулись месяцы, я стал писать непомерно много сразу: собирал материалы к «Архипелагу» (на всю страну меня объявили зэкам, и зэки писали, несли и рассказывали); к заветной главной моей книге о революции 17-го года (условно «Р-17»); начал «Раковый корпус»; а из «Круга первого» надумал выцеживать главы для неожиданной когда-нибудь публикации, если представится.
Молчать! Молчать – казалось самое сильное в моём положении. Но не так легко молчать, когда ты связан с благожелательной редакцией. Всё-таки я понашивал туда кое-что для облегчения совести – не упустить возможностей. Как-то снёс самые первые, ещё «невинные» главы из лагерной повести в стихах, «Дороженьки» (ещё и их «облегчив»). Твардовский добродушно отверг её. «Я понимаю, – говорил он, – в лагере надо же что-то писать, иначе мхом обрастёшь. Но…» Он волновался, не обижусь ли. Я успокоил:
– Александр Трифоныч! Даже если вы десять моих вещей отвергнете подряд, всё равно и одиннадцатую я принесу вам же.
Просиял, был доволен сердечно. А обещание моё оказалось пророческим: десять не десять, но почти столько пришлось мне ему стаскать, прежде чем выявилось, что он потерял на меня права.
Весной 1963 я написал для журнала рассказ, которого внутренне мог бы и не писать: «Для пользы дела». Он как будто и достаточно бил и вместе с тем в нагнетённой обстановке после кремлёвских встреч казался проходимым. Но писался трудновато (верный признак неудачи) и взял неглубоко. Тем не менее в «Новом мире» он встречен был с большим одобрением, на этот раз даже единодушным (недобрый признак!). А всё лишь потому, что укреплял позиции журнала: вот, проведя меня в литературу, они не сделали идеологической ошибки.
До того уж почувствовал журнал свои права на меня, что летом, пока я был в отъезде, Закс без моего ведома уступил цензуре из моего рассказа несколько острых выражений (вроде забастовки, которую хотят устроить студенты). Это был их частый приём и со многими авторами: надо спасать номер! надо, чтобы журнал жил! А если страдает при этом линия автора – ну что за беда… Вернувшись, я упрекнул их горько. Твардовский принял сторону Закса. Им просто непонятно было, из чего принципиальничать? Подумаешь, пощипали рассказ! Мы, авторы «Нового мира», им рождены и ему должны жертвовать.
Противный осадок остался у меня от напечатания этого рассказа, хотя при нашей всеобщей запретности даже он вызвал немало возбуждённых и публичных откликов. В этом рассказе я начинал сползать со своей позиции, появились струйки приспособления.
Не сразу я усвоил и воспитался, что и к дружественному «Новому миру» надо относиться с обычной противоначальнической хитростью: не всегда-то и на глаза попадаться, сперва разведывать, чем пахнет. В этот приезд, в июле 1963, пока я горячился из-за цензурных искажений, А. Т. тщетно пытался передать мне свою радость:
– Вы легки на помине, о вас был там разговор!
Я говорю – «радость», но по-разному бывал он радостен: чист и светел, когда здоров от своей слабости, а в этот раз – с мутными глазами, полумёртв, вызывал жалость (его лишь накануне лекарственным ударом вырвали, чтобы доставить в ЦК к Ильичёву). И ещё ведь курил, курил, не щадя себя! Радость А. Т. была на этот раз в том, что он на заседании у Ильичёва ощутил некое «новое дуновение», испытал какие-то «греющие лучи». (А было это – просто очередное вихлянье агитпропа, манёвр. Но в безправной, унизительной жизни главного редактора опального журнала и при искренних толчках сердца о красную книжечку в левом нагрудном кармане – обречён был Твардовский падать духом и запивать от неласкового телефонного звонка второстепенного цекистского инструктора, и расцветать от кривой улыбки заведующего отделом культуры.)
Так вот что было там, на Старой площади. «Подрабатывался» состав советской делегации в Ленинград на симпозиум КОМЕСКО (Европейской Ассоциации писателей) о судьбах романа, и вот А. Т. удалось добиться, чтобы включили в ту делегацию меня. (А потому Ильичёв и уступил, что для симпозиума была нужна декорация.)
Он договорить ещё не успел, я уже понял: ни за что не поеду! Вот из таких карусельных мероприятий и состоит жизнь писателя на поверхности… Недорогой способ нашли они показать меня Европе (да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорелли!): в составе делегации, конечно единой во мнении, а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но ещё и предательством родного «Нового мира». Сказать, что действительно думаешь, – невозможно. И рано. А ехать мартышкой – позор. Отклоня уже столько западных корреспондентов, должен был я свою линию вытягивать и дальше.
– Зря вы хлопотали, Александр Трифоныч. Меня совсем туда не влечёт ехать, да и несручно: я недавно из Ленинграда, я так мотаться не привык.
Вот тут и шла между нами грань, не перейденная за все годы нашей литературной близости: никогда мы по-настоящему не могли понять и принять, что думает другой. (По скрытости моей работы и моих целей он особенно не мог понять меня.)
А. Т. обиделся. (Всю обиду он выказывал обычно не враз, но потом в жизни возвращался и возвращался к ней многажды. Как, впрочем, и я.)
– Моя задача была – отстоять справедливость. А вы можете и отказаться, если хотите. Но в интересах советской литературы вы должны там быть.
Да ведь я ей не присягал.
Случился тут и Виктор Некрасов, недавно ошельмованный на мартовской «встрече» и уже несколько месяцев под партийным следствием в Киеве, – и он, он тоже убеждал меня… ехать! Вот и ему ещё было столькое непонятно, и нельзя объяснить…
Дружный внутренний порыв влёк их обоих в ресторан, а мне было легче околеть, чем переступить тот порог. Никак не решив, мы потянулись сперва на Страстной бульвар (что теперь ещё зовут Страстным, бывший Нарышкинский, а Страстной-то большевики уничтожили нацело). Тут заметил я, как неумело переходил А. Т. проезжую часть улицы («ведь эти московские перекрестки такие опасные»). Да ведь он отвык передвигаться по улицам иначе, как в автомобиле… И седоку автомобильному нельзя, нельзя понять пешехода, даже и на симпозиуме. Стал А. Т. говорить, что симпозиум, конечно, будет пустой: нет романов, о которых хотелось бы спорить; и вообще романа сейчас нет; и «в наше время роман даже вряд ли возможен». (Уже начат был «Раковый корпус», уже год, как закончен был «Круг», но не знал я, в каком виде посметь предложить его Твардовскому. И вот так, со связанными руками и заткнутым ртом должен буду я сидеть на симпозиуме и слушать сорокоусто: умер роман! изжит роман! не может быть романа!..)
Грустно говорил А. Т. и о том, что на Западе хорошо его знают как прогрессивного издателя, но не знают как поэта. «Конечно, ведь у меня же – мерный стих, и есть содержание…» (Да нет, даже не в модерне дело, но как перевести русскость склада, крестьяность, земляность, неслышное благородство лучших стихов А. Т.?) «Правда, мои “Печники” обошли всю Европу», – утешался он.
Всё складывалось горько, и партийное следствие в Киеве, и упрямство моё туда же, – и вырвались они от меня и пошли пить лимонад. Я проводил их как потерянных: такой у века темп, а им времени некуда девать.
На том не кончилось: ещё от того симпозиума пришлось мне из дому убегать, на велосипеде, не оставив адреса. Как в школу меня раньше директор вызывал, так требовало теперь правление Союза, телеграммы и гонцы: ехать, и всё! Но не нашли.
(А Твардовский тот симпозиум использовал к делу: их повезли потом в Пицунду, на хрущёвскую дачу, и сослужил Лебедев ещё одну службу: подстроил чтение вслух «Тёркина на том свете». Иностранцы ушами хлопали, Хрущёв смеялся, – ну, значит и разрешено, протащили.)[13]
После «Тёркина на том свете», пролежавшего (и перележавшего) 9 лет в готовом виде, 9 лет вязавшего Твардовскому руки, – они теперь как бы освободились для риска. И осенью 63-го года я выбрал четыре главы из «Круга» и предложил их «Новому миру» для пробы, под видом «Отрывка».
Отказались. Потому что «отрывок»? Не только. Опять тюремная тема… (Она же «исчерпана»? и кажется – «перепахана»?)
Тем временем нужно было им печатать проспект – что пойдёт в будущем году. Я предложил: повесть «Раковый корпус», уже пишу. Так названье не подошло! – во-первых, символом пахнет; но даже и без символа – «само по себе страшно, не может пройти».
Со своей решительностью переименовывать всё, приносимое в «Новый мир», Твардовский сразу определил: «Больные и врачи». Печатаем в проспекте.
Манная каша, размазанная по тарелке! Больные и врачи!.. Я отказался. Верно найденное название книги, даже рассказа, – никак не случайно, оно есть – часть души и сути, оно сроднено, и сменить название – уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название «На Иртыше», если «Живой» Можаева (как глубоко! как важно!) выворачивается в «Из жизни Фёдора Кузькина», – то это неисправимое повреждение. Но А. Т. никогда этого не принимал, считал это мелочью, а редакционные льстецы и медоточивые приятели даже укрепили его в том, что он замечательно переименовывает, с первого прищура. Он давал названия понезаметней, поневыразительней, рассчитывая, что так протянет через цензуру легче, – и верно, протягивал.
Не столковались, и «Раковый корпус» не попал в обещания журнала на 1964. Зато ввязался журнал добывать для «Ивана Денисовича» ленинскую премию. За год до того все ковры были расстелены, сейчас это уже было сложно. (Ещё через полгода всем станет ясно, что то была – грубая политическая ошибка, оскорбление имени и самого института премий.)
А. Т. очень к сердцу принял эту борьбу, каждый лисий поворот Аджубея, выступавшего то так, то эдак. Правда, первый тур А. Т. не был на ногах, победа свершилась без него. Зато во втором он настойчиво взялся, рассчитывал внутрикомитетские тонкости (за кого подавать голос, чтоб иметь больше сторонников для себя). В секции литературы голоса разделились совсем не случайно, а даже пророчески: за «Ивана Денисовича» голосовали все националы и Твардовский, против – все остальные русские. Большинство оказалось против. Но по статуту учитывались ещё и результаты голосования в секции драматургии и кино, а там большинство оказалось «за». Итак, в список для тайного голосования «Иван Денисович» прошёл против голосов «русских» писателей! Успех этот очень обезпокоил врагов, и на пленарном заседании комитета премий первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня, – первой и самой ещё безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский, хотя и крикнул «неправда», был ошеломлён: а вдруг правда? Это показательно: уже более двух лет мы в редакции целовались при встречах и расставаниях, но настолько оставалась непереходима разность между нами, что не было у него толчка расспросить, а у меня повода рассказать – как же сталась моя посадка. (Да вообще, ни одного эпизода тюремно-лагерной жизни, из тех, что я направо и налево рассказывал первым встречным, ни даже из фронтовой, – не пришлось мне ему никогда рассказать. А он мне, хотя я наводил, не рассказал о ссылке семьи, что очень меня интересовало, а только – эпизоды литературно-чиновной, придворной жизни: как пятерым поэтам и пятерым композиторам Хрущёв поручил сочинять новый гимн; о случаях в барвихском санатории; о ходах редакторов «Правды», «Известий», «Октября» и ответных ходах самого А. Т. – обычно вяловатых, но всегда исполненных достоинства.)
Теперь он за одни сутки, по моему совету, получил из Военной коллегии Верховного Суда копию судебного заключения и моей реабилитации. (В век нагрянувшей свободы документы эти должны были, естественно, публиковаться сводными томами, – но они даже от самих реабилитированных были секретны, и путь к ним я узнал случайно, через встречу с Военной коллегией, – бывший зэк в Верховном Суде! знаменательная встреча, но сюда не помещается.) Это заключение на следующий день Твардовский сумел эффектно огласить на заседании комитета премий перед тайным голосованием. Прозвучало, что я – противник «культа личности» и лживой нашей литературы ещё с годов войны. Секретарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться. Однако уже запущена была машина. Утренняя «Правда» за два часа до голосования объявила: по высокой требовательности, которую до тех пор, оказывается, проявляли к ленинским премиям, повесть об одном лагерном дне, конечно, её недостойна. Перед самым тайным голосованием ещё отдельно обязали партгруппу внутри комитета голосовать против моей кандидатуры. (И всё равно, рассказывал Твардовский: голосов никому не собралось. Созвали комитет вторично, приехал Ильичёв и велел при себе переголосовывать – голосовать за «Тронку» Гончара. Уже неоднократный лауреат, и член комитета самого, Гончар тут же около урны сидел и безстыдно наблюдал за тайным голосованием.)
Уже тогда, в апреле 1964, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была «репетицией путча» против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели – и удалось. Это обнадёживало их, что и Сам-то не крепок.
Над статьёй «Правды» в своём новом кабинете (зданье бывших келий Страстного монастыря) утром, перед последним голосованием, Твардовский сидел совсем убитый, как над телеграммой о смерти отца. «Das ist alles», – встретил он меня почему-то по-немецки, и это кольнуло меня сходством с чеховским «Ich sterbe»: ни одного иностранного слова не слыхивал я от А. Т. ни до этого, ни после. ленинская премия для меня, о которой Твардовский бился, себя не жалея (и удивительно – не запил даже от поражения), – была престиж журнала, как бы орден, приколотый к его синеватой обложке[14]. Когда отказали, он рвался (впрочем, не впервь и не впоследне) демонстративно выйти – на этот раз из комитета по премиям. Но соредакторы и родные уговорили, что его задача – беречь и вести журнал. И конечно верно, не тот был повод.
Сам я просто не знал, чего и хотеть. В получении премии были свои плюсы – утверждение положения. Но минусов больше, и та марка ко мне не приклеивается, и: утверждение положения – а для чего? Ведь моих вещей это не помогло бы мне напечатать. «Утверждение положения» обязывало к верноподданности, к благодарности, – а значит, не вынимать из письменного стола неблагодарных вещей, какими одними он только и был наполнен.
Всю эту зиму я кончал облегчённый для редакции и для публики роман «В круге первом» («Круг»-87). Облегчённый-то облегчённый, но риск показать его был почти такой же, как два года назад «Ивана Денисовича»: перешагивалась черта, которую до сих пор не переступали. До какой степени у Твардовского перехватит дыхание? – не настолько ли, что он обернётся тоже в недруга?
Во всяком случае, все эти зимние месяцы, пока он боролся за премию, я не мешал его борьбе и не показывал ему обещанного «Круга». Весной пришла пора Твардовскому читать мой роман. Но как на время чтения оторвать его от главных противосоветчиков, и прежде всего – от Дементьева? Мне нужно было, чтоб над романом сформировалось собственное мнение А. Т. Я сказал:
– Александр Трифоныч! Роман готов. Но что значит для писателя отдать в редакцию роман, если всего за жизнь думаешь сделать их только два? Всё равно что сына женить. На такую свадьбу уж приезжайте ко мне в Рязань.
И он согласился, даже с удовольствием. Кажется, уникальный случай в его редакторской жизни.
В Рязани, как раз в пасхальную ночь (но А. Т. вряд ли памятовал её), мы встретили его как могли пышно – на собственном «москвиче». Однако он поёживался, влезая в этот маленький (для его фигуры взаправду маленький) автомобиль: по своему положению он не привык ездить ниже «волги». Он и приехал-то простым пассажиром местного поезда и билет взял сам в Круглой башне, не через депутатскую комнату, – может быть, со смоленских юношеских времён так не ездил.
За первым же ужином А. Т. тактично предварял меня, что у каждого писателя бывают неудачные вещи, надо это воспринимать спокойно. Со следующего утра он начал читать не очень захваченно, но от завтрака до обеда разошёлся, курить забывал, читал, почти подпрыгивая. Я заходил к нему как бы ненароком, сверяя его настроение с номером главы. Он вставал от стола: «Здорово! – и тут же подправлялся: – Я ничего не говорю!» (то есть не обещает такой окончательной оценки). Как я понимаю работу, ему нужно было быть трезвым до её конца, но гостеприимство требовало поставить к обеду и водку и коньяк. От этого он быстро потерял выдержку, глаза его стали бешеноватые, белые, и вырывалась из него потребность громко изговариваться. Он захотел пройти на почту, звонить в Москву (условлялась у него с женой покупка новой дачи); до почты было четыреста метров, а шли мы туда и обратно два часа: А. Т. поминутно останавливался, загораживая тротуар, и как я ни понуждал его идти или говорить тише, он громко выговаривался: что человек никому ничего не должен; что «начальство трогательно любит само себя»; о маршале Коневе (я видел его в редакции в штатском – туповатый, средний колхозный бригадир), который в виде похвалы сказал Твардовскому, что сделал бы его из подполковника запаса генерал-майором; и о таинственности московской комиссии по прописке, решающей, кому жить, кому не жить; и о тайных местах (острова в Северном море) тайной ссылки инвалидов войны (от первого Твардовского я это слышал, не сомневаюсь в достоверности; умонепостигаемо для всех, кроме советских: этих бывших героев и эти жертвы, принесшие нам победу, выбросить вон, чтоб своими обрубками не портили стройного вида советской жизни да не требовали слишком горласто прав своих); и о том, как Брежнев стал «жертвой культа» (пострадал от Сталина за то, что в Кишинёве общественный городской сад забирал себе под резиденцию); и о том, что несправедливо оплачиваются сборники стихов – массовые меньше, чем немассовые (мне пришлось замечать, что он вникал в расчёты и вычеты по своим изданиям, похвалив издание, добавлял: «да и деньги немалые», но это было не жадно, а с добродушной гордостью труженика, как крестьянин возвращается с базара); и о Булгакове («блестящий, лёгкий»); и о Леонове («его раздул, непомерно возвысил Горький»); о Маяковском («остроумие – плоское, не национален, хотя изощрялся в церковно-славянских вывертах; не заслуживает площади рядом с Пушкинской»).
В этот вечер я пытался ему объяснить, что один его заместитель ничтожен, а другой враждебен его начинаниям, лицо совсем из иного лагеря. А. Т. во всём не соглашался. «Дементьев сильно эволюционировал за десять лет». – «Да где ж эволюционировал, если с пеной у рта бился против “Ивана Денисовича”?» – «Он ушиблен очень…» Но вообще-то высказал А. Т., что мечтает иметь «первое лицо в редакции» – такого знающего и решительного заместителя, который безошибочно управлялся б и сам. (Это будущее «первое лицо» уже состояло в редакции и уже возвышалось – Лакшин.)
Второй день чтения проходил насквозь в коньячном сопровождении, а когда мы пытались сдерживать, А. Т. настаивал на «стопце». Кончал день он опять с бело-возбуждёнными глазами.
– Нет, не могли ж вы испортить роман во второй половине! – высказывал он с надеждой и страхом.
После главы «Критерий Спиридона»:
– Нет, теперь, в конце, вы уже никак не сможете его испортить!
Ещё после какой-то:
– Вы – ужасный человек. Если бы я пришёл к власти – я бы вас посадил.
– Так Алексан Трифоныч, это меня ждёт и при других вариантах.
– Но если я сам не сяду – я буду носить вам передачи. Вы будете жить лучше, чем Цезарь Маркович. Даже бутылочку коньяку…
– Там не принимают.
– А я – одну бутылочку Волковому, одну – вам…
Шутил он шутил, но тюремный воздух всё больше входил и заражал его лёгкие.
После «Освобождённого секретаря»:
– Завтра будет у нас разговор совсем в другой плоскости, чем вы предполагаете: мы будем говорить больше не о вас, а обо мне.
(О его ограниченных издательских возможностях?.. о долге совести?.. о том, как он ощущает собственные изменения?.. Такой разговор не состоялся, и я не знаю, что имел в виду Твардовский.)
Это настроение, (что, может быть, не избежать и самому садиться, верней: тоскливое шевеленье души, как у Толстого в старости: а жаль, что я не посидел, мне-то бы – надо…) в тот приезд несколько раз проявилось у него. С ним и в поезде была книга Якубовича-Мельшина «В мире отверженных», уже она готовила его. Он с большим вниманием относился к подробностям зарешёточной жизни, с любопытством спрашивал: «А зачем там лобки бреют?», «А почему стеклянную посуду не пропускают?» По поводу еврейской линии в романе сказал: «Идти на костёр – так идти, но было бы из-за чего». Несколько раз, уже теряя в парах коньяка и тон и ощущение шутки, он возвращался к обещанию носить мне передачи в тюрьму, но чтоб и я ему носил, если не сяду. А к вечеру второго дня, когда по ходу чтения посадка Иннокентия становилась уже неминуемой («теряешь чувство защищённости»), да ещё после трёх стаканов старки, он очень опьянел и требовал, чтобы я «играл» с ним «в лейтенанта МГБ», именно: кричал бы на него и обвинял, а он стоял бы по струнке.
Досадным образом чтение романа переходило в начало обычного запоя А. Т., – и это я же подтолкнул, получается. Однако чувство реальной опасности росло в нём не спьяну, а от романа.
На третий день ему оставалось уже немного глав, но он начал утро с требования: «Ваш роман без водки читать нельзя!» Кончая главу «Нет, не тебя!», он дважды вытирал слёзы: «Жалко Симочку… Шла как на причастие… А я б её утешил…» Вообще в разных местах романа его восприятие было не редакторским, а самым простодушным читательским. Смеялся над Прянчиковым или размышлял за Абакумова: «А правда, что с таким Бобыниным поделаешь?» По поводу подмосковных дач и холодильников у советских писателей: «Но ведь там же и честные были писатели. В конце концов, у меня тоже была дача».
Он кончил читать, и мы пошли с ним смотреть рязанский кремль и разговаривать о романе.
– И имея такой роман, вы ещё могли ездить собирать материалы для следующего?
Я: – Обязательно должен быть перехлёст. На рубеже реки нельзя останавливаться, надо захватывать предмостный плацдарм.
Он: – Верно. А то кончишь, отдохнёшь, сядешь за следующий, а – хрена! не идёт!
Твардовский хвалил роман с разных сторон и в усиленных выражениях. Там были суждения художника, очень лестные мне. «Энергия изложения от Достоевского… Крепкая композиция, настоящий роман… Великий роман… Нет лишних страниц и даже строк… Хороша ирония в автопортрете, при самолюбовании себя написать нельзя… Вы опираетесь только на самых главных (то есть классиков), да и то за них не цепляетесь, а своим путём… Такой роман – целый мир, 40–70 человек, целиком уходишь в их жизнь, и что за люди!..» Хвалил краткие, без размазанности, описания природы и погоды. Но были и суждения официального редактора тоже: «Внутренний оптимизм… Отстаивает нравственные устои», и главное: «Написан с партийных позиций (!)… ведь в нём не осуждается Октябрьская революция… А в положении арестанта к этому можно было прийти».
Это «с партийных позиций» (мой-то роман!..) – примечательно очень. Это не была циничная формулировка редактора, готовящегося «пробивать» роман. Это совмещение моего романа и «партийных позиций» было искренним, внутренним, единственно-возможным путём, без чего он, поэт, но и коммунист, не мог бы поставить себе цель – напечатать роман. А он такую цель поставил – и объявил мне об этом.
Правда, он попросил некоторых изменений, но очень небольших, главным образом со Сталиным: убрать главу «Этюд о великой жизни» (где я излагал и старался психологически и внешними фактами доказать версию, что Сталин сотрудничал с царской охранкой); и не делать такими уверенно-точными детали быта монарха, в которых я уверен быть не мог. (А я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил – теперь каждый имеет право писать о нём всё по своему представлению. В этом право и в этом задача художника: дать свою картину, заразить читателей.)
Вообще же о сталинских главах в романе он хорошо сказал: их можно было бы и изъять, но отсутствие их в романе могло бы быть воспринято как «испугался», «побоялся не справиться». В них можно допустить даже некоторую излишность, то есть сверх того, что необходимо для конструкции романа.
А Спиридон показался ему слишком коварен, хитёр, нарисован «несколько с горожанскими представлениями». Сперва я удивился: неужели я его не добротно описал? Но понял: о мужике так много плохого сказано с 20-х годов, что Твардовскому больно уже тогда, когда говорится не одно сплошь хорошее. Это уже – отзывно, идеализация нехотя.
Утром четвёртого дня мы неумело пытались пресечь заболевание А. Т. тем, что не дать ему опохмелиться, – однако он досуха лишился возможности завтракать, не мог взять куска в рот. С детской обиженностью и просительностью улыбался: «Конечно, черемисы не опохмеляются. Но ведь и что за жизнь у них? Какое низкое развитие!» Кое-как согласился позавтракать с пивом. На вокзале же с поспешностью рванул по лестнице в ресторан, выпил пол-литра, почти не заедая, и уже в блаженном состоянии ожидал поезда. Только повторял часто: «Не думайте обо мне плохо».
Все эти подробности по личной бережности, может быть, не следовало бы освещать. Но тогда не будет и представления, какими непостоянными, периодически слабеющими руками вёлся «Новый мир» – и с каким вбирающим, огромным сердцем.
Итак, мой замысел – завлечь Твардовского моим романом в отсутствие Дементьева – как будто удался. Твардовский не только хвалил роман – он готовился принять за него и страдания. Он даже торопил меня при расставаньи: скорей переделывать сталинские главы и привозить ему окончательный вариант.
А это уже и выходило за пределы моих ожиданий! Я не мог поверить, чтобы «Круг первый» способен был проскочить в печать в 1964 году. Но тогда зачем же я давал его Твардовскому?.. чего хотел? Пожалуй, опять как с «Иваном Денисовичем»: переложить с себя на него ответственность за эту книгу, чтобы он знал: вот есть такая. А самому не упрекаться, что ничего не сделал для продвижения? Теперь же я как будто ввязывался в ложную безплодную возню и только отвлекался от настоящей работы.
Через две недели привёз я Твардовскому роман с переделками. Как и все мои пещерные машинописи, эта была напечатана обоесторонне, без интервалов и с малыми полями. Ещё предстояло её всю перепечатывать, прежде чем что-то делать.
А. Т. встретил меня у себя дома такой чистенький, по-детскому славный, в бархатной курточке, что невозможно было и предположить, будто он когда-либо выпивает. Он был один: жена поехала ближе разглядывать новокупленную на этих днях дачу в Пахре (свою прошлую он отдал замужней старшей дочери).
А. Т. не только очнулся от запоя, но и протрезвился от восторгов по поводу романа, был настроен гораздо осмотрительнее: уже сокращал список лиц, кому надо дать прочесть. «Ал Григ» (Дементьев) был, конечно, первый читатель.
– Он, разумеется, будет против, – не упускал я ещё раз предварить. – Но ведь ему шестьдесят лет, он переживал и гонения, – до каких пор можно жаться?
– Он эволюционирует на моих глазах! – повторял А. Т.
Правда, в редакции быстро входил в доверие Твардовского Лакшин, его влияние в те годы было противоположно дементьевскому, они частенько схватывались. В одну из схваток Лакшин сказал:
– Мы с Александром Григорьевичем оба – историки литературы и должны понимать, что подлинная история литературы сейчас делается именно в «Новом мире», а не в Институте Мировой Литературы.
Это хорошо было сказано (и в иные месяцы так и было). Лакшин поддержал «Круг».
Пока роман перепечатывался, Твардовский забирал в сейф все экземпляры и зорко следил, чтобы читали только члены редакционной коллегии (даже редакторам отдела прозы, своим извечным неоценимым работягам, он не дал прочесть): пуще всего он боялся теперь, чтобы роман не распространился по рукам, как было с «Иваном Денисовичем».
Так сошлось, что три дня Пасхи он читал у меня роман, а обсуждать его редакционная коллегия собралась на Вознесение, 11 июня. Заседание шло почти четыре часа, сам А. Т. в начале объявил его «приведением к присяге». Он сказал, что все эти 40 дней роман был «предметом душевного обихода» для него, что он непрерывно его обмысливает, «считаясь не только с точкой зрения вечности, но и – как он может быть прочитан теми, от кого зависит решение». Уязвимыми объявил Твардовский только детали сталинского быта; ещё он хотел бы, чтоб я «смягчил резкие антисталинские характеристики»; опустил бы «Суд над князем Игорем» «за литературность». Вступление своё он закончил даже с торжественностью: «Для нормативной критики этот роман не только должен быть спущен под откос, но должно быть возбуждено уголовное преследование против автора. Кто же мы? Уклонимся ли от ответственности? Кто хочет сформулировать? Кто хочет разок бултыхнуться в воду?»
Так оправдало себя чтение романа Твардовским, «оторванное» от заместителей! «Самое первое обсуждение», как сказал А. Т., и было здесь, при мне, и таким торжественным приглашением начинал его главный редактор. Ещё входя на обсуждение, я постарался в таком порядке поздороваться, чтобы с Дементьевым – последним. Я ожидал от него сегодня атаки наопрокид. Он же с самого начала вместо удобного развала в кресле примостился зачем-то на подоконник раскрытого окна. За окном грохотала улица. Твардовский не преминул заметить:
– Ты что, потом скажешь: а мне не слышно было, о чём толковали?
Дементьев продолжал сидеть там же, с неудобно свешенными ногами:
– Жарко.
Твардовский не унимался:
– Так ты рассчитываешь воспаление лёгких схватить? И потом нужное время в постельке пролежать?
Пришлось Дементьеву слезть и сесть со всеми. Он так был подавлен, что даже не отшучивался. Да ведь давно и верно он предчувствовал, куда их заведёт эта игра с тихим рязанским автором.
А прения начать пришлось Кондратовичу. Лицо Кондратовича как бы приспособлено к убеждённому выражению уже имеющегося, уже названного мнения. Он тогда умеет и выступать с прямодышащей взволнованностью, заливчато, кажется и умереть за это мнение готовый, так верен службе. Но не представляю себе его лица, озаряемого самостоятельно зреющим убеждением. Нестерпимо было бы Кондратовичу начать эти прения, если б долголетнее общение с цензурой не уравняло его обоняние с обонянием цензуры. Как внутри военного бинокля уже содержится угломерная шкала и накладывается на всё видимое, так и глаза Кондратовича постоянно видели отсчёты от красной линии опасности.
Порадовался Кондратович, что «не умирал жанр романа» и вот движется. И тут же легонечко проурчал о «подрыве устоев», «чем больше художественная сила изложения, тем больше разоблачения перерастают в символ». («Да нет, – успокоил его А. Т., – об идее коммунизма здесь речь не идёт».) Но ведь освобождённый секретарь – это не просто частный парторг Степанов, это – символ! Предлагал Кондратович «вынимать шпильки раздражённости» из вещи там и сям, много таких мест. Нашёл он «лишнее» даже в главах о Большой Лубянке. Озаботило его, что ступени лубянские стёрты за тридцать лет, «значит, падает тень и на Дзержинского?» – Заключение же дал удобное в оба конца, как по «Денисовичу» когда-то: «Напечатать невозможно. Но и не напечатать морально невозможно: как допустить, чтоб эта вещь лежала, а читатели её не читали бы?»
Задал им задачу Главный! Мягкое окончание чула кололось и верно говорило им, что – нельзя, а Главный понукал: можно! по этому следу!
Затем выступал медленный оглядчивый Закс. Он был так напуган, что даже обычная покорность Твардовскому сползала с него. Он начал с того, что читать надо второй раз (то есть выиграть время). Что он рад: все понимают (Твардовский-то не понимал! вот было горе, вот куда он тянул и намекал) исключительную трудность этого случая. Что, собственно, он ничего не предлагает, а ощущает. Ощущает же он вот что: не нужны и не интересны все главы за пределами тюрьмы, не нужно этого распространения на общество. И неправильно, будто солдату на войне труднее, чем корреспонденту: корреспондентов тоже сколько-то убито (Закс и сам был в такой газете). И ещё он озабочен вопросом о секретной телефонии. (Не отказал ему цензорский нюх! А Твардовский простодушно возразил: «Ну, это ж совершенно фантастическая вещь! Но придумана очень удачно!») И не нравится ему сцена с Агнией и всё это христианство. И где герои философствуют – тоже плохо. И необычно полон набор зацепок, как будто автор специально старался ничего не пропустить. И ещё ему ночь Ройтмана не понравилась очень. (Это он и отдельно потом разъяснил мне.)
Тут пришлось мне его прервать:
– Такое уж моё свойство, я не могу обминуть ни одного важного вопроса. Например, еврейский вопрос, – зачем бы он мне нужен? Спокойнее миновать. А я вот не могу.
Привыкли они к литературе, которая боится хоть один вопрос затронуть, – и хомутом трёт им шею литература, которая боится хоть один вопрос упустить.
А предложение своё сформулировал Закс очень дипломатично:
– Раньше времени сунемся – загубим вещь.
Он – за вещь, за! – и поэтому надо придушить её ещё здесь, в редакции!
Но знал А. Т. и такие редакционные повороты!
– Страх свой надо удерживать! – назидательно сказал он Заксу.
Лакшин говорил очень доброжелательно, но сейчас я просматриваю свои записи обсуждения (с большой скоростью пальцев я вёл их в ходе заседания, тем только и занят был), и при распухлости нынешних моих очерков не вижу, что бы стоило оттуда выписать. Лакшин принял линию Твардовского – и обо всём романе и о сталинских главах, что без них нельзя. Однако достаточно было ему в этом именно духе сказать, что публицистические заострения как бы вырываются из общего пласта романа, – Твардовский тотчас же перебил:
– Но осторожней! Это – черты его стиля!
Вот таким он умел быть редактором!
Марьямов выступил в нескольких благожелательных словах – присоединился, похвалил, возразил, что не видит подрывания устоев.
– А что думает комиссар? – спросил Твардовский настороженно. Столько раз по стольким рукописям он соглашался с этим комиссаром, прежде чем создавал своё мнение, да вместе с ним он его и создавал! – а сегодня уже предупреждал, что трудно будет Дементьеву спорить.
И Дементьев не поднялся в ту рукопашную атаку, которой я ждал. Из удручённости своей он начал даже как бы растерянно:
– О конкретных деталях говорить не буду… Трудно собрать мысли… (Уж ему-то, десятижды опытному!..) С советами такому большому художнику рискуешь попасть в неловкое положение… Публицистика иногда – на грани памфлета, фельетона…
Твардовский: – А у Толстого разве так не бывает?
Дементьев: – …но написано гигантски, конечно… Сталинские главы сжать до одной… Если мы на этом свете существуем, не отказались мыслить и переживать, – роман повергает в сомнение и растерянность… Горькая тяжёлая сокрушительная правда… Имея партийный билет в кармане…
Твардовский: – И не только в кармане!
Дементьев: – …начинаешь с ним (билетом) соприкасаться… Пашет эта правда так глубоко, что объективно или субъективно выходит за пределы культа личности… Искусство и литература – великая ценность, но не самая большая. (Разрядка моя – А. С. Для редакции литературного журнала разве диктатура пролетариата не дороже?) …Начинает выглядеть непонятно: ради чего делалась революция? (Управился! – встал в рост! И пошёл в атаку!..) По философской части нет ответов автора: что же делать? Только – быть порядочным? (Он звал меня высунуться по грудь!..)
Твардовский: – Это и Камю говорит. А здесь роман – русский.
Дементьев: – Достоевский и Толстой отвечают на ставимые ими вопросы, а Солженицын – не отвечает…
Твардовский: – Ну да, – как же будет с поставкой мяса и молока?..
Дементьев: – Я пока думаю… Ещё ничего не понимаю…
И этот не понимает!.. Залёг опять. Задал им Главный!.. Тут Марьямов и Закс о чём-то зашептались, А.Т. буркнул: «Что там шепчетесь? Мол, лучше бы нам в обход идти?» Дементьев настолько был взволнован, что принял на свой счёт: «Я не шепчусь…»
И ещё изумительно повернул Дементьев:
– Нельзя ли автору отнестись к людям и жизни подобрей?
Этот упрёк мне будут выпирать потом не раз: вы не добры, раз не добры к Русановым, к Макарыгиным, к Волковым, к ошибкам нашего прошлого, к порокам нашей Системы. (Ведь они ж к нам были добры!..) «Да он народа не любит!» – возмущались на закрытых семинарах агитаторов, когда их напустили на меня в 1966.
Но ещё прежде публично секли и меня, и Ивана Денисовича, и особенно несчастную мою Матрёну за то, что мы «слишком добренькие», «неразборчиво добренькие», что нельзя быть добрым ко всем окружающим (вот они к нам и не были!), что доброта ко злу только увеличивает в мире зло. («Октябрь» по дурости долго долбил пустое место «непротивленца», думая, что бьёт – меня.)
А всё вместе? А вместе это называется – диалектика…
После членов редакции слово получил я и удивился, что некоторым членам редакции кажется, будто мой роман относится не к культу личности, явлению очень разветвлённому и ещё не искоренённому, а к нашему обществу, здоровеющему на глазах, или даже к самым идеям коммунизма. Однако случай, конечно, трудный. Выбор стоит перед редакцией, не передо мной: я роман уже написал, и выбирать мне нечего. А редакция два-три раза решит не в ту сторону и, простите за безтактность, обратится в какое-нибудь «Знамя» или «Москву».
Так я наглел. Но щедролюбиво настроенный ко мне Твардовский и здесь не обиделся и не дал никому обидеться, заявив, что я им высказал комплимент: они выше тех журналов.
Всем ходом обсуждения он выдавил из редакции согласие на мой роман и теперь с большим удовольствием заключил:
– Чрезвычайно приятно, что впервые (?) никто не остался в стороне: а я, мол, умненький, сижу и помалкиваю. (Именно так все и старались!..) Сейчас за шолоховскими эполетами забыли, что его герой – не наш герой, а партию у него представляют только неприятные люди. Вопрос «Тихого Дона»: чего стоит человеку революция? Вопрос обсуждаемого романа: чего стоит человеку социализм и под силу ли цена? Содержание романа не противостоит социализму, а только нет той ясности, которой нам бы хотелось. «Война» здесь дана исчерпывающе, а вот «мир» – лучшее из того, что было в те годы, – не показан. Где же историческое творчество масс?.. Скромное моё пожелание как читателя: о, если бы хоть краем зари выступила и такая жизнь! Засветить край неба лишь в той степени, в какой это допускает художник…
Увы, мне уже там нечего было засвечивать. Я считал, что я и так представил им горизонт осветлённый, снял острый «атомный сюжет», какой в самом деле случился, и заменил на «лекарственный» из расхожего советского фильма тех лет.
А Твардовский в эту одну из своих вершинных редакторских минут тоже ни на чём не настаивал:
– Впрочем, будь Толстой на платформе РСДРП – разве мы от него получили бы больше?
В тех же днях настоянием Лакшина был заключён со мною и договор на роман (опасливый Закс почернел, съёжился и сумел как-то отпереться: свою постоянную обязанность поставить подпись пересунуть на Твардовского[15]).
И в нормальной стране – чего теперь ещё надо было ждать? Запускать роман в набор, и всё. А у нас решение редакции было – ноль, ничто. Теперь-то и надо было голову ломать: как быть?
Но кроме обычной подачи в цензуру на зарез – что мог придумать А. Т.? Опять показать тому же Лебедеву? – «Я думаю, – говорил А. Т., – если Лебедеву что в романе и пригрезится, то не пойдёт же он… Это ему самому невыгодно…»
Лебедев, разумеется, не пошёл, – но не пошёл и роман. Я наивно представлял, что для идеологической схватки с китайцами им всякое оружие будет хорошо, и очень пригодятся мои сталинские главы, тем более что поношение Сталина возьмёт на себя не ЦК, а какой-то писатель. Но был август 1964, и, наверно, ощущал уже Лебедев, как топка становится почва под ногами его шефа. Уж не раз он, наверно, раскаивался, что запятнал свою репутацию мною.
А. Т. дал ему на пробу только четверть романа, сказав: «Первая часть. Над остальными работает».
Тут сложилось так, что у А. Т. произошло столкновение с Лебедевым из-за Эренбурга. Поликарпов («отдел культуры» ЦК) и Лебедев хотели, чтоб отклонение последней части эренбурговских мемуаров взял на себя Твардовский, то есть чтоб они не были «запрещены цензурой», но «отклонены редакцией». А. Т. ответил им с достоинством: «Не я его сделал лауреатом, и депутатом, и борцом за мир. Я вообще не его поклонник. Но раз уж он и лауреат, и депутат, и всемирно известен, и за 70 лет, – значит, надо печатать, что б он ни написал».
Из-за глав моего романа раздражение ещё усилилось. Лебедев объявил их клеветой на советский строй. А. Т. попросил объяснений. Лебедев ответил единственным примером: «Разве наши министерства работали ночами? Да ещё так – в шашки играют…»[16] И посоветовал: «Спрячьте роман подальше, чтобы никто не видел». А. Т. ответил твёрдо: «Владимир Семёнович, я вас не узнаю. Ещё недавно как мы с вами относились к подобным рецензиям и рецензентам?» Лебедев: «Ах, если бы вы знали, кто недоволен теперь и жалеет, что «Иван Денисович» был напечатан!
(Из других источников, достоверно: Н. П. Хрущёва жаловалась одному генералу-пенсионеру: «Ах, если бы вы знали, как нам досталось за Солженицына! Нет уж, больше вмешиваться не будем!»)
Да и то сказать, не проходит чудо дважды по одной тропочке. Попрекать ли Лебедева, что он отшатнулся? Не удивиться ли верней, как он первый-то раз смелость нашёл?[17]
На том и кончилось пока «движение» «Круга». Правда, ещё в проспекте на 1965 год Твардовский посмел объявить, что я работаю «над большим романом для журнала».
Я хотел молчать и писать, я хотел воздержаться от всякого елозения моих вещей, – и сам же не выдерживал. Потому что трудно сообразить истинный смысл обстановки и свою верную линию: а вдруг я что-то упускаю? Так по нескольким театрам протаскал я «Свечу на ветру», но не имела та пьеса успеха у режиссёров. А весной 1964, вопреки своей тактике осторожности, просто толчком, я дал в несколько рук свои «Крохотки» на условии, что их можно не прятать, а «давать хорошим людям».
Эти «Крохотки», напротив, имели большой успех. Они очень скоро распространились в сотнях экземпляров, попали в провинцию. Неожиданнее всего было для меня то, что откровенная защита веры (давно ли в России такая позорная, что ни одна писательская репутация её бы не выдержала?) была душевно принята интеллигенцией. Самиздат прекрасно поработал над распространением «Крохоток» и прорисовал недурной выход для писателя, которого власти решили запретить. Распространение «Крохоток» было такое бурное, что уже через полгода – осенью 1964, они были напечатаны в «Гранях», о чём «Новый мир» и я узнали из письма одной русской эмигрантки.
Твардовскому это нелегальное движение даже самых моих мелких (и уже отвергнутых им!) вещей было болезненно неприятно: тут и ревность была, что моё что-то идёт помимо его редакторского одобрения; и опасения, что это может «испортить» роману и вообще моей легальной литературе (а в чём ещё можно было испортить?..). И вот как он менялся или какие были грани в нём самом: давно ли он превзошёл себя в усилиях выдвинуть безнадёжный мой роман, а вот уже брезгливо спрашивал по поводу одной насильно прочтённой моей крохотки (его принудили в пахринской компании, он почти с отвращением читал, – ещё и распространялось не через него!):
– Творец – и с большой буквы? Что это?..
А уж известие, что «Крохотки» напечатаны за границей, было для него громовым ударом. Со страхом прочли они в своём цензурном справочнике, какой это ужасный антисоветский журнал – «Грани». (Там же не было написано, какие в нём бывают статьи о Достоевском, о Лосском…) Впрочем, полгода понадобилось «Крохоткам», чтобы достичь Европы, – для того же, чтоб о случившемся доложили вверх по медлительным нашим инстанциям, и инстанции бы прочухались, – ещё 8 месяцев…
А пока что произошла «малая октябрьская» – сбросили Никиту. Это были тревожные дни. Такой формы «просто переворота» я не ожидал, но к возможной смерти Хрущёва приуготовлялся. Выдвинутый одним этим человеком – не на нём ли одном я и держался? С его падением не должен ли был бы загреметь и я? Естественные опасения для вечно гнаного лагерника, – ведь я и вообразить себе не мог всей истинной силы своей позиции. Беззвучный и бездеятельный до снятия Хрущёва, я намеревался теперь стать ещё беззвучней и ещё бездеятельней. Первым моим рывком была срочная поездка к Твардовскому, на новую дачу. Я был настроен тревожно, он – бодро. Решение пленума ЦК было для него обязательно не только административно, но и морально. Раз пленум ЦК почёл за благо снять Хрущёва – значит, действительно терпеть его эксперименты дальше было нельзя. Два года назад А. Т. весь заполнен был восхищением, что во главе нас стоит «такой человек». Теперь он находил весьма обнадёживающие стороны в новом руководстве (с ним «хорошо говорили наверху»). Да и то признать, последние месяцы хрущёвского правления жилось Твардовскому невыносимо. Минутами он просто не видел, как можно существовать журналу. «Москве» можно печатать и Бунина (кромсая), и Мандельштама, и Вертинского, «Новому миру» – никого, ничего, и даже булгаковский «Театральный роман» два года удерживали – «чтобы не оскорбить МХАТа». – «Нужен верноподданный рассказ от вас», – грустно говорил он, вовсе и не прося.
Я приехал с довольно паническим проектом: подменить роман романом. То есть «Круг», которого ещё пока никто не знает, кроме Лебедева, утерявшего власть, я заберу из сейфа журнала, а вместо этого вскоре дам «Раковый корпус», и это будет считаться «тот самый роман», только переименованный автором. Я опасался, что вот-вот придут проверить сейф «Нового мира», изымут мой роман – и сверзимся мы с Твардовским далеко в преисподнюю. Теперь уж я считал оплошным неразумием, что вытащил роман из подполья и дал читать в редакцию. Теперь я метался – как понезаметнее прильнуть к земле и снова слиться с серым цветом её. Как бы мне по-прежнему тихо писать, расставшись со всякими издательствами?
Но – плохо ещё я понимал Твардовского, предлагая ему такую авантюрно-лагерную затею. Он слишком уважал и свой журнал и свой пост, чтобы действовать методом «заначки» и подмены. Да и: что же прятать, если в романе «нет ничего против идеи коммунизма», как мы согласились на заседании редакции?.. Не мог же я теперь пятиться: вы не доглядели! это – опасней гораздо!
А. Т. боялся другого, он ещё с лета угрожающе выпытывал, не ходит ли роман по рукам? «Есть слухи – его читают», – на всякий случай припугивал он. Он счёл бы это с моей стороны чёрным предательством. Роману закрыли все пути, может быть многие годы он не получит никакого движения, – но я, автор, не смел никому давать его читать. В этом понимал А. Т. смысл нашего союза с редакцией.
Впрочем, в ожидании расправы и мне было не до распространения.
На сковыре Никиты я потерял один полный комплект всего своего написанного: это было второе (из двух) полное хранение, вдали от Москвы. Хранитель (Н. И. Зубов) имел от меня разрешение в случае опасности всё сжечь. Падение Хруща ему, естественно, показалось (в глуши не оценишь) такой опасностью: переворот, начнутся повальные обыски и аресты. И он сжёг. Впрочем, всего было у меня по три-четыре копии, только «Пир победителей» – в двух, и теперь остался лишь один в Москве.
Хрущёвское же падение подогнало меня спасать мои вещи: ведь все они были здесь, все могли быть задушены. В том же октябре с замиранием сердца (и удачно) я отправил «Круг первый» на Запад. Стало намного легче. Теперь хоть расстреливайте!
Однако в свержении Хрущёва было для меня и малое облегчение, – малое, почти призрачное, которое скажется не сейчас, позже гораздо, но оно было: уход Хрущёва освобождал меня от долга чести. Взнесенный Хрущёвым, я при нём не имел бы настоящей свободы действий, я должен был вести себя благодарно по отношению к нему и Лебедеву, хоть это и смешно звучит для бывшего зэка, – с простой человеческой благодарностью, которую не может отменить никакая политическая правота. Освобождённый теперь от покровительства (да было ли оно?), я освобождался и от благодарности.
Я верил, что лучшие времена будут и даже суждено мне до них дожить, что ещё наступит время полной публичности. А пока я избирал себе путь многолетнего молчания и скрытого труда. По возможности не делать ни одного общественного шага, дать себя забыть (о, если бы забыли!..). Никаких попыток печатания. А самому – писать, писать. Разве это плохо?.. Мне казалось – мудрая линия. А это было – самоуничтожение.
Полгода потом я и в «Новом мире» не был, – нечего делать. Всю зиму с 64-го на 65-й работа шла хорошо, полным ходом я писал «Архипелаг», материала от зэков теперь избывало. Торопя судьбу, нагоняя упущенные полстолетия, я бросился в Тамбовскую область собирать остатки сведений о крестьянских повстанцах, которых уже сами потомки и родственники заученно звали бандитами.
Гонений мне как будто не добавилось. Как заткнули мне глотку при Хрущёве, так уж не дотыкали плотней.
И я опять распустился, жил как неугрожаемый: затевал переезд в Обнинск, близ него купил садовый участок на реке Истье у села Рождества. Разрывался писать и «Архипелаг» и начинать «Р-17».
Впрочем, новое руководство отличалось вообще большой осмотрительностью и очень медленно что-нибудь решало или изменяло. Только в апреле 1965 у «агитпропа», или как он там называется, появился начальник – Демичев. Но тут Твардовский был в долгом упадке, в больнице и санатории (чисто русский способ! из самого безпросветного тупика, напряжения, обиды издательской работы он мог на две, на три недели, а в этот раз и на два месяца выйти по немыслимой алкогольной оси координат в мир, не существующий для его сотрудников-служащих, а для него вполне реальный, и оттуда вернуться с телом больным, но с отдохнувшей душой). Лишь в июле Твардовский явился к Демичеву на первый приём. Приём прошёл доброжелательно, и высказал Демичев, что хотел бы видеть и этого Солженицына. Где меня искать, Твардовский не знал, и не обещал, но в этот день меня с неудержимостью вдруг потянуло в «Новый мир», – толкуй, что нет передачи мыслей и воль. Оттуда А. Т. созвонился тотчас, и назавтра, 17 июля, мне был назначен приём.
Почти вся редакция сидела в кабинете Твардовского. Давно я их всех не видел, и показалось мне чуждо и скучно с ними. В голове-то был – «Архипелаг» да Тамбов 1921 года, а они хором требовали от меня «проходимого рассказика», будто бы публикация «чего-нибудь» после моего двухлетнего перерыва (и в знак лояльности к новому Руководству) сейчас очень важна.
Для них и для лояльного «Нового мира» – конечно да. А для меня «проходимый рассказик» был бы порчей имени, раковиной, дуплом. Сила моего положения была в чистоте имени от сделок – и надо было беречь его, хоть десять лет ещё молчать.
А ещё все они (вслед за Твардовским, правда; это очень наглядно было у них, как они единодушно поддерживали мнение шефа по любым пустякам) настаивали, чтобы для завтрашнего визита я сбрил недавно отпущенную бороду. Независимый и безпартийный русский писатель, идя представляться начальнику партийного агитпропа (с какой вообще стати? зачем?), я должен был непременно принять тот безликий вид, к которому привыкли в партаппарате. И так серьёзно меня в этом убеждали, будто серьёзней и дела в редакции не было. Я трижды, четырежды уклонялся (не прямо, конечно, о партаппарате), – тогда стали требовать, чтобы я шёл не в легкомысленной апашке, да ещё навыпуск, а в чёрном костюме при галстуке, – это в июльскую жару! (Конечно я так не пошёл.)
Пытался я поговорить с А. Т. вдвоём, но получилась пустота, ничего. Он возбуждён и даже окрылён был тем, что с ним ласков Демичев, и очень много возлагал на мою завтрашнюю встречу: что от неё укрепится и моё положение и новомирское.
А я шёл на встречу с такой задачей: как можно дальше продвинуть ничейное сосуществование. Я не опасен вам нисколько – и оставьте меня в покое. Я очень медленно работаю, и у меня почти ничего не написано, кроме того, что напечатано и в редакции. И, в конце концов, я – математик, и готов вернуться к этой работе, раз литература не кормит меня.
Это был – исконный привычный стиль, лагерная «раскидка чернухи»; и прошло великолепно. Сперва очень настороженный и недоверчивый, Демичев в ходе двухчасовой беседы потеплел ко мне и во всё поверил. В его тихом голосе совсем отсутствовало живое чувство, но к концу даже проявилось – облегчением. Он был крайне невзрачен, и речь его была стёртая.
К этому времени уже начала проявляться та «клевета с трибуны», которой в открытом обществе никак не применить, потому что обвиняемый может всегда ответить, а в нашем закрытом – форма безпромашная и убойная: печать хранит молчание (это – для Запада, чтобы к травле не привлекалось внимание), а на закрытых собраниях и инструктажах ораторы по единой команде произносят многозначительно и уверенно любую ложь о неугодном человеке. Он же не только доступа не имеет на те собрания и инструктажи – для ответа, но долгое время не знает даже, где и что о нём говорили, лишь застаёт себя охваченным стеною глухой клеветы.
Ещё были только начатки этой клеветы, ещё и форма не прорисовалась, но уже объявили, что я изменил родине, был в плену, был полицаем. Подавать в суд? Но клеветников слишком много, и они занимают официальные посты.
Демичев смотрел строго-сочувственно, сочувственно-осуждающим глазом (второй – не совсем в порядке).
Сам направляя разговор, я затеял отвечать на газетную критику «Матрёниного двора». Что за глупый журналистский упрёк: почему я не поехал за 20 километров показать передовой колхоз?[18] – ведь я не журналист, а учитель, и работаю там, куда меня назначили. И потом, чем мрачна моя колхозная картина, если «Известия», разнося меня, сами подтвердили, что не одна Матрёнина деревня, но и весь куст колхозов, и не в 1953, но через 10 лет, ещё не собирает столько хлеба, сколько сам же сеет в землю?! Хорошенькое сельское хозяйство – устройство по сгноению зерна!.. А тип женщины безкорыстной, безплатно работающей хоть на колхоз, хоть на соседей? – разве не хотим мы видеть безкорыстными всех?
Он всё молчал, и я задал вопрос, который не полагается задавать снизу вверх:
– Вы – согласны со мной? Или хотите возразить?
Призыв был слишком неожиданным, мнение ещё не избрано (да и не могло быть избрано единолично им!), аргументы мои никак не подходили под установленную у них систему фраз, и он закинул вопрос далеко в сторону:
– Всегда ли вы понимаете, что пишете и для чего?
Тихо!.. Я-то, конечно, всегда понимаю, для этого я достаточно испорчен русской литературной традицией. Но объявлять об этом рано. Осторожными шагами я иду по скользкому:
– Смотря в каких вещах. «Для пользы дела» – да: утвердить ценность веры у молодёжи; напомнить, что коммунизм надо строить в людях прежде, чем в камнях. «Кречетовка» – с заведомой целью показать, что не какое-то ограниченное число закоренелых злодеев совершали злодейства, но их могут совершить самые чистые и лучшие люди, и надо бороться со злом в себе. (Впрочем, Демичев сказал позже, что ни «Пользы дела», ни «Кречетовки» не читал и не подготовлен был к разговору со мной.) А в «Матрёне» и в «Денисовиче» я… просто шёл за героями. Никакой цели себе не ставил.
(Это место окажется для него ключевым в разговоре. В нескольких публичных выступлениях он будет рассказывать одними и теми же словами, как он припёр меня к стенке вопросом – зачем я пишу, и я не нашёлся ничего сказать, кроме как повторить устаревший и уже не годный для соцреализма довод – «иду за героями». А их надо вести за собой…)
Защищая «Денисовича», я дуплетом ударил по книжке Дьякова (интеллигент-то высокий, да почему кирпичиков не кладёт на социализм? почему за 5 лет только и выполнил полчаса бабьей работы – сучья обрубал?..) и по рассказам Г. Шелеста (как его любимый герой мог брать хлеб и еду, воруемую у работяг, и притом конспектировать Ленина?). Но поведение шелестовского старого коммуниста не показалось Демичеву предосудительным, напротив, тут-то он с готовностью мне возразил:
– А разве Иван Денисович не замотал лишнюю порцию каши?
– Так то ж Иван Денисович! Он же интеллектуально не дорос, он Ленина не конспектирует! Он же лагерем испорчен! Мы ж его жалеем, что он только и борется за пайку.
– Да, – важно сказал Демичев. – Хотелось бы, чтоб он больше прислушивался к тамошним сознательным людям, которые могли бы дать ему объяснение происходящего…
(А где ты был со своим объяснением, когда это происходило? Что б вы с той повестью бедной сделали, если б я ещё всё объяснил?..)
Я: – Для охвата всей лагерной проблемы потребовалась бы ещё одна книга. Но – (выразительно) – не знаю, нужно ли?
Он: – Не нужно! Не нужно больше о лагере! Это тяжело и неприятно.
Повторяя, что я ни в чём написанном не раскаиваюсь и снова всё написал бы так же, я внедрял в него свой замысел: что очень медленно работаю и поэтому подумываю вернуться к математике (это он принял явно без тревоги за отечественную литературу); что очень бываю недоволен своими вещами и часто уничтожаю написанное.
– Скажу вам совсем нескромно: мне хочется, чтобы вещи мои жили двадцать, тридцать и даже пятьдесят лет.
Он простил мне такую нескромность и с теплотой указал на Гоголя, сжегшего вторую часть «Мёртвых душ».
– Во-во. И я так же делаю.
Очень он был доволен.
– А сколько времени вы писали «Ивана Денисовича»?
– Несколько лет, – вздохнул я. – Не сочтёшь.
Я всё ждал вопроса о «Круге», который уже год томился в сейфе «Нового мира». Я ждал вопроса о «Крохотках», напечатанных на Западе. Но руководитель агитпропа ни о чём этом не знал.
На градусе взаимной откровенности выдал я ему и свои творческие задушевные планы: «Раковый корпус».
– Не слишком ли мрачное название?
– Пока условное. Там будет работа врачей. И душевное противостояние смерти. И казахи и узбеки.
– А это не будет слишком пессимистично? – всё-таки тревожился он.
– Не-ет!
– А вы вообще – пессимист или оптимист?
– Я – неискоренимый оптимист, разве вы не видите по «Ивану Денисовичу»?
И изложил он мне, чего не надо и чего не хочет партия в произведениях (это очень чётко, уже готовое было у него в голове):
1) пессимизма; 2) очернительства; 3) тайных стрел.
(Я поразился, как точно было выражено третье, да будто прямо обо мне. Узнать бы, кто там у них формулировал?..)
«Тайные стрелы» я замял, а «очернительство» хотел термин уточнить. Вот например, богучаровские мужики, которые княжну Марью не отпускают эвакуироваться (а уж сами-то верно ждут Наполеона), – это очернительство патриотической войны или нет?
Но видно, не читал Демичев той книги, не вышло спора. А разговор складывался всё лучше и лучше.
– Мне нравится, что вы не обиделись на критику и не огорчились, – уже не без симпатии говорил он. – Я боялся, что вы озлоблены.
– Да в самые тяжёлые минуты я никогда озлоблен не был.
По мере разговора он несколько раз мне выкладывал даже и без нужды: «Вы – сильная личность», «вы – сильный человек», «к вам приковано внимание всего мира». – «Да что вы! – удивлялся я. – Да вы преувеличиваете!» (Он таки и преувеличивал: на Западе свыше политической моды почти и не понимали меня.)
– Приковано, – недоумевал он и сам. – Судьба сыграла с вами такую шутку, если можно так выразиться.
Всё более ко мне расположенный, уж он взялся меня даже утешать:
– Не всех писателей признают при жизни, даже в советское время. Например, Маяковский.
(Ну и я ж этого хочу! – не будем друг друга трогать, отложим дело до вечности.)
– Я вижу, вы действительно – открытый русский человек, – говорил он с радостью.
Я безстыдно кивал головой. Я и был бы им, если б вы нас не бросили на Архипелаг ГУЛАГ. Я и был бы им, если б за 48 лет хоть один бы день вы нам не врали, – за 48 лет, как вы отменили тайную дипломатию и тайные назначения, хоть один бы день вы были с нами нараспашку.
– Я вижу, вы действительно – очень скромный человек. С Ремарком у вас – ничего общего.
Ах вот, оказывается, чего они боялись, – с Ремарком!.. А русской литературы они уже отучились бояться. Сумеем ли вернуть им этот навык?
Я радостно подтвердил:
– С Ремарком – ничего общего.
Наконец, всеми своими откровенностями я заслужил же и его откровенность:
– Несмотря на наши успехи, у нас тяжёлое положение. Мы должны вести борьбу не только внешнюю, но и внутреннюю. У молодёжи – нигилизм, критиканство, а некоторые деятели только и толкают, и толкают её туда.
Но не я же! Я искренно воскликнул, что затянувшееся равнодушие молодёжи к общим и великим вопросам жизни меня возмущает.
Тут выяснилось, что мы с ним – и года рождения одного, и предложил он вспомнить нашу жертвенную горячую молодость.
(Была, товарищи, была… Да только история так уныло не повторяется, чтоб опять… У неё всё-таки есть вкус.)
Оба мы очень остались довольны.
Я не просил его ни печатать сборника моих рассказов, ни помочь мне с пьесами. Главный результат был тот, что совершенно неожиданно, без труда и подготовки, я укрепился при новых руководителях и теперь какое-то число лет могу спокойно писать.
– Они не получили второго Пастернака! – провожал меня секретарь по агитации.
Нет, среднему инженеру или математику XX века никогда не привыкнуть к тем черепашьим скоростям, с которыми Старая Площадь оборачивается получать информацию в собственном аппарате! Только 9 месяцев прошло, как «Крохотки» напечатаны в «Гранях», – откуда ж Демичеву знать?.. Поликарпов узнал только месяц назад, показывал Твардовскому и спрашивал – мои ли. Твардовский ответил, что он уверен: большинство – не мои.
Ведь Твардовский же не видел всех – вот и уверен, что не мои! И так уверен, что, посылая меня к Демичеву, даже не вспомнил о том разговоре, не предупредил, – а я ведь сказал бы, что все мои! Тут номенклатурная логика: подчинённому (мне) не надо знать всего, что знает начальник (он). И подчинённый (я) не мог же написать такого, о чём не поставлен в известность начальник (он).
Но вдруг случайно узнал А. Т., что журнал «Семья и школа» собирается часть из этой серии напечатать на родине. Он пришёл почти в смятение: ведь он поручился перед начальством, что «Крохотки» – не мои! К тому ж его язвила ревность: ведь никто другой (и ни сам я!) не имел прав на опубликование моих произведений, а только «Новый мир». А «Крохотки» он три года назад определил как «заготовки», – о каком же печатании речь? И наконец, раз произошло такое ужасное несчастье, что они напечатаны на Западе, значит на родине они не будут напечатаны никогда! (Это понимание зарубежных изданий как безнадёжной потери для рукописи и унижения для автора сохранялось у Твардовского все годы, что я знал его. С такой же брезгливостью он сперва относился и к Самиздату. Признавал он только то открытое казённое печатание, которое авторам его журнала было закрыто как никому.)
И стал он меня немедленно вызывать. Наверно, и в других издательствах так, но я по «Новому миру» знаю и не перестаю удивляться: что-то не так автор сделал – и вызывается в свою редакцию! Автор рассматривается, видимо, как состоящий на государственной службе в своём журнале и, как на всякой другой службе, может быть своим начальником востребован.
Однако в том августе не помогли Твардовскому меня разыскать, и он уехал в Новосибирск (где, кстати, на читательской конференции уже подали записку: «Правда ли, что Солженицын служил в гестапо?»).
Я могу только на ощупь судить, какой поворот готовился в нашей стране в августе-сентябре 1965 года. Когда-нибудь доживём же мы до публичной истории, и расскажут нам точно, как это было. Но близко к уверенности можно сказать, что готовился крутой возврат к сталинизму во главе с Железным Шуриком Шелепиным. Говорят, предложил Шелепин: экономику и управление зажать по-сталински – в этом он будто бы спорил с Косыгиным, а что идеологию надо зажать, в этом они не расходились никто. Предлагал Шелепин поклониться Мао Цзэдуну, признать его правоту: не отсохнет голова, зато будет единство сил. Рассуждали сталинисты, что если не в возврате к Сталину смысл свержения Хрущёва – то в чём же?.. и когда же пробовать? Было собрано в том августе важное Идеологическое Совещание и разъяснено: «борьба за мир» – остаётся, но не надо разоружать советских людей (а – непрерывно натравливать их на Запад); поднимать воинский дух, бороться против пацифизма; наша генеральная линия – отнюдь не «сосуществование»; Сталин виноват только в отмене коллективного руководства и в незаконных репрессиях партийно-советских кадров, больше ни в чём; не надо бояться слова администрирование; пора возродить полезное понятие «враг народа»; дух ждановских постановлений о литературе был верен; надо присмотреться к журналу «Новый мир», почему его так хвалит буржуазия. (Было и обо мне: что исказил я истинную картину лагерного мира, где страдали только коммунисты, а враги сидели за дело.)
Все шаги, как задумали шелепинцы, остаются неизвестными. Но один шаг они успели сделать: арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965. («Тысячу интеллигентов» требовали арестовать по Москве подручные Семичастного.)
В то тревожное начало сентября я задался планом забрать свой роман из «Нового мира»: потому что придут, откроют сейф и… Рано всё было затеяно, надо спешить уйти в подполье и замаскироваться математикой.
6 сентября я был у Твардовского на даче вопреки его вернувшейся болезни. Тяжёлыми шагами он спустился со второго этажа, в нижней сорочке, с несветлыми глазами. Даже с трезвым мне было бы сейчас трудно объясняться с ним, а тем более с таким. Он оседлал только главные свои обиды, а остального не видел, не слышал, не воспринимал.
– Я за вас голову подставляю, а вы…
Да и можно его понять: ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчётов, ходов была скрыта от него и проступала неожиданно.
В путаном разговоре, не собираемом ни к какому стержню, А. Т. выговаривал:
– что я не имею права действовать самостоятельно, «не посоветовавшись» (то есть не спрося дозволения);
– что я не должен был разрешать «Крохотки» «Семье и школе»;
– а ещё – о бороде! о бороде…
Вот удивительно засела в нём эта борода. Колебались царства, и головы падали, а он – о бороде… Впрочем теперь, по пьяной откровенности, объяснил:
– Говорят, вы хотите скрыться…
– Кто говорит? Кого вы слушаете?
– Я не обязан вам отвечать… Говорят: он носит бороду неспроста… Удобный способ перейти границу…
– Да в чём же борода помогает перейти границу?!
– А – сбрить и незаметно перейти.
Расплывчатый пьяный прищур, заменяющий многознание и догадку… Заодно высказывает А. Т. и как говорят в «отделе культуры» ЦК: что, наверно, я сам передал «Крохотки» в «Грани».
Мне горько стало. Не потому, что так говорят обо мне в «отделе культуры», а что Твардовский захвачен этим сам и не имеет силы сопротивляться.
Всё же я кое-как пробил своё: хочу забрать «Круг». «Для переделки синтаксиса»…
Не верит.
Открываюсь: не считаю надёжным их сейф.
Это дико ему, – что ж может быть надёжней сейфа в официальном советском учреждении?! Хоть я и автор, но закабалённый договором, и журнал имеет право не отдать мне романа. Тем более что я настаиваю забрать подчистую все четыре экземпляра, распечатанных в редакции.
Но А. Т. – добр, верит мне и, как ему ни жаль, обещает назавтра разрешительный звонок в редакцию – чтоб отдали.
Ну, кажется, всё хорошо. Мне бы только пересидеть Железного Шурика! Рано я вылез… Рано…
7 сентября из редакции с трудом добиваюсь Твардовского к дачному телефону. Голос его слаб, но осмыслен, не вчерашний. Он ласково просит меня: не берите, не надо! У нас – надёжно, не надо! Хорошо, возьмите три экземпляра, оставьте один.
Ему – как матери отпускать сыновей из дому. Хоть одного-то оставьте!..
И ведь разумно! И редакция – имеет право.
Но я – одержим: мне нужны все! (Я вижу лучше! я вижу дальше! я решил! Я помню, как роман Гроссмана забрали именно из новомирского сейфа.) Суетливость моя! Вечно меня подпирает, подкалывает предусмотреть на двадцать ходов вперёд.
Забираю все четыре. Отпечатанные с издательским размахом, они распирают большой чемодан, мешают даже замкнуть его.
С чем бы другим, секретным, я сейчас поостерёгся, пооглянулся, замотал бы следы. Но ведь это – открытая вещь, подготовленная к печатанию. Я только уношу её из угрожаемого «Нового мира». Я несу её, собственно, даже не прятать.
Правда, я несу её на опасную, важную квартиру (Теушей), где ещё недавно хранился мой главный архив – тот самый, в новогоднюю ночь увезенный из Рязани. Но основную часть похоронок, всё сокровище, я недавно оттуда забрал, осталось же второстепенное, полуоткрытое, вроде «Свечи».
Бывают минуты, когда слабеет, мешается наш рассудок. Когда излишнее предвидение обращается в грубейшую слепоту, расчёт – в растерянность, воля – в безхарактерность. (Без таких провалов мы не знали бы себе границ.) Теуш, профессор математики на пенсии, – вполне достойный человек, но ведь – неаккуратен, путаник, не строг в конспирации, и это качество я за ним знал, – однако больше трёх лет как-то всё обходилось, хотя словоохотлив хозяин по телефону, да и сам написал полукриминальную работу об «Иване Денисовиче», и даже слух мы имеем, что его работа лежит уже в ЦК, – мне всё как нипочём! Недавно забирая у Теуша переносную заначку-проигрыватель с моим архивом, я не проверил его содержимое, не устроил шмона, действительно ли только второстепенное держится у Теуша открыто. А он, нарушая наш уговор, время от времени вынимал почитать-перечитать: то «Пир победителей» (последний экземпляр!), то «Республику труда», то лагерные стихи, ещё чудом – не остальное некоторое. И ничего этого по небрежности не вкладывал обратно! После меня потом это всё найдя, он спокойно, мне даже не сообщив, отправил на лето своему молодому другу Зильбербергу.
И вот теперь на квартиру Теуша – нашёл я надёжней новомирского сейфа! – я припёр чемодан с четырьмя экземплярами «Круга». (Когда тащил его, как будто удушенным, загнанным ощущал себя на московских улицах: оттого, наверно, что в спину мне упирались прожектора совиных глаз.)
Да смех один, насколько был потерян мой рассудок: я по-мужски решил уходить в глубину и по-ребячьи поверил вздорным завлечениям Ю. Карякина, что его оч-чень либеральный шеф Румянцев, теперь редактор «Правды», собирается напечатать одну-две безопасных главы из «Круга». И, оставив у Теуша три экземпляра, я четвёртый потащил для «Правды». Обезумел.
Вечером 11 сентября – в щель между арестами Синявского и Даниэля – гебисты одновременно пришли и к Теушам (взяли «Круг»), и изо всех друзей их – именно к Зильбербергу, за остатками моего архива.
В мой последний миг, перед тем как начать набирать глубину, в мой последний миг на поверхности – я был подстрелен!
Подстрелен.
Подстрелен…
Подранок
С тех пор ещё не прошло двух лет, а за 22 года с моего ареста потускнело чувство, – но тяжелей того ареста пережил я это новое крушение. Арест был смягчён тем, что взяли меня с фронта, из боя; что было мне 26 лет; что, кроме меня, никакие мои сделанные работы при этом не гибли (их не было просто); что затевалось со мной что-то интересное, даже увлекательное; и совсем уже смутным (но прозорливым) предчувствием – что именно через этот арест я сумею как-то повлиять на судьбу моей страны.
А провал мой в сентябре 1965 был самой большой бедой за 47 лет моей жизни. Я несколько месяцев ощущал его как настоящую физическую незаживающую рану – копьём в грудь, и даже напрокол, и наконечник застрял, не вытащить. И малейшее моё шевеление (вспоминанье той или другой строчки отобранного архива) отдавалось колющей болью.
Главный удар был в том, что прошёл я полную лагерную школу – и вот оказался глуп и беззащитен. Что 18 лет я плёл свою подпольную литературу, проверяя прочность каждой нити; от ошибки в едином человеке я мог провалиться в волчью яму со всем своим написанным – но не провалился ни разу, не ошибся ни разу; столько было положено усилий для предохранения, столько жертв для самого писания; замысел казался грандиозным, ещё через десяток лет я был бы готов выйти на люди со всем своим написанным, и во взрыве той литературной бомбы нисколько не жалко было бы сгореть и самому; – но вот один скользок ногой, одна оплошность, – и весь замысел, вся работа жизни потерпела крушение. И не только работа моей жизни, но заветы миллионов погибших, тех, кто не дошептал, не дохрипел своего на полу лагерного барака, – тех заветы я не выполнил, предал, оказался не достоин. Мне дано было выползти почти единственному, на меня так надеялись черепа погребённых в лагерных братских могильниках, – а я рухнул, а я не донёс их надежды.
Всё время сжатое средостение. Близ солнечного сплетения тошнотно разбирает, и определить нельзя, что это: болезнь души или предчувствие нового горя. Нестерпимое внутреннее жжение. Палит – и нечем помочь. Долгая сухость горла. Напряжение, которое невозможно расслабить. Ищешь спасенья во сне (как когда-то в тюрьме): спал бы, спал бы и не вставал! видеть выключенные беззаботные сны! – но через несколько часов отпадают защитные преграды души, и палящее сверло вывинчивает тебя к яви. Каждый день изыскивать в себе волю к прямохождению, к занятиям, к работе, делая вид, что это нужно и что это можно для души, а на самом деле каждые пять минут мысль отвлекается: зачем? теперь – зачем?.. Вся жизнь, которую ведёшь, – как будто играешь роль: ведь знаешь, что на самом деле всё лопнуло. Впечатление остановившихся мировых часов. Мысли о самоубийстве – первый раз в жизни и, надеюсь, последний. (Одно укрепляло: что плёнка-то моя – уже была на Западе! Вся прежняя часть работы не пропадала!)
В таком состоянии – правда, с перерывами к движению и просветлению, я прожил три месяца. Импульсивно я производил защитные действия – самые неотложные, самые ясные (иногда, впрочем, тоже ошибочные), но я не мог верно сообразить своего общего положения и верно избирать поступки. Я реально ожидал ареста, почти каждую ночь. Правда, для ареста я осваивал себе новую твёрдую линию: я откажусь от каких-либо показаний; я объявлю их недостойными вести следствие и суд над русской литературой; я потребую лист «для собственноручных показаний» (по УПК я имею на это право, теперь я знаю) и напишу: «Сознавая свою ответственность перед предшественниками моими в великой русской литературе, я не могу признать и принять жандармского надзора за ней. Я не буду отвечать ни на какие вопросы следствия или суда. Это моё первое и последнее заявление». (Никуда не денутся, подошьют в дело! – так у них полагается.) Таким образом, хоть к смерти, хоть к безконечному заключению я был готов. Но в обоих случаях это был обрыв моей работы. Да он уже произошёл, обрыв: провал застиг меня в разгаре работы над «Архипелагом». И безценные заготовки и часть уже написанной первой редакции состояли в единственном экземпляре и были атомно опасны. С помощью верных друзей с большими предосторожностями от слежки всё это пришлось забросить в дальнее Укрывище, и когда теперь вернуться к этой книге – неведомо было.
Работа всё равно остановилась – ещё и прежде ареста.
Известие о беде настигло меня в два приёма, не сразу. Сперва приехала Вероника Туркина и рассказала только о захвате романа – но и это ужалило меня до стона: что я наделал! не послушал Твардовского, взял роман – и сам его погубил. Тут же сообщила она об аресте Синявского. Мой ли роман давал меньше поводов? Может быть, за два дня потому я и не взят только, что они ещё не нашли меня в моём Рождестве? А что было на рязанской квартире – я не знал, жизнь разбросалась. Может быть, туда уже приходили?
Было к вечеру. И, поспешно побросав в автомобиль какие-то вещи с собой и что было из рукописей (без нас, через час, могут приехать и обыскивать), мы поехали подмосковными дорогами, минуя Москву, на дачу к Твардовскому: успеть сообщить ему, пока я не схвачен.
Сейчас даже не понимаю, почему открытие «Круга»-87 показалось мне тогда катастрофой: ещё главной катастрофы я не знал, а попадание романа на Лубянку просто было «судьбою книги» согласно латинской пословице – началом её особого литературного движения. (Думаю, они приходили не за романом, это был для них дополнительный подарок, и кому-нибудь орден за него дали, и ликовали в инстанциях. И только годы покажут, не на свою ли голову они ликовали. Ещё не тронутый к движению, как ледник в горах, роман им был, пожалуй, побезопаснее…)
Беда к беде, не хватило бензина на последний километр, и по писательскому посёлку Пахры я пошёл с пустой канистрой. Твардовский был дома и вёл разговор с мастерами, укреплявшими забор его новой дачи и переносившими ворота. Мастера требовали хорошего задатка. В этот разговор вошёл я и, отманив А. Т. в сторону, сказал тихо:
– Худые вести. Роман забрали.
Он так и осунулся:
– Оттуда?
Надо было ещё кончить с мастерами, и к Тендрякову идти за бензином, и мне доехать, – за это время А. Т. успел привыкнуть к новой мысли.
В тот вечер он прекрасно себя держал, намного лучше меня. Неделю назад в этих же комнатах он по случаю гораздо более мелкому так досадовал, волновался, упрекал, – а сейчас, напротив, нисколько не упрекал, хотя прав оказался. Сегодня он держался мужественно, обдумчиво, даже не спешил расспрашивать, где и как это произошло, и обсуждать не спешил. В мрачновато-замковой своей даче он поджёг хворост в парадном камине, и сидели мы так.
Его первый порыв был – что он завтра же сам обжалует Демичеву. Через час и подумавши – что лучше это сделаю я.
Я тут же стал писать черновик письма – и первой легчайшей трещинкой наметилось то, что потом должно было зазиять: А. Т. настаивал на самых мягких и даже просительных выражениях. Особенно он не допускал, чтобы я написал «незаконное изъятие». А. Т. настаивал непременно это слово убрать, ибо их действия не могут быть «незаконными». Я вяло сопротивлялся. (На следующий день в Москве он ещё по телефону отдельно проверял – заменил ли я слово. К позору своему, я уступил, переправил холуйским словом «незаслуженное». В затемнённый ум не входило более подходящее с теми же начальными буквами, чтоб исправлять меньше.)
После безсонной палящей ночи мы с женой рано поехали в Москву. Там через несколько часов я узнал от Теушей о горшей беде: что в тот же вечер 11 сентября были взяты и «Пир победителей», и «Республика труда», и лагерные стихи! – как это могло получиться? ведь я это всё забрал у Теушей! – я ещё понять не мог. Вот она была беда, а до сих пор – предбедки! Ломились и рухались мосты под ногами, безславно и преждевременно.
(Вот такие повороты я и имею в виду, горько подзаглавив эту книгу «очерки литературной жизни»…)
Но заявление Демичеву я написал так, будто знаю об одном романе. Пересек солнечный, многолюдный и совсем нереальный московский день; опять через пронзительный контроль вошёл в лощёное здание ЦК, где так недавно и так удачно был на приёме; прошёл по безлюдным, широким, как комнаты обставленным коридорам, где на дверях не выставлено должностей, а лишь фамилии – неприметные, неизвестные; и отдал заявление уже мне знакомому любезному секретарю.
Оттуда заехал в «Новый мир»: А. Т. безпокоился насчёт «незаконных действий», хотел удостовериться изустно, что я убрал. И ещё очень важное он требовал: чтобы я никому не говорил, что отобран у меня роман! – иначе нежелательная огласка сильно затруднит положение.
Трещинка расширялась. Чьё положение??.. верхов или моё? Нежелательная?.. Да огласка – одно моё спасение! Я буду рассказывать каждому встречному! Я буду ловить и искать – кому рассказать бы ещё, кто раззвонит пошире!.. (Взятие «Круга» вместе с крамольным «Пиром» оказалось не отяжелением, а облегчением: я смел громче говорить об изъятии.)
Но если сейчас открыть это Твардовскому – у него разорвётся сердце! Такая немыслимая дерзость как смеет закрасться в голову автора, открытого партийным «Новым миром»?!.. А что тогда будет с «Новым миром»?.. Нет, не готов А. Т. услышать этот ужас полностью. Подготовить его частично.
– Оказывается, не один роман взяли. Ещё – старую редакцию «Оленя и шалашовки» и лагерные стихи.
Гуще омрачился А. Т.:
– И стихи – не про папу и маму?..
Он окис. Но рад был, что один из перепечатков романа – уцелел, и даже в сейфе «Правды»!
Однако всё пришло в движение в этих днях, снят был из «Правды» Румянцев, и мой доброжелатель Карякин должен был в суете утаскивать роман и из «Правды».
Это было уже 20 сентября. За истекшую неделю после ареста Синявского и Даниэля встревоженная, как говорится, «вся Москва» перепрятывала куда-то самиздат и преступные эмигрантские книги, носила их пачками из дома в дом, надеясь, что так будет лучше.
Два-три обыска – и сколько переполоха, раскаяния, даже отступничества! Так оказалась хлипка и зыбка наша свобода разговоров и рукописей, дарованная нам и проистекшая при Хрущёве.
Попросил я Карякина, чтобы вёз он роман из «Правды» прямо в «Новый мир». Преувеличивая досмотр и когти ЧКГБ, не были мы уверены, что довезёт. Но довёз благополучно, я положил его на диванчик в кабинете А. Т. и ждал Самого. Я не сомневался, что при виде спасённого экземпляра сердце А. Т. дрогнет и он с радостью тотчас же вернёт роман в сейф. Я ясно представлял эту его радость! Пришёл А. Т., начался разговор – знакомая же толстая папка косовато лежала на диванчике. А. Т. углядел, подошёл и, не касаясь руками, спросил с насторожей: «Это – что?»
Я сказал. И – не узнал его, насупленного и сразу от меня отъединённого:
– А зачем вы принесли его сюда? Теперь-то, после изъятия – (вот оно, законное изъятие!) – мы не можем принять его в редакцию. Теперь – за нашей спиной не прячьтесь.
Он меня как ударил!.. Не потому, что я за этот экземпляр испугался, у меня были ещё (и на Западе один), но ведь он-то думал, что это – из двух самых последних! (Позже я уразумел, что он был разумно прав: это я сам дёргался – так пожинай!)
Отказался А. Т. и напечатать в «Новом мире» моё письмо с опровержением клеветы о моей биографии («служил у немцев», «полицай» и «гестаповец» уже несли агитаторы комсомола и партии по всей стране). Две недели назад А. Т. сам посоветовал мне писать такое письмо (с загадочным «мне порекомендовали…»). Но вот беда: я послал в «Правду» первый экземпляр своего письма, рассчитывая на лопнувшего теперь Румянцева, а Твардовскому достался второй. И слышу:
– Я не привык действовать по письмам, которые присылаются мне вторым экземпляром. И как же опровергать, пока арестован роман?.. Будут говорить: значит, что-то есть!..
Это прозвучало уверенно-номенклатурно. Логика! – если в 1965 арестован роман – как можно утверждать, что автор не был полицаем в 1943? (Да не это, конечно! А – силы он не имел печатать моё опровержение, и надо было самому себе благовидно объяснить отказ: как будто по убеждению.)
Я сидел потерянный, вяло отвечал, а Твардовский долго меня упрекал:
1) как я мог, не посоветовавшись с ним, послать за эти дни ещё три жалобы ещё трём секретарям ЦК – ведь я этим оскорбил Петра Нилыча Демичева и теперь ослаблю желание Петра Нилыча помочь мне.
Он так пояснил: «Если просят квартиру у одного меня – я помогаю посильно, а если пишут: “Федину, Твардовскому”, я думаю – ну, пусть Федин и помогает».
И он видел здесь сходство? Как будто размеры события позволяли размышлять о каком-то «оскорблении», о каких-то личных чувствах секретарей ЦК. Да будь Демичев мне отцом родным – и то б он ничего не сдвинул. Столкнулись государство – и литература, а Твардовский видел тут какую-то личную просьбу… Я потому поспешил послать те три письма (Брежневу, Суслову и Андропову[19]), что боялся: Демичев – тёмен, он, может быть, шелепинец, он прикроет моё письмо и скажет – я не жаловался, значит – чувствую себя виноватым.
Уж А. Т. прощал моей человеческой слабости произошедшую всё-таки огласку, что я не удержался, кому-то сказал об аресте романа. (Не удержался!.. – я специально пошёл в консерваторию на концерт Шостаковича и там рассказывал о своей беде.) Но:
2) если б я с ним посоветовался, кому ещё послать жалобу, он, А. Т., порекомендовал бы мне обратиться прямо и непосредственно к Семичастному (министру ГБ). Зачем же его обходить?
Я отдёрнулся даже: вот это – никогда! Обратиться к Семичастному – значит признать суверенность госбезопасности над литературой!
И снова, снова и снова не мог Твардовский понять:
3) как я мог в своё время отдать пьесу в «Современник», вопреки его совету?..
Как важно было ему именно сейчас рассчитаться с этими «гангстерами сцены»! Как важно было упрекнуть меня именно в мой смутный час! И ещё:
4) как мог я положить хранить святого «Ивана Денисовича» рядом с ожесточёнными лагерными пьесами? (Ведь тем самым я бросал тень не только на «святого Ивана Денисовича», но и на «Новый мир»!) И ещё:
5) почему я не получал московской квартиры в своё время, «когда мог получить особняк»? И:
6) как мог я разрешить «Семье и школе» печатать мои «Крохотки»?
И наконец, чрезвычайно важно, очень ново (угрюмо, без улыбки и в совершенной трезвости):
7) зачем я стал носить бороду? Не для того ли, чтобы сбрить при случае и перейти границу? (Не упустил передать мне и чьего-то высшего подозрения: зачем это я добивался переехать в «атомный центр» Обнинск?..)
Повторительность и мелочность этих упрёков была даже не мужской.
Я не отбивался. Я не рассчитал каната, сорвался и достоин был своего жалкого положения.
И только то дружеское движение было у А. Т. за весь этот час, что он предложил мне денег. Я не взял, – не от безденежья я погибал…
Взял я под мышку свой отвергнутый безпризорный роман и спустился к новомирскому курьеру-стукачу осургучить папку (тоже рабский расчёт: когда придёт ГБ – пусть видят, что читать не давал). Впрочем, сутки ещё – и я догадался отдать его в официальный литературный архив – ЦГАЛИ.
Минувшую неделю, – горе горюй, а руками воюй, – я занят был спасением главных рукописей и всего непопавшего, затем – предупреждением людей, чтобы перестали мне письма писать. Когда эти тяготы опали, самое близкое и несомненное было сделано, – меня охватило то палящее и распирающее горе, с которого я начал эту главу. Я не знал, не понимал, как мне жить и что делать, и с большим трудом сосредотачивался поработать в день часа два-три.
В эту пору К. И. Чуковский предложил мне (безстрашие для того было нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить боялся: оттуда легко было пресечь мой выезд, там можно было взять меня совсем беззвучно и даже безответственно: всегда можно свалить на произвол, на «ошибку» местных гебистов. На переделкинской даче Чуковского такая «ошибка исполнителей» была невозможна. Я гулял под тёмными сводами хвойных на участке К. И. – многими часами, с безнадёжным сердцем, и безплодно пытался осмыслить своё положение, а ещё главней – обнаружить высший смысл обвалившейся на меня беды.
Хотя знакомство с русской историей могло бы давно отбить охоту искать какую-то руку справедливости, какой-то высший вселенский смысл в цепи русских бед, – я в своей жизни эту направляющую руку, этот очень светлый, не от меня зависящий смысл привык с тюремных лет ощущать. Броски моей жизни я не всегда управлялся понять вовремя, часто по слабости тела и духа понимал их обратно их истинному и далеко рассчитанному значению. Но позже непременно разъяснялся мне истинный разум происшедшего – и я только немел от удивления. Многое в жизни я делал противоположно моей же главной поставленной цели, не понимая верного пути, – и всегда меня поправляло Нечто. Это стало для меня так привычно, так надёжно, что только и оставалось задачи: правильней и быстрей понять каждое крупное событие моей жизни.
(Вяч. Всев. Иванов пришёл к этому же самому выводу, хотя жизненный материал у него был совсем другой. Он формулирует так: «Есть мистический смысл во многих жизнях, но не всеми верно понимается. Он даётся нам чаще в зашифрованном виде, а мы, не расшифровав, отчаиваемся, как безсмысленна наша жизнь. Успех великих жизней часто в том, что человек расшифровал спущенный ему шифр, понял и научился правильно идти».)
А с провалом моим – я не понимал! Кипел, бунтовал и не понимал: зачем должна была рухнуть работа? – не моя же собственная, но – почти единственная, уцелевшая в память правды? зачем должно быть нужно, чтобы потомки узнали меньше правды, почти никакую (ибо каждому после меня ещё тяжелее будет раскапывать, чем мне; а те, кто жили раньше, – не сохранились, не сохранили или писали совсем не о том, чего будет жаждать Россия уже невдолге)? Давно оправдался и мой арест, и моя смертельная болезнь, и многие личные события, – но вот этого провала я не мог уразуметь! Этот провал снимал начисто весь прежний смысл.
(Маловеру, мне так казалось! И всего лишь через две осени, миновавшей зимою, мне кажется – я всё уже понял. Потому и сел за эти записки.)
Две – но не малых – политических радости посетили меня в конце сентября в моё гощение у Чуковского; они шли почти в одних и тех же днях, связанные едиными звёздами. Одна была – поражение индонезийского коммунистического переворота, вторая – поражение шелепинской затеи. Позорился тот Китай, которому Шелепин звал поклониться, и сам Железный Шурик, начавший аппаратное наступление с августа, не сумел свергнуть никого из преемников Хрущёва. Были за полгода назначены на XXIII съезд докладчики – но не Шелепин.
Власть Шелепина означала бы немедленный мой конец. Теперь мне обещали полгода отсрочки? Конечно, в том ещё не было никакой верной защиты, лишь надежда, и та в пелене. Защитой верной казалось бы мне, если бы западное радио сообщило об аресте моего романа. Это не был, конечно, арест живых людей, как Синявского и Даниэля, но всё-таки, медведь тебя раздери, если арестовывают у русского писателя его десятилетнюю работу, то ревнители греческой демократии и Северного Вьетнама могли бы уделить этому событию хоть строчечку? Или уж вовсе им безразлично? Или не знают?
Продлили мне время, – но что было правильно мне теперь делать? Я не мог уразуметь. Я ложно решил: вот теперь-то напечататься! Хоть что-нибудь.
И отослал в «Новый мир» пьесу «Свеча на ветру», до сих пор им не известную. Когда все прочли, пошёл в редакцию.
За месяц, что мы не виделись, Твардовский ещё больше померк, был утеснён, чувствовал себя обложенным, безпомощным, даже разрушенным: всё оттого, что с ним плохо поговорили наверху. (Ему Демичев сурово выговаривал, что не оказался он в нужную минуту на ногах: надо было ехать в Рим выбираться вице-президентом Европейской Ассоциации писателей, не хотели там ни Суркова, ни Симонова.)
Всё же, спасибо, о моём романе два раза спрашивал А. Т. у Демичева, хоть и по телефону. Учитывая, как ему это было мучительно, следует его усилие высоко оценить. Первый раз Демичев ответил: «Да, я распорядился, чтобы вернули». (Соврал, конечно.) Второй раз: «Да, я велел разобраться».
Твардовский плохо понимал, что же делать, и я – не намного лучше. И я согласился на вздор – просить приёма у Демичева.
Отзыв А. Т. о пьесе не порадовал меня. Я знал, что она вяла и многоречива, он же нашёл её «очень сценичной» (бедный А. Т., его номенклатурное положение не позволяло ему ходить в московские экспериментальные театры, следить за современной сценой). Так почему бы не напечатать? А вот:
– Вы замаскировали под неизвестно какую страну, но это – о нас, слишком ясно, вывод из пьесы недвусмысленный.
Я, совершенно искренне: – Я писал это о пороках всего современного человечества, особенно – сытого. Вы допускаете, что могут быть общие современные пороки?
Он: – Нет, не могу принять такой точки зрения, без разграничения на капитализм и социализм. И не могу разделить ваших взглядов на жизнь и смерть. Сказать вам, что бы я сделал, если бы всё зависело целиком от меня? Я бы написал теперь не предисловие, а послесловие – (не улавливаю, в чём тут принижение), – что мы не можем скрывать от читателя произведения авторов – (хо-го! за пятьдесят-то лет!..), – но мы не разделяем высказанных взглядов и должны возразить.
Я: – Это было бы чудесно! Мне большего и не надо.
Он: – Но это зависит не от меня.
Я: – Слушайте, Александр Трифоныч, а если б это написал западный автор – ведь у нас бы схватились, поставили сразу: вот мол как бичует буржуазную действительность.
Он: – Да, если б это написал какой-нибудь Артур Миллер… Но и то б у него отрицательный персонаж высказывался антикоммунистически.
Да в одной ли пьесе тут было! Ухудшенно и настороженно относился А. Т. ко мне самому: не оказался я тем незамутнённым кристаллом, который он чаял представить Старой площади и всему прогрессивному человечеству.
Но терять мне было нечего, и я протянул ему «Правую кисть», на что не решался раньше.
Он принял её радостными, почти трясущимися руками. Испытанный жанр, моя проза, – а вдруг проходимая?
На другой день по телефону:
– Описательная часть очень хороша, но вообще – это страшнее всего, что вы написали. – И добавил: – Я ведь вам не давал обязательств…
О, конечно нет! Конечно журнал не давал обязательств! Только давал обязательства я: таскать свои рукописи сюда и сюда. Но сколько ещё отказов я должен встретить – и продолжать считать себя новомирцем?..
Очень утешало меня в эти месяцы ежедневное чтение русских пословиц, как молитвенника. Сперва:
– Печаль не уморит, а с ног собьёт.
– Этой беды не заспишь.
– Судьба придёт – по рукам свяжет.
– Пора – что гора: скатишься, так оглянешься.
(Это – об ошибках моих, когда я был взнесен – и зевал, смиренничал, терял возможности…) Потом:
– От беды не в петлю головой.
– Мы с печалью, а Бог с милостью.
– Всё минется, одна правда останется!
Последняя утешала особенно, только неясно было: а как же мне этой правде помочь? Ведь
– Кручиной моря не переедешь.
И такая с прямым намёком:
– Один со страху помер, а другой ожил.
И ещё загадочная:
– Пришла беда – не брезгуй и ею.
Получалось, что надо мне «от страху ожить». Получалось, что беду свою надо использовать на благо. И даже, может быть, на торжество? Но – как? Но – как? Шифр неба оставался неразгадан.
20 октября в ЦДЛ чествовали С. С. Смирнова (50 лет), и Копелевы уговорили меня появиться там, в первый раз за три года, что я был членом Союза, – вот, мол, я жив-здоров и улыбаюсь. И вообще первый раз я сидел на юбилее и слушал, как тут друг друга хвалят. О том, что Смирнов председательствовал на исключении Пастернака, – я не знал, я бы не пошёл. С Брестской крепостью он как будто потрудился во благо. Только я прикидывал: а как бы он эту работку сделал, если б нельзя было ему пойти на развалины крепости, нельзя было бы подойти к микрофону всесоюзного радио, ни – газетной, журнальной строчки единой написать, ни разу выступить публично, ни даже – в письмах об этом писать открыто, а когда встречал бы бывшего брестовца – то чтоб разговаривать им только тайно, от подслушивателей подальше и от слежки укрывшись; и за материалами ездить без командировок; и собранные материалы и саму рукопись – дома не держать; – вот тогда бы как? написал бы он о Брестской крепости, и сколь полно?.. Это – непридуманные были условия. Именно в таких условиях я и собрал 227 показаний по «Архипелагу ГУЛАГу»[20].
После торжества прошёл в вестибюле ЦДЛ слушок, что я – тут. И с десяток московских писателей и потом сотрудники ЦДЛ подходили ко мне знакомиться – так, как если б я был не угрожаемый автор арестованного романа, а обласканный и всесильный лауреат. И кругом – перешёптывания, сторонние взгляды. Что это было? – обычное тяготение к славе, хоть и опальной? Или – уже ободряющий знак времени? Или просто – не осведомлены о моём крахе?
Был на юбилее и Твардовский. Щурясь от вспышек фотомолний, он рано скрылся из нелюбимого президиума за сцену, может быть и в ресторан, в выходном же вестибюле опять выплыл. В нём взыграла ревность, что не он привёл меня первый раз в ЦДЛ (и вообще я с ним об этом приходе не посоветовался!), он тотчас утащил меня в сторону и от моих друзей и от этих представлений, тут подтянулись его оруженосцы Дементьев и Кондратович. Куда делась позавчерашняя кислость А. Т.! – он высказал: «А ведь борода перестаёт быть хемингуэевской, уже тянет на Добролюбова!» Те двое, конечно, с готовностью подтвердили. За два дня изменилась им и борода! А вот почему: обещан был мне на завтра приём у Демичева.
– Победа! Победа! – ликовал освежённый Твардовский. Уже ощущал он это благоуханное миро, которое вот-вот истечёт с верха сперва на меня, – но, значит, и на него, но, значит, и на журнал. – Что б там ни было сказано, вернут не вернут, но раз принимает – уже победа! Звоните мне завтра обязательно, я буду весь день у телефона.
Бедный А. Т.! – он ничуть от меня не отшатнулся, он душевно продолжал быть за меня, – только и я же должен был опомниться, не дерзить Руководству, но вернуть нам милость.
Однако на другой день, в огорчение Твардовскому, отказано мне было в приёме у Демичева. То есть не отказано напрямик, принял меня «помощник» Демичева, точнее, референт по вопросам культуры И. Т. Фролов, но это не могло считаться «приёмом». Референт был 36-ти лет. Ещё не отупелое лицо, и в меру умён, и очень умело и старательно вёл среднюю линию между своим нутряным, конечно, демократизмом, да ещё крайней предупредительностью к уважаемому писателю, – и постоянным почтительным сознанием своей приближенности к высокому политику.
Только и мог я повторить референту содержание моего нового письма Демичеву, где я упоминал уже и об отнятом архиве, но писал, что и многие партийные руководители так же не захотели бы сейчас повторить иных своих высказываний прежде XX съезда и отвечать за них. Уже крайняя наглость! А ещё наглое было в письме то, что именно теперь, когда мне уготовлялась жилплощадь на Большой Лубянке, я заявлял, что в Рязани у меня слишком дурны квартирные условия и я прошу квартиру… в Москве!
За неимением дел мы с референтом поговорили на общелитературные темы. Вот что сказал он: что очень сера вся современная советская литература (их детище! их цензуры! – но он объяснял это временным выбеднением народа на таланты. «Я оптимистичнее вас смотрю! – упрекнул я. – Таланты есть, да только вы их сдерживаете».); что поэтому абсолютно некем уравновесить меня, увы, даже Шолоховым, моё произведение обязательно прочтут, а «уравновеса» не прочтут, – и вот только почему нельзя меня печатать с моими трагическими темами; и ещё так, очень интересно: он видит проявление эгоизма перестрадавших заключённых в том, что мы хотим навязать молодёжи наши переживания по поводу минувшего времени.
Это прямо изумило меня, мораль Большого Хью из уайльдовской сказки! – эти несколько жемчужных мыслей об эгоизме тех, кто хочет говорить правду! Значит, в руководящих кругах это отстоялось, отлилось, за чистозвонную монету ходит! Им приятно и важно знать, что добры именно они, стараясь воспитать молодёжь во лжи, забвении и спорте.
Прошло десять дней от подачи письма – и отвечено было через рязанский обком, что моя «жалоба передана в Генеральную прокуратуру Союза ССР».
Вот это вышел поворотик! В Генеральную прокуратуру поступила от ничтожного бывшего (видимо, недосидевшего) зэ-ка Солженицына жалоба – на аппарат всесильной Госбезопасности! Для правового государства – порядок единственно правильный: кто ж, как не прокуратура, может защитить гражданина от несправедливых действий полиции? Но у нас это носило совсем иной оттенок: это значило, что ЦК отказался принять политическое решение – во всяком случае, в мою пользу. И только один ход дела мог быть теперь в прокуратуре: обернуть мою жалобу против меня. Я представлял, как они робко звонят в ГБ, те отвечают: да вы приезжайте почитайте! Едет тройка прокуроров (из них – два матёрых сталиниста, а один затёрханный) – и волосы их дыбятся: да ведь в хорошее сталинское время за такую мерзость – только расстрел! а этот наглец ещё смеет жаловаться?.. Но, с другой стороны, если бы ЦК хотел меня посадить, то не было надобности загружать этой работой прокуратуру: достаточно было дать разрешение Семичастному. Однако ЦК ушёл от решения. Что ж остаётся Генеральной прокуратуре? Тоже уйти. (Так и было. Через год я узнал, что положен был мой роман в сейф генерального прокурора Руденко, и даже жаждущим начальникам отделов не дали почитать.) Страшновато звучало: «ваше дело передано в Генеральную прокуратуру», но прогноз уже тогда у меня напрашивался ободряющий.
Кончался второй месяц со времени ареста романа и архива – а меня не брали вослед. Не только полный, но избыточный набор у них был для моего уголовного обвинения, десятикратно больший, чем против Синявского и Даниэля, – а всё-таки меня не брали? (Всё же неловко было им арестовывать меня на третьем году после того, как трубно прославили?)
Отвага – половина спасения! – нашёптывала мне книжечка пословиц. Все обстоятельства говорили, что я должен быть смел и даже дерзок! Но – в чём? Но – как? Бедой не брезговать, беду использовать, – но как?
Эх, если б я это понял в ту же осень! Всё становится просто, когда понято и сделано. А тогда я никак не мог сообразить.
Да если б на Западе хоть расшумели б о моём романе, если б арест его стал повсюду известен – я, пожалуй, мог бы и не безпокоиться, я как у Христа за пазухой мог бы продолжать свою работу. Но они молчали! Антифашисты и экзистенциалисты, пацифисты и страдатели Африки, – о гибели нашей культуры, о нашем геноциде они молчали, потому что на наш левофланговый нос они и равнялись, в том только и была их сила и успех. И потому что, в конце концов, наше уничтожение – наше внутреннее русское дело. За чужой щекою зуб не болит. Кончали следствие Синявский и Даниэль, мой архив и сердце моё терзали чекистские когти, – и именно в эту осень сунули Нобелевскую премию в палаческие руки Шолохова.
Надежды на Запад – не было, как, впрочем, и не должно быть у нас никогда. Если и станем свободными – то только сами. Если будет у человечества урок XX века, то дадим его Западу мы, а не Запад нам: от слишком гладенького благополучия ослабились у них воля и разум.
Полугодом спустя тот человек, который выхлопотал эту премию Шолохову и не мог оскорбить русскую литературу больней, – Жан Поль Сартр, был в Москве и через свою переводчицу выразил желание увидеться со мной. С переводчицей мы встретились на площади Маяковского, а «Сартры ждали ужинать» в гостинице «Пекин». На первый взгляд мне было очень выгодно с ним увидеться: вот «властитель дум» Франции и Европы, независимый писатель с мировым именем, ничто не мешает нам через десять минут сидеть уже за столиком, и я пожалуюсь на всё, что делается со мной, и этот трубадур гуманности поднимет всю Европу?
Но – если б то был не Сартр. Сартру я нужен был немножко из любопытства, немножко – для права рассказать потом о встрече со мной, быть может – осудить, я же не найду, где потом оправдаться. Я сказал переводчице: «Какая может быть встреча писателей, если у одного из собеседников заткнут рот и связаны руки сзади?» – «Вам неинтересна эта встреча?» – «Она горька, невыносима. У меня только ушки торчат над водой. Пусть он прежде поможет, чтобы нас печатали».
Я привёл ей пример искривлённого мальчика из «Ракового корпуса». Вот такой односторонне-изогнутой представляется русская литература, если смотреть из Европы. Неразвитые возможности нашей великой литературы остаются там начисто неизвестными.
Прочёл ли Сартр в моём отказе встретиться – глубину того, как мы его не приемлем?
Всё-таки начал я действовать. Как теперь вижу – неправильно. Действовать несообразно своему общему стилю и своему вкусу. Я спешил как-нибудь заявить о себе – и для этого придрался к путаной статье академика Виноградова в «Литературной газете». У меня, правда, давно собирался материал о языке художественной литературы, но тут я скомкал его, дал поспешно, поверхностно, неубедительно, да ещё в резкой дискутивной форме, да ещё в виде газетной статьи, от которых так зарекался. (Да ещё утая главную мысль: что более всех испортили русский язык социалисты в своих неряшливых брошюрах, и особенно – Ленин.) Всего-то и вышло из этой статейки, что я крикнул Госбезопасности: «Вот – живу и печатаюсь, и вас не боюсь!»
Редактор «Литгазеты», оборотливый и чутконосый Чаковский, побежал «советоваться» с Демичевым: может ли имя моё появиться в печати? Демичев, видно, сразу разрешил.
И был прав.
А я – совсем неправ, я запутался. Лишний раз я показал, что, предоставленные себе, мы этой шаровой коробкой, какая вертится у нас на шее, скорей всего избираем неправильный путь.
Потому что в тех же днях (9 ноября) благословенная умная газета «Нойе Цюрхер Цайтунг» напечатала: что был у меня обыск и забрали мои произведения. Это и было то, чего я жаждал минувших два месяца! Теперь это могло распространиться, подтвердиться. Но тут подошла на Запад «Литгазета», и я ничтожной статейкой своей как бы всё опроверг, крикнул: «Вот – живу и печатаюсь, и ничего мне!», только не Госбезопасности крикнул, а газете «Нойе Цюрхер Цайтунг», подвёл её точных информаторов.
Однако эти несколько строк, что она обо мне напечатала, очень меня ободрили и укрепили. Свою ошибку я понял не сразу. Тогда я считал, что и статья в «Литгазете» тоже меня укрепила.
Ко мне вернулось рабочее равновесие, и мне удалось кончить несколько рассказов, начатых ранее: «Как жаль», «Захара-Калиту» и ещё один. И решил я: сцепить их со своей опасной «Правой кистью» и так сплоткой в четыре рассказа двинуть кому-нибудь. Кому-нибудь, но не «Новому миру». Ведь Твардовский успел уже отвергнуть дюжину моих текстов – больше, чем напечатал. Ведь Твардовский только что испугался «Правой кисти», – настолько испугался, что даже членам редакции не показал. (И об этом сказал мне как о своей заслуге – что бережёт меня, моё имя «доброе»… Такое ли лежало уже на Лубянке! Неосознанно или осознанно, он берёг – себя, свою репутацию: что не ошибся он, кого открыл.)
Л. Копелев пошутил тогда, что я совершил «переход Хаджи-Мурата», с четырьмя этими рассказами пройдя несколько редакций враждебного «Новому миру» журнального лагеря. И действительно, с точки зрения «Нового мира», особенно с личной точки зрения Твардовского, я совершил тогда кровную измену. (Впрочем, по обычной своей малой информации о неофициальных событиях, А. Т. так и не довелось узнать весь объём этой измены: что «Правую кисть», схороненную им даже от верных помощников, я безпечно раздавал врагам и не мешал секретаршам и курьерам копировать.)
Я же не видел и не вижу здесь никакой измены по той причине, что отчаянное противоборство «Нового мира» «Октябрю» и всему «консервативному крылу» представляется мне лишь силами общего поверхностного натяжения, создающими как бы общую прочную плёнку, сквозь которую не могут выпрыгнуть глубинные бойкие молекулы. Тот главный редактор, который не печатает пьесу лишь потому, что в ней не проведено различие между капитализмом и социализмом; чурается и брезгует стихотворениями в прозе за то одно, что первый их напечатал эмигрантский журнал; для кого вообще русского литературного зарубежья не существует или мало чем оно отличается от мусорной свалки, а наш самиздат – от торговли наркотиками; кто напуган рассказом, где автор не избежал дать этическую оценку карателю Гражданской войны, – тот главный редактор чем же, кроме несомненно добрых намерений, отличается от своих «заклятых врагов» Кочетова, Алексеева и Софронова? Здесь уравнительное действие красных книжечек! А уж члены их редакций, например огоньковцы Кружков, Иванов, так, право, неотличимы от Кондратовича и Закса, даже в кабинетных суждениях прямее и смелее (не напуганы). Например, о мужичестве, погибшем в коллективизацию, здесь как-то пооткрытее говорили, поестественней чувствовали. Даже М. Алексеев, целиком занятый своею карьерой, сказал мне в ту осень, правда наедине: «Много лет мы всё строили на лжи, пора перестать!»[21]
Меня остановят, чтобы я не кощунствовал, чтоб и сравнивать дальше не смел. Мне скажут, что «Новый мир» долгие годы был для читающей российской публики окошком к чистому свету. Да, был. Да, окошком. Но окошком кривым, прорубленным в гнилом срубе и забранным не только цензурной решёткой, но ещё собственным добровольным идеологическим намордником – вроде бутырского армированного мутного стекла… (В исправление сказанного: в разговорах этих «октябристов» я чувствовал не только ненависть к «Новому миру», но и страх перед новомирским критическим отделом, скрытое уважение к нему. Казалось бы – при развернутости их безчисленных печатных полос, при всеобщем круговом восхвалении – что им там критика единственного, вечно опаздывающего, с глуховатым голоском журнала? Ан нет, всё время помнили её, шельмецы, глубоко она им отзывалась. Неотвратимо понимали, что только новомирское тавро припечатается и останется, а их собственные штампы смоет первый дождь. «Новый мир» был единственный в советской литературе судья, чья художественная и нравственная оценка произведения была убедительна и несмываема с автора. Кстати, такую оценку, и с пользой для себя, получил бы в «Новом мире» и Евтушенко, если бы арест Синявского не помешал выходу уже набранной его статьи с разносом самодовольной «Братской ГЭС».)
А я просто хотел вытралить эту неосуществлённую возможность – вдруг она что-нибудь да потянет: пресловутому «консервативному крылу» (а никакого другого «крыла» не было у перешибленной птицы нашей печати) предложить свои рассказы во главе с «Правой кистью» – как они съедят? А что если их литературные разногласия с «Новым миром» столь им досадчивы, что они пренебрегут своей идеологической преданностью и пронесут мои рассказы через родственные им цензурные рога – только чтобы «перехватить» меня к себе? Шанс был очень слаб, но и эту «степень свободы», мне казалось, надо использовать – хотя б для того, чтобы потом себе не пенять. Напечатать же «Правую кисть» не стыдно было хоть и в типографии самого КГБ.
И ещё одну историческую проверку, историческую зарубку я хотел сделать: уже много лет эти деятели бахвалились, что они – русские, выпячивали, что они – русские. И вот я давал им первую в их жизни возможность доказать это. (И в три дня, слабея животом, они доказали, что – коммунисты они, никакие не русские.)
На первых часах «переход Хаджи-Мурата» действительно произвёл там переполох. Мне не давали шагу одного сделать пешком – привозили, перевозили и увозили только в автомобилях. В «Огоньке» встречать меня собрался полный состав. Софронов приехал из-за города, радостно напоминал мне, что мы оба – ростовчане, и спешил выудить из забвения, что когда-то он писал похвальную рецензию на «Ивана Денисовича» (когда все писали их стадом); Стаднюк, держа ещё не чтённые рукописи, возмолился: «Дай Бог, чтоб это нам подошло!»; Алексеев одобрял: «Да, надо вам переезжать в Москву и приобщаться к литературной общественности». Главред «ЛитРоссии» Поздняев тоже разговаривал с пружинной готовностью, тоже напоминал забытый случай, когда он имел честь писать мне письмо, и уже вперёд забегал, как они умеют быстро печатать, как они перевёрстывают номер за два дня до выпуска.
В этом возбуждённом приёме я снова увидел знак времени: ни партийная их преданность, ни чекистская угроза не были уже так абсолютны, как в булгаковские времена, – уже литературное имя становилось самостоятельной силой.
Однако вся их радость была только до первого чтения. В «ЛитРоссии» прочли в два часа, и уже Поздняев звонил:
– Вы понимаете, что за такой короткий срок мы не успели бы посоветоваться. – (Уж и это было важно им доказать – что они не побежали с доносом!) – Будем говорить откровенно: у нас в ушах ещё звучит всё то, что мы слышали на последних партийных собраниях. Наше единое мнение: печатать можно только «Захара-Калиту».
И сразу назвал день печатания и даже гонорар – в нём жили сытинские ухватки, хотя в ушах и звучали партсобрания… Я попросил вернуть все четыре рассказа. Он ещё уговаривал.
«Огоньку» так пекло меня напечатать, что сперва они отвели одну «Правую кисть», остальное брались. Потом позвонили: «Как жаль» тоже нельзя. Тогда и я отказался.
Легче написать новый роман, чем устроить готовый рассказ в печать у издателей, вернувшихся с Идеологического Совещания! Вся затея моя, вся эта суета с рассказами надоела мне в три дня, – и в журнал «Москва» я уже не ходил, не звонил, передал через друзей. А там – молча держали несколько дней, и создалось у меня томление, что главред Поповкин потащил «Правую кисть» показывать на Лубянку – довесом ко всему отобранному.
2 декабря я пошёл в «Новый мир» поговорить начистоту – в день, когда не было А. Т., с остальной редакцией, потому что и им уже А. Т. ничего не давал ни читать, ни решать со мною. Дементьеву и Лакшину я объяснил, как Твардовский рядом отказов толкнул меня действовать самостоятельно и даже идти к тем. (Ведь я и статью в «Литгазете» не имел права печатать, не посоветовавшись!) И Дементьев, этот постоянный мой враг в «Новом мире», вдруг как будто всё понял и одобрил: и мои самостоятельные шаги, и поход к тем, и что мне даже очень хорошо напечататься не в «Новом мире», а где-нибудь: мол, никакой «групповщины», широкий взгляд.
А вот в чём была пружина, я не сразу вник: «либерал» Дементьев уже понимал больше всех тех «консерваторов» – и Алексеева, и Софронова, и Поздняева; он понимал, что подкатила пора, когда меня вообще невозможно печатать, ни непроходимого, ни проходимого; что уже тяготеет запрет на самом имени, и хорошо бы «Новому миру» от этого груза тоже освободиться. Я дал им «Захара-Калиту» (уж если печатать его одного, так в «Новом мире»), а Дементьев и Лакшин дружно ухватились, но странно как-то: чтоб не в «Новом мире» печатать, а где-нибудь в другом месте. Лакшин предложил «Известия», Дементьев замахнулся выше – в «Правде»! В этот поучительный вечер (тем и поучительный, что всё – без Твардовского) этот мой противник проявил редкую обо мне заботливость; долго дозванивался, искал зав. отделом культуры «Правды» видного мракобеса Абалкина; сладким голосом с ласкающим оканьем стал ему докладывать, что у Солженицына – светлый патриотический рассказ, и злободневный, и очень подходит к газете, и «мы вам его уступаем». И тут же младшего редактора прозы, уже по окончании рабочего времени, погнал собственными ножками отнести пакет с рассказом в «Правду». (Во всех остальных редакциях даже курьеры ездили на «волгах».)
Качели! Весь следующий день мой рассказ шёл по «Правде», возвышаясь от стола к столу. Я знал, где поставил там антикитайскую мину, и на неё-то больше всего рассчитывал. (Антикитайскую-то мину я рассчитал, а не заметил, что рассказом своим закладываю куликовского Захара. Говорят, опозоренная такой фигурой, Фурцева распорядилась уволить Смотрителя Поля. Так и всегда: в сумрачной столице идут политические бои, а у дальних мужиков головы летят.) А они, может быть, и не заметили её (или она им нужна не была?), а заметили только слово «монголы». И объяснил мне Абалкин по телефону: сложилось мнение (а выраженьице-то сложилось!), что печатание «Захара» именно в «Правде» было бы международно истолковано «как изменение нашей политики относительно Азии. А с Монголией у Советского Союза сложились особенные отношения. В журнале, конечно, можно печатать, а у нас – нет».
Вот в это я поверил: что они так думают, что таков их потолок. А в «Новом мире» все рассмеялись, сказали, что это – ход, отговорка.
В тот день мне впервые показалось, что благодаря своим частым и долгим выходам из строя А. Т. начинает терять прочность руководства в журнале: журнал не может же замирать и мертветь на две-три недели, как его Главный! За день до того члены редакции выспорили против А. Т. своё мнение о рассказах В. Некрасова (печатать), вчера смело оперировали с моим рассказом, а сегодня даже не дали ему «Захара» читать, потому что экземпляр – один и что-то надо с ним делать дальше[22]. Твардовский сидел растерянно и посторонне.
Мы поздоровались холодно. Дементьев уже изложил ему мои вчерашние объяснения и мои претензии к «Новому миру» – дико-неожиданные для А. Т., ибо не мыслил он претензий от телёнка к корове. Я не собирался перекоряться с А. Т. при членах редакции, но получилось именно так, и потом их ещё прибавилось на шум. Да и совсем не упрекать Твардовского я хотел (за отклонение стольких уже моих рукописей; за отказ сохранить уцелевший экземпляр романа; за отказ напечатать мою защиту против клеветы), – я только хотел показать, что на каком-то пределе кончаются же мои обязательства. Однако А. Т. уже был напряжён отражать все мои доводы сподряд, он стал тут же запальчиво меня прерывать, я – его, и разговор наш принял характер хаотический и взаимнообидный. Ему была обидна моя неблагодарность, мне – туповатая эта опека, не обоснованная превосходством жизненного взгляда.
Всю осень настрекал он меня упрёками, и сейчас не только не отступился от них, но снова и снова нажигал:
– как я мог, не посоветовавшись с ним, отнести хранить свои вещи к «тому антропософу»;
– как я смел рядом со «святым» «Иваном Денисовичем» и т. д. (мне всякое упоминание об этом провале 11 сентября, о том, что, где и как я у Теуша держал на свою беду, – был мой нарыв постоянный, горло сжимающий нарыв, – а он вередил наутык);
– и как мог я не послушаться и взять роман из редакции;
– и как мог я подсунуть «Крохотки» «Семье и школе»;
– и опять же, крайне важно: как я мог писать жалобы четырём секретарям ЦК, а не одному Петру Нилычу?? (Раздавался железный скрежет истории, а он всё видел иерархию письменных столов!);
– и опять-таки: зачем бороду отрастил? не для того ли…?
Но в повторном этом ряду звучали и новые упрёки, как стон:
– я вас открыл!!
– небось, когда роман отняли, – ко мне первому приехал! я его успокоил, приютил и согрел!
И слушала всё это редакция!
И наконец, по свежим следам:
– как я мог идти «ручку целовать» Алексееву, которого потрошат в очередном «Новом мире»?
Я мог бы больно ему отвечать. Но при всей обидности разговора я нисколько на него не сердился: понимал, что здесь никакая не личная ссора, не личное расхождение, а просто – куц оказался тот общий наш путь, где мы могли идти как литературные союзники, ещё не оцарапавшись и не оттолкнувшись острыми рёбрами идеологий. Расхождение наше было расхождением литературы русской и литературы советской, а вовсе не личное.
И я лишь по делу возражал:
– Когда ж с вами советоваться? – приедешь в Москву на день-два, а вас постоянно нет.
И в этом кровном трагическом разговоре А. Т. воскликнул с достоинством:
– Я две недели был на берегах Сены!
Не сказал просто: в Париже.
Но что он обо мне на берегах Сены говорил, а теперь от меня скрывал? Сын своей партии, он защищался глухостью и немостью информации! А мне уже перевели из «Монд» о его интервью. После тревожного гудка, поданного «Нойе Цюрхер Цайтунг», его конечно спрашивали обо мне. И если бы судьба художника, уже заглотнувшего солёной воды и только-только ртом ещё над поверхностью, была бы для него первое, а империализм как последняя стадия капитализма – второе, он, с его благородным тактом, сумел бы без опасности для себя как-то ответить неполно, уклончиво, в чём-то дать паузу, – и понял бы мир, что со мной действительно худо, что я в опасности. Твардовский же сказал корреспондентам, что моя чрезвычайная скромность (которую он высоко ценит!..), моё просто-таки монашеское поведение запрещают и ему, как моему редактору и другу, что-либо поведать о моих творческих планах и обо мне. Но что заверяет он корреспондентов: ещё много моих «прекрасных страниц» они прочтут.
То есть он заверил их, что я благополучно работаю, пишу и ничто мне не мешает, кроме моей непомерной монашеской скромности. То есть он опроверг «Нойе Цюрхер Цайтунг».
Я от солёной воды во рту не мог крикнуть о помощи – и он меня тем же багром помогал утолкать под воду.
Потому что он хотел мне зла? Нет!! – потому что партия делает поэтов такими… (Он добра мне хотел: он хотел представить меня таким послушным, чтобы Пётр Нилович умилостивился бы!..)
Всё же накал этого бранного разговора был так велик, что, раздражённый моим круговым несогласием и упрямством, А. Т. вскочил и гневно крикнул:
– Ему … в глаза, он – «божья роса»!
Я всё время старался помнить, что он – заблудившийся, безсильный человек. Но тут, теряя самообладание, ответил с гневом и я:
– Не оскорбляйте! От надзирателей я ведь слышал и погрубей!
Он развёл руками:
– Ну, если так…
Три сантиметра оставалось, чтобы мы поссорились лично. А это было совсем ни к чему, это только затемняло важную картину раскола двух литератур. Но присутствующие предупредили взрыв, все его не хотели (кроме, думаю, Дементьева).
Мы кончили сухим рукопожатием.
Мне оставался до поезда час, и ещё надо было… бороду сбрить, да! вот бы подскочил Твардовский, если б узнал! Час до поезда, и не в Рязань, но и не «границу переходить», а – в далёкое Укрывище, на несколько месяцев без переписки, – туда, где ждал меня спасённый утаённый «Архипелаг». Сколько мог, я за эту осень пошумел, подействовал, показался, круг этих безтолковых хлопот надо было и обрывать. Я ехал в такое место, где б не знали обо мне, не могли бы и взять. С освобождённой душой я снова возвращался к той работе, которую ГБ прервало и разметало.
Это удалось! В Укрывище по транзисторному приёмнику следил я и за процессом Синявского-Даниэля. У нас в стране за 50 лет проходили и во сто раз худшие издевательства и в миллион раз толпянее – но то всё соскользнуло с Запада как с гуся вода, того всего не заметили, а что заметили – простили нам за Сталинград. Теперь же – опять знак времени, «прогрессивный Запад» заволновался.
Для себя я прикинул, что от этого шума придётся гебистам избирать со мною какой-то другой путь. Они колебались. В конце декабря и в январе, как мне потом рассказали, на нескольких собраниях их чины объявляли, что захваченный мой архив «концентрировался для отправки за границу». Но не потому они эту версию покинули, что из квартиры Теуша не шли пути за границу (мастера подделки, они б это обставили шутя), – а потому, что не влезал второй такой же суд вслед за первым.
Как когда-то Пастернак отправкой своего романа в Италию, так теперь Синявский и Даниэль за своё писательское душевное двоение безпокаянным принятием расплаты – открывали пути литературы и закрывали пути её врагов. У мракобесов становилось простора меньше, у литературы – больше.
В Ленинграде на встрече КГБ с писателями (смежные специальности: и те и другие – инженеры человеческих душ) Гранин спросил: «Правда ли, что у Солженицына отобрали роман?» С отработанной прелестной наивностью чекистов было отвечено: «Роман? Нет, не брали. Да он нам и не жаловался. Там был какой-то роман «В круге первом», но неизвестно чей». (На титульном листе – моя фамилия.)
Просто ещё не решено было, что со мной делать.
А когда надумали – решение оказалось диковинным: решили издать мои отобранные вещи закрытым тиражом! По-видимому, расчёт был, что они вызовут только отвращение и негодование у всякого честного человека.
Когда в марте 1966 я вернулся к открытой жизни и до меня дошёл первый рассказ, что кто-то из ЦК не в закрытой комнате и не под расписку, а запросто в автомобиле передавал почитать мой роман Межелайтису, – я просто не поверил: ведь это игра с огнём, неужели настолько лишил их Бог разума? этот огонь не удержишь скоро и в жароупорных рукавицах, ведь он разбежится! Да и в чтении не станет он работать на них: у моих врагов, у скально-надёжных лбов он отнимет какую-то долю уверенности; головы затуманенные на долю просветлит. Смотришь, одного-второго-третьего это чтение и обернёт.
Однако весною 66-го, месяц за месяцем, из одних уст и из других, рассказы накладывались: издали и роман, и «Пир победителей»! и дают читать! Кто же даёт? Очевидно, ЦК, туда это всё перешло из ЧК. Кому дают? Крупным партийным боссам (но те не очень-то читчики, ленивы, нелюбознательны) и крупным чинам творческих союзов. Вот прочёл Хренников, и на заседании композиторов загадочно угрожает: «Да вы знаете, какие он пьесы пишет? В прежнее время его б за такую пьесу расстреляли!» Вот прочёл Сурков и разъясняет, что я – классовый враг (какому классу?). Вот сел изучать мой роман Кочетов, может что-нибудь украдёт. Дают читать главным редакторам издательств – чтобы сам срабатывал санитарный кордон против моего имени и каждой моей новой строчки.
Нет, не тупая голова это придумала: в стране безгласности использовать для удушения личности не прямо тайную полицию, а контролируемую малую гласность – так сказать, номенклатурную гласность. Обещались те же результаты, и без скандала ареста: удушить, но постепенно.
И всё же дали, дали они тут маху! Плагиаторская афера! – без меня и против меня издавать мои же книги! Даже в нашей беззаконной, неправовой стране (где закрытое ведомственное издание не считается и «изданием», даже в суд нельзя подавать на нарушение авторских прав!), но с нарождающимся общественным мнением, но со слабеньким эхошком ещё и мирового мнения, – залез их коготь что-то слишком нагло и далеко. Эй, застрянет? Обернётся этот способ когда-то против них.
Этим закрытым изданием на какое-то действие они толкали и меня, но я опять тугодумно не мог понять – на какое же? Я только не увидел в этой затее опасности, она мне даже понравилась. Настроят против меня номенклатуру? Так они и так меня все ненавидят. Зато, значит, брать меня сейчас не собираются.
Вот как неожиданно и удивительно развивается история: когда-то сажали нас, несчастных, ни за что, за полслова, за четвертушку крамольной мысли. Теперь ЧКГБ имеет против меня полный судебный букет (по их кодексу, разумеется) – и это только развязало мне руки, я стал идеологически экстерриториален! Через полгода после провала с моими архивами прояснилось, что этот провал принёс мне полную свободу мысли и исповедания: не только исповедания Бога – мною, членом атеистически-марксистского союза писателей, но исповедания и любой политической идеи. Ибо что б я теперь ни думал, это никак не может быть хуже и резче, чем то сердитое, что я написал в лагерной пьесе. И если не сажают за неё, значит не посадят и ни за какое нынешнее убеждение. Как угодно откровенно я теперь могу отвечать в письмах своим корреспондентам, что угодно высказывать собеседникам – и это не будет горше той пьесы! Что угодно я теперь могу записывать в дневниках – мне незачем больше шифровать и прятаться. Я подхожу к невиданной грани: не нуждаться больше лицемерить! никогда! и ни перед кем!
Определив весною 1966, что мне дана долгая отсрочка, я ещё понял, что нужна открытая, всем доступная вещь, которая пока объявит, что я жив, работаю, которая займёт в сознании общества тот объём, куда не прорвались конфискованные вещи.
Очень подходил к этой роли «Раковый корпус», начатый тремя годами раньше. Взялся я его теперь продолжать.
ЧКГБ не ждало, не дремало, тактика требовала и мне с «Корпусом» поспешить – а как же можно спешить с писанием? Тут подвернулась мысль: пока выдать 1-ю часть без 2-й. Сама повесть[23] не нуждалась в этом, но тактика гнала меня кнутом по ущелью.
Как хотелось бы работать не спеша! Как хотелось бы ежедён перемежать писание с неторопливой безкорыстной языковой гимнастикой. Как хотелось бы десяток раз переписывать текст, откладывать его и возвращаться через годы, и подолгу на пропущенных местах примерять и примерять кандидатов в слова. Но вся моя жизнь была и остаётся гонка, уплотнение через меру, – и только удалось бы обежать по контуру того, что совсем неотложно! А может быть, и по контуру не обежать…
Столькие писатели торопились! – обычно из-за договоров с издательствами, из-за подпирающих сроков. Но, казалось, – чего бы торопиться мне? – шлифуй и шлифуй! Нет. Всегда были могучие гнавшие причины, то необходимость прятать, рассредоточить экземпляры, использовать помощь, освободиться от других задач, – и так ни одной вещи не выпустил я из рук без торопливости, ни в одной не нашёл всех последних точных слов.
Кончая 1-ю часть «Корпуса», я видел, конечно, что в печать её не возьмут. Главная установка моя была – Самиздат, потом присоветовали друзья давать её на обсуждение – в московскую секцию прозы, на «Мосфильм», и так утвердить и легализовать безконтрольное распространение её. Однако для всего этого нужно было безукорное право распоряжаться собственным произведением, – а я ведь повинен был сперва нести его в «Новый мир». После всего, что Твардовский у меня уже отверг, никак я не мог надеяться, что он его напечатает. Но потеря месяца тут была неизбежна.
С той ссоры мы так и не виделись. Учтивым письмом (и как ни в чём не бывало) я предварил А. Т., что скоро предложу полповести и очень прошу не сильно задержать меня с редакционным решением.
Сердце А. Т., конечно, дрогнуло. Вероятно, он не переставал надеяться на наше литературное воссоединение. Нашу размолвку он объяснял моим дурным характером, поспешностью поступков, коснением в ошибках, – но все эти пороки, и даже сверх, он готов был великодушно мне простить.
А прощать или не прощать не предстояло никому из нас. Кому-то из двух надо было продуть голову. Моя уже была продута первыми же тюремными годами. После хрущёвской речи на XX съезде начал это развитие и А. Т. Но, как у всей партии, оно вскоре замедлилось, потом запетлилось и даже попятилось. Твардовский, как и Хрущёв, был в довечном заклятом плену у принятой идеологии. У обоих у них природный ум безсознательно с нею боролся, и когда побеждал – то было лучшее и высшее их. Одна из таких вершин мужика Хрущёва – отказ от мировой революции через войну.
В «Новом мире» с первой же минуты получения рукописи «Корпуса» из неё сделали секретный документ, так определил Твардовский. Они боялись, что рукопись вырвется, пойдёт, остерегались до смешного: не дали читать… в собственный отдел прозы! А от меня-то повесть уже потекла по Москве, шагали самиздатские батальоны!
18 июня – через два года после многообещающего когда-то обсуждения романа, состоялось в редакции обсуждение 1-й части «Корпуса». Мнения распались, даже резко. Только умягчительная профессиональная манера выражаться затирала эту трещину. Можно сказать, что «молодая» часть редакции или «низовая» по служебному положению была энергично за печатание, а «старая» или «верховая» (Дементьев – Закс – Кондратович) столь же решительно против. Только что вступивший в редакцию очень искренний Виноградов сказал: «Если этого не печатать, то неизвестно, для чего мы существуем». Берзер: «Неприкасаемый рак сделан законным объектом искусства». Марьямов: «Наш нравственный долг – довести до читателя». Лакшин: «Такого сборища положительных героев давно не встречал в нашей литературе. Держать эту повесть взаперти от читателя – такого греха на совесть не беру». – Закс начал затирать и затуманивать ровное место: «Автор даёт себя захлёстывать эмоциям ненависти… Очень грубо введено толстовство… Избыток горючего материала, а тут ещё больная тема спецпереселенцев. Что за этим стоит?.. вещь очень незавершённая». – Кондратович уверенно поддержал: «Нет завершённости!.. Разговор о ленинградской блокаде и другие пятнышки раздражённости». – Дементьев начал ленивым тоном: «Конечно, очень хочется (ему-то!) напечатать повесть Солженицына… В смысле проявления сил художника уступает роману… – (Но именно романа он не принимал! Теперь, когда роман не угрожал печатанием, можно было его и похвалить.) – …Объективное письмо вдруг уступает место обнажённо-тенденциозному… – А дальше, возбуждаясь и сердясь: – У Толстого, у Достоевского есть внутренняя концепция, ради которой вещь пишется, а здесь её нет, вещь не завершена в своих внутренних мотивах! – (Каждый раз одно и то же: он тянет меня высказаться до конца, чтобы потом было легче бить. Шалишь!..) – «Подумайте, люди, как вы живёте», – это мало. Нет цельности – и значит, печатать в таком виде нельзя. – (Как будто весь печатаемый хламный поток превзошёл эту ступень цельности!..) – И, всё больше сердясь: – Как так не было предусмотрительности с Ленинградом? Уж куда больше предусмотрительность – финскую границу отодвинули!»
Вот это называется – литературная близость! Вот и дружи с «Новым миром»! Дивный аргумент: границу финскую и то отодвинули! И я – бит, и в повести наклеветал. Я же не могу «внутреннюю концепцию» открыть до конца: «Так нападение на Финляндию и была агрессия!» Тут не в Дементьеве одном, дальше в разговоре и Твардовский меня прервёт:
– О принципиальных уступках с вашей стороны нет и речи: ведь вы же не против советской власти, иначе бы мы с вами и разговаривать не стали.
Вот это и есть тот либеральный журнал, факел свободной мысли! Затаскали эту «советскую власть», и даже в том никого из них не вразумишь, что советской-то власти с 1918 года нет.
В чём объединились все: осудили Авиету, и фельетонный стиль главы, и вообще все высказывания о советской литературе, какие только есть в повести: «им здесь не место». (А где им место? На весь этот ворох квачущей лжи кому-то где-то один раз можно ответить?) Здесь удивила меня общая немужественность (или забитость, или согбенность) «Нового мира»: по их же тяжёлой полосе 1954 года, когда Твардовский был снят за статью Померанцева «Об искренности», я брал за них реванш, взглядом стороннего историка, а они все дружно во главе с Твардовским настаивали: не надо! упоминать «голубенькую обложку» – не надо! защищать нас – не надо!
Я думал – они только для газеты в своё время раскаялись, для ЦК, для галочки. А они, значит, душой раскаялись: нельзя было об искренности писать.
И ещё обсуждался «важный» (по нашим условиям) вопрос: как же быть с тем, что повесть не кончена, что только 1-я часть? Одни говорили: ну и напишем, что 1-я. Но Твардовский, хорошо зная своих чиновных опекунов, и обсуждать не дал: «Мы лишены возможности объявить, что это – 1-я часть. Нам скажут: пусть напишет и представит 2-ю, тогда решим. Мы вынуждены печатать как законченную вещь».
А она не закончена, все сюжетные нити повисли!.. Ничего не поделаешь, таковы условия.
Итак, раскололись мнения «низовых» и «верховых», надо ли мою повесть печатать, и камнем последним должно было лечь мнение Твардовского.
Каким же он бывал разным! – в разные дни, а то – в часы одного и того же дня. Выступил он – как художник, делал замечания и предложения, далёкие от редакционных целей, а для кандидата ЦК и совсем невозможные:
– Искусство на свете существует не как орудие классовой борьбы. Как только оно знает, что оно орудие, оно уже не стреляет. Мы свободны в суждениях об этой вещи: мы же, как на том свете, не рассуждаем – пойдёт или не пойдёт… Мы вас читаем не редакторским, а читательским глазом. Это счастливое состояние редакторской души: хочется успеть прочитать… Современность вещи в том, что разбуженное народное сознание предъявляет нравственный счёт… Не завершено? Произведения великие всегда несут черты незавершённости: «Воскресенье», «Бесы», да где этого нет?.. Эту вещь мы хотим печатать. Если автор ещё над ней поработает – запустим её и будем стоять за неё по силам и даже больше!
Так он внезапно перевесил решение – за «младших» (они растрогали его своими горячими речами) и против своих заместителей (хотя, очевидно, обещал им иначе).
И тут же, на этом заседании, он говорил иное: то вот – о советской власти; то – «заглавие будем снимать», не испрашивая встречных мнений. То прерывал мой ответ тоном покровительственным и в политике и в мастерстве. Он абсолютно был уверен, что во всех обсуждаемых вопросах разбирается лучше присутствующих, что только он и понимает пути развития литературы. (Так высоко умел рассуждать! – а и сегодня не удержался от ворчания: «отрастил бороду, чтобы…», – не знал он, что борода уже вторая… Это не просто было ворчание, но подчинённость личного мнения мнению компетентных органов.)
Возражал я им всем дотошно, но лишь потому, что все их выступления успел хорошо записать, и вот они все равно лежали передо мной на листе. Только одно местечко с подъёмом: каких уступок от меня хотят? Русановых миллионы, над ними не будет юридического суда, тем более должен быть суд литературы и общества. А без этого мне и литература не нужна, и писать не хочу.
Ни в бреде Русанова, ни в «анкетном хозяйстве», ни в навыках «нового класса» я не собирался сдвинуться. А в остальном все часы этого обсуждения я заметил за собой незаинтересованность: как будто не о моей книге речь, и безразлично мне, что решат.
Ведь самиздатские батальоны уже шагали!.. А в печатание легальное я верить перестал. Но пока марш батальонов не донёсся до кабинета Твардовского, надо было пробовать. Тем более, что 2-ю часть я предвидел ещё менее «проходимой».
Нет, они не требовали от меня убирать анкетное хозяйство или черты нового класса, или комиссию по чистке, или ссылку народов. А уж ленинградскую блокаду мог я и разделить между Сталиным и Гитлером. Главу с Авиетой со вздохом пока отсечь. Безсмысленнее и всего досаднее было – менять название. Ни одно взамен не шло.
Всё ж я покорился, через неделю вернул в «Новый мир» подстриженную рукопись и в скобках на крайний случай указал Твардовскому запасное название (что-то вроде «Корпус в конце аллеи», вот так всё и мазали).
Ещё через неделю состоялось новое редакционное обсуждение. Случайно ли, не случайно, но не было: ни Лакшина, считавшего бы грехом совести держать эту рукопись взаперти; ни Марьямова с нравственным долгом довести её до читателя. Зато противники все были тут. Сегодня они были очень сдержанны, не гневались нисколько: ведь они уже сломили Твардовскому хребет там, за сценой.
Теперь начал А. Т. – смущённо, двоясь. Сперва он неуверенно обвинял меня в «косметической», недостаточной правке (зато теперь Дементьев в очень спокойном тоне за меня заступился – о, лиса! – де, и правка моя весьма существенна, и вещь стала закончена… от отсечения главы!). Требовал теперь А. Т. совсем убрать и смягчённый разговор о ленинградской блокаде, и разговор об искренности. Однако тут же порывом отбросил все околичности и сказал:
– Внешних благоприятных обстоятельств для печатания сейчас нет. Невозможно и рискованно выступать с этой вещью, по крайней мере в этом году. – (Словно на будущий «юбилейный», 50 лет Октября, станет легче!..) – Мы хотим иметь такую рукопись, где могли бы отстаивать любое её место, разделяя его. – (Требование очень отяготительное: автор нисколько не должен отличаться от редакции? должен заранее к ней примеряться?) – А Солженицын, увы, – тот же, что и был…
И даже нависание над раковым корпусом лагерной темы, прошлый раз объявленное им вполне естественным, теперь было названо «литературным, как Гроссман писал о лагере по слухам». (Я о лагере – и «по слухам»!) Потом, «редакции нужно прогнать вещи, находящиеся в заторе». (Это – бековский роман о Тевосяне и симоновские «Дневники». Дементьев и Закс обнадёживали, что пройдут «Дневники». Но зарезали и их.) В противоречие же со всем сказанным А. Т. объявил: редакция считает рукопись «в основном одобренной», тотчас же подписывает договор на 25 %, а если я буду нуждаться, то потом переписывает на 60 %. «Пишите 2-ю часть! Подождём, посмотрим».
Вторую-то часть я писал и без них. А пока что предлагалось мне получить деньги за то, чтобы первую сунуть в гроб сейфа и уж конечно, по правилам «Нового мира» и по личным на меня претензиям А. Т., – никому ни строчки, никому ни слова, не дать «Раковому корпусу» жить, пока в один ненастный день не приедет полковник госбезопасности и не заберёт его к себе.
Такое решение редакции искренно меня облегчило: все исправления можно было тотчас уничтожить, вещь восстановить – как она уже отстукивалась на машинках, передавалась из рук в руки. Отпадала забота: как выдержать новый взрыв А.Т., когда он узнает, что вещь ходит. Мы были свободны друг от друга!
Но всего этого я не объявил драматически, потому что лагерное воспитание не велит объявлять вперёд свои намерения, а сразу и молча действовать. И я только то сказал, что договора пока не подпишу, а рукопись заберу.
Кажется, из сочетания этих двух действий могла бы редакция и понять! – но они ничего не поняли. Так и поняли, что я покорился, повинился, и вот буду работать дальше, считая себя недостойным даже договора. Я опять стал для них овечкой «Нового мира»!
Однако не прошло и месяца, как Твардовский через родственницу моей жены Веронику Туркину срочно вызвал меня. Меня, как всегда, «не нашли», но 3 августа я оказался в Москве и узнал: донеслось до А. Т., что ходит мой «Раковый корпус», и разгневан он выше всякой меры; только хочет убедиться, что не я, конечно, пустил его (разве б я смел?!..), – и тогда он знает, кого выгонит из редакции! (Подозревалась трудолюбивая Берзер, вернейшая лошадка «Нового мира», которая тянула без зазора.)
Был поэт и цекистом, мыслящим государственно: невозможная для печати, даже для предъявления цензуре «рискованная» книга, написанная, однако, под советским небом, была уже собственностью государства! – и не могла по произволу несмышлёныша-автора просто так даваться людям читать!
А я-то думал как раз наоборот! Вот уж год кончался после провала моего архива, и даже в моей неусвойчивой голове прояснялось положение их и моё: что нечего, нечего, нечего мне терять! Что открыто, не таясь, не отрекаясь, давать направо и налево «Корпус» для меня ничуть не опаснее, чем та лагерная пьеса, уже год томящаяся на Большой Лубянке. – Вы раздаёте? – Да, я раздаю!! Я написал – я и раздаю! Провалитесь все ваши издательства! – мою книгу хватают из рук, читают и печатают ночами, она станет литературным фактом прежде, чем вы рот свой раззявите! Пусть ваши ленинские лауреаты попробуют распространить так свои рукописи!
Так вот оно, вот оно в каком смысле говорится: «пришла беда – не брезгуй и ею!» Беда может отпирать нам свободу! – если эту беду разгадать суметь.
О моей силе толковал мне когда-то Демичев – я ещё тогда недопонял. Теперь своим годовым бездействием показали мне власти во плоти мою силу.
Я не поехал на вызов Твардовского, а написал ему так:
«…Если Вы взволнованы, что повесть эта стала известна не только редакции “Нового мира”, то… я должен был бы выразить удивление… Это право всякого автора, и было бы странно, если бы Вы намерились лишить меня его. К тому же я не могу допустить, чтобы “Раковый корпус” повторил печальный путь романа: сперва неопределённо-долгое ожидание, просьбы к автору от редакции никому не давать его читать, затем роман потерян и для меня и для читателей, но распространяется по какому-то закрытому списку…»
Я писал – и не думал, что это жестоко. А для А. Т. это очень вышло жестоко. Говорят, он плакал над этим письмом. О потерянной детской вере? о потерянной дружбе? о потерянной повести, которая теперь попадёт в руки редакторов-гангстеров?
С тех пор в «Новый мир» ни ногой, ни телефонным звонком, свободный в действиях, я бился и вился в поисках: что ещё? что ещё мне предпринять против наглого когтя врагов, так глубоко впившегося в мой роман, в мой архив? Судебный протест был бы безнадёжен. Напрашивался протест общественный.
Ещё весной 1966 я с восхищением прочёл протест двух священников – Якунина и Эшлимана, смелый, чистый, честный голос в защиту церкви, искони не умевшей, не умеющей и не хотящей саму себя защитить. Прочёл – и позавидовал, что сам так не сделал, не найдусь. Беззвучно и неосознанно во мне это, наверно, лежало, лежало и проворачивалось. А теперь с неожиданной ясностью безошибочных решений проступило: что-то подобное надо и мне!
Когда-то, когда я смотрел на Союз писателей издали, мне весь он представлялся глумливым торжищем в литературном храме, достойным только вервяного бича. Но – безшумно растёт живая трава, огибая наваленные стальные балки, и если её не вытаптывать – даже балки эти закроет. Здоровые и вполне незагрязнённые стебли неслышно прорастали это гнилое больное тело. После хрущёвских разоблачений стал особенно быстр их рост. Когда я попал в СП, я с удивлением и радостью обнаружил здесь много живых свободолюбивых людей – искони таких, или не успевших испортиться, или сбрасывающих скверну. (Лишний пример того, что никогда не надо сметь судить огулом.)
Сейчас я легко мог бы найти сто и двести честных писателей и отправить им письма. Но они, как правило, не занимали в СП никаких ведущих постов. Выделив их не по признаку служебному, а душевному, я поставил бы их под удар и нисколько не способствовал бы своей цели: гласности сопротивления. Посылать же протесты многолюдным и бездарным всесоюзному и всероссийскому правлениям СП было удручающе безплодно. Однако маячил в декабре 1966 писательский съезд, недавно отложенный с июня, – первый съезд при моём состоянии в СП и, может быть, последний. Вот это был случай! В момент съезда старое руководство уже безправно, новое ещё не выбрано, и я волен различить достойных делегатов по собственному пониманию. Да чем не ленинская тактика – апеллировать к съезду? Это ж он и учил так: ловить момент, пока уже не… и ещё не…
Но не скоро будет съездовский декабрь, а подбивало меня как-то протестовать против того, что делают с моими вещами. И я решил пока обратиться – ещё раз и последний раз – в ЦК. Я не член партии, но в это полубожественное учреждение всякий трудящийся волен обращаться с мольбою. Мне передавали, что там даже ждут моего письма, конечно искреннего, то есть раскаянного, умоляющего дать мне случай охаять всего себя прежнего и доказать, что я – «вполне советский человек».
Сперва я хотел писать письмо в довольно дерзком тоне: что они сами уже не повторят того, что говорили до XX съезда, устыдятся и отрекутся. Э. Генри убедил меня этого не делать: кроме накала отношений такое письмо практически ничего не давало – ни выигрыша времени, ни сосуществования. Я переделал, и упрёк отнёсся к литераторам, а не к руководителям партии. В остальном я постарался объясниться делово, но выражаться при этом с независимостью. Вероятно, это не совсем мне удалось: ещё традиции такого тона нет в нашей стране, нелегко её создать.
Письмо на имя Брежнева было отослано в конце июля 1966. Никакого ответа или отзыва не последовало никогда. Не прекратилась и закрытая читка моих вещей, не ослабела и травля по партийно-инструкторской линии, может призамялась на время. А ещё вдруг разрешено было устроить обсуждение 1-й части «Корпуса» в ЦДЛ (а то лежала она два месяца, как под арестом, у секретаря московского СП генерал-лейтенанта КГБ В. Н. Ильина).
Обсуждение было объявлено в служебно-рекламной книжечке ЦДЛ – и так впервые, вопреки «Новому миру», было типографски набрано это уже неотменимое название: «Раковый корпус». Однако обнаружилось слишком много желающих попасть на обсуждение, руководство СП испугалось, дату сменили, и назначили час дневной, объявили уже не публично, и жестоко проверяли у входа пригласительные билеты прозаиков.
Было это 16 ноября. За три месяца прочли и многие враги, кто не только в журнальных статьях разносил мою убогую философию и убогий художественный метод, но даже (В. Панков) целые главы учебников посвящали этому разносу. Однако чудо: из той всей шайки, кроме З. Кедриной («общественной обвинительницы» Синявского и Даниэля) и лагерного ортодокса Асанова, никто не посмел явиться. Это был двойной знак: силы уже возросшего общественного мнения (когда аргументов нет, так и не поспоришь, а доносов перестали бояться) и силы ещё уверенной в себе бюрократии (зачем им идти сюда гавкаться и позориться, когда они и так втихомолку эту повесть затрут и не пустят?).
И превратилось обсуждение не в бой, как ждалось, а в триумф и провозвещение некой новой литературы – ещё никем не определённой, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой всеми. Она, как заявил Каверин в отличной смелой речи (да уж много лет им можно было смело, чего они ждали!), придёт на смену прежней рептильной литературе. Кедриной и говорить не дали: демонстративно повалом, вслед за Виктором Некрасовым, стали выходить вон. (А новомирцам А. Т. запретил присутствовать на обсуждении! Ушла корова, так и подойник обземь.)
Не по разумному заранее плану, а по стечению случаев сложился у меня очень бурный ноябрь в том году. Есть такие удивительные периоды в жизни каждого, когда разные внешние неожиданные силы сразу все приходят в движение. И в этом только движении, уже захваченный им, я из него же и понял, как мне надо себя вести: как можно дерзей, отказавшись ото всех добровольных ограничений. Прежде я отказывался от публичных выступлений? А теперь – согласен на все приглашения. Я всегда отказывался давать интервью? А теперь – кому угодно.
Потому что – терять ведь нечего. Хуже, чем они обо мне думают, – они уже думать не могут.
Не я первый тронул, не я первый сдвинул свой архив из хранения: ЧКГБ скогтило его. Но и ГБ не дано предвидеть тайного смысла вещей, тайной силы событий. В их раскруте уже стали и ГБ и я только исполнителями.
Моё первое публичное выступление сговорено было внезапно: случайно встретились и спросили меня на ходу, не пойду ли я выступить в каком-то «почтовом ящике». А отчего ж? – пойду. Состроилось всё быстро, не успели опознать охранительные инстанции, и у физиков в институте Курчатова состоялась встреча на 600 человек (правда, больше ста из них пришли со стороны, никому не известные персоны, «по приглашению парткома»). Были, конечно, гебисты в немалом числе, кто-нибудь и из райкома-горкома партии.
На первую встречу я шёл – ничего не нёс сказать, а просто почитать, – и три с половиной часа читал, а на вопросы отвечал немногие и скользя. Я прочёл несколько ударных глав из «Корпуса», акт из «Свечи на ветру» (о целях науки, зацепить научную аудиторию), а потом обнаглел и объявил чтение глав (свидания в Лефортове) из «Круга» – того самого «Круга», арестованного Лубянкой: если они дают его читать номенклатурной шпане – то почему же автор не может читать народу? (Узелок запрета развязывал как будто первый не я, в этом было утешение моему лагерному фатализму.)
Нет, время не прежнее и мы не прежние! Меня не заглушили, не прервали, не скрутили руки назад, даже не вызвали в ГБ для объяснения или внушения. А вот что: министр КГБ Семичастный стал мне отвечать! – публично и заочно. На этом посту, зевая одну за другой свои подрывные и шпионские сети в Африке и Европе, все силы он обратил на идеологическую борьбу, особенно против писателей как главной опасности режиму. Он часто выступал на идеологических совещаниях, на семинарах агитаторов. В том ноябре в своих выступлениях он выразил возмущение моей наглостью: читаю со сцены конфискованный роман. Всего таков был ответ КГБ!
Каждый их шаг показывал мне, что мой предыдущий был недостаточен.
Теперь я искал случая ответить Семичастному. Прошёл слух, что я выступал у курчатовцев, и стали приходить мне многие приглашения – одни предположительные, другие точные и настоятельные, я всем подряд давал согласие, если только даты не сталкивались. И в этих учреждениях всё как будто было устроено, разрешено директорами, повешены объявления, напечатаны и розданы пригласительные билеты, – но не тут-то было! не дремали и там. В последние часы, а где и минуты, раздавался звонок из московского горкома партии и говорили: «Устроите встречу с Солженицыным – положите партийный билет!» И хотя учреждения-устроители были не такие уж захолустные (Несмеяновский НИИ, Карповский, Семёновская Черноголовка, мехмат МГУ, Баумановский институт, ЦАГИ, Большая Энциклопедия), протестовать никто не имел сил, а академики-возглавители – мужества. В Карповском отменили так поздно, что успели меня туда и привезти, но уже объявление висело: «Отменено по болезни автора». А директор ФБОН (Фундаментальная Библиотека Общественных Наук) отменил сам от испуга: ему позвонили, что придёт на встречу инкогнито в штатском генерал КГБ, так место ему приготовить.
Поздно понял я, что у курчатовцев был слишком сдержан, искал теперь, где ответить Семичастному, – но захлопывались все двери: упущено, голубчик! Одно, всего одно выступление мне было нужно, чтоб ответить крепенько разок, – да поздно! За всю жизнь не ощущал я так остро лишения свободы слова!
И вдруг из Лазаревского Института Востоковедения, где однажды моё выступление уже запретили (а потом все партийные чины отперлись – мол, не они это запретили), меня пригласили настойчиво: не отменят! Прямо с рязанского поезда и пошёл я на ту встречу. И действительно – не отменили (30 ноября).
Теперь-то я пришёл говорить! Теперь я пришёл с заготовленной речью, и только повод надо было искать, куда её пристроить. Прочёл две главы из «Корпуса», набралось несколько десятков записок, и, сцепив с какой-то из них, я спешил, пока не согнали меня с этого помоста, выкрикнуть и вылепить всё, что мне запретили в девяти местах. Рядом со мной на сцене посадили нескольких мужчин из парткома – не для того ли, чтоб и микрофон и меня выключить, если очень уж косо пойдёт? Но не пришлось им вступить в действие: сидели в зале слушатели острые, и для них достаточно было на хребте говорить, не обязательно перешагивать. Я волны принимал, что сидит здесь кто-то крупный из ГБ и, вероятно, с портативным магнитофоном. В лепке старинных лазаревских стен я представлял себе выступающий горельеф шефа ГБ, но и он ничего не мог мне сейчас возразить, а я ему – мог! И голосом громким, и чувством торжествующим, просто радостным, я объяснял публике – и выдавал Семичастному. Ничтожный зэк в прошлом и, может быть, в будущем, прежде новых одиночек и прежде нового закрытого суда – вот я получил аудиторию в полтысячи человек и свободу слова!
Я должен вам объяснить, почему я отказывался от интервью и от публичных выступлений, – но стал давать интервью, но вот стою перед вами. Как и прежде, я считаю, что дело писателя – писать, а не мельтешить на трибуне, а не давать объяснения газетам. Но мне преподали урок: нет, писатель не должен писать, он должен защищаться. Я принял урок! Я вышел сюда перед вами защищаться! Есть одна Организация, которая вовсе не должна руководить художественной литературой, – но она делает это. Эта организация отняла у меня мой роман и мой архив, никогда не предназначавшийся к печати. И ещё в этом случае я – молчал, я продолжал тихо работать. Однако, используя односторонние выдержки из моего архива, начали кампанию клеветы против меня, нового вида клеветы – клеветы с трибуны на закрытых инструктажах. Что остаётся мне? Защищаться! Вот я пришёл! Смотрите: я ещё жив! Смотрите: ещё эта голова на шее! (кручу), – а уже без моего ведома и против моей воли мой роман закрыто издан и распускается среди избранных – таких, как главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов. Так скажите: почему от того же должен отказываться я? Почему же мне, автору, не почитать вам сегодня главы из того же романа? (Крики: «Да!»)
Нужно прожить долгую жизнь раба, пригибаться перед начальством с детского возраста, со всеми вскакивать для фальшивых аплодисментов, кивая заведомой лжи, никогда не иметь права возразить, – и это ещё рабом-гражданином, а потом рабом-зэком, руки назад, не оглядываться, из строя не выходить, – чтоб оценить тот час свободной речи с помоста пятистам человекам, тоже ошалевшим от свободы.
Кажется, первый раз, – первый раз в своей жизни я чувствую, я вижу, как делаю историю. Я избрал читать из «Круга» главы о разоблачении стукачей («родина должна знать своих стукачей»), о ничтожестве и дутости таинственных оперуполномоченных. Почти каждая реплика сгорает по залу как порох! Как эти люди истосковались по правде! Боже мой, как им нужна правда! Записка: объясните вашу фразу из прочтённой главы, что «Сталин не допустил Красного Креста к советским военнопленным». Современникам и участникам всеохватной несчастной войны – им не дано ведь даже о ней знать как следует. В какой камере какая тупая голова этого не усвоила? – а вот сидит полтысячи развитейших гуманитариев, и им знать не дано. Извольте, товарищи, охотно, эта история, к сожалению, малоизвестна. По решению Сталина министр иностранных дел Молотов отказался поставить советскую подпись под Женевской конвенцией о военнопленных и делать уплаты в международный Красный Крест. Поэтому наши были единственные в мире военнопленные, покинутые своей родиной, единственные, обречённые погибнуть от голода на немецкой баланде…[24]
О, я кажется уже начинаю любить это своё новое положение, после провала моего архива! это открытое и гордое противостояние, это признанное право на собственную мысль! Мне, пожалуй, было бы уже и тяжело, уже почти невозможно вернуться к прежней тихости. Теперь-то мне открылся высший и тайный смысл того горя, которому я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя предвидеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отбить у меня возможность таиться и молчать, чтоб от отчаянья я начал говорить и действовать.
Ибо – подошли сроки…
Я начал эти очерки с воспоминания, как становишься из обывателя подпольщиком, – зацепка за зацепочкой, незаметно до какой-то утренней пробудки: э-э, да я уже… И так же, благодаря своему горькому провалу, подведшему меня на грань ареста или самоубийства, и потом стежок за стежком, квант за квантом, от недели к неделе, от месяца к месяцу, осознавая, осознавая, осознавая, – счастлив, кто мог бы быстрей понять небесный шифр, я – медленно, я – долго, – но однажды утром проснулся и я свободным человеком в свободной стране!!!
* * *
Так ударил я в гонг своим вторым выступлением, вызывая на бой, будто теперь только и буду, что выступать, – и в тех же днях без следа, хоть и не сбрив бороды в этот раз, нырнул опять в своё далёкое Укрывище, в глушь – работать! работать! – потому что сроки подошли, да я не готов к ним, я ещё не выполнил своего долга.
Я рассчитывал, что всем переполохом три месяца покоя себе обезпечил, до весны. Так и вышло. За декабрь-февраль я сделал последнюю редакцию «Архипелага» – с допиской, переделкой и перепечаткой 70 авторских листов за 81 день – ещё и болея, и печи топя, и готовя сам. Это – не я сделал, это – ведено было моею рукой!
Но и рассчитано у меня было, что на Новый, 1967 год ещё одна гранатка взорвётся – моё первое интервью японскому корреспонденту Седзе Комото. Он взял его в середине ноября, должен был опубликовать на Новый год, – однако шли дни января, а транзистор в моей занесенной берлоге ни по одной из станций – ни по самой японской, которая на диво была слышна, ни по западным, ни даже по «Свободе» – не откликался на это интервью.
В ноябре оно совершилось экспромтом и по официальным меркам – нагло. Существовали какие-то разработанные порядки, обязательные и для иностранных корреспондентов, если они не хотят лишиться московского места, и уж тем более для советских граждан. Писатели должны иметь согласие Иностранной комиссии СП (все «иностранные отделы» всех учреждений – филиалы КГБ). Я этих порядков не узнавал в своё время, а теперь и вовсе знать не хотел. Моя новая роль состояла в экстерриториальности и безнаказанности.
С. Комото обычным образом послал просьбу об интервью – мне, а копию – в Иностранную комиссию. Там и безпокоиться не стали: ведь я же давно от всяких интервью отказался. А я – я того и хотел уже больше года, с самого провала: высказать в интервью, что делается со мной. И вот она была, внезапная помощь: японский корреспондент (вроде и не криминальный западный, а вместе с тем вполне западный) просил меня письменно ответить на пять вопросов, если я не захочу встретиться лично. Он давал свой московский адрес и телефон. Даже только эти пять вопросов меня вполне устраивали: там уже был вопрос о «Раковом корпусе» (значит, слух достаточно разнёсся) и был вопрос о моих «творческих планах». Я подготовил письменный ответ [cм. Приложение 1[25] ]. Всё же идти на полный взрыв – объявлять всему миру, что у меня арестованы роман и архив, я не решился. (А вот поставил Твардовскому в упрёк, что он не объявил о том в Париже?) Но перечислил несколько своих произведений и написал, что не могу найти издателя для них. Если этого автора три года назад рвали из рук и издавали на всех языках, а сейчас он у себя на родине «не может найти издателя», то неужели что-нибудь ещё останется неясно?
Но как передать ответ корреспонденту? Послать по почте? – наверняка перехватят, и я даже знать не буду, что не дошло. Просить кого-нибудь из друзей пойти бросить письмо в его почтовый ящик на лестнице? – наверняка в их особом доме слежка в подъезде и фотографирование (я ещё не знал: милиция, и вообще не пускают к дому). Значит, надо встретиться, а уже если встретиться, так отчего не дать и устного интервью? Но где же встретиться? В Рязань его не пустят, в Москве я не могу ничью частную квартиру поставить под удар. И я избрал самый наглый вариант: в Центральном Доме Литератора! В день обсуждения там «Ракового корпуса», достаточно оглядя помещения, я из автомата позвонил японцу и предложил ему интервью завтра в полдень в ЦДЛ. Такое приглашение очень официально звучало, вероятно он думал, что я всё согласовал, где полагается. Он позвонил своей переводчице (проверенной, конечно, в ГБ), та – заказала в АПН фотографа для съёмки интервью в ЦДЛ, это тоже очень официально звучало, не могло и у АПН возникнуть сомнения.
Я пришёл в ЦДЛ на полчаса раньше назначенного. Был будний день, из писателей – никого, вчерашнего оживления и строгостей – ни следа, рабочие носили стулья через распахнутые внешние двери. Вместо чёрного японца вошла беленькая русская девушка и направилась к столику администратора, мне послышалась моя фамилия, я её перехватил и просил звать японцев (их оказалось двое, и ждали они в автомобиле). Привратники были те же, которые вчера видели меня в вестибюле в центре внимания, и для них авторитетно прозвучало, когда я сказал: «Это – ко мне». (Потом я узнал, что для входа иностранцев в ЦДЛ требуется всякий раз специальное разрешение администрации.) Я пригласил их в покойное фойе с коврами и мягкой мебелью и выразил надежду, что скромность обстановки не стеснит нашей деловой встречи. Тут, запыхавшись, прибежал и фотокорреспондент из АПН, притащил здешние ЦДЛ-овские огромные лампы-вспышки, и пошло наше двадцатиминутное интервью при свете молний. Администрация дома увидела незапланированное мероприятие, но его респектабельность, важность, а значит, и разрешённость, не подлежали сомнению.
Комото неплохо говорил по-русски, так что переводчица была лишь для штата, она ничего не переводила. В конце встречи разъяснилось и это обстоятельство: Комото сказал, что три года сам провёл в наших сибирских лагерях! Ну, так если он – зэк, он, может быть, и отлично понял чернуху в нашей встрече! И тем более должен он понять всё недосказанное. Мы сердечно попрощались.
Но вот прошла одна и вторая неделя после Нового года, а транзистор не доносил в моё уединение ни четверть отклика, ни фразочки на моё интервью! Всё пропало зря? Что же случилось? Помешали самому Комото, угрозили? Или не захотел редактор газеты портить общей обстановки смягчённости японо-советских отношений? (Их радиостанция на русском языке выражалась приторно-угодливо.) Только одного я не допускал: чтоб интервью было напечатано в срок и полностью, в пяти миллионах экземпляров, в четырёх газетах, на четверть страницы, ну пусть в японских иероглифах, – и было бы не замечено на Западе ни единым человеком! В связи с «культурной революцией» в Китае каждый день все радиостанции мира ссылались на японских корреспондентов, значит просматривали же их газеты, – а моего интервью не заметил никто! Была ли это краткость земной славы, и Западу давно уже было начхать на какого-то русского, две недели пощекотавшего их дурно переведенным бестселлером о том, как жилось в сталинских концлагерях? И – это, конечно. Но если бы промелькнуло где-то, хоть в Полинезии или Гвинее, сообщение, что левый греческий деятель не нашёл для одного своего абзаца издателя в Греции, – да тут бы Бертран Рассел, и Жан Поль Сартр, и все левые лейбористы просто криком благим бы изошли, выразили бы недоверие английскому премьеру, послали бы проклятье американскому президенту, тут бы международный конгресс собрали для анафемы греческим палачам. А что русского писателя, недодушенного при Сталине, продолжают душить при коллективном руководстве, и уже при конце скоро, – это не могло оскорбить их левого миросозерцания: если душат в стране коммунизма, значит это необходимо для прогресса!
В многомесячном и полном уединении – как же хорошо работается и думается! Истинные размеры, веса и соотношения предметов и проблем так хорошо укладываются. В захвате безостановочной работы в ту зиму я обнаружил, что годам к пятидесяти окончу «n − 1»-ю свою работу – всё, что я собирался в жизни написать, кроме последней и самой главной – «Р-17». Тот роман уже 30 лет – с первого курса университета, у меня обдумывался, перетряхивался, отлёживался и накоплялся, всегда был главной целью жизни, но ещё практически не начат, всегда что-то мешало и отодвигало. А вот уже не за горами предстояло мне наконец дотянуться до заветной работы, от которой сами ладони у меня начинали пылать, едва я перебирал те книги и те записи.
И вот теперь, в Укрывище, в тишине, почти невероятной для нашего века, глядя на ели, по-крещенски отяжелённые неподвижным снегом, предстояло мне сделать один из самых важных жизненных выборов. Один путь был – поверить во внешнее нейтральное благополучие (не трогают), и сколько неустойчивых лет мне будет таких отпущено – продолжать сидеть как можно тише и писать, писать свою главную историю, которую никому до сих пор написать не дали, и кто ещё когда напишет? А лет мне нужно на эту работу семь или десять[26].
Путь второй: понять, что можно так год протянуть, два, но не семь. Это внешнее обманчивое благополучие самому взрывать и дальше. Страусиную голову вытянуть из-под укрытия. Ведь Железный Шурик тоже не дремлет, он крадётся там, по закоулкам, к власти, и из первых его будет движений – оторвать мне голову эту. Так вот, накануне самой любимой работы – отложить перо и рискнуть. Рискнуть потерять и перо, и руку, и голос, и голову. Или – так безнадёжно и громогласно испортить отношения с властью, чтоб этим и укрепиться? Не туда ли судьба меня и толкает? Не заставлять её повторять предупреждение. Много десятков лет мы все вот так, из-за личных расчётов и важнейших собственных дел, – все мы берегли свои глотки и не умели крикнуть прежде, чем толкали нас в мешок.
Ещё с осени я знал, что съезд писателей опять отсрочили, теперь на май. Очень кстати! (Был бы в декабре – не отрывался бы я от Укрывища, от «Архипелага», и не было бы письма съезду.) Уж если не помогло интервью – только письмо съезду и оставалось. Только назвать теперь больше и крикнуть смелей.
Безконечно тяжелы все те начала, когда слово простое должно сдвинуть материальную косную глыбу. Но нет другого пути, если вся материя – уже не твоя, не наша. А всё ж и от крика бывают в горах обвалы.
Ну, пусть меня и потрясёт. Может, только в захвате потрясений я и пойму сотрясённые души 17-го года?
Не рок головы ищет, сама голова на рок идёт.
А ближайший расчёт мой был – ещё утвердиться окончанием и распространением 2-й части «Ракового корпуса». Уезжая на зиму, я оставил её близкой к окончанию. По возврате в шумный мир предстояло её докончить.
Но требовал долг чести ещё и эту 2-ю часть перед роспуском по Самиздату всё же показать Твардовскому, хотя заведомо ясно было, что только трата месяца, а их и так не хватает до съезда. Чтобы выиграть время, я попросил моих близких принести Твардовскому промежуточный, не вполне оконченный вариант месяцем раньше, с таким письмом, якобы из рязанского леса:
«Дорогой Александр Трифонович!
Мне кажется справедливым предложить Вам быть первым… читателем 2-й части, если Вы этого захотите… Текст ещё подвергнется шлифовке, я пока не предлагаю повесть всей редакции… Пользуюсь случаем заверить Вас, что несостоявшееся наше сотрудничество по 1-й части никак не повлияло на моё отношение к “Новому миру”. Я по-прежнему с полной симпатией слежу за позицией и деятельностью журнала… – (Здесь натяжка, конечно.) – …Но обстановка общелитературная слишком крута для меня, чтобы я мог разрешить себе и дальше ту пассивную позицию, которую занимал четыре года…»
То есть я даже не просил рассмотреть вопрос о печатании. После ссоры и полугодового разрыва я только предлагал Твардовскому почитать.
По времени сложилось отлично: пока я в марте 67-го вернулся и доработал 2-ю часть – в «Новом мире» её не только А. Т., но все прочли, – и оставалось мне лишь получить их отказ, отказ от всяких дальнейших претензий на повесть. За год я получил из пяти советских журналов отказ напечатать даже самую безобидную главу из 1-й части – «Право лечить» (ташкентский журнал не поместил её даже в благотворительном безгонорарном номере); затем от всей 1-й части отказались – «Простор» (трусливым оттягиванием) и «Звезда» («в Русанова вложено больше ненависти, чем мастерства», – а ведь этого на страницах советских книг никогда не допускали! «ретроспекции в прошлое создают ощущение, будто культ личности полностью перечеркнул всё, что было советским народом сделано хорошего», – ведь домны вполне возмещают и гибель миллионов и всеобщее развращение; и хотелось бы «увидеть более ясно отличие авторских позиций от позиций толстовства», – так уж тем более Льва Толстого строчки бы не напечатали!).
Каждый такой отказ был перерубом ещё-ещё-ещё одной стропы, удерживающей на привязи воздушный шар моей повести. Осталось последний переруб получить от Твардовского – и никакая постылая стяга больше не удерживала бы мою повесть, рвущуюся двигаться.
Наша встреча была 16 марта. Я вошёл весёлый, очень жизнерадостный, он встретил меня подавленный, неуверенный. Естественно было нам говорить о 2-й части, но за полтора часа с глазу на глаз меньше всего разговору было о ней.
Мой путь уже был втайне определён, я шёл на свой рок, и с поднятым духом. Видя подавленность А. Т., мне хотелось подбодрить и его. За это время он потерпел несколько партийных и служебных поражений: на XXIII съезде его не выбрали больше в ЦК; сейчас не выбирали и в Верховный Совет РСФСР («народ отверг», как объяснил Демичев); с потерей этих постов ещё безпомощнее он стал перед наглой цензурой, как хотевшей, так и терзавшей наборные листы его журнала; стягивалась петля и вокруг «Тёркина на том свете» в Театре сатиры: всё реже пьесу давали и готовились совсем снять; а недавно ЦК актом внезапным и непостижимым по замыслу, минуя Твардовского, не предупредив его, снял двух вернейших заместителей – Дементьева и Закса: как когда-то из ГБ не возвращались люди домой, так и эти двое уже не вернулись из ЦК на прежнюю работу[27]. Административно это было, конечно, плевком в Твардовского и во всю редакцию, но по сути это был такой же переруб строп, высвобождение ко взлёту, ибо снятые и были два вернейших внутренних охранителя, ослаблявшие энергию Твардовского. Однако А. Т. так привык доверяться Дементьеву, так верил в деловые и дипломатические качества Закса, так уже привычно был связан с ними, и ещё форма снятия так груба была даже и для всех сотрудников редакции, – что едва ли не коллективная отставка готовилась в виде протеста, сам же А. Т. никогда не был столь близок к отказу от редакторства. (Значит, не глупо рассчитали враги. Ещё, может быть, вот было их соображение: без удерживающих внутренних защёлок сорвётся в «Новом мире» вся стреляющая часть, выпалит через меру – и погубит сама себя.)
Я иначе принял отставку Дементьева и Закса: только очищение журнала. Но безполезно оказалось убеждать в этом Твардовского, да и сотрудников. Во всём же другом я старался теперь перенастроить А. Т.: что снятие из ЦК и Верхсовета было для него не общественным падением, а высвобождением: вы становитесь душевно независимее. И А. Т. сразу откликнулся: что он ничуть не жалеет о снятии его, даже рад. (Уже это было хорошо, что так говорил. В тех самых днях в Столешниковом переулке, в нетрезвом состоянии, он остановил незнакомого полковника Рыбу и открывался ему, бедняга, как больно задет.)
Я: – Тем лучше! Я рад, что вы так понимаете, что у вас уже есть внутренняя свобода. – (О, если бы!)
Он (без моей наводки): – Или что медальки не дали! – (За месяц перед тем дали золотую звезду Шолохову, Федину, Леонову, Тычине, а ему – первому поэту России – ведь так же было установлено по табели о рангах – не дали, нарушили табель из-за смелых общественных шагов.) – Соболев рыдает, а я рад, что не дали. Мне позор бы был. – (Неискренно.)
Я: – Конечно позор, в такой компании!
Итак, хотя восемь месяцев мы не виделись и были как бы в разрыве, и вначале он меня встретил с обиженностью, и была взаимная боязнь новой обиды, боязнь неловко коснуться, – теперь свободно потёк разговор, интересный для него и для меня: моя цель всегда была, чтоб они хоть добровольный-то намордник сняли.
А. Т. подробно стал рассказывать, почему он не подал в отставку из-за Дементьева и Закса; как те сами отговаривали его; как наверху ему сказали: ваша отставка была бы поступком антипартийным. И ещё рассказывал благодушно, как он хорошо и умно перестроил редакцию журнала, как одним и тем же (?) выражением «сочту за честь» приняли его предложение войти в редакцию Дорош, Айтматов и Хитров. А ещё – как накануне прошло обсуждение журнала в секретариате Союза (после ругательной статьи в «Правде»): вопреки ожиданиям благопристойно и благополучно.
И после такого огляда не горе изо всего выстроилось, а радость: в который раз журнал проявил свою непотопляемость! А что бы иначе? А иначе сомкнулись бы волны и погас бы светоч.
Но на этом светло-розовом небе вот что безпокоило А. Т.: вчера на секретариате Г. Марков сказал, что «Раковый корпус» уже напечатан на Западе. И грозно посмотрел на меня Главный редактор. (Вырастил бороду… Не сам ли и «Крохотки» отдал за границу?..) Тут напомнил мне А. Т. по праву старшего, что даже некий (безымянный) буржуазный орган (ближе к моему безпартийному пониманию он давал более понятный авторитет) написал, что, конечно, Солженицына был бы недостоин образ действий Синявского и Даниэля.
Я ответил: – Сам я не собираюсь посылать за границу ничего. Но от соотечественников скрывать своих книг не буду. Давал им читать, даю и буду давать!
А. Т. вздохнул. Но признал разумно:
– В конце концов, это – право автора.
(В начале начал!!)
А откуда мог пойти слух? Пытался ему объяснить. Одна глава из «Корпуса», отвергнутая многими советскими журналами, действительно напечатана за границей – именно центральным органом словацкой компартии «Правда». Да, кстати! я же дал на днях интервью словацким корреспондентам, вам рассказать? Да! я ведь в ноябре дал интервью японцу, я вам не рассказывал… («Слышал, – хмуро кивнул Твардовский. – Вы что-то незаконное передали в японское посольство…») Да! Ведь мы же восемь месяцев не виделись, а завтра А. Т. едет в Италию, и надо ему быть осведомленным о моём новом образе действий: я ведь совсем иначе себя теперь веду! Дайте-ка расскажу!..
Но – всякий интерес потерял А. Т. к нашему разговору. Он стал звонить секретарю, связываться с Сурковым, с Бажаном, со всеми теми, о ком на полчаса раньше выразился, что «на одном поле не сел бы рядом с ними…»: ведь именно с ними ему нужно было завтра ехать спасать КОМЕСКО. Я помнил, как парижским своим интервью осени 1965 А. Т. успокаивал о моей судьбе. Теперь я очень выразительно сказал ему, как ненавижу Вигорелли за то, что тот солгал на Западе, будто недавно беседовал со мною дружески и узнал от меня, что роман и архив мне возвращены. Он помогал меня душить. (Сиречь: да вы же там завтра не помогите!..)
А делаю я теперь вот что: даю рукописи обсуждать в секцию прозы…
А. Т. качает головой: – Не следовало давать.
– …Потом – публично выступаю…
А. Т. хмурится: – Очень плохо. Зря. Своими резкими выступлениями вы ставите под удар «Новый мир». Нас упрекают: вот, значит, вы кого воспитали, вот кого вытащили на свет!
(Да Боже мой, да не только, значит, я, но и вся русская литература должна замолкнуть и самопотопиться – чтобы только не упрекали и не потопили «Новый мир»?..)
– Я защищаю и вас! Я объясняю людям громко со сцены, почему на два-три месяца задерживаются ваши номера: цензура!
– Не надо объяснять! – всё гуще хмурился он. – Мне говорили, что вы вообще против меня высказываетесь…
– Против? И вы могли – поверить?
– Я ответил: пусть! А я против него – не буду.
(Поверил! сразу поверил бедный Трифоныч! – но сам поступит благороднее!.. В том и дружба.)
И где ж во всём этом разговоре был «Раковый корпус»? Да был всё-таки, переслойкой: по две фразы, по два абзаца.
Второй части «Корпуса» он высказал высшие похвалы; что это в три раза выше первой части. Но вот что…
(Я знаю, сейчас, как раз сейчас такие условия, такая ситуация… Дорогой Александр Трифоныч! Я знаю! Я и не прошу печатать! Берегите журнал! Я и давал-то вам повесть только, чтоб вы не обижались! Я в редакцию-то – не давал!)
– …Но вот что: даже если бы печатание зависело целиком от одного меня – я бы не напечатал.
– Вот это мне уже горько слышать, Александр Трифоныч! Почему же?
– Там – неприятие советской власти. Вы ничего не хотите простить советской власти.
– Александр Трифоныч! Этот термин «советская власть» стал неточно употребляться. Он означает: власть депутатов трудящихся, только их одних, свободно ими избранную и свободно ими контролируемую. Я – руками и ногами за такую власть!.. А то вот и секретариат СП, с которым вы на одном поле не сели бы… – тоже советская власть?
– Да, – сказал он с печальным достоинством. – В каком-то смысле и они – советская власть, и поэтому надо с ними ладить и поддерживать их… Вы – ничего не хотите забыть! Вы – слишком памятливы!
– Но, А. Т.! Художественная память – основа художественного творчества! Без неё книга развалится, будет – ложь!
– У вас нет подлинной заботы о народе! – (Ну да, я же не добр к верхам!) – Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше.
– Да А. Т.! Во всей книге ни слова ни о каком колхозе. – (Впрочем, не я их придумывал, почему я должен о них заботиться?..) – А что действительно нависает над повестью – так это система лагерей. Да! Не может быть здоровой та страна, которая носит в себе такую опухоль! Знаете ли вы, что система эта, едва не рассосавшаяся в 1954–55 годах, – снова укреплена Хрущёвым, и именно в годы XX и XXII съезда? И когда Никита Сергеич плакал над нашим «Иваном Денисовичем» – он только что утвердил лагеря не мягче сталинских.
Рассказываю.
Слушает внимательно. И всё равно:
– А что вы можете предложить вместо колхозов? – (Да не об этом ли был и «разбор» «Матрёны»?..) – Надо же во что-то верить. У вас нет ничего святого. Надо в чём-то уступить советской власти! В конце концов, это просто неразумно. Плетью обуха не перешибёшь.
– Ну так обух обухом, А. Т.!
– Да нет в стране общественного мнения!
– Ошибаетесь, А. Т.! Уже есть! уже растёт!
– Я боюсь, чтобы ваш «Раковый корпус» не конфисковали, как роман.
– Поздно, А. Т.! Уже тю-тю! Уже разлетелся!
(Ещё нет. Ещё для 2-й части мне два месяца скромно терпеть. Но до писательского съезда столько и осталось.)
– Ваша озлобленность уже вредит вашему мастерству. – (Почему ж 2-я часть вышла «в три раза лучше» той, которую он хотел печатать?) – На что вы рассчитываете? Вас не будет никто печатать.
(Да, при моём поведении «достойней Синявского и Даниэля». Хороша ловушка!..)
– Никуда не денутся, А. Т.! Умру – и каждое словечко примут, как оно есть, никто не поправит!
И вот это – обидело его глубоко:
– Это уже самоуслаждение. Легче всего представить, что «я один – смелый», а все остальные – подлецы, идут на компромисс.
– Зачем же вы так расширяете? Тут и сравнивать нельзя. Я – одиночка, сам себе хозяин, а вы – редактор большого журнала…
Берегите журнал! Берегите журнал… Литература как-нибудь и без вас…
То не последние были слова нашего разговора, и он не вышел ссорой или побранкой. Мы простились сдержанно (он – уже и рассеянно), сожалея о неисправимости взглядов и воспитания друг у друга. Такое окончание и было достойнее всего, я рад, что кончилось именно так: не характерами, не личностями мы разошлись. Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дальше прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы.
На другой день он уехал в Италию и вскоре давал там многолюдное интервью (опять надеясь, что я не узнаю?). Его спрашивали обо мне: правда ли, что часть моих вещей ходит по рукам, но не печатается? правда ли, что и такие есть вещи, которые я из стола не смею вынуть?
«В стол я к нему не лазил, – ответил популярный редактор (в самом деле, в стол лазить – на это есть ГБ). – Но вообще с ним всё в порядке. Я видел его как раз накануне отъезда в Италию (подтверждение нашей близости и достоверности его слов!). Он окончил 1-ю часть новой большой вещи (когда, А. Т.? когда?..), её очень хорошо приняли московские писатели («не следовало давать туда»?..), теперь он работает дальше. (А – 2-ю часть потеряли, А. Т.? А как «излишняя памятливость»? А – «ничего нет святого»? Почему бы не сказать этому католическому народу: «у Солженицына ничего нет святого»?)
Не проходит поэту безнаказанно столько лет состоять в партии.
* * *
Думал в три раза тесней поместиться. Стыд, распёрло.
Я потому только писал, что ещё несколько дней – и разлетится моё письмо съезду [2], и не знаю, что будет, даже буду ли жив. Или шея напрочь, или петля пополам.
И больно, что это никем потом не распутается, не объяснится.
Не я весь этот путь выдумал и выбрал – за меня выдумано, за меня выбрано.
Я – обороняюсь.
Охотники знают, что подранок бывает опасен.
7 апреля – 7 мая 1967
Рождество-на-Истье
Первое Дополнение (весна – осень 1967)
Петля пополам
Вот, оказывается, какое липучее это тесто – мемуары: пока ножки не съёжишь – и не кончишь. Ведь всё время новые события – и нужны дополнения. И сам себя проклиная за скучную обстоятельность, трачу время читателя и своё.
Ни с чем не могу сравнить этого состояния – облегчения от высказанного. Ведь надо почти полстолетия гнуться, гнуться, гнуться, молчать, молчать, молчать, – и вот распрямиться, рявкнуть – да не с крыши, не на площадь, а на целый мир, – чтобы почувствовать, как вся успокоенная и стройная вселенная возвращается в твою грудь. И уже ни сомнений, ни метаний, ни раскаяния, – чистый свет радости! Так надо было! так давно было надо! И до того осветилось всё восприятие мира, что даже благодушие заливает, хотя ничего не достигнуто.
Впрочем, как не достигнуто? Ведь около ста писателей поддержало меня, – 84 в коллективном письме съезду и человек пятнадцать – в личных телеграммах и письмах (считаю лишь тех, чьи копии имею). Это ли не изумление? Я на это и надеяться не смел! Бунт писателей!! – у нас! после того, как столько раз прокатали вперёд и назад, вперёд и назад асфальтным сталинским катком! Несчастная гуманитарная интеллигенция! Не тебя ли, главную гидру, уничтожали с самого 1918 года – рубили, косили, травили, морили, выжигали? Уж кажется, начисто! уж какими глазищами шарили, уж какими мётлами поспевали! – а ты опять жива? А ты опять тронулась в свой незащищённый, безкорыстный, отчаянный рост! – именно ты, опять ты, а не твои благополучные братья, ракетчики, атомщики, физики, химики, с их верными окладами, модерными квартирами и убаюкивающей жизнью! Это им бы, сохранившимся, перенять твой горький рок, наследовать твой безнадёжный жребий, – нет! конному пешего не понять! (Из них заявляли: а – что такое он сказал, чего бы мы не знали? а почему только о литературных делах, а не вообще?) Они будут нам готовить огненную гибель, а за цветущую землю – гибни ты!
В письме 84-х было мало неожиданных фамилий, об этих – и так известно, что они из фронды. Но совсем неожиданна была телеграмма Валентина Катаева (показалось на миг и ему, что происходит необратимый сдвиг?), пущенное в Самиздат письмо Павла Антокольского Демичеву, – хотя всё ещё в рамках партийной терминологии, но с пробивами честного сердца, и письмо Сергея Антонова съезду с резким упором против цензуры (но прозорливо поправлял меня уже тогда, что цензура нравственная не подлежит упразднению). А венчало всех доблестное безоглядное письмо Георгия Владимова, ещё дальше меня шагнувшего – в гимне Самиздату. В общем, письмами-откликами моя аргументация была ещё развита и поправлена.
И опять моей шаровой коробки на шее не хватило предвидеть самые ближайшие последствия! Я писал и рассылал это письмо – как добровольно поднимался на плаху. Я шёл по их идеологию, но навстречу под мышкой нёс же и свою голову. Я видел в этом конец моей ещё в чём-то не разваленной, не распластованной жизни, обрыв последнего отрезка того усреднённого бытия, без которого все мы сироты. Я шёл на жертву – неизбежную, но вовсе не радостную и не благоразумную. А прошло несколько дней – и В. Каверин сказал мне: «Ваше письмо – какой блестящий ход!» И с изумлением я увидел: да! вот неожиданность! оказалась не жертва вовсе, а ход, комбинация, после двухлетних гонений утвердившая меня как на скале[28].
Блаженное состояние! Наконец-то я занял своеродную, свою прирождённую позицию! Наконец-то я могу не суетиться, не искать, не кланяться, не лгать, а – пребывать независимо!
Уж кажется – боссов нашей литературы и боссов идеологии я ли не понимал? И всё-таки недооценил их ничтожества и нерешительности: я боялся разослать письмо слишком рано, дать им подготовить контрудар. Я рассылал письма лишь в последние пять дней, – а можно было хоть и за месяц, всё равно бы по тупости не придумали они, чем ответить, всё равно б не нашлись[29]. Зато многие порядочные люди получили слишком поздно, разминулись с письмом в дороге (треть писем и вообще цензура перехватила)[30] – и так не собралось подписей, сколько возможно бы, не полыхнуло под потолок зала съезда.
Но по Москве разошлось моё письмо с быстротой огня. И на Западе было напечатано ещё вовремя – 31 мая в «Монд», тотчас после закрытия съезда, когда ещё не увяла память об этом позорище. И дальше по Западу расколоколило оно во всю силу, опять превосходя мои ожидания. (Не то что безудачное интервью японцам. А потому что всякое интервью немногого стоит, как понял я теперь. Письмо же съезду было событием нашей внутренней жизни.) Даже та сторона письма, где оспаривался западный опыт, кое-где была понята, а уж наша сторона была подчёркнута и подхвачена. И целую декаду – первую декаду июня, чередуя с накалёнными передачами о шестидневной арабо-израильской войне, – несколько мировых радиостанций цитировали, излагали, читали слово в слово и комментировали (иногда очень близоруко) моё письмо.
А боссы – молчали гробово.
И так у меня сложилось ощущение неожиданной и даже разгромной победы!
И тут мне передали, что Твардовский срочно хочет меня видеть. Это было 8 июня, на Киевском вокзале, за несколько минут до отхода электрички на Наро-Фоминск, с продуктовыми сумками в двух руках, шестью десятками дешёвых яиц, – а по телефону давно не слышанный знакомый голос доброжелательно и многозначительно рокотал, что – очень важно, что немедленно, всё бросив, я должен ехать в редакцию. Досадно мне было и перестраиваться, электричку упускать, тащить продукты в редакцию (нашу земную жизнь – как им понять, кому всё на подносиках?), но быстрее и выше того я смекнул: зачем бы нужно было ему меня искать? только для какого-нибудь покаяния, в пользу «Нового мира», – но это впусте было и обсуждать. Если же, лето упустя, кинулись по насту за грибами, если решили меня печатать после стольких лет – так подождут до понедельника, именно те дни подождут, пока (расписание уже объявлено) будет Би-би-си трижды читать моё письмо на голову боссам. Крепче будет желание!
И я ответил А. Т., что – совершенно невозможно, приеду 12-го. Он очень расстроился, голос его упал. Потом, говорят, ходил по редакции обиженный и разбитый. Это – всегда в нём так, если возгорелось – то вынь да положь, погодить ему нельзя. А. Т. покоряется, когда помеха от начальства, но не может смириться, если помеха от подчинённых. А тут ещё: он хорошо придумал, он в пользу мне придумал – и я же сам оттолкнул руку поддержки.
Столь уж разны наши орбиты – никак нам не столковаться.
Впрочем, я в тот день одним ухом слышал (кажется, от Аси Берзер) – и изумился: ещё одна полная неожиданность – Твардовский нисколько не возмущён моим письмом съезду, даже доволен им! Нет, не разобрался я в этом человеке! Написал о нём четыре главы воспоминаний, а не разобрался. Я представлял, что он взревёт от гнева, что проклянёт меня навеки за ослушание. (А подумавши, всё понятно: ведь я не Западу жалуюсь, не у Запада ищу защиты, – я тут, у нас, внутри, в морду даю. Это, по понятиям А. Т., можно. И просто, по характеру кулачной драки: нас, «Новый мир», теснят, год поражений, – а мы им с другой стороны – в морду!)
12 июня в редакции я увидел его впервые после того мартовского разговора, который считал нашим последним вообще. Ничего подобного! А. Т. сдерживался при рукопожатии, но весёлые игринки прыгали в его глазах.
– Я очень рад, Александр Трифоныч, что вы не отнеслись к моей акции отрицательно.
Он (неудачно пытаясь быть строгим): – Кто вам сказал, что неотрицательно? Я не одобряю вашего поступка. Но нет худа без добра. Может быть, вы в сорочке родились, если это вам так сойдёт. А надежда есть.
Тут он перешёл на внушение заклинательным голосом, и не увидел я надежды вернуться нам к дружбе:
– Вы должны вести себя так, чтобы не погасить то место, откуда вы вышли, единственное место, где что-то горит.
Самая трудная для меня аргументация, самое сильное, в чём может он меня упрекнуть… Но от вас ли я вышел, друзья? И неужто нигде больше не горит?.. И после всех колоколов – неужели я отойду хоть на ступню? Как можно так уж не понимать?
– Как получилось, – всё с той же нагнетённой серьёзностью спрашивал он, – что ваше письмо стало известно на Западе и вызвало такой шум?
– А как вы хотите в век всеобщей быстрой информации: функционировала бы демократия – и ничего не становилось бы известным за границу? В Англии же не упрекают Бертрана Рассела, что в СССР печатаются его статьи!
А. Т. замахал большими руками, большими пухлыми ладонями:
– Вы этой чуши, пожалуйста, не заводите на секретариате СП! Вы скажите вот что: обращались вы в самом деле к съезду или у вас был расчёт на западный шум?
– Что вы, Алексан Трифонч! Конечно – только к съезду.
– Так вот давайте поедем в секретариат – и вы это им подтвердите. Скажите, что западный шум у вас у самого вызывает досаду.
(Мой спаситель, от которого я ликую?!)
– А. Т.! Ни от одного слова письма я теперь не отрекусь и не изменю. Если захотят, чтоб я что-нибудь писал, извинялся…
– Да нет! – опять махал он руками. – Никто от вас не просит ничего писать! Вы только подтвердите им то, что сейчас сказали мне, больше ничего! Да не говорите им, что вы боретесь против советской власти! – Уже смеялся он, уже кончал одной из любимых своих шуток.
А оказалось вот что. Верхушкою Союза моё письмо было воспринято как «удар ниже пояса» (правила-то – в их руках, они знают), и призывали витии «ответить ударом на удар». Но быстро слабела решимость и у них и наверху: от поддержки меня ста писателями, главное же – оттого, как разливался звон по загранице (ничего подобного они не ожидали!). Твардовский же проявил необыкновенную для себя поворотливость и дипломатический напор. Он и у Шауры (вместо Поликарпова, «отдел культуры») успел высказать («Вы думаете первый русский писатель – кто? Михаил Александрович? Ошибаетесь!»), и вразумить секретариат Союза, что так нельзя, невыгодно им самим: топя меня, они потопят и себя. И убедил их составить проект совсем другого коммюнике: подтвердить мою безупречную воинскую службу; признать что-то в моём письме как заслуживающее разбора; и «сурово» осудить меня за «сенсационный» образ действий. И так как никто в секретариате не мог предложить ничего умней, а это выглядело для них довольно спасительно, отмалчиваться же дальше казалось невозможным (в предвидении международных поездок и вопросов), – то и склонялись они представить наверх именно такой вариант решения. И в такой-то момент я не помог Твардовскому своим появлением, не дал ему завершить одну из лучших его операций!.. (Впрочем, не была б она всё равно завершена: верхи были заняты скандальным поражением арабов, а больше одной проблемы сразу не вмещают их головы.)
Почему же секретариат Союза меня просто не вызвал? Потому что после моего письма они не были уверены, соглашусь ли я прийти. А вдруг – не приду, а сверху не будет указания изгнать меня, – и как им тогда выйти из этого тупика?.. Как я постепенно разобрался: для того и должны они были на меня взглянуть, чтоб убедиться, что я вообще с ними разговариваю. Иначе теряло смысл и их коммюнике.
Вот на какую скалу я вскочил своим «ловким ходом»!
Приехали мы в знаменитый колоннадный особняк на Поварской, и А. Т. повёл меня к секретарям. Это были секретари-канцеляристы К. Воронков (челюсть), Г. Марков (отъевшаяся лиса), С. Сартаков (мурло, но отчасти комическое), даже и не писатели вовсе, но именно им шесть тысяч членов союза «поручили» вести все высшие и важные дела СП. Я вошёл как жердь с головою робота – ни человеческого движения ни человеческого выражения. Воронков подбросил из кресла с почтением свою фигуру коренастого вышибалы и украсил челюсть улыбкой: кажется, начинался день из его счастливейших. Уже то для него было явной радостью, что в две двери он имел возможность пропустить меня вперёд себя. В полузале с кариатидами и лепкой Марков с хитреньким, мягеньким, полубабьим лицом швырнул телефонную трубку, увидав наконец под сводами Союза самого дорогого и желанного гостя. Из какой-то потайной, не сразу заметной, двери вышел Сартаков. Но этот нисколько не был мне рад, и вообще все часы просидел с безразличной угрюмостью. А ещё ждали Соболева, тот же метался у себя на Софийской набережной, да не было свободной машины доехать, а другого пути он не знал. Я спросил, нет ли графина с водопроводной водой, – и тут же та же потайная дверь раскрылась, и горничная из какого-то заднего тайного кабинета стала таскать на огромный полированный стол фруктовые и минеральные воды, потом крепкий чай с дорогим рассыпчатым печеньем, сигареты и шоколадные трюфели (народные денежки…). Начался гостинный разговор: о том, что это – дом Ростовых, и как его берегут; и как графиня Олсуфьева, приехав из-за границы, просила его осмотреть (со смаком выговаривал Воронков «графиню», представляю, как он перед ней вертелся – и как бы ту графиню вошёл расстреливать в 1917); и что за тканые портреты Толстого (18 миллионов петель), Пушкина и Горького украшают стены этого полузала. От моей спины до окна, открытого в знойный неподвижный день, было метров шесть. Но сохранение моей драгоценной жизни так волновало Воронкова, что вкрадчиво он осведомился, не дует ли мне, а то у них «коварная комната».
За время этой болтовни я выложил перед собою на стол два-три старых моих письма – Брежневу и в «Правду». Белые листы с неизвестным машинописным текстом невинно легли на коричневый стол, но ужасно взволновали Маркова, сидящего по другую сторону. Он так, наверно, понял, что какую-то ещё новую бомбу я положил, сейчас оглашу, и нетерпение не давало ему сил дождаться удара: он должен был прочесть! Нарушая весь приличный тон беседы, он выкручивал шею и выворачивал глаза.
Пришёл Соболев – и Марков начал так: на съезде нельзя было разобрать моего письма, у съезда была «своя напряжённая программа». К сожалению, письмо стало фактом не внутреннего, а международного значения и задевает интересы нашего государства. Надо разобраться и найти выход. (Чем дальше, тем больше это станет главной мелодией: как нам найти выход из положения? помогите найти выход!)
Коротко сказал и безпокойно смотрел на меня. Тем же гостинным тоном, как мы говорили об особняке Ростовых, я осведомился, не будет ли им интересно «узнать историю этого письма». Оказывается – да, очень интересно. Тогда я длинно стал рассказывать историю всех клевет на меня, и как я возражал, и как вот письма посылал (трясу ими, Маркову отлегло). Потом был – налёт, стоивший мне романа и архива…
Полканистый Соболев: – Какой налёт?
Я (любезно): – …госбезопасности.
Затем – мои несколько жалоб в ЦК, и все оставлены без ответа. Затем – начало «тайного издания» моих вещей, все условия для плагиата. А клевета всё расширяется. (Патетически): К кому же обращаться? Да к высшему органу нашего Союза – к съезду! Разве это незаконно? (Марков и Воронков вместе: вполне законно. Сартаков и Соболев дуются.) Съезд был назначен на июнь 1966, я готовил письмо (вру, ещё идеи не было). Но съезд, как известно присутствующим, был перенесен на декабрь (кивают). Что же делать? Тогда я решил обратиться непосредственно к Леониду Ильичу Брежневу. Там я уже говорил и о положении писателя в нашем обществе и как вовремя можно было остановить культ Сталина. И что ж? На это письмо не было никакого ответа. (Они между собой быстро, как сговорясь, как актёры в хорошо отрепетированной массовке: «Леонид Ильич не получил… Не получил Леонид Ильич!.. Леонид Ильич конечно не получил!..») Я стал ждать декабря, чтобы писать съезду. (Вру, уезжал в Укрывище, дописывать «Архипелаг».) Но съезд опять перенесли – на май. (Кивки.) Хорошо! Я стал ждать мая. Если б его ещё перенесли – я ждал бы ещё. (Небось пожалели внутренне – отчего ещё дальше не перенесли?)
Сартаков: – Но зачем же четыреста экземпляров?! (Цифра от Би-би-си.)
Я: – Откуда это – четыреста? Двести пятьдесят. Вот именно потому, что письма, посланные по одному – по два экземпляра, легли под сукно, – я был вынужден послать сотни.
Они: – Но это непринятый образ действий!
Я: – А тайно издавать роман при жизни автора – это принятый?
Соболев (полканисто): – Но где логика? Зачем посылать делегатам, если шлётся в президиум?
Я: – Мне важно было получить поддержку авторитетных писателей. Я получил от ста и вполне удовлетворён.
Марков: – Но зачем в какую-то «Литературную Грузию»?
Я: – Почему же органу братской республики не знать о моём письме?
Марков: – Со всех мест нам присылают ваши письма. И не думайте, что все – за вас, многие – решительно против.
Я: – Так вот я и хочу открытого обсуждения.
Марков (жалостливо): – Да, но если б это не стало известно нашим врагам. (У них для «сосуществования» нет и термина другого: все кругом – враги!)
Я: – Очень досадно. Но это – ваша вина, а не моя. Это почему произошло? Потому что три недели вы на моё письмо не отвечали! Зачем же потеряно столько времени? Я-то ждал, что в первый же день съезда президиум меня вызовет, даст возможность огласить письмо, либо во всяком случае устроит обсуждение.
Марков (страдательно): – Ну что ж, это – упрёки, а главное: как теперь быть?
(И все дробным эхом: как быть?)
Марков: – Вы, находящийся в самой гуще политики, посоветуйте!
Я (с изумлением): – Какая политика? Я – художник!
Воронков: – Да ведь как передают! – по два раза в одну передачу! – (Врёт, но я не могу возражать: я же западного радио не слушаю.) – Израиль! – ваше письмо! – Израиль! – ваше письмо! Да читают как! – мастера художественного чтения!
Марков (язвительно): – А всё-таки в вашем письме есть маленькая неточность.
Одна маленькая неточность? В письме, где я головы рублю им начисто? Где на камни разворачиваю их десятилетия?..
– Какая же?
Марков: – А вот: что «Новый мир» отказался печатать «Раковый корпус». Он не отказывался.
Это Твардовский им так ответил. Он так помнит. Он честно, искренне помнит так. Об этом мы уже в редакции с ним сегодня толковали: «А. И., когда я вам отказывал?» – «А. Т.! Да вы же взяли 2-ю часть в руки, подняли и говорите: даже если бы всё зависело от одного меня…» Нет, не помнит! И что я «ничего не хочу забыть», и что у меня «ничего святого нет», – забыл. – «Может быть, о какой-нибудь странице шла речь? А всю 2-ю часть я не отказывал…»
Сейчас Твардовский сидит в стороне, курит и с серьёзно-внимательным видом наблюдает наш спектакль. Подошло, что все на него оглянулись.
Твардовский: – Ну, погорячились, чего не сказали оба. Это был так, разговор, а редакция вам не отказала.
«Так, разговор», которым едва не закончились все наши отношения…
Твардовский: – Сейчас вся редакция согласна печатать весь «Раковый корпус». Там расхождение с автором у нас на полторы-две страницы, не стоит и говорить…
Полторы-две? Помнится, целые главы вычёркивали, целых персонажей… Но всё изменилось – победители не судимы. Первый раз в жизни я могу применить эту пословицу к себе.
А. Т. почувствовал заминку и – что за молодец! откуда в нём эта расторопность и это умение? – вдруг тоном отечески-суровым, с торжественностью:
– Но в редакции я не задал вам, А. И., одного важного вопроса. Скажите, как по-вашему: могут ли «Раковый корпус» и «Круг первый» достичь Европы и быть опубликованными там?
Это нам в цвет! Такие вопросики давайте!
Я: – Да, «Раковый корпус» разошёлся чрезвычайно широко. Не удивлюсь, если он появится за границей.
Кто-то (сочувственно): – Да ведь переврут, да вывернут!
(Не больше, чем ваша цензура!)
Соболев (ужасаясь попасть в такое беззащитное положение): – Да ещё какие порядки объявили: принимают к печати даже рукописи, пришедшие через третьих лиц, а за авторами, видите ли, сохраняют гонорары!
Кто-то: – Но как случилось, что «Корпус» так разошёлся?
Я: – Я давал его на обсуждение писателям, потом в несколько редакций, и вообще всем, кто просил. Свои произведения своим соотечественникам – отчего ж не давать?
И не смеют возразить! Вот времена…
Твардовский (как будто только вспомнив): – Да! Мне же Вигорелли прислал отчаянную телеграмму: Европейская Ассоциация грозит развалом. Члены запрашивают у него разъяснений по письму Солженицына. Я послал пока неопределённую телеграмму.
Воронков: – Промежуточную. – (Смеётся цинично.)
Твардовский: – Да ведь без нас Европейская Ассоциация существовать не может.
Марков: – Да она для нас и была создана.
(Потом я узнал от А. Т.: в июне он должен был ехать в Рим на пленум президиума Ассоциации обсуждать тяжёлое положение писателей… в Греции и Испании. И всё сорвалось для греческих писателей из-за моего письма.)
Я: – А «Круг первый» я долго не выпускал из рук. Узнав же, что его дают читать и без меня, решил, что автор имеет не меньше прав на свой роман. И не стал отказывать тем, кто просит. Таким образом, уже расходится и он, но значительно меньше, чем «Раковый».
Твардовский (встал в волнении, начинает расхаживать):
– Вот почему я и говорю: надо немедленно печатать «Раковый корпус!» Это сразу оборвёт свистопляску на Западе и предупредит печатание его там. И надо в два дня дать в «Литгазете» отрывок со ссылкой, что полностью повесть будет напечатана… – (с милой заминкой) – …ну, в том журнале, который автор изберёт, который ему ближе.
И никто не возражал! Обсуждали только: успеет ли «Литгазета» за два дня, ведь уже набрана. Может быть – «ЛитРоссия»?
Они были мало сказать растеряны в этот день, – они были нокаутированы: не встречей, а до неё, радиобомбёжкой. И самое неприятное в их состоянии было то, что, кажется, в этот раз им самим предложили выходить из положения (ЦК уклонился, письмо – не к нему!) – а вот этого они не умеют, за всю жизнь они ни одного вопроса никогда не решили сами. И, пользуясь коснением их серости, всегда медлительный Твардовский завладел инициативой.
Марков и Воронков наперебой благодарили меня, – за что же? За то, что я к ним пришёл!.. (Теперь и я смягчился, и благодарил их, что они, наконец, занялись моим письмом.)
В этот день впервые в жизни я ощутил то, что раньше понимал только со стороны: что значит проявить силу. И как хорошо они понимают этот язык! Только этот язык! Один этот язык – от самого дня своего рождения!
Мы возвращались с Твардовским в известинской чёрной большой машине. Он был очень доволен ходом дел, предполагал, что секретари уже советовались наверху, иначе откуда такая податливость? где же «ударом на удар»?.. Тут же А. Т. придумал, какую главу брать для отрывка в «Литгазете», и сам надписал: «Отрывок из романа “Раковый корпус”».
Его искренняя, но обрывистая память нисколько не удерживала, что это самое название он год назад объявлял недопустимым и невозможным. Ещё до всякого печатанья все уже запросто приняли: «Раковый корпус».
Ход самих вещей.
Но слишком это было хорошо, чтоб так ему и быть. Дальше всё, конечно, завязло: наверху же и задержали, и прежде всего Демичев. (На одной из квартир, где я юмористически рассказывал, как дурил его при встрече, стоял гебистский микрофон, очевидно у Теушей. Перед Демичевым положили ленту этой записи. И хотя, если под дверью подслушиваешь и стукнут в нос, то пенять надо как будто на себя, Демичев рассвирепел на меня, стал моим вечным заклятым врагом. На весь большой конфликт наложилась на многие годы ещё его личная мстительность. В его лице единственный раз со мной пыталось знакомиться Коллективное Руководство – и вот…)
Ни коммюнике секретариата, ни отрывка в «Литгазете», разумеется, не появилось: прекратилась радиобомбёжка с Запада, и боссы решили, что можно пережить, ничего не предпринявши. Были сведения у А. Т., что 30 июня наверху обсуждался мой вопрос. Но опять ничего не было решено. А Демичев придумал такой план: чтобы секретарям (Твардовский: «тридцать три богатыря, сорок два секретаря») прочесть мои тома: и «Круг» и «Раковый», но прежде и обязательнее всего – «Пир победителей» (жалко было им слезать с этого безотказного конька!). Если учесть, что среди секретарей не только не все владели пером, но и читали-то запинаясь, то задуманный спуск на тормозах был полугодовым и обещал перетянуть телегу в послеюбилейное (полвека «Великого Октября») время, когда можно будет разговаривать покруче.
Всё это я узнал от А. Т., зайдя в редакцию в начале июля. Он был кисл и мрачен. Каждый месяц он сталкивался с этой загораживающей тупой силой – но и за полтораста месяцев не мог привыкнуть. Цензура запрещала ему уже самые елейные повести (Е. Герасимова). Воронков, которого я таким подхватистым видел недавно, – и тот не всякий раз подходил к телефону, а отвечал – надменно. Но тут из-за моего прихода А. Т. посилился и позвонил ещё. Воронков изволил подойти и сказать, что секретари читают, однако не знают, где взять «Раковый корпус» (ведь его не изымала ЧК, и нет в ЦК…). А. Т. оживился: я пришлю!
Надежда! Он решил послать тот единственный редакционный чистенький, незатрёпанный и выправленный экземпляр, который я им дал недавно. Я возмутился: «Не хочу им, собакам, отдавать! – затрепят, залохматят!» Вздыбился и А. Т.: «О голове идёт! а вы – затрепят!..» Только стал меня просить «выбросить страничку про метастазы» – очевидно, это и были те «полторы-две страницы» спорных. Помнилось ему (внушил кто-то из редакции, ещё, наверное, Дементьев до ухода), якобы есть там длинное рассуждение, что лагеря проросли страну, как метастазы (будто это пришлось бы размазывать на страницу!). Очень трудно высвобождать А. Т. от первоначального ложного убеждения. Я уверял, что нет такой страницы, он не верил. Я показал абзац, где есть примерная фраза, ну могу её вычеркнуть, ладно. Нет, есть где-то страница! Тут втёрся в дверь маленький Кондратович и живенько стал носом поковыривать под страницы: у Шулубина должно быть, у Шулубина! Я стал при них пробегать шулубинские страницы и ещё давал Кондратовичу смотреть, как своему же, не опасаясь, что тяпнет за ногу. Но у него разгорелись глаза – это не его были глаза, а вставленные подменённые глаза от цензуры, и ноздри были не его, а снаряжённые нюхательными волосочками цензуры, – и он уверенно-радостно выкусил клок:
– Вот! Вот!
– Где?
– Вот:
На всех стихиях человек Тиран, предатель или узник!– Так это – про метастазы?
– Всё равно что про метастазы. Ещё хуже!
Я это всё не о Кондратовиче рассказываю, – о журнале и о Твардовском. Измученный и напуганный Твардовский приник к предупреждению Кондратовича:
– Получается, что сказано о николаевской России – то относится и к нам?..
– Да не о николаевской России, а об Англии, которая собиралась выдать декабриста Тургенева.
То ли устыдясь, что не знал мотивов пушкинского стихотворения, то ли что вообще занёс руку на Пушкина, А. Т. примирился:
– Ну, только уберите фразу, что Костоглотов согласен.
Это было их обычное сдавленное ожидание: кроме того, что скажут обо всей вещи, ещё надо предвидеть – из какой полоски вырежут ремешок, ремешок навяжут на кнут и будут кнутом цитировать по мордасам.
Для душевного покоя А. Т. убрал я ту фразу. Он повеселел и решил «утешать» меня: что Егорычева[31] вот сняли, а меня – не сняли; что я хорошо себя вёл на секретариате: и без задирки, и безо всякого раскаяния.
Ему совсем не хотелось, чтобы я теперь раскаивался! Ему определённо нравилась моя затея с письмом. Да кажется, впервые за годы нашего знакомства он поверил, что я могу самостоятельно передвигать ноги.
Стали говорить о «Пире победителей», – как отвести его от обсуждения в секретариате, и что Симонов вслед за Твардовским отказался его читать.
– Вы хоть мне бы дали, – попросил он.
– Да ведь, А. Т., честно! – единственный экземпляр у меня был, и вот загребли. У самого не осталось.
– В конце концов, – рассуждал он покладисто, созерцательно, – у Бунина есть «Окаянные дни». Ваша пьеса не более же антисоветская! А его остального мы печатаем…
Нет, менялся Твардовский! Менялся, и совсем не медленно. Давно ли он спрашивал, как я смел какие-то лагерные пьески положить «рядом со святым Иваном Денисовичем»? Давно ли он целыми главами не принимал даже «Раковый корпус»? А сейчас вполне обнадёживающе написал:
Я сам дознаюсь, доищусь До всех моих просчётов.И лишь просил:
Не стойте только над душой, Над ухом не дышите!Ещё так сказал добродушно:
– Я тоже разрешаю себе высказываться против советской власти, но только в самом узком кругу. – (Надо понимать, что у Твардовского значит – «против советской власти» с добродушной усмешкой. Это – не в газетном резком смысле, это – не касаясь основ и партийного замысла, а лишь: не со всем кряду соглашаться, иметь же свою точку, чёрт подери!) – А, например, за границу поеду – там выкуси, там всё наоборот.
Уж это – как водится, уж как воспитано.
Прошло ещё полтора месяца – всё было так же, ни гласа, ни воздыхания. Да собственно, я не ждал ничего и не нужно мне было ничего, – я-то стоял на скале! Но безпокойство, не упускаю ли ещё какую-то возможность, навело меня предложить Твардовскому заключить на «Раковый» теперь договор: ведь мы как будто вновь сосватались. А в том болотном, неустойчивом равновесии, где не говорят «да» и не говорят «нет», где все уклоняются от решения, – один-то маленький толчок, может, всего и нужен? Вот и сделаем его. И пусть хоть на договор кто-нибудь наложит запрет! А не будет – можно и рукопись толкать. Надо же пробовать!
Этот планчик застал Твардовского врасплох: и неожиданно ему было, чтобы я о договоре первый завёл, и толкал же я его на мятеж, не иначе, – самому преступить волю начальства. И мне кажется так: внутренне в нём сразу сработало, что он – не может, не смеет, на это не пойдёт. Но если жёсткие люди своё промелькнувшее ощущение тут же перекладывают в слова, люди с мягкотою не решаются так круто сказать. И он в основном обещал, но ещё надо уточнить, и десятидневными уточнениями, двумя моими ненужными заездами в редакцию, а его неприездом (к нему на дачу газ проводили) и с дачи телефонным звонком уяснилось: «Я всё равно не могу заключить с вами договора на “Корпус”, пока не получу на то разрешения».
С какой это поры даже на договор редакция нуждается в разрешении? (Да, бишь, редакция же «не отказала» «Корпусу»?) Впал Твардовский в малодушие опять. В этих опаданиях и приподыманиях, между его биографией и душой, в этих затемнениях и просветлениях – его истерзанная жизнь. Он – и не с теми, кто всего боится, и не с теми, кто идёт напролом. Тяжелее всех ему.
Для меня же отказ его имел уже характер освобождающий: потому что к этому дню у меня зародился новый план – толчка большого, а не малого, и договор только связывал бы меня.
До меня доходили слухи (потом оказались ложными), будто в Италии уже готовится издание «Ракового корпуса». А у нас медлили! И я придумал предупредительный шаг, отметку: вот я вам сказал, впредь отвечать будете вы! Приходило же время разорвать их судебную хватку с литературной шеи. Разве при нашей цензуре, разве при нашем безправии, разве при отказе государства от международного авторского права – за книги, вышедшие на Западе, должны отвечать не наши боссы? Почему – авторы?..
По образцу первого письма я думал снова послать экземпляров 150, сократясь лишь на нацреспубликах. Однако склонили меня не делать огласки разом, не разрывать одежд с треском, – а только угрозить этим треском. Показалось мне – разумно. И я решил своё второе письмо разослать лишь «сорока двум секретарям» и секретариату как целому – и никому не дать на руки, чтоб не пошло в Самиздат и не пошло за границу.
Ещё надо было выбрать наилучший срок. Хотя ничто меня теперь не гнало, у меня времени в запасе стояли озёра, – но сходнее было сдерзить до пышного Юбилея Революции. И вместо полугодия от съездовского письма я выбрал три месяца от встречи на Поварской. [3]
Однако снова петелька: надо же «советоваться» с А. Т., мы же опять в дружбе. А разве он может такой шаг одобрить?.. А разве я могу от задуманного отказаться?..
Я назначил день, когда буду в редакции. А. Т. обещал быть – и не приехал. Его томило, что я о договоре буду спрашивать! – и он избежал встречи. Так избыточная пустая затейка с этим договором тоже вложилась в общую конструкцию: я рвался с ним советоваться! но его не было! И к вечеру 12 сентября сорок три письма были уже в почтовых ящиках Москвы! Лучше оказалось и для А. Т. и для меня, что мы не встретились.
Но как он теперь? От этой новой дерзости – взовьётся? Секретари взвились, как от наступа на хвост, что-то кричал и рычал Михалков по телефону в «Новый мир», уже 15-го собрали предварительный секретариат для первого обгавкиванья, пока без стенограммы. И в тот же день послали мне вызов на 22-е. И в тот же день гнал за мной гонцов Твардовский.
Я ехал к нему 18-го, уже сомневаясь: не суета ли моя? Зачем уж я так наседаю на этот осиный рой? Ведь и крепко я стал, ведь и временем располагаю, – ну и работал бы тихо. Разве драка важнее работы?
Я и Твардовскому своё сомнение высказал в тот день, но он! – он сказал: надо было!! раз уж начали – доводите до конца!
Опять он меня удивил, опять вынырнул непредсказуемый. Куда делись его опущенность, уклончивость, усталость? Он снова был быстр и бодр, моё второе письмо как сигнал трубы подняло его к бою, – и он уже выдержал этот бой – предбой, Шевардино, – на секретариате 15-го. Говорил, что его поддержали (печатать «Раковый корпус») Салынский и Бажан, а были и поколебленные. «Дела не безнадёжны!» – подбодрял он себя и меня.
Одно-единственное заседание казалось мне разрушением и моего рабочего ритма и душевного стиля, уж я тяготился и сомневался. А он на своём поэтическом веку, как долгом тёмном волоку, – сколько их перенёс? триста? четыреста? Чему ж удивляться? – тому ли, что он поддался кривому ввинчиванию мозгов? Или душевному здоровью, с которым перенёс и уцелел?
Я сетовал, что он меня вызвал толковать, только от работы время отрывая. «Да может никакого времени скоро не останется!» – сверкнул он грозно. Он вот чего боялся, умелого, сдержанного Лакшина призвал и с ним вместе готовился меня уговорить и настроить, чтоб я был сдержан там, чтоб не выскакивал, не сшибался репликами, не взрывался от гнева, – ведь заклюют, ведь тогда я пропал, они же все опытные петухи.
Столько времени мы знакомы с А. Т. – и совсем друг друга не знаем!..
– Открою вам тайну, – сказал я им. – Я никогда не выйду из себя, это просто невозможно, в этом же лагерная школа. Я взорвусь – только по плану, если мы договоримся взорваться, на девятнадцатой минуте или – сколько раз в заседание. А нет – пожалуйста, нет.
Но А. Т. мне не верил, – если б так!.. Он-то знал, как вытягивают жилы на этих заседаниях, как ставят подножки, колют в задницу, кусают в пятку. Невыгодность расположения состояла для нас в том, что они читали «Пир победителей», обсуждали «Пир», хотели говорить только о «Пире» и бить по «Пиру» и «Пиром» – меня. А надо было заставить их замолчать о «Пире» и говорить о «Корпусе».
Всё же мы разработали, как я должен сбивать «Пир», не прерывая ни одного оратора.
Два дня я ещё имел время, в тишине, – но уже мысленно в бою. То, что могут мне сказать, спросить, как наброситься – так и выступало со всех сторон из воздуха, изводило меня преждевременно, вызывало на ответы. Я записывал возможные реплики – и тогда мои ответы.
Например: «Вы выносите сор из избы!» Ответ: «Всякая провокация заслуживает быть разоблачённой, и пусть о ней узнает хоть и весь мир. Боясь западной огласки, мы соглашаемся жить в постоянной безгласности. А безгласность – мать беззакония».
Например (жалко, не спросили): «На какие средства вы живёте?» Ответ: «Восемь лет я лакал собачью лагерную похлёбку – и тогда никто из вас не спросил, на какие средства я живу. Учителем я жил на 60 рублей в месяц – и никто из вас не спросил, на какие средства я живу. А теперь, когда издана моя книга, на которую, при моих малых потребностях, можно жить 10 лет, – это я вас спрошу: куда вы деваете народные деньги, которые так щедро вам расточают каждый год?»
Постепенно из отдельных реплик сама стала складываться возможная речь. Никогда в жизни не готовил я письменной речи дословно, презирал это как шпаргальство, – а вот написал. Конечно, я не мог предусмотреть точно всех задёвок, которыми меня встретят, но на наших собраниях и не привыкли, чтобы речи точно соответствовали друг другу, ведь чаще говорят мимо, кому что важней, и никто не удивляется.
Готовиться к этой первой (но тридцать лет я к ней шёл!) схватке мне, собственно, не было трудно: и потому, что очень уж отчётливо я представлял свою точку зрения на всё, что только могло шевельнуться под их теменами; и потому, что на самом деле предстоящий секретариат не был для меня решилищем судьбы моей повести: пропустят ли они «Раковый корпус» или не пропустят, – они всё равно проиграли. Равно не нужен мне был этот секретариат и как аудитория: безполезно было пытаться воистину их переубедить. Всего только и нужно было мне: прийти к врагам лицом к лицу, проявить непреклонность и составить протокол. В конце концов – ещё бы им меня не ненавидеть! Ведь я – отрицание не только их лжи, но и всей их лукавой прошлой, нынешней и будущей жизни.
И всё-таки, готовясь к этому копьеборству, я к концу дня уставал и хотелось снять избыточное, нетворческое, совсем ненужное мне напряжение. А чем? Лекарствами? Простая мысль: перед вечером – немного водки. И сразу смягчались контуры, и ничто уже не дёргало меня к ответу и огрызу, и сон спокойный. И вот ещё в одном я понял Твардовского: а ему тридцать пять лет чем же было снимать это досадливое, жгущее, постыдное и безплодное напряжение, если не водкой?.. Вот и брось в него камень. (Разговора о своих выпивках он очень не любил. Ему скажешь: «Должны же вы себя поберечь, А. Т.!» – отводит недовольно. И о куреньи его безостановном пытался я ему говорить, пугал раковым корпусом, – отмахивается.)
Мой план был такой: единственное, чего я хочу от заседания, – записать его поподробней. Это даст мне возможность и головы не поднять, когда будут трясти надо мной десницами и шуями: «скажите прямо – вы за социализм или против?!», «скажите прямо – вы разделяете программу Союза писателей?» Это и их не может не напугать: ведь для чего-то я строчу? ведь куда-то это пойдёт? Они поосторожней станут выражения выбирать, – они не привыкли, чтоб их мутные речи выплескивали под солнце гласности.
Я заготовил чистые листы, пронумеровал их, поля очертил, – и в назначенные 13.00 22-го сентября вошёл в тот самый полузал с кариатидами. А у них уже был густой, надышанный и накуренный воздух, дневное электричество, опорожненные чайные стаканы и пепел, насыпанный на полировку стола, – они уже два часа до меня заседали. Не все сорок два были: Шолохову приезжать было бы унизительно; Леонову – скользко перед потомками, он рассчитывал на посмертность. Не было ядовитого Чаковского (может быть, тоже из предусмотрительности) и яростного Грибачёва. Но свыше тридцати секретарей набилось, и три стенографистки заняли свой столик. Я сдержанно поздоровался в одну и в другую сторону и стал искать место. Как раз одно и было свободно. И оказалось оно рядом с Твардовским.
Терпеливо прослушав обиженное фединское вступление («Изложение» секретариата, [4]), я уловил те единственные пять секунд заминки, когда он слюну глотал, готовился дать кому-то слово, – и елейным голоском попросил:
– Константин Александрович! Вы разрешите мне два слова по предмету нашего обсуждения?
Не заявление! не декларация! только два безобидных слова! – и по предмету же обсуждения… Как важно было их вырвать! Я просил так невинно – Федин галантно разрешил.
И тогда я торжественно встал, раскрыл папку, достал отпечатанный лист и, с лицом непроницаемым, а голосом, декламирующим в историю, грянул им своё первое заявление, отводящее «Пир победителей», – но не покаянно, а обвинительно, – их всех обвиняя в многолетнем предательстве народа!!
Я потом узнал: у них уже было расписано, кто за кем и как начнут меня клевать. Они уже стояли в боевых порядках, но прежде их условного знака – я дал в них залп из ста сорока четырёх орудий, и в клубах дыма скромно сел (копию декларации отдав через плечо стенографисткам).
Я сидел, готовый записывать, но они что-то не выступали. Я выбил из их рук всё главное – битьё «Пира победителей». Зашевелились, расчухивались – и Корнейчук полез с вопросом.
– Я не школьник, вскакивать на каждый вопрос, – ответил я. – У меня будет же выступление.
Но вот второй вопрос! третий! Они нашли форму: они сейчас запутают и собьют меня вопросами, превратят в обвиняемого! Это они умеют, жиганы!
Я отказываюсь: у меня же будет выступление.
Ага, значит верно клюнули! Они сливаются в гомоне – в ропоте – в вое: «Секретариат не может начать обсуждать без ваших ответов!» – «Вы можете вообще отказаться разговаривать, но заявите!»
Смяты и наши стройные ряды, они сбивают и мой план боя, – где уж тут безстрастно записывать. Но бездари, но бездари! – отчего ж эти вопросы ваши я знал заранее? Почему на все ваши устные вопросы у меня уже обстоятельно изложены письменные ответы? Только одна жертва: разодрать свою речь в клочья и клочьями от вас отбиваться.
Я подымаюсь, вынимаю свои листы и уже не исторически-отрешённым, но свободнеющим голосом драматического артиста читаю им готовые ответы.
И передаю стенографисткам.
Они поражены. Вероятно, за 35 лет их гнусного Союза – это первый такой случай. Однако прут резервы, второй эшелон, прёт нечистая сила! И мне задаются ещё три вопроса.
А, будьте вы неладны, когда же вас записывать! Это хорошо, что у меня все ответы готовы. Я встаю и выхватываю следующие листы. И уже всё более свободно и всё более расширительно, сам определяя границы боя, уже не столько на их вопросы, сколько по своему плану, я гоню и гоню их по всему Бородинскому полю до самых дальних флешей.
И – тишина, рассеянность, растерянность, неопределённость наступают в пространстве. И с фланга идут чьи-то ряды, но это – не вполне враги, это – полунаши. Выступают Салынский и Симонов, они хоть не вовсе за нас, но хотя бы за «Раковый». Враг растерян, никто не просит слова, и вопросов уже нет. Что такое? Да не есть ли это победа? Тяжёлыми драгунами Твардовский начинает реять и рыскать по полю: так принимаем решение! печатаем «Корпус»! и отрывок немедленно в «Литгазете»! да мы же принимали коммюнике, где коммюнике, Воронков?
Но подхватистый Воронков не спешит. Верней, он ищет коммюнике, он ищет, но не может сразу найти. (А только что мне моё письмо съезду понадобилось для цитаты – он раньше меня вывернулся и поднёс: «Пожалуйста!» – листовку, изданную «Посевом», я догадался отклонить.) Ещё немножко, ещё немножко им продержаться! Да где же имперские резервы?.. Там и здесь поднимаются из-под копыт: «Почему голосовать? Ведь ещё не решили! Ведь есть и против!»
И вот она, чёрная гвардия! – Корнейчук (разъярённый скорпион на задних ножках)! Кожевников! И на белых конях – перемётная конница Суркова! И дальше, и дальше, из глубины – новые и новые твердолобые – Озеров, Рюриков, на хоккеиста смахивающий Баруздин.
(Баруздин сидит рядом со мной, о каждом выступающем я у него осведомляюсь – кто это? А вон тот сидит? Называет соседа. Нет, вон тот? Называет другого соседа. Нет, между ними! – лицо, подобное холёному, пухлому заднему месту, с насаженными светленькими очками. Ах, это товарищ Мелентьев из «отдела культуры» ЦК. Тайный дирижёр! Сидит и строчит. Строчи! знай бывших зэков!)
И потом – все национальные роты (Абдумомунов, Бровка, Кербабаев, Яшен, Шарипов), – у них в республиках осваиваются целинные земли, строятся плотины, – какой «Раковый корпус»? какой Солженицын? Зачем он пишет о страданиях, если мы пишем только о радостном?
И сколько их? Конца нет их перечню! Только прибалты молчат, головы опустив. Они видят упущенный свой жребий. Стиханья нет затверженному шагу, обрыва нет заученным фразам. Враги заполнили всё поле, всю землю, весь воздух! Поле боя останется за ними. Мы как будто были смелей, мы всё время атаковали. А поле боя – за ними…
Бородино. Нужно времени пройти, чтобы разобрались стороны, кто выиграл в тот день.
На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна на другую, одна на другую, и без пропуска (и травлю Пастернака начал он, и суд над Синявским – его предложение). У Дориана Грея это всё сгущалось на портрете, Федину досталось принять – своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведёт наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледнивший его лицо, его череп ещё улыбается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?..
Я уже давно вошёл в ритм – пишу и пишу протокол. Лицо моё смиренно – о, волки, вы ещё не знаете зэков! Вы ещё пожалеете о своих неосторожных речах!
В последнем, уже четвёртом, выступлении я позволяю себе и погрозить в сторону отдела культуры ЦК («за “Пир победителей” ответит та организация, которая…»), и поиграть с Фединым – ну конечно же я приветствую его предложение! (Всеобщие улыбки! я сломлен!..) Ну конечно я за публичность! Довольно нам прятать стенограммы и речи!.. Печатайте моё Письмо, а там посмотрим!..
Ропот и вой. Поднимается Рюриков и, скорбно морща свой догматический лоб:
– Александр Исаевич! Вы просто не представляете, какой ужас пишет о вас западная пресса. У вас волосы встали бы дыбом. Приходите завтра в «Иностранную литературу», мы дадим вам подборки, вырезки.
Я смотрю на часы:
– Я хочу напомнить, что я – не московский житель. Сейчас я иду на поезд, и мне не удастся воспользоваться вашей любезностью.
Ропот и вой. Обманутый, разгневанный Федин закрывает обсуждение, длившееся пять часов. Я корректно буркаю два «до свиданья» через два плеча и ухожу.
Поле боя – за ними. Они не уступили нигде, нисколько.
Но чья победа?
В тот день я не успел повидать А. Т. Он послал мне письмо:
«Я просто любовался Вами и был рад за Вас и нас… Очевидное превосходство правды над всяческими плутнями и “политикой”… По видимости дело как будто не подвинулось… На самом же деле произошла, безусловно, подвижка в нашу пользу… Практически мой вывод такой, что мы готовы заключить с Вами договор, а там видно будет».
Но не меньше Твардовского меня удивило Би-би-си. Заседание окончилось в пятницу вечером. Прошёл weekend – а в понедельник днём англичане уже передавали о вызове меня на секретариат и о смысле заседания – довольно верно.
Не иголочка в стогу, теперь не потеряюсь!
ЦДЛ гудел слухами. Писатели, поддержавшие меня при съезде, теперь требовали разъяснений от секретариата.
Через несколько дней на правлении СП РСФСР огласили письмо Шолохова: он требует не допускать меня к перу! (не к типографиям – к перу! как Тараса Шевченко когда-то). Он не может больше состоять в одном творческом союзе с таким антисоветчиком, как я! Русские братья-писатели заревели на правлении: «И мы – не можем! Резолюцию!» Перепугался Соболев (ведь указаний не было!): товарищи, это неправильно было бы ставить на голосование! Кто не может – пишите индивидуальные заявления.
И струсили. Ни один не написал.
Среди московских писателей: а может, и мы с ними не можем?
Ну разве доступно ввинтиться в гранит? Разве есть такие свёрла? Кто бы предсказал, что при нашем режиме можно начать громогласить правду – и выстоять на ногах?
А вот – получается?..
Узда лагерной памяти осаживает мои загубья до боли: хвали день по вечеру, а жизнь по смерти.
Ноябрь 1967
Рязань
Второе Дополнение (ноябрь 1967 – лето 1970)
* * *
Странная вырабатывается книга. Не предвиденная ранними планами и не обязательная: можно писать, можно и не писать. Три года не касался, спрятав глубоко. Не знал, вернусь ли к ней, до того ли будет. Несколько близких друзей, прочитавших: бойко получается, обязательно продолжай! Вот в передыхе между Узлами главной книги (кончил «Август») припадаю к этой опять.
И первое, что вижу: не продолжать бы надо, а дописать скрытое, основательней объяснить это чудо: что я свободно хожу по болоту, стою на трясине, пересекаю омуты и в воздухе держусь без подпорки. Издали кажется: государством проклятый, госбезопасностью окольцованный – как это я не переломлюсь? как это я выстаиваю в одиночку, да ещё и махинную работу проворачиваю, когда-то ж успеваю и в архивах рыться, и в библиотеках, и справки наводить, и цитаты проверять, и старых людей опрашивать, и писать, и перепечатывать, и считывать, и переплетать, – выходят книга за книгою в Самиздат (а через одну и в запас копятся), – какими силами? каким чудом?
И миновать этих объяснений нельзя, а назвать – ещё нельзее. Когда-нибудь, даст Бог, безопасность наступит – допишу[32]. А пока даже план того объяснения на бумажке составить для памяти – боюсь: как бы та бумажка не попала в ЧКГБ.
Но уже вижу, перечитывая, что за минувшие годы я окреп и осмеливаюсь больше и больше рожки высовывать, и сегодня решаюсь такое написать, что три года назад казалось смертельно. Всё явней следится моё движение – к победе или к погибели.
Тем и странна эта книга, что для всякой другой создаёшь архитектурный план, и ненаписанную видишь уже в целом, и каждой частью стараешься служить целому. Эта же вещь подобна нагромождению пристроек, ничего не известно о следующей – как велика будет и куда пойдёт. Во всякую минуту книга столь же кончена, сколь и не кончена, можно кинуть её, можно продолжать, пока жизнь идёт, или пока телёнок шею свернёт о дуб, или пока дуб затрещит и свалится.
Случай невероятный, но я очень его допускаю.
Прорвало
Да, сходство с Бородином подтверждалось: с битвы прошло два месяца, почти ни одного выстрела не было сделано с обеих сторон, – ни газетного упоминания, ни особенной трибунной брани, – да ведь Пятидесятилетие Октября проползало, и требовалось им как можно нескандальнее, как можно глаже. Тоже и я, со склонностью к перемирию, своего «Изложения» о бое [4] в ход не пускал, правильно ли, неправильно, бережа для слитного удара когда-нибудь. Не происходило никаких заметных перемещений литературных масс, и поле боя, помнится, оставалось за противником, у него осталась Москва, – но чувствовал я именно в этой затиши: где-то что-то неслышно, невидимо подмывалось, подрывалось – и не звала ли нас обагрённая земля воротиться на неё безо всякой схватки?
С этим ощущением я приехал в Москву, спустя великий юбилей, и чтоб немного действий проявить перед тем, как на всю зиму нырну в безмолвие. Для действий – нужен был Твардовский, но его, оказалось, нет давно, уже целый месяц он пребывал в своей обычной слабости, в ней незаметно провёл и барабанный Юбилей (от которого неизлечимо-наивный Запад ждал амнистии хоть Синявскому-Даниэлю да своему слабонервному европейцу Джеральду Бруку – но не бросили, разумеется, никому ни ломтя с праздничного стола). Так всегда и получалось у нас с А. Т., так и должно было разъёрзнуться: когда нужен ему я – не дозваться, когда нужен мне он – не доступен.
День по дню пождал я его в редакции, созванивался с дачей, – наконец решено было 24 ноября ехать мне в Пахру, и вызвался со мною Лакшин. Выехали мы утром в известинской чёрной «Волге» ещё в лёгком пока снегопаде. Было у меня чтение в дорогу срочное, но не вышло, занимал меня спутник разговором. Это многим дико, а у меня инерция уже принятой работы, и тянет обязательно доделывать по плану, хотя посылается единственный, может быть, случай – вот поговорить с Лакшиным, с которым никогда почему-то не выходило. Да при неведомом шофёре какой разговор? Много было пустого, а всё-таки на заднем сиденьи негромко рассказал он мне интересное вот что: в 1954 году, когда решался вопрос о снятии А. Т. с Главного в «Новом мире», этого снятия могло бы не быть, если бы Твардовский вырвался из запоя. И его уже приводили в себя, но в самый день заседания он ускользнул от сторожившего его Маршака и напился. Заседание в ЦК складывалось благоприятно для «Нового мира»: Поспелов был посрамлён, Хрущёв сказал, что интеллигенции просто не разъяснили вопросов, связанных с культом личности, – и редакцию в общем не разогнали, но отсутствующего даже на ЦК главного редактора – как же было не снять?
Иногда спасительной разрядкой была эта склонность, иногда ж и губила.
Английский пятнистый дог встретил нас за калиткой. Вошли в дом безпрепятственно и звали хозяев. А. Т. медленно спустился с лестницы. В этот момент он был больнее, безпомощнее, ужаснее всего (потом в ходе беседы немного подправился и подтянулся). Сильно обвисли нижние веки. Особенно беззащитными выглядели бледно-голубые глаза. Ни к кому из нас отдельно, он высказал очень грустно:
– Ты видишь, друг Мак, до чего я дошёл.
И у него выступили слёзы. Лакшин ободряюще обнял его за спину.
В том самом холле, и сейчас мрачном от сильного снегопада за целостенным окном, недалеко от камина, где разжигался хворост о погибшем романе, мы сели, а Трифоныч расхаживал нервно, крупно. Короткую минуту мы ничего не говорили, чтобы А. Т. пришёл в себя, а для него это очень тягостно оказалось, и он спросил:
– Что-нибудь случилось? –
и крупно тряслись, даже плясали его руки, уже не только от слабости, но и от опасения чего дурного?
– Да нет! – поспешил я вскричать, – абсолютно ничего. То есть помните, какой мрачный приезд был тогда, – так теперь всё наоборот!
Он несколько успокоился, руки почти освободились от тряски. Мял сигарету, но не закурил. И, сев на диван, спросил с половинной тревогой:
– Ну, что в мире?
Очень это меня кольнуло. Я вспомнил, как школьником, два-три дня пропустивши в школе, я бывал сильно угнетён, как будто провинился: а что там без меня делалось? Как будто за эти дни неминуемо сдвинулся в угрозу тот внешний опасный мир. И то же самое, очевидно, испытывал он, когда вот так, на целый месяц, начисто отключался не только от журнала, но ото всего внешнего мира.
– В «Новом мире» или в остальном? – пошутил я.
– Во всём, – тихо попросил он.
Лакшин дал ему такую версию: после юбилея ничто не улучшилось, но ничто и не ухудшилось. А я даже хотел убедить, что лучше: в Англии была телевизионная инсценировка по процессу Синявского-Даниэля, поднимается новая волна в их защиту, так что дела неплохо… Но эта аргументация до обоих не доходила совсем: не было для них Синявского – Даниэля.
Чтоб не тянуть, я начал излагать своё дело: что ощущаю у противника слабину. Распробовать её лучше бы всего так: никого не спрашивая, пустить в набор несколько глав «Ракового корпуса». Даже если не пройдёт, то, при появлении «РК» за границей, я смогу справедливо негодовать на СП. Иначе, предупредил я, смотрите: вот появится «РК» за границей, неизбежно, и на нас же с вами свалят: скажут, что это мы не предпринимали никаких попыток, не могли друг с другом договориться.
А. Т.: – Это надо подумать, так сразу не скажешь.
А тон этот я уже знаю: это отказ. Пытаюсь убеждать: в обоих случаях, откажут или пропустят, – мы выигрываем!
А. Т.: – Это дерзость будет после всего случившегося – подать как ни в чём не бывало. Надо сперва идти говорить, но я уже не могу, поймите.
(Лакшин потом объяснит мне: в последний раз в «отделе культуры» Шаура опять навязывал Твардовскому читать «Пир победителей» – и А. Т. в который раз был достойно непреклонен: ворованную пьесу, распространяемую против воли автора, не взял в руки! – но слишком ругательно ответил Шауре, и больше не мог идти туда.)
Я: – Да не надо идти просить! Подать обычным образом – и ждать. Почему нельзя?
Лакшин (подобранно, вдумчиво): – Я не сказал Александру Исаевичу по дороге…
(А почему не сказал? не было времени? Да из-за этого и ехал он, теперь понимаю, но сказать должен был при шефе.)
– …а есть такой вариант. Был Хитров в отделе Шауры, перебирали то да сё, зашла речь о Солженицыне. Там удивляются: ему же 24 писателя сказали – написать антизападное выступление, как же он смеет не писать? Пусть напишет – и всё будет в порядке. Ну, не обязательно в «Правде» или в «Литгазете»… Пусть хоть в «Новом мире»…
(Да-а-а? Так они на попятную уже идут, на попятную. Не привыкли встречать твёрдость!)
Итак, предлагает Лакшин: действительно, набрать несколько глав «Корпуса» – и в том же номере, «ну хотя бы в отделе писем… – какое-то заявление А. И., что он удивляется западному шуму…».
Благоразумный мальчик (в 35 лет)! он качался со мной на заднем сиденьи, вёз капитуляцию – и не показал. Очень благоразумно, да, для этого маленького квадрата, но их – шестьдесят четыре, и надо видеть, что противник смят!
Однако я не успел даже ответить Лакшину, – отдать справедливость Трифонычу, он тут же нахохлился, забурчал:
– А что он может писать? О чём, если всё замяли? Письмо-то съезду было, его же не изменишь!
И – стих Лакшин, ни довода больше: мнение А. Т. важней для него, чем мнение ЦК. Стих, хотя внутренне не согласился.
Ну, и я не настаивал больше. Говорили о разном. Пили чифирно-густой чай. А. Т. ещё вставал, похаживал, садился – и всё больше благообразел, отходил от слабости. Тут Лакшин выложил на стол пачку новых книжечек Твардовского, а я по оплошности протянул А. Т. ручку:
– С вас библиотечный сбор.
Он даже не брал её, не пытался, руки-то тряслись! Извинительно:
– Я сейчас не сумею надписать… Я – потом…
Чтобы А. Т. не потерял интереса печатать «РК», я не собирался прежде времени рассказывать ему об «Августе Четырнадцатого». Но так показалось тягостно его состояние, что решил подбодрить: вот, Самсоновскую катастрофу пишу, к будущему лету, может быть, удастся кончить.
А. Т., уже возвращаясь и к иронии:
– Никакой катастрофы не было и не могло быть. Теперь установлено, что дореволюционная Россия совсем не была отсталой. Я читал одну экономическую статью недавно, так и положение крепостных перед 1861 годом рисуется весьма благоприятно: чуть ли не помещики их кормили, старость и инвалидность их были обезпечены…
(Самое смешное, что новая казённая версия гораздо верней предшествующих «революционных»…)
Мы пробыли меньше часа, ждала машина (известинские шофёры всегда капризничали и торопили новомирских редакторов), стали собираться. А. Т. надумал идти гулять, надел какой-то полубушлат очень простой, фуражку, взял в руки палку для опоры, правда не толстую, и под тихим снегопадом проводил нас за калитку – очень похожий на мужика, ну, может быть, мал-мало грамотного. Он снял фуражку, и снег падал на его маловолосую, светлую, крупную, тоже мужицкую, голову. Но лицо было бледным, болезненным. Защемило. Я первый поцеловал его на прощанье – этот обряд был надолго у нас перебит ссорами и взрывами. Машина пошла, а он так и стоял под снегом, мужик с палкой.
В редакции я сам смягчил разговор Костоглотова-Зои о ленинградской блокаде, чтоб не оставить у них серьёзных отговорок.
И уехал. Но едва до Рязани доехал – пришло письмо от Воронкова [5] – зондирующая нота: когда же, наконец, я отмежуюсь от западной пропаганды? Зашевелились?! Недолго думая, я тут же отпалил ему десятком контрвопросов: когда они исправятся? Жду и я, наконец, ответа!! [6]
И, облегчённый, поехал дальше, в глубь, в Солотчу, в холодную тёмную избу Агафьи (второй Матрёны), где в оттепельные дни мы дотапливали до 15 °C, а в морозные я просыпался чаще при двух-трёх градусах. По своему многомесячному плану я должен был теперь прожить здесь зиму. Обложился портретами самсоновских генералов и дерзал начать главную книгу своей жизни. Но робость перед ней сковывала меня, сомневался я – допрыгну ли. Вялые строки повисали, рука опадала. А тут обнаружил, что и в «Архипелаге» упущенного много, надо ещё изучить и написать историю гласных судебных процессов, и это первее всего: неоконченная работа как бы и не начата, она поразима при всяком ударе. А тут достигло меня тревожное письмо, что продают «Раковый корпус» англичанам – да от моего имени, чего быть не могло, от чего я всеми щитами, кажется, оборонился! Так смешалась работа – а через несколько дней и ещё брякнуло, – то из Москвы уже выздоровевший Твардовский потянул в Рязань длинную тягу вызывного колокольца: явись и стань передо мной! срочно нужно! А что срочное – не названо, и конечно же выдуманное. Наработаешься с вами, леший вас раздери! Нехотя, медленно, брюзжа я собирался. Терпеть не могу, когда внешние обстоятельства ломают мой план работы.
А Твардовский то-то дивился, что я не бросаюсь тотчас: звали его и меня в секретариат СП СССР прийти побеседовать запросто; звонил ему Воронков, безпокоился: заплатил ли «Новый мир» Солженицыну хоть аванс за «Раковый корпус», – надо же человеку что-то кусать! («Кусать» – это расхожий термин у них для авторских потребностей.)
Ах, паразиты, вот как!! Да я и не удивляюсь: раз я стал неколеблемо – значит, вам колебаться! Я другому удивляюсь, что за полвека весь мир не видит этого простейшего: только силы и твёрдости они боятся, а кто им улыбается да кланяется – тех давят.
18 декабря я застал А. Т. в редакции уже плавающим в мягких облачных подушках на полуторном небе. Тоже не извещённый точно, Твардовский по мелким побочным признакам безошибочно вывел, что кто-то наверху, чуть ли не Сам (Брежнев), не то чтобы прямо указал печатать «Раковый корпус», нет, наверняка не так (признаки были бы иные), но обронил фразу в том смысле, что надо ли запрещать? И, где-то в воздухе опущенная, но не до пола, никем не записанная, эта фраза была тут же, однако, подхвачена и по людским рукам, по плечам, по ушам поползла, поползла, и онемел от неё аппарат Демичева, и все литературные марионетки, – а какие поживей и поприспособленней, вроде Воронкова, кинулись перед нею и хвостом промести. Итак, нисколько не решено ещё было, но поворот от сентября столь крут, что на сиденьи известинской «волги», везшей нас на улицу Воровского, Твардовский опять, как полгода назад, размечтался не только о журнальном печатании, но чтоб непременно сейчас же шла глава в «Литературку» для закрепления позиций, и опять перебирал, какую главу дать, какой «филейный кусочек» не жаль. В благодушной уступке уже назвал было предпоследнюю (Костоглотов по городу и зоопарку), но взял назад:
– Нет, права первой ночи я Чаковскому не отдам.
Были мы на пороге нового цензурного чуда? Тем и дивен бюрократический мир, что на краткое время внутри себя он может отменить все физические законы – и тяжёлые предметы вознесутся вверх, и электроны устремятся на катод. Но я в этот раз не ждал чуда и, помнится, не очень его хотел: ведь опять начнут выжимать строки и абзацы, гадость мелкая, а в Самиздате так безпрепятственно, так неискалеченно расходился «Корпус»! Мне уже больше нравился открываемый независимый путь. Однако я не препятствовал короткому счастью А. Т., не возражал.
Коренастый, широчелюстный хамелеон Воронков снова был внимателен и любезен, хотя не так рассыпчато, как после моего письма съезду, но и не тот же вышибала, который подсовывал мне листовку «Посева»! Вчетвером сели мы как в карты играют: мы с Твардовским друг против друга, Сартаков против Воронкова, только мы трое за маленьким столиком, а Воронков отнесен от нас тушею письменного стола, и, сам туша, сидел в тяжёлом кресле, однако и довольно подвижно. Я – только самое необходимое кидал, я сил нисколько не напрягал, не ощущая реальности всей игры; ехидно-аккуратный Сартаков тоже подбрасывал нечасто; а поединок, далеко не выражаемый в произносимых словах, происходил между Воронковым и атакующим Твардовским. Воронков хотел провести беседу, не сказав и не обещав ничего, а всё ж отметиться в дружелюбии. Твардовский, за 35 лет толканья в советско-литературном мире все эти ходы хорошо понимавший, хотел Воронкова прижать и хотя бы устного согласия от него добиться на печатание «Корпуса».
– Это – дело журнала, – удивлялся Воронков. – Как хотите, так и делайте.
– Но вы, по крайней мере, не возражаете?
– Да при чём же тут Союз писателей? – всё более изумлялся Воронков.
(Разве у нас кто-нибудь давит на издательства?)
– Не-ет, я не привык ездить в трамвае без билета! – фразою не из своего быта, но в СП отработанной, парировал Твардовский.
А если Воронков маневрировал наступательно, что надо же отрекаться (мне – от Запада и от письма), нельзя же обмолчать всю историю, – я просто отмахивался, уж языком молоть надоело, а Твардовский уверенно:
– Можно! Смолчим – и всё будет в порядке.
– Да как же можно умолчать?? – поражался любитель гласности Воронков.
– А вот так, – очень значительно и уверенно, будто прислушавшись к верхней части стены, припечатывал Твардовский. – Хрущёва сняли – умолчали, и прошло! А покрупней было событие, чем письмо Солженицына.
Как вообще дошёл Воронков до этого кресла? почему он вообще руководил шестью тысячами советских писателей? был ли он первый классик среди них? Рассказывали мне, что когда-то Фадеев выбрал себе в любовницы одну из секретарш СП, тем самым она уже не могла вести простую техническую работу, и на подхват взяли прислужистого Костю Воронкова. Оттуда он вжился, въелся и поднялся. Но что же он писал? Шутили, что главные его книги – адресные справочники СП. А впрочем, совсем недавно именно почему-то Воронкову (для того ль, чтоб судьбу «Нового мира» облегчить?), именно Твардовский доверил… драматургическую редакцию «Тёркина». Уж какой там безызвестный негр ту работу для Воронкова сделал – а стал Воронков драматургом.
Проговорили часа полтора – но всё ж не дался склизкий объёмистый Воронков в пухлые ручища Твардовского: манил и заметал, а ничего не обещал и ничего не разрешил. Пошли мы с А. Т. переулками к Никитским воротам и дальше Тверским бульваром к редакции. И за эти полчаса легкоморозных при умеренном зимнем солнышке, поддерживая А. Т. под руку и особенно бережа его на переходах улиц, ему необычных, заметил я, как в нём внутри прорабатывается, дорабатывается, дозревает – и возвращается к нему исходное радостное состояние, но уже не на мечте, а на собственной твёрдости. Вошли в «Новый мир» – распорядился он созвать редакцию, а мне сказал сдержанно-торжественно:
– Запускаем «Раковый» в набор! Сколько глав?
Договорились на восемь. А. Т. «садился в трамвай, не беря билета»!
О, сила безликого мнения! Развивая свою твёрдость (заложенную, впрочем, и в фамилию его, и быть бы ему таким всю жизнь!), не погнушался Твардовский пойти сам и в типографию «Известий» и там дал понять какому-то начальнику, что с «Корпусом» – не самоуправство, а есть такое мнение, и надо поторопиться. И партийный начальник, не представляя же подобной дерзости в другом партийном начальнике, так поторопился, что хоть и не в несколько ночных часов, как набрался «Иван Денисович», но к исходу следующего дня принесли в редакцию пачку гранок, и я, ещё не успевши унырнуть в берлогу, тут же провёл и корректуру. И тут же выдержал яростную схватку с Твардовским: он до белых гневных глаз запрещал мне давать впереди оглавление[33], – и сама идея, и шрифт, и возможное расположение – всё было ему отвратительно: «Так никто не делает!» А я стоял на своём – и хоть поссорься и разойдись, хоть рассыпь весь набор! Вот так, на нескольких уровнях сразу, обитал Твардовский. Но и какой же, правда, я был для А. Т. отягощающий союзник во всём.
Совершился акт «набора», за рассыпку которого ещё будет долго попрекать западная пресса наших верховных злодырей, – совершился от наплыва слабости в ЦК и от прилива твёрдости у издателя. Мне продлило это денег почти на два года жизни, важных два года. Но очень скоро в ЦК очнулись, подправились (кто сказал ту неосторожную фразу – так и неизвестно, а может, и никто не говорил, на подхвате недослышали и переврали; кто теперь запретил – тоже неизвестно, вроде опять-таки Брежнев), – и засохло всё на корню.
Лишил их Бог всякой гибкости – признака живого творения.
А мне и легче – опять стелился путь неизведанный, но прямой, ощущаемо верный. Не отвлекало меня сожаление, что печатанье не состоялось.
Не то – Трифонычу. Для него этот срыв прошёл как большое горе. Ведь он поверил уже! он своей отчаянной храбростью как был воодушевлён! – но поглотило его порыв тупое, рыхлое тесто. Ему надо же было в эти дни что-то предпринимать, и тянуло делиться со мной, и он слал мне в Рязань телеграммы, что нужен я срочно (кажется – подготовить смягчения в тексте). А я – не хотел смягчений, и больше всего ехать не хотел, два часа до Рязани да три часа до Москвы, да как объяснить забывчивому селянину, что под Новый год десять окружных голодных губерний едут в Москву покупать продукты, за билетами очереди, поездка трудна, не поеду я мучиться. Я телеграфировал отказ. Тогда иначе: приехать сразу после Нового года! Да не поеду я и после, когда же работать, измотаешься от этих вызовов! А он не поймёт: общая наша борьба, почему же я равнодушен? «Да где он? я вертолёт к нему пошлю?!» Лакшин-Кондратович особенно изволили выйти из себя: «Если набирается вещь, автор обязан жить тут хоть две недели!»
А правильно, что я не поехал: из отдела культуры давили на Трифоныча опять, чтоб хоть смягчённое, да написал я письмо-отречение: «Ему пошли навстречу, напечатали “Ивана Денисовича”, а он чем отблагодарил? “Пиром победителей”?..» – «Не с кем разговаривать, – очень грустно вздыхал Трифоныч моей жене. – Даже не “Корпус” говорят, а “Раковая крепость”… – И мечтал: – А если б сейчас “Корпус” напечатать – ведь опять бы вся обстановка изменилась в литературе!.. Сколько б мы за тем двинули!..»
Прошло ещё дня два, и вот наш разлояльный Трифоныч тоже взялся за письмо! – век писем! – правда, письмо лишь к одному Федину, зато объёмом чуть не в авторский лист, А. Т. писал его долго, даже в пометке – больше недели, писал на даче в лучшие рабочие часы, собирая к нему мысли и фразы в чистке снега.
Письмо это было не только не в темпе идущей борьбы, но и не в манере её, действительно не «открытое», – и если бы предупредили А. Т., что оно разлетится, – он бы его скорей всего и не писал. В этой обстоятельной неторопливости, объёме, вспоминании о «барвихинских кущах» – уж никак не думал он о Самиздате. И видно, с каким огромным душевным трудом он преодолевает мучительное для себя письмо – и ведь пишет «без особых упований на благоприятный результат», но: «написать его было для меня делом долга и совести». Только из этого письма мы (и я) узнаём, что в секретариате СП создалось некое многомесячное «дело Солженицына», повлекшее «длинный ряд узких, расширенных и широких заседаний в секретариате» (Трифоныч и не рассказывал мне), «вопрос вопросов сегодняшней деятельности Союза писателей», и как от А. Т. требовали, чтоб он «употребил своё влияние на Солженицына», склонить его к выступлению против Запада; и как в удачный (это летом 1967) момент А. Т. уже составил «коммюнике» для секретариата, и Федин его редактировал и одобрил, – а вот отвергнуто; и что при последних встречах с Фединым (значит, поздней осенью 1967) А. Т. говорил ему «слова жестокие, может быть обидные… без достаточной выдержки и себе во вред». Но Твардовский все прошлые месяцы всё больше набирал общественной смелости, и уже в тех заседаниях и теперь в этом письме лепит им: да, после «Ивана Денисовича» писать по-старому уже никому нельзя, и это-то вызывает главное сопротивление; Солженицын «очень осложнил литературную жизнь… он находится в перекрестии двух противоположных тенденций общественного сознания». А. Т. не помнит от секретарей СП «даже попыток опровергнуть хоть один из пунктов его письма» съезду, «они неопровержимы… я подписался бы под ними обеими руками» (!!), – да А. Т. высказывался и в секретариате и в ЦК – и о цензуре, и о личной судьбе Солженицына «даже резче, чем он». И даже: из моего нигде же не опубликованного, никому (кроме А. Т.) не представленного протокола сентябрьского заседания секретариата А. Т. безстрашно цитирует Федину – и о земле отечества под моими подошвами всю мою жизнь, и о «Пире», как я там дословно выразился; и из последнего моего письма к самому А. Т.: что «моё внутреннее душевное состояние мне дороже судьбы моих вещей». И Твардовский – это всё разделяет! И для него тоже это стало так, почему он и пишет это письмо и, рискуя 5-м томом своего собрания сочинений, отказался снять упоминание о Солженицыне. Он ещё дописывает это письмо к Федину – «всё целиком зависит от Вас», разрешите печатание «хотя бы на усмотрение “Нового мира”», – но не в этих просьбах, а в своём душевном распрямлении главный смысл письма для Твардовского.
А дальше: дал двум-трём близким приятелям – и кто-то из них, соблазнясь, швырнул письмо в Самиздат. Твардовский только ахнул вослед.
А я в Солотче гнал последние доработки «Архипелага», по вечерам балуя слушаньем западного радио, и в феврале с изумлением услышал своё ноябрьское письмо Воронкову, – с изумлением, потому что никак не выпустил его из рук, отдельно и смысла не было, – а вот так и береги документы в запасе… (Ускользнуло, конечно, у Воронкова, обрезана была дата, как при поспешном фотографировании, но много лет мне будут поминать, что это – я.)
К марту у меня начались сильные головные боли, багровые приливы – первый приступ давления, первое предупреждение о старости. А только «Архипелаг» вытянуть – надо было ни на час не разгибаться апрель и май. Лишь бы в эти два месяца ничто не ворвалось, не помешало!.. Я очень надеялся, что вернутся силы в моём любимом Рождестве-на-Истье – от касания с землёй, от солнышка, от зелени.
Первый в жизни свой клочок земли, сто метров своего ручья, особая включённость во всю окружающую природу! Домик почти каждый год затопляло, но я всегда спешил туда на первый же спад прилива, ещё когда мокры были половицы и близко к крыльцу подходил вечерами язык воды из овражка. При холодных ночах вся вода утягивается в речку, оставляя на пойменных склонах и на овражке – крыши белостеклистого льда. Он висит хрупкий над пустотой, утром проваливается большими кусками, будто кто идёт по нему. В тёплые ж ночи воды в реке не менеет, она не отступает, а звучно громко всю ночь журчит. Да даже и днём не заглушают весеннюю реку машины с шоссе, мудрый звук её журчания можно сидеть и слушать часами, от часа к часу выздоравливая. То сильно крупно булькнет, то странно шарахнет (упала ветка, застрявшая на иве от более высокой воды), и опять многогласное ровное журчание. Матовое заоблачное солнце нежно отражается в бегучей воде. А потом начнёт на взгорках подсыхать – и ласкаешь тёплую землю граблями, очищая от жухлой травы для подрастающей зелёной. День по дню спадает вода, и вот уже можно вилами расчищать берег от нанесенного хлама и дрома. И просто сидеть и безмысло греться под солнышком – на старом верстаке, на дубовой скамье. Растут на моём участке ольхи, а рядом – берёзовый лес, и каждую весну предстоит проверить примету: если ольха распускается раньше берёзы – будет мокрое лето, если берёза раньше ольхи – сухое. (И каждый год: правильно! А когда распустятся одновременно – так и лето перемежное.)
Хорошо! Вот в такую же весну год назад здесь написана главная часть этих очерков. А через месяц, когда совсем потеплеет, озеленеет, – тут будем в несколько пар рук печатать окончательный «Архипелаг»: сделать рывок за май, пока дачников нет, не так заметно, и стук машинок не слышит никто.
Из Рязани в Рождество ехать через Москву. В Москве не миновать зайти в «Новый мир»: «Здравствуйте, Александр Трифонович!» Да что ж теперь «здравствуйте», отгорело давно, что было, уже не тем голова занята. Почти уже три месяца, как отослано письмо Федину, уже и на «горьковских торжествах» встречались, и что же Федин? Целовался с Твардовским: «Благодарю, благодарю, дорогой А. Т.! У меня такая тяжесть на сердце…» – «А правда, К. А., что вы у Брежнева были?» – «Да, товарищи вокруг решили, что нам надо повидаться». – «И был разговор о Солженицыне?» – (Со вздохом:) «Был». – «И что же вы сказали?» – «Ну, вы сами понимаете, что ничего хорошего я сказать не мог. – Спохватясь: – Но и плохого тоже ничего». (? – Что ж тогда?..)
Я слушаю, как всегда в «Новом мире», больше из вежливости, не спорю. Неплохо, конечно, что Трифоныч такое письмо послал (а по мне бы – вчетверо короче), еще лучше, что оно разгласилось…
У Трифоныча – неторопливость благородной натуры: врагов много, боёв много, всех не перечерпать, так и метаться нечего, а со временем всё одолеется, наше дело правое, возьмёт. Попьём пока чайку с мягкими бубликами.
Да! вот и рана, свежая: почему это по Москве ходит какое-то моё новое произведение, – а он, А.Т., обойден, – почему? почему я не принёс, не сказал ничего? Какие-то литераторы в Пахре имели наглость предложить А. Т. почитать, «я, конечно, отказался!».
(Ах, ну как всё объяснить! Да потому что принеси – обязательно задержишь, скажешь – не надо давать! А мне – надо, пусть гуляет. Это – «Читают “Ивана Денисовича”», бывшая глава из «Архипелага», при последней переработке выпавшая оттуда, а жалко пропадёт, ну – и пустил её…)
– Да, А. Т., не моя это вещь, потому и не принёс, я – не автор, я – составитель, там 85 % цитат из читателей. Я никак не думал, что это распространится и даже будет иметь успех. Я просто дал двум старушкам, бывшим зэчкам, почитать.
– Где эти старушки? – грозно порывается он. – Сейчас берём машину, едем к ним и отбираем. Как могло утечь?
– А как ваше письмо Федину утекло? Вы ж никому не давали!
Вот это – поразительно для него. Тут он верно знает, что не давал.
– Вам надо тихо сейчас сидеть! – внушает.
Сейчас – да, я согласен. Но всё же честно предупреждаю: если «РК» напечатают за границей – я разошлю писателям свои объяснения. (Какие объяснения – тоже нельзя говорить. Прежде времени ему скажи – лапу наложит, и плакало моё «Изложение». Так запретитель сам себя обрекает не знать никогда вовремя правды!..)
На том и уезжаю – тихо сидеть. Это было 8 апреля. И именно в тот же день во Франкфурте-на-Майне составлялась граневская динамитная телеграмма… Недолго мне в этом году предстояло попить ранневесеннюю сласть моего «поместья». Шла Вербная неделя как раз, но холодная. В субботу 13-го пошёл даже снег, и обильный, и не таял. А в вечерней передаче Би-би-си я услышал: в литературном приложении к «Таймс» напечатаны «пространные отрывки» из «Ракового корпуса». Удар! – громовой и радостный! Началось! Хожу и хожу по прогулочной тропке, под весенним снегопадом, – началось! И ждал – и не ждал. Как ни жди, а такие события разражаются раньше жданного.
Именно «Корпуса» я никогда на Запад не передавал. Предлагали мне, и пути были, – я почему-то отказывался, без всякого расчёта. А уж сам попал – ну, значит, так надо, пришли Божьи сроки. И что ж завертится? – после процесса Синявского-Даниэля через год и такая наглость? Но – предчувствие, что несёт меня по неотразимому пути: а вот – ничего и не будет!
За этой прогулкой под апрельским снегом застала меня жена, только что из Москвы. Взволнована. Знать бы ей неоткуда, ведь передавали только-только. Нет, у неё другая новость: Твардовский уже четвёртый день меня ищет, рвёт и мечет, – а где меня искать? В Рязани нет, московские родственники «не знают» (я в тайне храню своё Рождество именно от «Нового мира», только это и создаёт защищённость, а то б уж дёргали десять раз). В понедельник виделись, а со среды уже «рвёт и мечет»? «Ещё никогда не было так важно»? У них (у нас) – всегда «никогда», всегда «особый момент, так важно!». Только уши развешивай. Подождут. Не надо всякий раз «волки!» кричать, когда волков нет, тогда и будут вам верить. Не могу я каждый раз дёргаться, как только дёрнутся внешние условия. Вот поеду через три дня, переживёт Твардовский. Безчеловечно к ним? – но они ко мне не заботливей: за эти годы на все их вызовы являться – я б и писателем перестал быть.
Уж новей моего известия у них не может быть: выходит «Корпус» на Западе! И не о том надо волноваться, что выходит, а: как там его примут? И обдумывать надо – не чего там переполошился «Новый мир», а: не пришло ли время моего удара? Ведь томятся перележалые документы, бородинского боя нашего никто не знает, – не пора ль его показать? Хотелось покоя – а надо действовать! Не ожидать, пока сберутся к атаке, – вот сейчас и атаковать их!
Не объёмный расчёт ведёт меня – тоннельная интуиция.
С этим и еду я во вторник 16-го: запускать «Изложение»! Там страниц много, полста экземпляров перепечатаны впрок ещё за зиму (уже Литвинов и Богораз передавали своё прямо корреспондентам, но я ещё осторожничаю, я гнаный зверь, я прячусь за пятьдесят писательских спин), сейчас лишь сопроводиловку [7] допечатать быстро, связку бомбы, чтоб разрозненные части детонировали все разом и к понятному всем теперь сроку:
«…Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам… Упущен год, неизбежное произошло… ясна ответственность Секретариата».
В последний момент ещё держат меня за рукава московские друзья: надо подождать! именно сейчас, такой момент – общая реакция, сламывают воли… не надо раздражать верхи…
Так вот именно потому сейчас и двигать!!
Для этого я и приехал в Москву. А между прочим – заглянуть и в «Новый мир»: что там за переполох?
Крайнее возбуждение! горестный тёмный гнев на лицах Лакшина и Кондратовича – но ничего по-людски не говорят: иерархия и дисциплина прежде всего, без А. Т. нельзя! А тот никак с дачи не доедет: лопнул скат по дороге, у известинского заевшегося шофёра даже не нашлось ключа, колесо отвернуть. Через три часа А. Т. вошёл, напряжённый внутренне, но и – убитый, мною убитый! Теперь собралась в его кабинете вся главная коллегия, как следственная комиссия, испытующе-строгая. И кладут передо мной – так брезгливо, что даже в руках держать её мерзко, – грязную, гадкую телеграмму из предательских подлых «Граней» (а название-то какое хорошее для мыслящих людей!):
«Франкфурт-ам-Майн, 9.4., Новый мир
Ставим вас в известность, что комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на Запад ещё один экземпляр Ракового корпуса, чтобы этим заблокировать его публикацию в Новом мире. Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу.
Редакция журнала Грани».
Так неожиданно, и столько тут противоречий, даже загадок, – не могу понять, в голову не лезет. Но мне и понимать не требуется! – провокация! – и как советский человек я должен… Им и самим тут почти ничего не ясно, но не хватает простой гражданской зрелости – с выяснения неясностей и начинать. К чему одному привыкли советские люди? – дать отпор! Чем разбираться, чем исследовать, чем обдумывать, – дать отпор! Прибитость многих десятилетий. Но и молодой, критичный, сообразительный же Лакшин немысляще нависает с остальными в той же стенке: дать отпор.
О, главная слабость моя – «Новый мир»! О, главная моя уязвимость! Ни с кем не трудно мне разговаривать, только с вами и трудно. Никакому советскому учреждению я давно ничего не должен, только вам одним, но через вас-то и цапает, и заволакивает меня вся липкая система: должен! должен! наш! наш!
Твардовский (значительно и даже торжественно):
– Вот наступает момент доказать, что вы – советский человек. Что тот, кого мы открыли, – наш человек, что «Новый мир» не ошибся. Вы должны думать – обо всей советской литературе, вы должны думать о товарищах. Если вы неправильно себя поведёте – наш журнал могут закрыть…
Постоянная угроза – могут закрыть… И я – не просто я, а либо жернов, либо шар воздушный на шее «Нового мира»…
После Бородина я возомнил, что я – свободный человек. Нет-нет, нисколько! Как вязнут ноги, как трудно вытаскивать их! Пытаюсь отнекаться тем, что:
– Опоздали «Грани». Вот уж «Таймс» напечатал…
«Таймс» – не важно, важны – «Грани»! важен отпор и советская принципиальность!..
Подсовываю А. Т. мою сопроводиловку, копию – Лакшину (Кондратовичу не даю, он читает через плечо Лакшина). Нет, на А. Т. не действует. И на остальных (глянув на А. Т.) не действует.
– «Таймс» – это не на русском…
Лакшин: – Очень важно, Александр Исаевич, перед историей. Ведь в справочниках всегда указывается первая публикация на родном языке. И если будет указано – «Грани», какой позор!..
Вдруг А. Т. пробуждается и к сопроводиловке:
– А вы собираетесь это рассылать?! Не время, не время! Сейчас знаете, какое настроение… можно головы лишиться… В уголовный кодекс добавляют новую статью…
Я: – Ко мне вся гармошка кодекса да-авно не относится, не боюсь.
А. Т.: – И вы уже начали рассылать?
Не начал я, но вру: – Да. – (Чтоб неотвратимее.)
Не одобряет, не одобряет. И даже в стол себе не хочет взять такой ошибочной, опрометчивой бумаги. Не это главное сейчас! Единомысленно и строго сдвинулись вокруг меня опять. И Твардовский прямо диктует мне:
«Я категорически запрещаю вашему нео-эмигрантскому, откровенно враждебному журналу… Приму все меры…»
Какие?! Правительство наших прав не защищает, но требует, чтобы мы защищались сами! – вот это по-нашему.
– А иначе, Александр Исаевич, мы вам больше не товарищи!
И на лицах Лакшина-Хитрова-Кондратовича каменное, единое: нет, мы вам больше не товарищи! Мы – патриоты и коммунисты.
О, как трудно не уступить друзьям!.. Да мне и действительно не хочется, чтобы «Грани» печатали «РК», только всё испортят, особенно когда уже началось европейское печатание. Ну что ж… ну, ладно… ну, телеграмму я дам… (Я сломлен?.. Так быстро?..) Пытаюсь сложить – а слова не складываются. Дайте подумать! Отводят в кабинет Лакшина. Но я как бы под арестом: пока не напишу запретительной телеграммы – из редакции не отпустят.
А всегда надо подумать! Всегда осмотреться. На обороте той же телеграммы карандашом – что это? Черновик:
«Многоуважаемый Пётр Нилович!
Я считаю, что Солженицын должен послать этому нео-эмигрантскому – (в этом нео они видят какой-то особенный укор!) – откровенно-враждебному нашей стране… Я пытаюсь срочно вызвать Солженицына, местонахождение которого мне сейчас не известно, в Москву. Жду ваших указаний. Твардовский.
11 апреля».
(Указаний после того не получил Твардовский и, изнывая, через сутки позвонил Демичеву сам. Тот: «А-а, пусть как хочет». А вы, мол, расхлебаете. Ещё в большем угрызении стал Твардовский искать меня.)
А слова-то телеграммы никак не складываются. Что-то я наскрёб, но совсем без ругани, понёс показывать – А. Т. разгневался: слабо, не то! Я его мягко похлопал по спине, он пуще вскипел:
– Я – не нервный! Это вы – нервный!
Ну, ин так. Не пишется. Утро вечера мудреней, дайте подумать, завтра утром пошлю, обещаю.
Кое-как отпустили.
А на душе – мерзко.
Л. К. Чуковская с недоумением:
– Не понимаю. Игры, в которые играют тигры. Лучше устраниться.
И правда, что за морок? Как мог я им обещать? Да разобраться-то надо? Цепь загадок:
1) как могло случиться, что такую телеграмму вообще доставили? или огрех аппарата – или провокация КГБ.
2) кто такой Луи?
3) «ещё один экземпляр»? а где и кем доставлен первый? (И оба же – не безплатно! И деньги за мой «Корпус» уже пошли на укрепление Госбезопасности!)
Пока неотклонимо готовится мой залп из пятидесяти «Изложений», узнать о Луи, – и сразу находится бывшая зэчка (Н. И. Столярова, см. Пятое Дополнение), приносит дивный букет: никакой не Луи, а Виталий Левин, сел недоучившимся студентом, подторговывал валютой с иностранными туристами; в лагере был известным стукачом; после лагеря не только не лишён Москвы, но стал корреспондентом довольно «правых» английских газет, женат на дочери английского богача, свободно ездит за границу, имеет избыток валюты и сказочную дачу в генеральском посёлке Баковке, по соседству с Фурцевой. И рукопись Аллилуевой на Запад отвёз – именно он.
Всё ясно. Телеграмма – подлинная (доставлена по просчёту, по чуду), ГБ торгует моим «Корпусом», «Грани» честно предупреждают Твардовского, за это я должен по-советски облить их грязью, а ГБ пусть и дальше торгует моей душой, она – власть, она – наша, она – имеет право.
И полдюжины редакционных новомирских лбов полдюжины дней хохлятся в кабинетах, изливают друг другу, какой я негодяй, что скрываюсь от редакции, во всём угодливо кивают Главному, а он топочет на меня ногами, и угодничает перед Демичевым, и изнывает от страха за «Новый мир», – и ни один не вчитается в телеграмму, и ни один не позвонит на телеграф: да подлинная ли телеграмма? не поинтересуется: существует ли такой Луи? в какой стране? кто он и что?
Вот это и есть советское воспитание: верноподданное баранство, гибрид угодливости и трусости, только бы дать отпор – по направлению, где неопасно!.. Просто смешно, что накануне я мог обморочиться и заколебаться.
Оберёг меня Бог опозориться вместе с ними. Из штопорного вихря выносит меня на коне: потекли «Изложения»! И тут же, им вослед, попорхало ещё новое моё письмо – о Луи! [8] Если б не было Виктора Луи – хоть придумай его, так попался кстати под руку! За всё печатание «Корпуса» отвечать теперь будет ГБ, а не я! Чтоб А. Т. пристыдился, две записки день за днём оставляю ему в редакции – и, освобождённый, уезжаю в своё Рождество. Все удары нанесены, и в лучшее время, – теперь пусть гремит без меня, я же буду работать.
А прежде того – тихую, тёплую Пасху встречать. Храма близко нет, обезглавленный виден с моего балкончика – в селе Рождестве, церковь Рождества Христова. Когда-нибудь, буду жив или хоть после смерти, надо её восстановить. А сейчас только ночная передача Би-би-си заменит всенощное стояние. А в Страстную субботу, в мирный солнечный день, жаркий из-за того, что ветви ещё голы, с наслаждением ворочаю завалы хвороста, натащенного наводнением, проникаюсь покоем. Как Ты мудро и сильно ведёшь меня, Господи!
Вдруг – быстрые крепкие мужские шаги. Это – Боря Можаев, писатель, мой славный друг, щедрый на помощь. Пришагал на длинных, прикатил новую беду: словак Павел Личко самовольно продаёт из Чехословакии «Раковый корпус» англичанам.
Нет, никогда не знаешь, где подостлать.
Нет покоя! То же мирное солнышко светит на тот же оголённый лес, и так же мудро журчит, струится поток – но ушёл покой из души, и всё сменилось. Час назад, день назад победительна была скачка моего коня – и вот сломана нога, и мы валимся в бездну.
Что же мне делать? Отсечь и эту угрозу. Удержать защищённое равновесие на гребне или даже пике опасности, куда взметнули меня последние дни. Слишком много писем для нескольких дней, но уж такие дни, надо писать ещё одно! Может быть, нет худа без добра: защита от своих и одновременно хорошая возможность прошерстить и западных издательских шакалов, испоганивших мне «Ивана Денисовича» до неузнаваемости, до политической агитки.
Человеку свойственно бить по слабому, сильно гневаться на беззащитного. Сколькие советские писатели с удовольствием (и безо всякой даже надобности) лягали русскую церковь, русское священство (хотя б и в «Двенадцати стульях») или весь «западный мир», зная, насколько это безопасно, безответно и укрепляет их шансы перед своим правительством. Этот подлый наклон чуть-чуть не овладевает и мной, своё письмо (в «Монд», «Униту» и «Литгазету») я наклоняю слишком резко против западных издательств – как будто у меня есть какие-нибудь другие! (Н. И. Столярова вовремя поправляет меня…)
И вот уже (25.4) с напечатанным письмом [9] я шагаю в редакцию «Литературной газеты». Только гадливо встречаться с Чаковским – но, к счастью, нет его. А два заместителя (нисколько, конечно, не лучше), ошарашенные моим приходом, встречают меня настороженно-предупредительно. Как ни в чём не бывало, как будто я их завсегдатай, кладу им на стол своё письмишко. Кинулись, наперебой читают, вздрагивают:
– А в «Монд» уже послали?
– Вот сейчас иду посылать.
– Подождите! Может быть… Вы понимаете, это не от нас зависит… – Брови к потолку. – Но если…
– Всё понимаю. Хорошо, два дня жду вашего звонка.
Ещё в «ЛитРоссии» лысого, изворотливого, безстыдного и осмотрительного Поздняева пугаю такой же бумажкой – и ухожу.
Текут часы – и вдруг меня серое щемление охватывает изнутри: а не допустил ли я подлости? а не слишком ли я резок к Западу? а не выглядит это как сломленность, как подслуживание к нашим?..
Очень мерзко на душе. Вот самая страшная опасность: защем совести, измаранье своей чистой чести, – никакая угроза, никакая физическая гибель и в сравненье идти не могут.
Разуверили меня друзья, что ничего позорного в письме нет.
Но всё равно: не хочу от «Литгазеты» звонка согласия.
Да его и нет. Лишил их Бог разума на их погибель, давно лишил (а всё не гибнут…). В международной политике они справляются неплохо – потому что Запад перед ними едва ли не на коленях, потому что все прогрессисты наперебой перед ними заискивают, – а вот во внутренней почти всегда наши выбирают худшее для себя решение изо всех возможных. При отсутствии свободных собеседников это не может быть иначе.
Отсылаю в «Монд» заказное с обратным уведомлением. (Всё – кобелю под хвост, не отошлют.) А в «Униту»? Говорят, Витторио Страда в Москве, на днях уезжает, коммунистический литературный критик, – вот его и попросим. (Через Копелева.)
Но на него, видно, стукнули, что многое везёт, – и осмелились проверить, да! – где гордость «свободных независимых» коммунистов? – протряхнули и ободрали как последнего буржуазного туриста. И что же в Италии? Написал в свою «Ринашиту»? Пожаловался в свой ЦК? Их ЦК опротестовал перед нашим? Да ничего подобного, смолчали, тут их независимость и кончается: ведь придут ко власти – сами будут делать так же.
А в Рождестве – нежная зелень, первые соловьи, перед утрами туманец от Истьи. От рассвета до темени правится и печатается «Архипелаг», я еле управляюсь подавать листы помощницам на две машинки, а тут ещё: одна машинка каждый день портится, то сам её паяю, то вожу на починку. Самый страшный момент: с нами – единственный подлинник, с нами – все отпечатки «Архипелага». Нагрянь сейчас ГБ – и слитный стон, предсмертный шёпот миллионов, все невысказанные завещания погибших, – всё в их руках, этого мне уже не восстановить, голова не сработает больше. Столько десятилетий им везло, каждый раз перед ними уходила вода из Сиваша, – неужели попустит Бог и теперь? неужели совсем невозможна справедливость на русской земле?
Но – щебечут, заливаются разноголосые птички, квакают лягушки, всё крупнее листы на деревьях, всё гуще тень, – а людей нет, дачные соседи ещё не приехали, никакие шпионы не бродят, – да не знают они, да не видят нас, прохлопают!
Правда, слух дошёл, что ободрали В. Страду на таможне. Провал на границе – как будто страшная вещь для советского человека, – но я так обнаглел, что уже и не пугаюсь: я начинаю ощущать свою силу и взятую высоту. Да и письмишко невинное, да и в коммунистическую газету, – чёрт с ним. Работаем дальше!! И вдруг –
– по дачному адресу, куда никакие письма не приходят (всем запрещено писать, приезжать), – письмо из таможни! «…в связи с возникшей необходимостью… по касающемуся вас делу…» меня приглашают на шереметьевскую таможню к какому-то Жижину. (Куда утекла русская нация? Знаем куда, всосалась в землю Архипелага. А на поверхность вот эти и всплыли – какие-то Жижины, Чечевы, Шкаевы…)
Так не безмятежное небо над нами – огромное зреймо КГБ, – и мигнуло, как Голова из «Руслана»: знай наших! поминай своих… Всё они видят, всё копошенье наше, – и мы у них в руках…
Оледенели. Но – спокойно! Взять себя в руки, подумать несколько часов. Без лагерной выучки ещё, пожалуй, и помчишься, свободный гражданин, по вызову таможни. А не пора бы – поставить их на место? А напишем так:
«…Выраженной вами необходимости встретиться я не вижу. Как правило, у художественной литературы не бывает общих дел с таможней. Если, однако, для вас эта необходимость настоятельна – ваш представитель может посетить меня…»
И – квартира Штейнов, в Москве, дата – на десять дней позже, чем они меня вызывают, и – три льготных часа, буду их ожидать.
Послано. Две рабочих недели продолжаем напропалую! – держимся, никто не огрызнулся, никто не нагрянул. И вот моя работа кончена, ещё несколько дней работы на машинке. Еду в Москву. Сидим на квартире, час проходит – смеются Штейны: и ты поверил, что придут? нашёл дураков! Под окнами сквер, я ухожу туда гулять с приятелем, а хозяина квартиры, Юру Штейна, прошу: если придут – распахни вот это окно. Но заговорились, забыл я на окно оглядываться, и оттуда Юра разбойничьи мне свистит на квартал. (Что подумали бедные таможенники? – попали в засаду!) Я быстро вернулся:
– Простите, заставил вас ждать.
Они – полны любезности, плащи сняли, ещё стоят, – да напуганные, после такого свиста: сейчас, гляди, их самих свяжут?
Майор, лет шестидесяти, с тонким пустым портфелем, и по виду, пожалуй, правда таможенник. Лейтенант молоденький – гебист безусловно.
Садимся, полчаса разговариваем – и никому ж невдогляд, что рядом со мной на диване безпечно, открыто валяется только что мне привезенный мондадорьевский «Раковый корпус» – контрабанда явная!
Молодой: – Давайте дверь закроем, мы кому-то мешаем.
(А там за дверью моих двое молодчиков подслушивают.)
Я: – Ну что вы, кому ж мы мешаем? Тут все свои.
Пожилой: – Всё-таки бывают исключительные случаи, когда у таможни находятся общие дела с литературой.
Открывает свой тонкий портфель, оттуда достаёт тонкую папочку и с ехидной готовностью подаёт мне – моё «Изложение»! Моё «Изложение», но первым же зырком ухватываю: машинка не моя, не из наших.
Я: – По содержанию моё, оформление – не моё, а как это к вам попало?
– На границе задержали.
Я (очень укоризненно): – На границе?! – (Качаю головой.) – Это ведь – для внутреннего употребления.
Он: – Вот именно!
Пауза, в обоюдном сокрушении. Я ведь ничего не знаю, ни о Страде, ни о ком, нельзя сделать ошибочного движения, фигуру тронешь – ходи.
Тогда пожилой, уже из кармана, изящно-украдчивым движением достаёт конверт и подаёт мне с превосходной любезностью:
– А это?
И – впились в меня четыре глаза! Да зрячий и я: почерк на конверте мой, и даже обратный адрес рязанский, ещё и лучше – значит не прятался. Но теперь надо быстро хватать фигуру, а то опять неестественно будет (или я – со многими послал?), называй сам:
– Как – у Витторио Страды?! вы – взяли?.. Боже мой, что вы наделали! Что вы наделали! Зачем же вы это сделали?
Пожилой (благородно): – Это – по нашим правилам. Ведь конверт был распечатан. Вот если бы он был запечатан – мы бы ни в коем случае не стали его открывать!
– А – что же?
– Мы бы сказали пассажиру: бросьте при нас в почтовый ящик…
(А из того почтового ящика труба идёт, конечно, к ним в заднюю комнату.)
– …Ну, а уж если распечатано – мы смотрим, и вот видим такое дело – от вас… Надо выяснить…
А я «Изложением» трясу:
– Скажите, а вот с этим материалом вы познакомились?
Пожилой, не так уверенно:
– Д-да.
– У вас там много людей работает? Мне бы хотелось, чтобы как можно больше с ним познакомились! чтобы вы были в курсе литературной жизни.
– Н-ну, не все у нас прочли, – всё-таки обнадёживает меня майор, значит похватывали!
– Так вот, – приступаю я к нему уже плотней. – Вы теперь понимаете, что делается? Происходит какая-то тёмная игра: какие-то мрачные силы продали мою вещь за границу. Теперь я пытаюсь остановить это проституирование нашей литературы…
– Почему проституирование?
– А как же? Произведение наше – продаётся, там искажается, а каким словом это назвать? – и мне не дают возражать! Я пишу в одну газету, в другую, обещают – и не печатают! Тогда я протестую в «Монд», сдаю письмо на почту, заказным с обратным уведомлением, – перехватывают…
– Откуда вы знаете, что перехватывают?
– Ну, если обратное уведомление за месяц не вернулось – что я должен думать?.. Надеялся на «Униту» – в «Уните» почему-то тоже нет. А теперь – мне понятно! теперь всё понятно… Что ж вы наделали?.. Кому ж вы на руку играете?..
Надо же им: тотчас разобраться, и это письмо дослать Витторио Страде с извинениями, чтобы те его успели напечатать.
Он ещё держится:
– Нет, простите, у нас правила…
Я (с лёгкостью, сочувствием, да просто как между советскими партийными людьми):
– Товарищи! Ну, я не хочу вас называть чиновниками, вы понимаете? Не хочу думать о вас так плохо. Ведь кроме своего служебного долга вы же граждане! нашего общества! Вы же не можете так относиться: вот это – моё дело, а что рядом – я не знаю? Ваши правила – да, хорошо, а – почтовые правила? Они – обязательны? Почему же письмо, отправленное по почтовым правилам, – не идёт? Хорошо, я не буду ссылаться на конституцию… Но по смыслу – если письмо выгодно для нашей страны, для нашей литературы, – почему было задерживать? Это же последняя тупость была…
– Ну, работы почты мы не можем касаться…
– Если вы граждане? Вы всё должны охватывать вокруг! Шло письмо против разбойников издателей – в итальянскую коммунистическую газету. Это выгодно для компартии Италии! Зачем же вы задержали? Разве только из общего отвращения к моему имени?
И вдруг пожилой таможенник улыбается, как бы извиняясь за свои погоны, как бы на миг и без них (сегодня вечером с этим выражением будет семье рассказывать?):
– Не у всех. Не у всех.
Щадя его перед молодым, я не замечаю поправки:
– И вот потеряно три недели!
– Так вы же не являлись!
– Позвольте, а что это за вызов? – Достаю, сую: – «Необходимо явиться…» – кого так вызывают? Это ж милицейский вызов! Одну старуху вызвали так – она чуть не умерла, а оказывается, реабилитация покойного мужа, приятное известие!
Майор стеснён:
– Ну, мы в письме не могли прямо написать…
Я уже – прямо в хохот:
– Перехватят? прочтут? да если вы не перехватите, кто же?..
Таможенник делает последнее усилие вернуться к программе, с которой его послали, но – между прочим, это же не существенный вопрос:
– А вы – Витторио Страде сами передавали?
– Нет, я сам его не повидал… – (Я его в жизни не видал.)
Ещё легче, ещё незначительней:
– А – через кого?
Но к этому легчайшему вопросу я наиболее готов! Обворожительно-язвительно, водя пальцем по их же бланку:
– Скажите, пожалуйста, это правда, здесь написано, что вы – министерство внешней торговли?
– Да, конечно, – ещё не поняли они.
Я откидываюсь на диван, так мне с ними легко и хорошо:
– А для министерства внешней торговли – не слишком ли много вопросов?
Живо схватились оба:
– Мы – не комитетчики! Вы не думайте, мы – не комитетчики!
Ишь, какой термин у них. «Гебисты» – не говорят.
Так полное понимание:
– А если так – остальное не может вас интересовать!
Разговор – к концу, взаимная ясность, и только я настаиваю:
– Я настаиваю! Я очень прошу, чтоб вы как можно скорей отправили это письмо Витторио Страде!.. Вот сейчас наши представители едут на КОМЕСКО в Рим, и если бы это письмо было напечатано – как им было бы легко отвечать на вопросы!
– Мы доложим… мы доложим… Мы сами не можем.
Я уж совсем развязно:
– Там – марки нет. Если нужно – я, пожалуйста, сейчас наклею.
И приятно обрадованные, как будто очень довольные выяснением, они ушли, не предлагая мне никакого акта и ничем не грозя.
Вот так с вами разговаривать! Веселятся мои свидетели.
Через несколько дней «Архипелаг» закончен, отснят, плёнка свёрнута в капсулу – и в этот самый день, 2 июня, приехали в Рождество Столярова и Угримов (Пятое Дополнение, очерк 9) с такой новостью:
Вышел на Западе «Круг первый»! – пока малый русский тираж, заявочный на копирайт, английское издание может появиться через месяц-два. И такое предлагают они мне: будет на днях возможность отправить «Архипелаг»!
Только потянулись сладко, что работу об-угол, – как уже в колокол! в колокол!!! – в тот же день и почти в тот же час! Никакой человеческой планировкой так не подгонишь! Бьёт колокол! бьёт колокол судьбы и событий – оглушительно! – и никому ещё неслышно, в июньском нежном зелёном лесу.
Отправление будет авантюрное, с большим риском, но по малым нашим возможностям другого не видно, не рисуется. Значит, отправляю… Только-только вынырнуло сердце из тревоги – и ныряет в новую. Отдышки нет.
А – выход на Западе двух моих романов сразу, дубль?! Как на гавайском прибое у Джека Лондона, стоя в рост на гладкой доске, никак не держась, ничем не припутан, на гребне девятого вала, в раздире лёгких от ветра – угадываю! предчувствую: а это – пройдёт! А это – удастся! а это слопают наши!
Но – мрачная, давящая неделя. Неудачные случайности, затрудняющие отправку. Сгущается всё под 9 июня, под православную Троицу. И так стекается, что провал или удачу я узнаю лишь несколькими днями позже. У меня уже следующая работа – последняя редакция истинного «Круга», «Круга»-96 (из 96 глав, и сюжет «атомный»), которого никто не знает (на Западе выходит «Круг»-87, сильно смягчённый), но валится из рук, работать не могу. Когда тебе слабо и плохо – так хорошо прильнуть к ступням Бога. В нежном берёзовом лесу наломать веток и украсить деревянную любимую дачку. Что будет через несколько дней – уже тюрьма или счастливая работа над романом? О том знает только Бог один. Молюсь. Можно было так хорошо вздохнуть, отдохнуть, перемяться, – но долг перед умершими не разрешил этого послабленья: они умерли, а ты жив, – исполняй же свой долг, чтобы мир обо всём узнал.
Если провал – можно выиграть несколько дней, недель, даже месяцев, и ещё поработать, последнее что-нибудь сделать, – только надо скрыться из дому, где я засечен, куда придут. И вечером под Троицу я убегаю с дачи (поспешные сборы, голова плохо соображает, это не первый мой побег из дому – горький побег из родного дома, а в Гражданскую войну сколькие, наверно, вот так?!), сплю на укрытой квартире, без телефона.
И целый день – и ещё день – и ещё день – вся Троица в неизвестности. Работа – вываливается. Воздуха нет, простора нет. И даже к окнам подходить нельзя: первый этаж, увидят чужого. Я – уже самозаточён, только нет намордников и не ограничен паёк. А как не хочется на Лубянку! Тем, кто это знает… Вообще, я стою крепко, мне многое спускается. Но «Архипелаг» – не спустят! Поймав его на выходе, ещё не известного никому, – удушат вместе его и меня.
Только на четвёртый день Троицы узналось об удаче. Свобода! Лёгкость! Весь мир – обойми! я – разве в оковах? я – зажатый писатель? Да во все стороны свободны мои пути! Я свободнее всех поощряемых соцреалистов! Сейчас за три месяца сделать «Круг»-96, потом исполнить несколько небольших долгов – и сброшено всё, что годами меня огрузняло, нарастая на движущемся клубке, и распахивается простор в главную книгу моей жизни – «Р-17».
И – почти как юмор, летним пухлым, но не грозным облаком прошла большая против меня статья «Литературки» (26.6.68). Я быстро проглядывал её, ища чувствительных ударов, – и не видел ни одного! Как они ненаходчивы, как обделены ясным соображением, как расшатались их дряхлые зубы! Даже отвергают трусливо, что взят мой архив: нет, мол, не взят! Даже рассердиться на эту статью – не хватает температуры. И ещё, выпарывая сами себя, привели с 9-недельным опозданием моё апрельское письмо, запрещающее «Раковый». И сколько небось обсуждали и правили статью в секретариате СП, в агитпропе ЦК, а никто не доглядел моего уязвимого места: что против печатания «Круга» – я ведь не возразил, не протестовал, – почему?..
Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся.
В Самиздат вышло два серьёзных ответа на статью «Литгазеты». В. Ф. Турчин отчётливо сёк Чаковского, что он сам фальсификатор и клеветник, что оттяжкой моего письма в газету они сами и способствуют публикации «Корпуса» на Западе, и ещё отдельно – за подленькие фразы газеты, наводящие тень на реабилитацию вообще. Л. К. Чуковская вдоволь изыздевалась над их настрявшей идеологической терминологией, из которой и сплетена вся громкая часть газетной статьи; открывала, что дана «беззвучная команда окутать туманом наше прошлое»; обвиняла «Литгазету», что она соучастница похитителей, раз пересказывает украденную пьесу. Вот так отвечали у нас теперь официальным советским газетам, а тем оставалось утереться и молчать.
Вот-вот, к осенним месяцам, на главных языках мира должны были появиться два моих романа. После улюлюканья вкруг Пастернака, после суда над Синявским и Даниэлем – казалось, я должен был съёжиться и зажмуриться в ожидании двойного удара за мой наглый дубль. Но нет, другое наступило время, – уж так обуздывали, уж так зарешечивали, – а оно текло всё свободней и шире! И все пути и ходы моих писем и книг как будто были не моей человеческой головой придуманы и уж конечно не моим щитом осенены.
Когда-нибудь должны же были воды Сиваша в первый раз не отступить!..
Счастливей того лета придумать было нельзя – с такой лёгкой душой так быстро доделывал я роман. Счастливей бы не было, если б – не Чехословакия…
Считая наших не окончательными безумцами, я думал – они на оккупацию не пойдут. В ста метрах от моей дачи сутки за сутками лились по шоссе на юг танки, грузовики, спецмашины, – я всё считал, что наши только пугают, манёвры. А они – вступили и успешно раздавили. И значит, по понятиям XX века, оказались правы.
Эти дни – 21, 22 августа, были для меня ключевые. Нет, не будем прятаться за фатум: главные направления своей жизни всё-таки выбираем мы сами. Свою судьбу я снова сам выбирал в эти дни.
Сердце хотело одного – написать коротко, видоизменить Герцена: стыдно быть советским! В этих трёх словах – весь вывод из Чехословакии, да вывод из наших всех пятидесяти лет! Бумага сразу сложилась. Подошвы горели – бежать, ехать. И уже машину я заводил (ручкой).
Я так думал: разные знаменитости, вроде академика Капицы, вроде Шостаковича, ищут со мною встреч, приглашают к себе, ухаживают за мной, но мне даже и не почётна, а тошна эта салонная лескотня – неглубокая, ни к чему не ведущая, пустой перевод времени. А ну-ка, на машине их быстро объеду – ещё Леонтовича, а тот с Сахаровым близок (я с Сахаровым ещё не был знаком в те дни), ещё Ростроповича (он в прошлом году в Рязани вихрем налетел на меня, знакомясь, а со второго свидания звал к себе жить), да и к Твардовскому же, наконец, – и перед каждым положу свой трёхфразовый текст, свой трёхсловный вывод: стыдно быть советским! И – вот выбор вашей жизни: подписываете или нет?
А ну-ка, за семью такими подписями – да двинуть в Самиздат! через два дня по Би-би-си! – со всеми танками не хватит лязга у наших на зубах, – вхолостую пролязгают, осекутся!
Но, с надрывом накручивая ручкой свой капризный «москвич», я ощутил физически, что не подниму эту семёрку, не вытяну: не подпишут они, не того воспитания, не того образа мыслей! Пленный гений Шостаковича замечется как раненый, захлопает согнутыми руками – не удержит пера в пальцах. Диалектичный прагматик Капица повернёт как-нибудь так, что мы этим только Чехословакии повредим, ну и нашему отечеству, конечно; в крайнем случае, и после ста исправлений, через месяц, можно написать на четырёх страницах: «при всех успехах нашего социалистического строительства… однако, имеются теневые стороны… признавая истинность стремлений братской компартии к социализму…», – то есть вообще душить можно, только братьев по социализму не следовало бы. И наверно, как-нибудь сходно думают и захлопочут искорёжить мой текст остальные четверо. А уж этого – не подпишу я.
Зарычал мотор – а я не поехал.
Если подписывать такое – то одному. Честно и хорошо.
И – прекрасный момент потерять голову: сейчас, под танковый гул, они мне её и срежут незаметно. От самой публикации «Ивана Денисовича» – это первый настоящий момент слизнуть меня за компанию, в общем шуме.
А у меня на руках – неоконченный «Круг», не говорю уже – неначатый «Р-17».
Нет, такие взлёты отчаяния – я понимаю, я разделяю. В такой момент – я способен крикнуть! Но вот что: главный ли это крик? Крикнуть сейчас и на том сорваться, значит: такого ужаса я не видел за всю свою жизнь. А я – видел и знаю много хуже, весь «Архипелаг» из этого, о том же я не кричу? все пятьдесят лет из этого – а мы молчим? Крикнуть сейчас – это отречься от отечественной истории, помочь приукрасить её. Надо горло поберечь для главного крика. Уже недолго осталось. Вот начнут переводить «Архипелаг» на английский язык…
Оправдание трусости? Или разумные доводы?
Я – смолчал. С этого мига – добавочный груз на моих плечах. О Венгрии – я был никто, чтобы крикнуть. О Чехословакии – смолчал. А ведь за Чехословакию была у меня и особая личная ответственность: все признают, что у них началось с писательского съезда, а он – с моего письма, прочтённого Когоутом[34].
И – гнал, кончал «Круг»-96. И опять – совпадение сроков, какого не спланируешь в человеческой черепной коробке: в сентябре я закончил, и значит спас, «Круг»-96. И в тех же неделях, подменённый, куцый «Круг»-87 стал выходить на европейских языках.
Была третья годовщина захвата моего архива госбезопасностью. Два моих романа шли по Европе – и, кажется, имели успех. Прорвало железный занавес! А я бродил себе по осеннему приистьинскому лесу – без конвоя и без кандалов. Не спроворилась чёртова пасть откусить мне голову вовремя. Подранок залечился и утвердел на ногах.
* * *
Тут много б ещё смешного или досадного можно было рассказать. Сколько было переполоху от телеграммы «Граней» – а что на самом деле стояло за этим? Уже год за годом трудилось какое-то лондонское издательство «Флегон-пресс» (Флегон – фамилия издатчика) – и в тесном сотрудничестве с Виктором Луи. От него Флегон и получил, и поспешил напечатать подпорченное издание Аллилуевой (ослаблены «опасные» места). А в 1968 готовил и опередительное издание «Ракового корпуса» по-русски, очевидно с луёвского экземпляра, о чём и предупреждали «Грани». (Да замялся Флегон, узнав, что Мондадори в Италии уже его в этом обогнал.) Этот шакал стал «постоянный издатель» Солженицына – ещё от «Ивана Денисовича». Иногда доходили до меня его издания. Вот вижу: издал мою «Свечу на ветру» с утерей одной машинописной страницы, и даже не оговорился, а слепил как попало, без смысла. Издал «В круге первом» под своим диким названием «В первом кругу» – и налепил дикое количество опечаток, редко по 10 на страницу, а то по 20–25! И целые куски текста опять «потерял» (именно главу «Рождение науки»: фоноскопия в руках МГБ – опасно!), и перевраны имена действующих лиц. Этот Флегон издавал меня так небрежно-наплевательски, как будто хотел нанести мне как можно больше вреда, умышленно изгаживая мои книги.
Или как на истьинскую мою дачку повадился ходить этот изнеженный Луи со своей бригадой – выяснять отношения, а я вылезал к нему, чумазый и рваный работяга, из-под автомобиля. Как он тайно фотографировал меня телеобъективом и продавал фотографии на Запад с комментариями вполне антисоветскими, а по советско-чекистской линии доносил на меня само собой, да кажется, и звукоаппаратуру рассыпал на моём участке.
Как соседи дачные, по своей советской настороженности, считали, что у меня в лесу закопана радиостанция: иначе зачем я так часто в лес ухожу, да ещё с приезжающими – очевидно, резидентами разведок?
Как, выполняя договор, благородно навязанный мне «Мосфильмом» года полтора назад, я тужился подать им сценарий кинокомедии «Тунеядец» (о наших «выборах»), и как наверх, к Демичеву, он подавался тотчас и получал абсолютно-запретную визу. Как Твардовский с редакторским сладострастием выпрашивал у меня тот сценарий в тайной надежде: а вдруг можно печатать? – и возвращал с добродушной улыбкой: «Нет, сажать вас надо, и как можно быстрей!»
Я шёл по окаянно-запретным литературным путям, а вёл себя с наглой уверенностью признанного советского литератора. И – сходило. В секретариате СП РСФСР допытывались у нашего рязанского секретаря Э. Сафонова: как я ответил на критику «Литературной газеты» и «Правды», – они хотели бы тот документ посмотреть, проскочил он мимо них, – и поверить не могли, что никак не ответил! В советских головах это ведь не помещается, полвека так: если критикуют, значит надо покаяться, признать ошибки. А я вдруг – никак.
В тот декабрь исполнилось мне пятьдесят. У моих предшественников в глухие десятилетия сколько таких юбилеев прошло задушенными, так что близкие даже друзья боялись посетить, написать. Но вот – отказали чумные кордоны, прорвало запретную зону! И – к опальному, к проклятому, за неделю вперёд, понеслись в Рязань телеграммы, потом и письма, и меньше «левых», больше по почте, и мало анонимных, а всё подписанные. Последние сутки телеграфные разносчики приносили разом по 50, по 70 штук – и на дню-то несколько раз! Всего телеграмм было больше пятисот, писем до двухсот, и полторы тысячи отдельных личных безстрашных подписей, редко замаскированных (как Шулубин, Нержины, Ида Лубянская, дети Сима).
«Дай Бог вам таким держаться…»
«…трудную минуту вспоминайте обсуждение в Союзе…»
«…чтоб мы долго-долго ещё были вашими читателями и отпала бы нужда быть вашими издателями…»
«Дороги выбирает себе каждый, и верю я, вы не сойдёте с избранного вами пути… радуюсь, что наше поколение, по крайней мере, выстрадало таких сыновей».
«Живите ещё столько же всем сволочам назло; пусть вам так же пишется, как им икается».
«Пожалуйста, не откладывайте перо. Поверьте, не все любить умеют только мёртвых».
«…и в дальнейшем быть автором только таких произведений, под которыми не стыдно подписываться…»
«Всё, что вы сделали – надежда на пути от духовной оторопи, в какой застыла вся страна…»
«Жить в одно время с вами и больно и радостно…»
«Слава Богу, что в этот день вам не придётся услышать ни полслова неискреннего, фальшивого…»
«Читаем ваши книги на папиросной бумаге, оттого они нам ещё дороже. И если за свои великие грехи Россия платит дорогой ценой, то, наверно, за великие её страдания и ещё, чтоб не упали совсем мы духом от стыда, посланы в Россию вы…»
«Когда мне надо думать, как вести себя на работе, – я обращаюсь к вашим поступкам… когда бывают моменты душевного упадка – обращаюсь к вашей жизни…»
«…оказываешься перед лицом своей совести и с горечью сознаёшь, что молчишь, когда молчать уже нельзя…»
«Не люблю предателей. Вы отпраздновали свой день рождения, а спустя 10 дней мы будем праздновать день рождения товарища Сталина. За этот день мы поднимем полные бокалы!!! История всё и всех поставит на своё место. Заслужив признание Запада, вы приобрели презрение своего народа. Привет Никите, другу вашему» (на машинке, без подписи, брошено в дверной почтовый ящик)[35].
«Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя, более долгожданного и необходимого, чем вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе её громовое могущество. Лидия Чуковская».
«…Живите ещё пятьдесят, не теряя прекрасной силы вашего таланта. Всё минется, только правда останется… Всегда ваш Твардовский».
Скажу, не ломаясь: в ту неделю я ходил гордый. Настигла благодарность при жизни и, кажется, не за пустяки. В день же 11-го, между сотенными пачками телеграмм, стали складываться, выхаживаться строки ответа, хотя и некуда их послать, только в Самиздат спасительный, ну с отвлеченьем на «Литературку» [10]:
«…Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России».
И не ведаю, что близок день, когда эта клятва стреножит меня[36].
Душат
Занесусь по своей линии, по своим планам и действиям – замечаю: линию Твардовского упустил, а уж она кровно в эту книгу вплелась, хотя сказать о ней могу всего лишь выведенное из встреч.
Весь 1968 год, начатый длинным письмом к Федину, был годом быстрого развития Твардовского, неожиданного расширения и углубления его взглядов и даже принципов, казалось бы устоявшихся, – а ведь исполнялось ему пятьдесят восемь! Не прямо, не ровно пробивалось это развитие (хотя б вокруг той телеграммы «Граней»), – а шло!
Когда летом 68-го я увидел А. Т., я поразился перемене, произошедшей в нём за 4 месяца. Он опять вызвал меня – криком в тёмную пустоту, ибо так и не знал, бедняга, где я есть (а от его дачи до моего Рождества – меньше часа автомобильной езды), явлюсь ли вообще. «Когда эта конспирация кончится?!» – топал он в редакции. И можно понять его раздражение и даже отчаяние: ну как со мной договариваться и совместно действовать? Вероятно, не раз зарекался он обязать меня твёрдой связью, но я явлюсь, с готовностью, дружелюбностью, – он смягчается и не имеет настояния жёстко условиться на будущее.
Может быть, я б и в тот раз не явился, но из редакции по секрету передали мне, в чём новость: «в отделе культуры» ЦК сказали Лакшину и Кондратовичу, что «скоро Солженицыну конец – Мондадори печатает “Пир победителей”». Беляев: «Его растерзают!» – то есть разгневанные патриоты. Мелентьев: «Ну, не растерзают, у нас закон. Но – посадят». Твардовский очень напугался и, главное: не я ли пьесу пустил? Он всё не верил до конца, что не осталось у меня «Пира», что только они могут пустить. (И ведь как им жадалось этот «Пир» увидеть на Западе! сколько раз почесуха их брала – самим передать, а не решались, плюгавцы, потому что, через плечо, с оборотом, сильно кусал их «Пир», наломал-навредил бы им больше, чем мне.)
Я рванулся и приехал на дачу А. Т. тотчас – много раньше, чем он рассчитывал меня увидеть. Очень он обрадовался такой неожиданности, широкими руками принял меня. Сели опять в том же мрачном холле, где три года назад на хворостяном костре сжигались моё спокойствие и моя нерешительность. Я притворился, конечно, что повода не знаю, и А. Т. подробно мне всё рассказывал, я же, к его полному облегчению, в десятый раз подтвердил, что нет у меня экземпляра «Пира», честно, что это – провокация агитпропа. (Тогда Трифоныч: «Да как же мне самому прочесть?» Я: «Возьмите у них, чёрт с ними, скажите – с моего согласия». Нет, так и не взял.) Но и встречный аргумент я ему положил: его-то «мальчики», Лакшин да Кондратович, такие изворотливые в защите журнала, могли бы не просто струхнуть и бежать плакаться А. Т., и он бы топал, меня вызывал, а сразу там, в «отделе культуры», сдвинув строго брови, ответить: «Позвольте, это – крайне важное сообщение. Чтобы действовать – редакции необходимо знать источник и достоверность его». Мол, если западная газета, так назовите число; а если вы узнали по тайным каналам – так не сами ли вы, голубчики, и продали?.. Трудно ли было найтись? Но для этого надо иметь дыхание свободное. Воспитанные же на советской службе, они, как и в случае с Луи, с «Гранями», всё, что знали и умели, по-советски: ловить сверху упрёки и травить их вниз. А. Т. и сейчас мимо ушей пропустил мой аргумент как самый незначащий.
Однако всем остальным чрезвычайно порадовал он меня. Застал я его за чтением Жореса Медведева «Об иностранных связях». Удивлялся: «Пробивные два братца!» И вообще о Самиздате, восхищённо взявшись за голову обеими руками: «Ведь это ж целая литература! И не только художественная, но и публицистическая, и научная!» Давно ли коробило его всё, что не напечатано законно, что не прошло одобрения какой-нибудь редакции и не получило штампа Главлита, хоть и не уважаемого нисколько. Лишь опасную контрабанду видел он уже во скольких моих вещах, пошедших самиздатским путём, – и вдруг такой поворот! И ревниво следил, оказывается, за самиздатскими ответами на облай меня в «Литературке». С большим одобрением: «А Чуковскую вы читали? Хорошо она!..» А с Рюриковым и Озеровым (предполагаемые авторы литературкинской статьи против меня) А. Т. решил ничего общего не иметь и в Лозанну ехать не вместе с ними, как посылают, а порознь.
Да что! сидели мы, болтали – вдруг он вскочил, легко, несмотря на свою телесность, и спохватился, не таясь: «Три минуты пропустили! Пошли Би-би-си слушать!» Это – он?! Би-би-си?!.. Я закачался. Он так же резво, неудержимо, большими ножищами семенил к «спидоле», как я бросался уже много лет, точно по часам. Именно от этого порыва я почувствовал его близким как никогда! Ещё б нам несколько вёрст бок о бок, и могла б между нами потечь откровенная, не таящая дружба.
– Вы стали радио…? А о вашем письме к Федину слышали?
Нетерпеливо, но с опаской:
– А подробный текст его не передавали?
Вот, наверно, откуда! – от своего письма стал он и слушать. Естественный путь. Но первый-то рубеж – отважиться, переступить свободным актом воли, послать само письмо! Надо помнить, что именно с весны 1968 растерянные было власти стали теснить расхрабрённую общественность, теснить очень примитивно и успешно: «собеседованиями» пять к одному с подписантами в парткомах и директоратах, исключениями одиночек из партии, из институтов, – и поразительно быстро свелось на нет движение протестов, привыкшие пугаться люди послушно возвращались в согнутое положение. Твардовский же, напротив, именно в это время стал упираться там, где можно бы и уступить: не только по журналу, это всегда, но из-за отдельных фраз обо мне в его статье о Маршаке задерживал целый том своего собрания сочинений.
После Би-би-си:
– Такая серьёзная радиостанция, никакого пристрастия.
Недавно Твардовский ехал в Рим и предупредил Демичева: «Если спросят о Солженицыне – я скажу, что думаю». Демичев, уверенно-цинично: «Сумеете вывернуться!» Но, говорит А. Т., с ним за границей обращались как с больным, не напоминая о здоровьи: избегая вопросов о «Новом мире» и Солженицыне…
В этот раз научил я его приёму, как оставлять копии писем при шариковой ручке. Очень обрадовался: «А то ведь не всё машинистке дашь».
Сердечно мы расстались, как никогда.
Это было – 16 августа. А 21-го грянула оккупация Чехословакии.
И я не доехал до Твардовского со своей бумагой. Нет, её бы он не подписал и, вероятно, кричал бы на меня. Однако вот как он себя повёл. Верховоды СП, чтобы шире и надёжней перепачкать круг писателей, в эти дни прислали А. Т. подписать два письма: 1) об освобождении какого-то греческого писателя (излюбленный отвлекающий манёвр) и 2) письмо чехословацким писателям: как им не стыдно защищать контрреволюцию? Твардовский ответил: первое – неуместно, от второго отказываюсь.
Отлистайте сто страниц назад – разве это прежний Твардовский?
Я ему, в сентябре: – Если это подлое письмо появится за безликой подписью «секретариат СП», можно ли рассказывать другим, что вы туда не вошли?
Он, хохлясь: – Я не собираюсь делать из этого секрета.
(Три года назад: «нежелательная огласка»!..)
– Я глубоко рад, Александр Трифоныч, что вы заняли такую позицию!
Он, с достоинством: – А какую я мог занять другую?
Да какую ж? ту самую… Ту самую, которую в этих же днях совсем неокупаемо, безсмысленно подписала редакция «Нового мира»: горячо одобряем оккупацию! Гадко-казённые слова, в соседних столбиках «Литературки» – одни и те же у «Октября» и «Нового мира»!..
Глазами чехов: значит, русские – все до одного палачи, если передовой журнал тоже одобряет…
Напомним: во многих московских НИИ всё-таки нашлись бунтари в те дни. В «Новом мире» не нашлось. Правда, на предварительно собранной партгруппе не соглашался подписывать эту мерзость Виноградов, но благоразумные Лакшин-Хитров-Кондратович отправили его домой, – и так состоялось партийное единогласие, и его поднесли общему собранию редакции. Да впрочем, и театр «Современник» голосовал единогласно. Да кто не голосовал? кто себя не спасал? Сам ли я не промолчал, чтобы бросать камень?
И всё-таки этот день я считаю духовной смертью «Нового мира».
Да, конечно, жали: не обычный секретариат СП, к которому уже привыкли, но райком партии (дело партийной важности!) звонил в «Новый мир» каждые два часа и требовал резолюцию. Замечешься! А Твардовского в редакции не было: он формально в отпуске. И Лакшин с Кондратовичем поехали к нему на дачу за согласием.
Твардовский уже распрямлял свою крутую спину, уже готовился – впервые в жизни! по такому важному вопросу! – к необъявленному, молчаливому устоянию против верхов. С какой же задачей неслись к нему по шоссе его заместители? Какие доводы везли? Если бы к этому новому Твардовскому они приехали бы с горячим движением: «на миру и смерть красна, а может, и выстоим гордо!» (и выстояли бы! – чувствую, вижу!) – решение состоялось бы мгновенно, и ясно какое: плюс, умноженный на плюс, даёт только плюс. Но если позиция Твардовского была плюс, это мы знаем, а умножение дало минус, то позиция Лакшина открывается нам алгебраически. Ясно, что, приехав, он сказал Твардовскому: «надо спасать журнал!»
Спасать журнал! Дать визу на публичную позорную резолюцию – и сосморкано наземь собственное одинокое, горделивое устояние главного редактора. Разъезжались ноги – одна на земле, одна на плотике. Устоять душой – и сдаться публично! Разве надолго это спасёт журнал? Разве злопамятные верхи забудут ему, что сам он сказал оккупации нет, да только ловкости не имел разгласить.
Спасать журнал! – крик, на который не мог не отозваться Твардовский! С тех лет как всё реже и реже поэмы и стихи выходили из-под его пера, он всё страстней любил свой журнал – действительно чудо вкуса среди огородных пугал всех остальных журналов, умеренный человеческий голос среди лающих, честное лицо свободолюбца среди циничных балаганных харь. Журнал постепенно становился не только главным делом, но всею жизнью Твардовского, он охранял детище своим широкоспинным, толстобоким корпусом, в себя принимал все камни, пинки, плевки, он для журнала шёл на унижения, на потери постов кандидата ЦК, депутата Верховного Совета, на потерю представительства, на опадание из разных почётных списков, что больно переживал до последнего дня, – он гордо рассчитывался и за напечатание «Ивана Денисовича», и за защиту меня, и за своё развитие последних месяцев. Он разрывал дружбы, терял знакомства, которыми гордился, всё более загадочно и одиноко высился – отпавший от закоснелых верхов и не слившийся с динамичным новым племенем. И вот – не из этого разве племени? – приезжает к нему молодой, полный сил, блеска и знаний заместитель и говорит: надо уступить, сила солому ломит.
Солому! – только солому. Ну, ещё хворост. Но даже жердинника не берёт.
Хотя много раз виделись мы с Лакшиным, но всегда бегло, кратко, наспех (из-за меня), да и дел-то мы с ним ни одного никогда не решали, все мои решались Твардовским. А по закрытости характера его и моего у нас не возникало и подробных ненаправленных разговоров. Итак, не имею прочных оснований судить о его убеждениях и побуждениях. Но – не обойти его повествованием. И рискну, опираясь на явные факты, дать не столько достоверный портрет его, сколько этюд о нём.
Я считаю Лакшина весьма одарённым (только не очень зорким к художественной ткани) литературным критиком – уровня наших лучших критиков XIX века, и не раз высказывал так ему. Он и сам эту традицию знал в себе и очень ею дорожил, со звучной баритональностью поставленного голоса произносил: Добро-лю-бов. Как и многие у нас, вряд ли он ощущал эстетическую ущерблённость той критики, никогда не отделённой от общественного направления, никогда не достигавшей высшего возможного интуитивного уровня, как судит крупный художник о другом крупном художнике, Ахматова о Пушкине. Ведь дар великого критика редчайший: чувствовать искусство так, как художник, но почему-то не быть художником.
У Лакшина тесная преемственность с русской критикой XIX века. И в том, что статьи его обычно не содержат собственно-художественного анализа, а состоят из анализа социального, дотолковывают сюжет, нравственно доясняют персонажей (что очень полезно и потребно одичавшему советскому читателю). И в том, что он прочно начитан в предшественниках, немало и к месту цитирует их. И в приёмах живого разговора с читателем, в приверженности неторопливой, очень вкусной манере изложения, отчего самый процесс чтения лакшинских статей доставляет удовольствие, а это важное достоинство всякого литературного произведения всегда, – хотя по темпу и по плотности мысли такое замедленное изложение уже не поспевает за нашим временем.
Ещё и отличным русским языком пишет Лакшин иногда, а это в наше время стало редкостью: многие авторы статей и даже книг вообще не ведают, что такое русский язык, особенно – русский синтаксис. Например (потеха, до чего не допишешься в этой вторичной литературе: автор даёт критический разбор собственного критика), например, статья об «Иване Денисовиче». Перелагая и толкуя повесть, критик и сам старается выдержать соответствующий ей лексический фон – «ведаться с бедами», «стыден был», «со свежа», – приём художника, а не критика. И другой приём художника: Лакшин вводит в статью самого себя – то для характеристики своего поколения («едут мимо жизни, семафоры зелёные»), то даже для прямого политического самообвинения, но выраженного художнически-мягко, тонко: в дни, когда Иван Денисович ходил на зимний развод, юный Лакшин «любил смотреть на красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены Кремля» и «зубрил курс сталинского учения о языке». Такое – по расчёту не получится, оно рождено искренним движением в те немногие месяцы перемежной хрущёвской оттепели, когда можно было увлечься и вправду поверить, что «это не повторится».
Если оценить ещё и трудолюбие критика, читающего свой материал явно не по разу, то вдоль, то поперёк. Если добавить его великолепную приноровленность к подцензурному многозначительному писанию, к полемике и иронии, когда цензура на стороне противника, а у тебя скованы руки, зубы и губы, – надо признать: этому критику дано от природы многое. К тому ж его способности были счастливо углублены долгими болезнями в юности и, значит, обильным чтением и размышлением.
Но и печать государственной обстановки, те «семафоры зелёные» и «недоступные зубцы Кремля» тоже все вошли в личность, талант и судьбу критика. Университет принёс ему не только систематический курс русского языка и литературы, но и обширный курс марксизма-ленинизма, и для успешности диплома требовалось потеснить любимых критиков XIX века в пользу классиков изма-изма. (Впрочем, это потеснение не такое мучительное: те и другие во многом не противоречат друг другу, а в утилитарности, общественной страстности, особенно же в настойчивом атеизме – очень сходны. Где ж они рознят – гибкий ум может усмотреть переходную формулу. И вся Передовая Теория воспринимается тогда нисколько не мёртвой, но – родником для духовной жажды.) Другое требование университетской успешности, для поступления в аспирантуру, состояло в том, чтобы быть комсомольцем, да не рядовым, а заметным на факультете. (Это требование не упустили многие, да даже, не смейтесь, автор этих строк, хотя и не для аспирантуры, – уж так велось для успешливых советских молодых людей 30–50-х годов.)
Но что делать после всякого учения? Ведь литературный критик ещё уязвимее художника для любого политического разноса. Как же иметь выдающиеся способности и, несмотря на это, найти им простор? Сама природа защищает свои творения, снабжает их качествами для выживания. Поколение, кончавшее среднюю школу близ великого сталинского семидесятилетия, не расщепляло в себе служебности и искренности, это перевивалось в нём – и оно могло брать воздух там, где его совсем не было. Во всяком случае, мы видим, что Лакшин не задохнулся: он вёл семинары в университете, стал нерядовым критиком, даже заведовал отделом критики «Литгазеты», а через комиссию по наследству Щеглова, утерянного «Новым миром», всё ближе становится к этому журналу, сдруживается с редколлегией, замечен и излюблен Твардовским, который решает, что вот этого мальчика он выведет в литературные звёзды.
И взял его, с ревнивым нетерпением к своим лучшим открытиям, и приобрёл перо, украшающее журнал. Правилен был и выбор Лакшина: он нашёл единственную из ста невозможностей расцвести в этой стране, в эти годы, – защищённый верным, прочным крылом Твардовского. И быстро стало укрепляться их взаимопонимание, двоякое: художественное и общественное, две линии, которые Твардовскому всегда очень трудно было гармонировать, он как бы разными органами их воспринимал, а у Лакшина всегда сходилось ладно и примирительно, всегда подворачивались ленинские цитаты, которые соединяли мостиками несоединимое. В апреле 1964 у меня записано: «Вл. Яков. принимается Твардовским предпочтительно перед другими членами редакции», легко вхож к нему в кабинет. Как ни был А. Т. издавна близок с Дементьевым, он чутьём художника ощущал, что дементьевские формулы уж слишком окостенели, что надо связывать судьбу журнала с более гибким, отзывчивым молодым поколением. С другой стороны, сколько я помню и могу теперь сопоставить, мнение наблюдательного, внимательного, догадливого Лакшина всегда совпадало с мнением Твардовского, иногда опережая и ещё не высказанное, и хорошо аргументируя его. (Впрочем, на открытом лице Твардовского работа его мысли бывала предварена.) Не помню их не только спорящими, но хоть с каким-нибудь клином возражения. Так смена первого заместителя была подготовлена душевно, прежде чем она грянула сверху организационно, и тем была смягчена, оказалась для Твардовского переносимой. Очень кстати в том же 1966 году Лакшин вступил и в КПСС – и ведь, вероятно, без противоречия с общим мировоззрением (хотя уже многие интеллектуалы в тот год не знали, как из той партии ноги унести), – и лишь враждебность секретариата СП помешала Лакшину стать первым заместителем официально. Стали числить «первым» главного ходатая в цензуру литературно холостого Кондратовича (А. Т. не думал так о нём, сам его сотворя), а реально первым стал Лакшин.
Сами мы себя вперёд не ожидаем, как изменимся, занимая новые посты, принимаясь за новую работу. Не только внешне – осанка, другое лицо, тонко-шнуровые усики, другая походка, переход на «вы», кого называл раньше на «ты». Но и сам твой литературно-критический талант как-то преображается, перераспускается в талант административный, талант оглядчивости, учёта опасностей – словом, для либерального журнала, талант хождения по канату, без чего такой журнал не может выходить. Главный – поэт и ребёнок, может себе разрешить быть простодушным и в гневе, и в милости, и в щедрых обещаниях, – первый заместитель не может отдаться порыву чувства, а должен осторожно подправить Главного, должен отсекать опасности. Раньше эту благородную работу выполнял твой предшественник, а ты мог позволить себе большую свободу, – теперь же обручи мономаховой шапки отзывно стягивают кожу и твоей головы. И если приносят тебе рукописи двух сестёр: огненного «Пушкина и Пугачёва» покойной Марины и длинноватые, не колкие, никому не обидные воспоминания живой Анастасии, то, оценив: «да, талантливы обе сестры!», ты откладываешь блистательно-опасную рукопись, а гладенькую ещё приглаживаешь, – и всё равно будет шаг передовой. Ведь «Новый мир» – это единственный светоч во тьме нашей жизни, и нельзя дать задуть его. Для такого журнала – чем не пожертвуешь? на что не пойдёшь? только здесь развивается наша литература, наша мысль, и тому нисколько не мешает марксистско-ленинская идеология, умно понятая, – а Самиздат, какие-то молодые группки, петиции и демонстрации – всё гиль. В том-то и чрезвычайная сложность задачи, что несдержанным бунтарям не дано высказываться перед публикой в ста сорока тысячах экземпляров. Вот почему слишком выхлёстывающие, резкие публикации лучше самому прежде цензуры приостановить, переубедить, подрезать. Это уже теперь не только наш журнал, но в каком-то смысле и твой, – высшего положения нет и не будет для критика, пишущего по-русски, а ты достиг его моложе пушкинского возраста, так будь же не по возрасту оглядчив, и именно для общего литературного дела береги этот журнал от слишком опрометчивых рядовых редакторов, которым лишь бы продвинуть материал, даже с антисоветским душком, послать в цензуру «на пробу», подвергая журнал смертельной опасности.
По тому, что я раньше писал о Дементьеве, – как же должна была посвободнеть редакция от замены его! Но вот говорит Дорош: «С Александром Трифонычем только разбеседуешься по душам – войдёт в кабинет Лакшин, и сразу меняется атмосферное давление, и уже ни о чём не хочется».
Новое поколение не всегда приносит обновление форм жизни (достаточно видим это и по руководству нашей страны), напротив: расчёт на долголетний путь заставляет искать стабильности.
А сам критик? Меняется ли он? Да, с человеком меняется и критик, но, разумеется, неизменна в нём ось Единственно Верного мировоззрения. То, что в раннем Лакшине было лишь досадными тенями (вера баптиста «наивна и безсильна» по сравнению с мужицким здравым смыслом; но и Шухову «непосильно» охватить общее положение в деревне), теперь выступает чёрными полосами.
Вот он оценивает роль насилия. Естественно, мол, заметить, что именно насилие, а не самоусовершенствование ведёт к историческим вершинам. Конечно, благородным деятелям оно даётся не всегда легко. Такие мягкие сердечные люди, как Урицкий, мечтательно шепчут между двумя казнями: «Не пылит дорога, / Не дрожат листы… / Подожди немного, / Отдохнёшь и ты»… Так неоспоримо принимается критиком вся мифологическая ложь о нашей новейшей истории. И в таких пропорциях понимается история двух веков. Если Александр II дал там какое-то освобождение крестьян и другие куцые реформы (сотрясные во всей русской истории), то он «либерал поневоле», а за подавление польского восстания (это уже – свободной волей), осуждение Чернышевского и нескольких сот революционеров – палач, достойный своей бомбы. Напротив, Никита Хрущёв со своим светоносным XX съездом, не освободивший крестьян, не давший ни одной последовательной освободительной реформы, подавивший (поневоле) венгерское восстание и Новочеркасск, осудивший тысячи в лагеря не мягче сталинских, возобновивший лютые гонения на религию, – начал великое прогрессивное движение современности, в которое, не щадя сил, и вливается «Новый мир».
Не замечает никогда сам человек, как его душевные движения отлагаются на его наружности. Не замечает и – как перо его меняется. Как ты долго готовишься, как пробиваешься к заветной статье о «Мастере и Маргарите». Но вот – достигнуто, открылось, можно писать, – а само перо выписывает и выписывает вензеля оговорок на всякий случай. В интересе к Михаилу Булгакову есть, конечно, «издержки сенсационности». «Коли уж говорить о его слабостях» (коли очень придаёт оттенок хлебосольной манеры глаголанья). Что ж тот Булгаков? – «субъективность его социальных критериев и эмоций заметно сужала его художественный обзор», «изображение социальной конкретности – наиболее уязвимая сторона его таланта» (! – выделено мной. Ну в самом деле, кто изобразил нам Москву раннесоветских лет так вяло и бледно, как Булгаков?!..). Да и с художественной стороны «пусть не всё (в романе) отделано ровно и до конца». Да и с философской: «христианская легенда», «как если бы» реальный эпизод истории. Да ведь известно, что и у Лермонтова «Божий суд» нисколько «не выражает религиозного чувства». Ну может, какой «суеверный читатель» и осенит себя «крестным знамением» (это ж милая такая ужимка, создающая с читателем благорасположенное доверие). А наша линия – «в согласии со старой марксистской традицией…»; «коммунизм не только не гнушается моралью, но она есть необходимое условие его конечной победы»…
Для этого романа – в пируэтах фантазии, во вспышках смеха, тридцать лет трагически таимого, едва не растоптанного, – рост ли в рост написана статья? Опять подражательная старомодная замедленность, кружной путь пересказа, манерная эпиграфичность (накопилось эпиграфов про запас – куда их деть-то?), – а мыслей, скачущих как воландовская конница, – нет! а разгадки загадочного романа – нет! Эта завороженность нечистой силой – уже не в первой книге, и это сходство с Гоголем, уже во стольких чертах и пристрастиях таланта, – откуда? почему? И что за удивительная трактовка евангельской истории с таким унижением Христа, как будто глазами Сатаны увиденная, – это к чему, как охватить?..
Да что там, да куда там! – возражает Лакшин. – И за эту-то статью, с реверансами, чуть голову не отгрызли. Ну правда, правда… Но вот опаска: сносно, если только пишешь так, при нагнутой шее, – а что, если и думаешь не выше, не шире? В ноябре 1968 всё это о статье я высказал Лакшину, и он ответил:
– Я не хочу сослаться на то, что мне что-то не дали из-за цензуры говорить. Я умею всё сказать и при цензуре.
Так это – всё?..
И что ж теперь, если эта статья подписана к печати 19 августа, а в ночь на 21-е начинается чехословацкий ужас, а 23-го, когда ещё сигнального экземпляра нет, а весь тираж и ничего не стоит пустить под нож, – звонят из райкома партии и требуют незначащей формальности, ни к чему не обязывающей резолюции в поддержку оккупации, которая всё равно и без этого произошла и победила, – почему бы этой резолюции не дать? с каким склонением поедешь на дачу к Твардовскому?
Может быть, не всё так именно Лакшин думал – но так делал.
А Твардовский, недавно именно так думавший и веривший, – вот стал переколыхиваться, переливаться, не помещаться.
И с тех месяцев 1968, когда я кончил «Архипелаг», и Твардовский так зримо углублялся, искал, – потянуло меня дать ему прочесть. Это нужно было ему – как опора железная, это заменило бы ему долгие околичные рысканья по нашей новейшей истории. Но препятствия были:
– меньшее: доставить «Архипелаг» из глубокого укрытия и те 5 дней, какие А. Т. будет его читать, жить с ним вместе, не упускать книгу из виду;
– большее: при первой же нетрезвости он не удержится, станет делиться впечатлениями – и потечёт, потечёт мой хранимый, мой самый тайный. (Почему-то подозревая такую же человеческую слабость – неспособность держать тайны, я и Ахматовой не мог дать читать своих скрытых вещей, даже «Круга», – такому поэту! современнице! уж ей бы не дать?! – не смел. Зря. Так и умерла не прочтя.)
Всё же на ноябрь договорились мы, что привезу я Трифонычу «Архипелаг». Однако к моему приезду он не оказался на ногах, появился, тут же опять на чьём-то юбилее распил коньячка, снова ослаб. Потом не приехал в редакцию из-за того, что оборудовал у себя на даче какую-то комнату – книжный шкаф.
И спрятал я «Архипелаг».
А через несколько дней, 29 ноября, А. Т. вышел ко мне с редакционного партсобрания в тёплом веселе, очень доброжелательный, сразу целоваться.
– Ничего, что с собрания?
– Да я ж там не председатель. Видели, что пришёл, сидел, – хватит!
Конечно, о бороде прошёлся. Тут же, самокритично:
– Когда будете знатным и богатым – не заводите шкафов-комнат… А впрочем, что делать с подаренными книгами? Шлют, шлют, наплывом, каждый с надеждой получить рецензию в «Новом мире». Я им отвечаю: «Вы знаете, как поступил в редакцию “Иван Денисович”? Через окошко регистратуры. Причём автор по забывчивости не написал своего адреса, и мне пришлось его искать через угрозыск».
Новая легенда, и не без тенденции.
В этих днях состоялись выборы в Академию Наук. По секции русского языка был в кандидатах Твардовский, но давлением сверху не дали его выбрать. Очень огорчён. Однако:
– Для честолюбия достаточно, что в газете была кандидатура.
От меня узнал, что физматики на общем голосовании прокатили и Леонова. Доволен.
Но вот и новая тревога: позавчера в Би-би-си будто бы «провокационная передача», «меняет всю картину». Что такое? Передавали цитаты из его письма к Федину – «и совершенно точно! как могло просочиться?»
Это – за десять-то месяцев!..
– Вот – как? Вы даже мне дали читать под арестом, вот тут в кабинете, без выноса!
А. Т. (добродушно довольный своею выдумкой): – Не могли ж вы переписать все семнадцать страниц!
(Верно, я только четыре тогда переписал, экстракт.)
Всё ж надеется: – Может быть, всех семнадцати у них нет?
Я: – В Самиздате – всё письмо! К нам в Рязань привезли даже не из литературных кругов, а – врачи.
– И всё – точно?
– Совершенно точно!
А. Т. изумляется неисповедимости путей, однако больше с удовольствием, чем со страхом. Теперь же он Би-би-си одобряет, и что оттуда «Раковый корпус» читают – «хорошо, пусть читают». Вздохнул, но не завистливо ничуть:
– У вас в Европе уже большая слава, чем у меня.
Я перевёл: в армии сейчас, если у кого увидят голубую книжку «Нового мира», занесенную с «гражданки», – таскают к политруку, как за подпольную литературу. Вот это – слава.
Он вдруг:
– А всё-таки шкаф красивый получился, хотя из самого дешёвого, из ясеня! Вот приедете ко мне следующий раз, торопиться не будете…
Когда это бывало, чтоб я не торопился… когда это будет?..
Денег опять мне предлагал:
– Тысячу? Две тысячи? Три тысячи?.. Раньше говорили: мой кошелёк – ваш кошелёк, теперь: моя сберкнижка – ваша сберкнижка!
Я снова отклонил. Мне бы вот – за «Раковый» 60 % получить, а не 25. Мне нужны официальные поступления по годам, на какие средства живу.
Смутился. Это – ему трудней. Это надо опять продвигать через начальство, через бухгалтерию «Известий», ещё прежде – через своего же молодого, выдержанного, осмотрительного Хитрова.
– Вот Хитров приедет, может сообразит.
(Ещё и эту последнюю выплату А. Т. устроит мне – «семь бед – один ответ», вопреки возражениям Лакшина-Кондратовича, что это может повредить журналу.)
А узнав, что я сдал на «Мосфильм» какой-то сценарий, – стал просить с хмельной настойчивостью, как запретную рюмку, – дать ему тот сценарий, и сейчас же!
Я – пошёл за ним, к портфелю, А. Т. сразу ревниво:
– Вы с первым этажом ближе, чем со вторым?
(На втором – главные члены редколлегии, на первом – все рядовые, и отдел прозы, и мой портфель всегда остаётся там, к постоянной ревности А. Т.)
Убрал я прочь крамольные, о выборах (нумерованные лишь буквами), листы, остальное принёс А. Т. Через час, после партсобрания, уже вся коллегия собралась над моим «Тунеядцем», и А. Т. требовал:
– Право первой ночи – нам! Предупредите «Мосфильм» – право первого печатания за «Новым миром»!
Это – пока не прочли подробно.
Но вот интересно, отмечено в моей тетради: хотя в тех самых днях прошлась по мне «Правда» – мы с Трифонычем в разговоре даже о том не помянули! даже для него правдинское ругательство уже было ничто!.. Времена-а!..
После того следующий раз о чтении «Архипелага» договорились мы с А. Т. на четыре майских дня 1969 (был День Победы в пятницу, смыкались выходные), что беру его в свой «охотничий домик» (так он ласково, не повидав, называл мою неведомую истьинскую дачу). Но перед самым тем А. Т. снова «впал в слабость» – не глубоко, ещё вызволимо. Узнал я, что Лакшин едет к нему в Пахру, кинулся к Лакшину на квартиру, передал для Трифоныча подбодряющую записку, а самого Лакшина упрашивал: подействуйте на него, уговорите ехать ко мне, это важно для его же стойкости, для отстаивания журнала. (Не удосужился тогда приглядеться и размыслить: ведь для осторожных целей Лакшина моё влияние на А. Т. было разрушительно. По старой привычке, со времён «Ивана Денисовича», я привык видеть в Лакшине своего естественного союзника. А это давно не было так.) Лакшин кивал мне – вежливо, дружелюбно, но, пожалуй, отсутствующе. Увидел я: нет, не станет он уговаривать. Тем более, что у меня застрянет Твардовский и на понедельник, а в тот понедельник состоится важный звонок Воронкова в редакцию, и по всем соображениям расчётливой дипломатии надо Главному быть к звонку на своём кабинетном месте. (Шла молчаливая осада Твардовского, применялась новая тактика: давили на него с глазу на глаз, вынуждая добровольно подать в отставку.)
Да только при всех раскинутых лабиринтах дипломатия не знает неба. Для этого-то скрытого противостояния и нужна была Твардовскому огнеупорная твёрдость, какую лишь на зэковском Архипелаге и воспитывают.
Нет, не приехал А. Т. Зря протаскал я книгу. И спрятал, – уже навсегда для него.
Вот так мы жили: рядом колотились – а прочесть он не мог[37].
Из оплетенья своих чиновных-депутатских-лауреатских десятилетий высвобождался Твардовский петлями своими, долгими, кружными. И прежде всего, естественно, силился он проделать этот путь на испытанной пахотной лошадке своей поэзии. В душные месяцы после чехословацкого подавления он писал сперва отдельные стихотворения – «На сеновале», потом они стали расширяться в поэму – «По праву памяти». В те самые весенние месяцы 69-го года он её дописывал, когда я не дозвался его читать «Архипелаг». Бедняге, ему искренно казалось, что он важное новое слово говорит, прорывает пелену всеми не додуманного, приносит освобождение мысли не одному себе, но миллионам жаждущих читателей (уже давно шагнувших на километры вперёд!..). С большой любовью и надеждой он правил эту поэму уже в вёрстке, отвергнутой цензурой, и летом 1969 снова собирался подавать её куда-то наверх. (Судьба главного редактора! В своём журнале свою любимую поэму напечатать не имел права!) В июле подарил вёрстку мне и очень просил написать, как она мне. Я прочёл – и руки опустились, замкнулись уста: что я ему напишу? что скажу? Ну да, снова Сталин (всё на нём замыкается?), и «сын за отца не отвечает», а потом «и званье сын врага народа»,
И всё, казалось, не хватало Стране клеймёных сыновей;и – впервые за 30 лет! – о своём родном отце и о сыновней верности ему – ну! ну! ещё! ещё! – нет, не хватило напора, тут же и отвалился: что, ссылаемый в теплушке с кулаками, отец автора
Держался гордо, отчуждённо, От тех, чью долю разделял… …Среди врагов советской власти Один, что славил эту власть.И получилась личная семейная реабилитация, а 15 миллионов – сгиньте в тундру и тайгу? Со Сталиным Твардовский теперь уже не примирялся, но:
Всегда, казалось, рядом был… Тот, кто оваций не любил… Чей образ вечным и живым… Кого учителем своим Именовал Отец смиренно…Как же и чем я мог на эту поэму отозваться? Для 1969 года, Александр Трифонович, – мало! слабо! робко!
Вообще, у Твардовского и возглавленной им редколлегии увеличенное было представление о том, насколько они – пульс передовой мысли, насколько они ведут и возглавляют общественную жизнь даже всей страны. (А движения истинного протеста и борьбы давно и бурно текли мимо.) В редакции все они друг друга так восполняли и убеждали, по нескольку человек по нескольку часов просиживая в комнате, что казалось им: они, члены редакционной коллегии, и есть движущий духовный центр, самозамкнутый во владении истиной, авторы же их – воспитуемые, от авторов не получишь светового толчка.
Зимой 1968/69, снова в солотчинской тёмной избе, я несколько месяцев мялся, робел приступать к «Р-17», очень уж высок казался прыжок, да и холодно было, не раскутаешься, не разложишься, – так часами по лесу гулял и на проходке читал «Новый мир», прочёл досконально целую сплотку, более двадцати номеров подряд, пропущенных из-за моей густой работы, – и сложилось у меня цельное впечатление о журнале. Конечно: более приятного и разумного чтения в СССР не было. Чтение освежающее, броунизирующее мысли. Интеллектуальная лёгкая гимнастика. Всегда – благородно, честно, старательно (если простить, пролистывать целые сотни пустых или гадких страниц туполобых казённо-революционных, казённо-интернациональных и казённо-патриотических публицистов).
Но это – сравнивая со всем печатным. Если же рядом с журнальным есть выбор чего-либо из Самиздата – какая рука не предпочтёт самиздатского? С развитием в 60-х годах самовольного машинописного печатания живая жизнь всё более уходила туда, – редакция же «Нового мира» трагически не понимала этого, и заместители, собираясь в кабинете Твардовского, серьёзно планировали стратегию отечественной мысли. Пожалуй, самой неудачной из таких попыток была статья Дементьева («Новый мир» – 1969, № 4, а вышла в июне) – давно уже не члена редакции, а всё ещё – родственной идеологической души, а всё ещё – радетеля, запечного друга.
Историю той несчастной статьи либо обойти совсем, либо разобрать подробней. Она как будто отводит от стержня этой книги, но почему-то не обминуется.
В 1968 в «Молодой гвардии» опубликованы были две статьи заурядного, темноватого публициста Чалмаева (а вероятно, за ним стоял кто-то поумней), давшие повод к длительной газетно-журнальной полемике. Сумбурно построенные, безпорядочно нахватанные по материалу (изо всех рядов, куда руки поспевали), малограмотные по уровню, сильно декламационные по манере, с хаосом притянутых цитат, со смехотворными претензиями дать «существенные контуры духовного процесса», «ориентацию в мировой культуре» и «цельную перспективу движения художественной мысли», – эти статьи всё же не зря обратили на себя много гнева, и с разных сторон: изо рта, загороженного догматическими вставными зубами, вырывалась не речь – мычание немого, отвыкшего от речи, но мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее. Конечно, идея эта была казённо вывернута и отвратительно раздута – непомерными восхвалениями русского характера (только в нашем характере – правдоискательство, совестливость, справедливость!.. только у нас «заветный родник» и «светоносный поток идей»), оболганьем Запада («ничтожен, задыхается от избытка ненависти», – то-то у нас много любви!..), поношеньем его даже и за «ранний парламентаризм», даже и Достоевского приспособив (где Достоевский поносил социализм – перекинули ту брань на «буржуазный Запад»). Конечно, идея эта была разряжена в компатриотический лоскутный наряд, то и дело автор повторял коммунистическую присягу, лбом стучал перед идеологией, кровавую революцию прославлял как «красивое праздничное деяние» – и тем самым вступал в уничтожающее противоречие, ибо коммунистичность истребляет всякую национальную идею (как это и произошло на нашей земле), невозможно быть коммунистом и русским, коммунистом и французом, – надо выбирать.
Но вот что удивительно: из того мычанья вырывались похвалы «святым и праведникам, рождённым ожиданием чуда, ласкового добра», и даже кое-кто назван, не без погрешностей: Сергий Радонежский, патриарх Гермоген, Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский; и помянута «Русь уходящая» Корина (разумеется, «лишённая религиозного чувства»); и «народная тоска о нравственной силе»; и с симпатией цитирован Достоевский в довольно божественных своих местах, и даже один раз «Из глубины» сокрыто; а один раз и прямо о Христе – что он «ризы над поляной отряхнул»; и даже прорвалось (лучшее место!) глубокое предупреждение – не согрешить, отвечая насилием на насилие; и против жестокости, и против взаимной отчуждённости сердец, – вот уж не по-ленински! и никак не с ленинской позиции возражали Горькому (!), защищая духовное слово от базарного; и даже намёкнуто на масштаб русской тысячелетней истории, где тонут «формации», несколько их помещается (социализм не назван трусливо); и заикнуто даже о происшедшем уничтожении русской нации – только, оказывается, не от ЧК и ЧОНа, а от «буржуазного развития», – от русских купцов, что ли; и на обнищание нашей современной деревни указано на духовное – когда в кинотеатр стекаются с окружных деревень, как прежде стекались на всенощное бдение; где-то там на краю и по «алюминиевым дворцам» хлопнуто мимоходом, по Базарову… Да можно выделить, перечислить и оценить отдельные мысли этой и смежных статей «Молодой гвардии», весьма неожиданные для советской печати:
1) Нравственное предпочтение «пустынножителям», «духовным ратоборцам», старообрядцам – перед революционными демократами, как прохороводили они у нас от Чернышевского до Керенского. (Честно говоря – присоединяюсь.)
2) Что в дискуссиях журнала «Современник» мельчали и покрывались публицистическим налётом культурные ценности 30-х годов XIX в. (От вечного? – мельчали конечно.)
3) Что передвижники не выражали народной тоски по идеалу красоты, по нравственной силе, а Нестеров и Врубель возродили её. (Недооценен Перов.)
4) Что в 10-е годы XX в. русская культура сделала новые шаги в художественном развитии человечества – и упрёки Горькому (!) за оплёвывание этого десятилетия. (Не вызывает сомнений.)
5) Народ хочет быть не только сытым, но и вечным. (А если уже не так, то ничего мы не стоим.)
6) Земля – вечное и обязательное, в отрыве от неё – не жизнь. (Да, я ощущаю – так, я в этом убеждён. А Достоевский воскликнул: «Если хотите переродить человечество к лучшему… то наделите его землёй! В земле есть что-то сакраментальное… Родиться и всходить нация должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут».)
7) Деревня – оплот отечественных традиций. (Опоздано. Сейчас, увы, уже – не оплот, ибо деревню убили. Но было – так. Разве – царский Санкт-Петербург? Или Москва пятилеток?)
8) Ещё и купечество ярко проявляло в себе русский национальный дух. (Да, не меньше крестьянства. А сгусток национальной энергии – наибольший.)
9) Народная речь – питание поэзии. (На том стою и я.)
10) У нас выросло просвещённое мещанство. (Да! – и это ужасный класс, – необъятный, некачественный образованный слой, образованщина, присвоившая себе звание интеллигенции – подлинной творческой элиты, очень малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же образованщине – весь партаппарат.)
11) Молодого человека нашей страны облепляют: выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство; телевизионная суета; беготня кинофильмов.
Одним словом, в 20-е – 30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли. Года до 1933 за дуновение русского (сиречь тогда «белогвардейского», а ругательно на мужиков – «русопятского») чувства казнили, травили, ссылали (вспомним хотя бы доносительские статьи Осипа Бескина против Клюева и Клычкова). Потом исподволь чувство это разрешали, но – красноперемазанным, в пеленах кумача и с непременным тавром жгучего атеизма. Однако уцелевших подросших крестьянских (и купеческих? а то и священских?) детей, испоганенных, пролгавшихся и продавшихся за красные книжечки, – иногда, как тоска об утерянном рае, посещало всё-таки неуничтоженное национальное чувство. Кого-то из них оно и подвинуло эти статьи составить, провести через редакцию и цензуру, напечатать.
И понятно, что в тех же месяцах официальная советская пресса, начиная с «Коммуниста», лупанула «Молодую гвардию» за эти статьи. «Порицание было единодушным», как пишет Дементьев, и «казалось, что дальнейший разговор не имеет смысла». Но компатриоты из «Молодой гвардии» ещё и после разгрома чалмаевских статей пытались вытягивать противоестественное соединение «русскости» и «коммунистичности», эту помесь дворняжки со свиньёй, столько же стоющую, сколько «диалог» между коммунистами и христианами до того дня, пока коммунисты не придут к власти.
Но обо всём том, может быть, не узналось бы и не упомнилось, и мои б очерки были на несколько густых страниц полегче, если б редакции «Нового мира» не взбрела несчастная идея – влиться в общее «ату», да ещё поруча статью писать засохшему Дементьеву.
Если вспомнить десятилетия советской литературы, поток ортодоксально-помойной критики разных напостовцев, литфронтовцев, рапповцев, ЛитЭнциклопедии 1929–33 годов, а потом официальщины СП, – право же, статьи Чалмаева никак не покажутся худшим образцом. Чем же так они рассердили и раззарили «Новый мир»?
Эмоциональный толчок был – расплатиться за свою вечную загнанность: изо всех собак, постоянно кусающих «Новый мир», одна провинилась, отбилась – и свои же кусают её. Смекнув ситуацию: вот удобно ударить и нам! Чем ударить? – марксизмом конечно, чистейшим Передовым Учением. Дементьеву это было очень сродни. Но по крайней мере один человек в редакции – Твардовский мог бы помнить и понимать пословицу: волка на собак в помощь не зови. Даже на злых враждебных собак всё-таки не зови в помощь волка марксизма, бей их честной палкой – а волка не зови. Потому что волк твою собственную печень слопает.
Но в том-то и дело, что марксизм не был для «Нового мира» принудительным цензурным балластом, а так и понимался, как учение Единственно Верное, лишь бы было «исходно чистым». Так и атеизм, очень необходимый для этого выступления, был своеродным, искренним убеждением всей редколлегии «Нового мира», включая, увы, Твардовского. И потому не случайны были и не показались им ошибочными аргументация и тон этого позорного выступления журнала – так незадолго до его конца. (Говорят, Дорош был против этой статьи.)
В исходном замысле, ещё не перенесенном на бумагу, ещё обсуждаемом в кабинете, очевидно были у новомирцев и вполне правильные соображения: «эта банда» кликушески поносит Запад не только как капиталистический Запад (такого марксистам не жалко, и Дементьеву тоже), а как псевдоним всякого свободного веяния в нашей стране (вопреки марксизму, эти передовые веяния почему-то поддерживаются именно обречённым Западом), как псевдоним интеллигенции и самого «Нового мира». В статьях «Молодой гвардии» что-то слишком подозрительно выпячиваются «народные основы», церковки, деревня, земля. А в нашей стране так это смутно напряжено, что произнеси похвально слово «народ» – и уже это воспринимается как «бей интеллигенцию!» (увы, образованщину на 80 %, а из кого народ состоит – и вовсе неведомо…), произнеси похвально «деревня» – значит угроза городу, «земля» – значит упрёк «асфальту». Итак, против этих тайных, невысказанных угроз защищая себя под псевдонимом интернационализма и пользуясь всеми ловкостями диалектического марксизма, – в бой, Александр Григорьич!
И вот, с профессорской учёностью, легко находя неграмотное и смешное в статьях молодогвардейских недоучек (да ведь двадцать пять этажей голов срубили в этом народе, удивляться ли мычанью лилипутскому?), тараном попёр новомирский критик в пролом проверенный, разминированный, безопасный, куда с 20-х годов бито всегда наверняка, и сегодня тоже вполне угодно государственной власти.
Критик помнит о задаче, с которой его напустили, – ударить и сокрушить, не очень разбирая, нет ли где живого, следуя соображениям не истины, а тактики. Начиная с давней истории: без тряски не может он слышать о каких-то «пустынножителях, патриархах…»; или допустить похвалу 10-м годам, раз они сурово осуждены т. Лениным и т. Горьким; уже по разгону, по привычке, хотя к спору не относится, – дважды охаять «Вехи»: «энциклопедия ренегатства», «позорный сборник»; заодно лягнуть Леонтьева, Аксакова, даже Ключевского, «почвенничество», «славянофильство», – а что противопоставим? нашу науку. (Ах, не смешили б вы кур «вашей наукой»! – дважды два сколько назначит Центральный Комитет…) Впрочем, учит партия (только с 1934 года) от наследия не отказываться – и в наследие широко захватывает Дементьев «и Чернышевского, и Достоевского» (один звал к топору, другой к раскаянию, надо бы выбирать), да хошь «и Троицу Рублёва» (после 1934 тоже можно).
Ото всего церковного шибче всего трясёт критика-коммуниста: и от порочного «церковного красноречия» (высшей поэзии!) и от каких-то «добрых храмов», «грустных церквей» у поэтов «Молодой гвардии». (Уж там какие ни стихи, а боль несомненная, а сожаление искреннее: уходит под воду церковь –
Я удержу, спасу, но если Всё ближе пенная волна, Прижмусь к стене и канем вместе…)А Дементьев холодно и фальшиво: «Событие совсем не из весёлых», но не надо «состояния экзальтации», «церковная тема требует более продуманного и трезвого подхода». (Да уж продуманней, чем церкви, – что у нас уничтожали? при Хрущёве и бульдозерами. Какова б «Молодая гвардия» ни была, да хоть косвенно защитила религию. А либеральный искренно-атеистический «Новый мир» с удовольствием поддерживает послесталинский натиск на Церковь.)
И что такое патриотизм, мы от Дементьева доподлинно узнаём: он – не в любви к старине и монастырям, он «неотделим», как вы понимаете, «от пролетарского интернационализма». И что за уродливая привязанность к «малой родине» (краю, месту, где ты взрос), когда и Добролюбов и КПСС разъяснили, что надо быть привязанным к большой родине (так, чтобы границы любви точно совпадали с границами государственной власти, этим упрощается и армейская служба). И почему бы это образный русский язык хранился именно в деревне (если Дементьев прописал всю жизнь социалистическим жаргоном – и ничего)? Фу-фу, мужиковствующие, ещё смеют нам предсказывать, что
… с протянутой рукою К своим истокам собственным придём –нет, не придём! – знает Дементьев. Если уж хотите деревню воспевать, так воспевайте новую, «узнавшую большие перемены», покажите «духовный смысл и поэзию колхозного земледельческого труда и социалистического преобразования деревни» (поди потрудись там, красный профессор, когда в морлоков гнут, поди!).
Раз по тактике надо Европу защищать – так чем плохо «Молодой гвардии» магнитофонное завывание в городском дворе? или что в воронежской слободе «сатанеет джаз», а Кольцова не читают? Чем поп-музыка хуже русских песен? Советское благополучие «ведёт к обогащению культуры» (на доминошниках, на картёжниках, на пьяницах – на каждом шагу мы это видим!). Нас ли учить выворачивать? Уверяют в «Молодой гвардии», что Есенина – травили? убили? Есенина – любили! – безстыдно помнит Дементьев (не сам, конечно, он, комсомольским активистом, не парткомы, не месткомы, не газеты, не критики, не Бухарин – но… любили).
А главное: «свершилась великая революция!», «возник строй социализма», «моральный потенциал русского народа воплотился в большевиках», «уверенно смотреть вперёд!», «ветер века дует в наши паруса»…
И – до уныния так, устаёт рука выписывать. И обязательно цитаты из Горького, и обязательно из Маяковского, и всё читанное по тысяче раз… Угроза? Есть, конечно, но вот какая: «проникновение идеалистических» (тут же и с другого локтя, чтоб запутать:) «и вульгарно-материалистических», «ревизионистских» (и для баланса:) «догматических… извращений марксизма-ленинизма». Вот что нам угрожает! – не национальный дух в опасности, не природа наша, не душа, не нравственность, а марксизм-ленинизм в опасности, вот как считает наш передовой журнал!
И это газетное пойло, это холодное безсердечное убожество неужели предлагает нам не «Правда», а наш любимый «Новый мир», единственный светоч, – и притом как свою программу?
Так в нашей стране, в наше время нельзя ни об одной проблеме (а – тысяча их гнётся в исковерканьи) сказать незамутнённо, ясно, чисто. В обоих спорящих журналах мысли не только не прояснены, но – заляпаны коммунистической терминологией и слюной, – а тут подхватились самые поворотливые трупоеды – «Огонёк», и дали по «Новому миру» двухмиллионный залп – «письмо одиннадцати» писателей, которых и не знает никто. Да уже не в защиту «страны отцов» или там «духовного слова», а – последние следы спора утопляя в политическом визге, в самых пошлых доносных обвинениях: провокационная тактика наведения мостов! чехословацкая диверсия! космополитическая интеграция! капитулянтство!
Да ведь как аукнется. Ведь и Дементьев пишет: в опасности – марксизм-ленинизм, не что-нибудь другое. Волка на собак в помощь не зови.
Тут, дёрнувши верёвочкой, спроворились поместить, почему-то в «Соц. индустрии», письмо Твардовскому какого-то токаря: «хотелось бы всем нам шагать в ногу» (сталеварам и литераторам), «ответ хотим партийный, иного ответа рабочий класс – (а от его имени токарь Захаров) – не примет».
По-шла дискуссия по-советски! Типичная своей бездарностью оскорбительная подделка некритикуемой, неответственной прессы. Унизительная участь, слоновье терпенье быть главным редактором официального журнала и всерьёз выслушивать, как безграмотный дурак оценивает твою литературу, – и сколько лет жизни Твардовского прошло в том!.. В этот раз он нашёлся с остроумием: попросил «Соц. индустрию» прислать хотя бы фотокопию этой подделки и дать анкетные сведения о таинственном Захарове. Впрочем, Захаров оказался вполне реальный – тот токарь, который депутат Верховного Совета и член ЦК, и уж теперь-то предупреждал пророчески: «кто в рабочий класс не верит, тому и рабочий класс в доверии откажет». И фотокопию тоже приводила газетка, вот чудо, – но какую! Уверенная (и обоснованная) наглость советских газетчиков: что наш читатель не станет сверять газету за 10 дней, – и даже страничку малую, какую привели, не потрудились подделать под газетную статью!
Только первой страничкой показали нам свою подделку, дальше сам догадывайся.
И никому нигде не опровергнуть! – в этом наша непродажная пресса, независимая от денежного мешка.
(Давно мечтаю: какой-нибудь фотограф приготовил бы такой альбом: Диктатура Пролетариата. Никаких пояснений, никакого текста, только лица – двести-триста чванных, разъеденных, сонных и свирепых морд – как они в автомобили садятся, как на трибуны восходят, как за письменными столами возвышаются, – никаких пояснений, только: Диктатура Пролетариата!)
Каково жить Твардовскому? каково – всей редакции «Нового мира»? Если где в этой книге я проглаживаю их слишком жёстко – исправьте меня: на муки их, на скованность их, на беззащитность.
Я-то об этих атаках ничего не знал. Я – у себя на истьинской даче прочёл с большим опозданием статью Дементьева – и ахнул, и завыл, и рассердился на «Новый мир». Составил даже анализ на бумажке. 2 сентября пришёл в редакцию. Они все только и жили своей дискуссией (да уж веселей публичная схватка, чем как весной душили Твардовского в закрытом кабинете) и своим маленьким ответом «Огоньку», который, при месячной неповоротливости и цензурных задержках «Нового мира», всё-таки удалось прилепить в последний номер и выпустить в свет. Торжествовал Твардовский скромно:
– Ответ достойный!
(Да ничего особенного. Умеренное остроумие. Дементьевского шибающего духа, к счастью, нет.)
– Достойный. Но вообще, А. Т., статья Дементьева доставила мне боль. Не с той стороны вы их бьёте. Эта засохлая дементьевская догматичность…
Очень насторожился:
– Да я сам половину этой статьи написал. – (Не верю. У Твардовского есть эта несоветская черта: от ругаемого объекта не отшатываться, а любить больше прежнего.) – Ведь они – банда!
– Не отрицаю. Но вы – всё равно не с той стороны… Помните, вы в Рязани, когда роман читали: «идти на костёр – так было б из-за чего».
– Я зна-аю, – возбуждался он к спору и раскуривался, – вы ж – за церковки! за старину!.. – (Да не плохо бы и крестьянскому поэту тоже…) – То-то они вас не атакуют.
– Да меня не то что атаковать, меня и называть нельзя.
– Но вам я прощаю. А мы – отстаиваем ленинизм. В нашем положении это уже очень много. Чистый марксизм-ленинизм – очень опасное учение (?!), его не допускают. Хорошо, напишите нам статью, в чём вы не согласны.
Статья не статья, а предыдущие страницы уже у меня были, тезисно на листочке. Статьи, конечно, я писать не буду вместо Самсоновской катастрофы, но – можно ли говорить? После полувека подавленья всякого изъясняющего слова, отсеченья всякой думающей головы – такая всеобщая перепутанность, что даже и близким друг друга не понять. Вот им, друзьям, об этом открыто – можно ли?.. Да в «Новом мире» для меня такая уж добрая всегда обстановка, что часто духу не хватает развёртывать им неприятные речи.
– Александр Трифоныч, вы «Вехи» читали?
Три раза он меня переспросил! – слово-то короткое, да незнакомое.
– Нет.
– А Александр Григорьич читал когда-нибудь? Думаю, что не читал. А зачем безо всякой надобности лягнул два раза?
Нахмурился А. Т., вспоминая:
– О ней что-то Ленин писал…
– Да мало ли что Ленин писал… в разгаре борьбы, – добавляю поспешно, без этого – резко, без этого – раскол!..
Твардовский – не прежняя партийная уверенность. Новые поиски так и пробиваются морщинками по лицу:
– А где достать? Она запрещена?
– Не запрещена, но в библиотеках её зажимают. Да пусть ваши ребята вам достанут.
Тут перешли в другой кабинет, как раз к этим самым ребятам – Хитрову, Лакшину.
Твардовский, громогласно-добродушно, но и задето:
– Слушайте, он, оказывается, двенадцатый к «письму одиннадцати», просто не успел подписаться!
Когда смех перешёл, я:
– Александр Трифоныч, так нельзя: кто не с нами на 100 %, тот против нас?.. Владимир Яковлевич! Вы обязаны найти «Вехи» для А. Т. Да вы сами-то читали их?
– Нет.
– Так надо!
Лакшин, достаточно сдержанно, достаточно холодно:
– Мне – сейчас – это – не надо.
(Интересно, как он внутренне относится к статье Дементьева? Не могут же не оскорблять его вкуса эти затхлые заклинания. Но если нравятся Главному – не надо противоречить.)
– А зачем же вы их лягаете?
Так же раздельно, выразительно, баритонально:
– Я – не лягаю.
Ну да, не он, а – Дементьев!..
Я: – Великие книги – всегда надо.
И вдруг А. Т., посреди маленькой комнаты стоя, большой, малоподвижный, ещё руки раскинув, и с обаятельной улыбкой откровенности:
– Да вы освободите меня от марксизма-ленинизма, тогда другое дело. А пока – мы на нём стоим.
Вот это – вырвалось, чудным криком души! Вот это было уже – вектор развития Твардовского! Насколько же он ушёл за полтора года!
Была бы свободная страна, действительно – открыть другой журнал, начать с ними публичную дискуссию с другой стороны, доказать самому Твардовскому, что он – совсем не Дементьев. А в нашей стране иначе распорядилась серая лапа: накрыла и меня, накрыла и их.
Как уже давила, давила, давила всё растущее, пятьдесят лет.
* * *
После бурной весны 68-го года – что-то слишком оставили меня в покое, так долго не трогали, не нападали.
Получил французскую премию «за лучшую книгу года» (дубль: и за «Раковый», и за «Круг») – наши ни звука. Избран в американскую академию Arts and Letters – наши ни ухом. В другую американскую академию, Arts and Sciences (Бостон), и ответил им согласием, – наши и хвостом не ударили. На досуге и без помех я раскачивался, с весны 1969 скорость набирал на «Р-17» и даже в Историческом музее, в двух шагах от Кремля, работал, – дали официальное разрешение, и только приходили чекисты своими глазами меня обсмотреть, как я тут. И по стране поездил – никаких помех. Так долго тихо, что даже задыхаешься.
Не знаю, в КГБ ли придумали или сам по себе изобретательный авантюрист, – но пока я скрываюсь в затёмках, а по Москве громко проявился лже-Солженицын, и ведёт себя скандальнейше: устраивает размашистые кутежи в «Славянском базаре», пьяно кричит, что он – великий писатель, пристаёт к женщинам и заказывает себе встречи с красивенькими артистками. И что мне делать? Спасибо, Копелев помог его изобличить. А как дальше остановить? Куда написать? [11]
Летом 1969 получил я агентурные сведения (у меня сочувствующих – не меньше, чем у них платных агентов), что готовится моё исключение из СП, – но замялось как-то, команда странная была: «отложить заседание до конца октября», далёкий расчёт! Настолько рязанское отделение СП само ничего не знало – что за неделю до исключения выдавало мне справки на жизнь. Разрешительный ключ был: что в четвёртый четверг октября объявили Нобелевскую премию по литературе – и не мне! Одного этого и боялись. А теперь развязаны руки. Дёрнул Соболев (СП РСФСР) из Москвы, вызвал туда нашего Эрнста Сафонова, завертелось.
И ведь так сложилось – целый 69-й год меня в Рязани не было, а тут я как раз приехал: слякотный месяцок дома поработать, с помощью читальни, – над Лениным теперь. Как раз и портрет Ленина утвердили (навеки, на щите) – на улице, прямо перед моим окном. И хорошо пошло! так хорошо: в ночь на 4 ноября проснулся, а мысли сами текут, скорей записывай, утром их не поймаешь. С утра навалился работать – с наслаждением, и чувствую: получается!! Наконец-то! – ведь 33 года замыслу, треть столетия, – и вот лишь когда…
Но Персонаж мой драться умеет, никогда не дремал. В 11 часов – звонок, прибежала секретарша из СП, очень поспешная, глаза как-то прячет и суетливо суёт мне отпечатанную бумажку, что сегодня в 3 часа дня совещание об идейном воспитании писателей. Ушла, можно б ещё три с половиной часа работать, но: что так внезапно? Да ещё идейное воспитание. Нет, думаю, тут что-то связанное со мной. И пытаюсь дальше сладко работать – нет, раскручивается, внутри что-то раскручивается, чувствую опасность. Бросил роман, беру свою старую папку, называется «Я и ССП», там всякие бумажёнки – по борьбе, по взаимным упрёкам, и доносы мне разных читателей: где, кто, что про меня сказал с трибуны. Всё это в хаосе, думаю – надо подготовиться. И срочно: ножницы, клей, монтирую на всякий случай, есть и заготовки позапрошлого года к бою на секретариате, не использовано тогда, – и это теперь переклеиваю, переписываю.
Особенно приготовил я про это идейное воспитание им вызвездить, так (немножко из Дидро): «Что значит – человек берётся быть писателем? Значит, он дерзко заявил, что берётся, так сказать, за идейное воспитание других людей и делает это книгами. А что значит – идейно воспитывать писателей? Двойная дерзость! Так не ставьте вопрос, не устраивайте заседаний, а напишите книгу, – мы прослезимся, нас просветит: ах вот как надо писать, а мы-то, дураки, в темноте бродим!..» – Приготовил, да в поспехе забыл, очень во времени жали.
Пришёл я в СП раньше назначенного, за 5–7 минут, чтоб не на коленях досталось писать, если писать, а захватить бы место у единственного там круглого столика, на нём бы разложиться со всеми цветными ручками. (Я – давно исключения ждал и собирался диктофон нести на заседание, и принёс бы! – да ведь не исключение, просто «идейное воспитание».) Но и с ручками я, кажется, зря спешил: до собрания всегда за час околачиваются рязанские писатели, дома-то делать нечего, – а тут, гля, пустая комната, и только сидит на подоконнике Василий Матушкин – благообразный такой, круглолицый, доброе русское лицо, уже пенсионер, он-то в дни хрущёвского бума сам и нашёл меня, сам таскал мне заполнять анкеты в СП, так радовался «Ивану Денисовичу», говорил, что это ему – важный языковой урок. Я ему руку жму:
– Здравствуйте, Василь Семёныч! Не будет, что ли?
Отвечает важно, с подоконника не слезая:
– Почему? Будет.
– Да когда ж соберутся?
– Соберу-утся.
Понурый какой-то, и глаза отводит. Вдвоём мы с ним, никого больше, ну что б ему стоило шепнуть, сказать? – нет, сукин сын, молчит. Я с ним – вежливый разговор: вы, говорят, пьесу новую написали, и опять областной театр ставит… Стол мне как будто не пригодится, но на всякий случай занял.
А – никто не идёт. До последней минуты! И вдруг – сразу все, и даже больше чем все, с большой скоростью входят, – и не замечаю я, что все уже раздеты, пальто и шапок ни на ком, а обычно только тут снимают[38]. Один за другим идут, и хоть можно бы стол мой миновать, но все писатели сворачивают и жмут мне руку – и Родин (лица на нём нет, сильно болен, больше 38°, я расспрашиваю, ахаю, зачем же вы приехали?), и Баранов, лиса такая (недавно: «можно ли в Ростов от вас привет передать? мне там завидуют, что я с вами встречаюсь»), и Левченко – душа открытая, парень-простак, хоть и серый, и Женя Маркин – молодой, слишком левый и слишком передовой для Рязани поэт. Да вот и Таурин, представитель секретариата РСФСР, почтительно мне представляется, почтительно жмёт руку. Нет, никакого исключения не будет. Да вот же и ещё идёт какой-то сияющий, радостный, разъеденный гад, – и этот ко мне, и этот прямо радостно руку мне трясёт, у него – особенный праздник сегодня! Жму и я. А кто такой – не знаю. Остальные не здороваются. Расселись, ба, – 12 человек, а членов СП – только 6, остальные – посторонние.
Разложился я, но писать, видно, не придётся. А один уж что-то строчит, на коленях, – да не гебист ли в штатском? Таурин докладывает, скучно, вяло: вот Анатолий Кузнецов бежал, такой позорный случай, СП РСФСР имеет решение, в тульской организации проработали, все глубоко возмущены (безо всякого выражения), решили на всех организациях проработать. Ну, конечно, усилят меры по контролю за писателями, выезжающими за границу, и воспитательные меры…
(Давно уж я, кажется, вырос из рабских недомерков, уже не сжимается сердце, что выдернут: «Теперь своё отношение пусть выскажет т. Солженицын…», – уж распрямился, уж за язык меня не потянешь. А впрочем, глупое положение: ведь предложат голосовать за суровое осуждение Кузнецова? А что надо – одобрять?)
…А вот в московской организации на высоком, на хорошем уровне прошло собрание. Были высказаны деловые обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы…
(Не избежать – за них придётся заступаться. Но мельком ещё рабская мысль: а может, здесь промолчать? ведь не Москва, Рязань, здесь кому какое… И если б не близкие друзья, если бы просто либеральные писатели – пожалуй бы, и пригнулся, пронеси спокойней. Но про этих твердо решил: скажу! вот повод и «за резолюцию в целом» не голосовать.)
Мягко этак Таурин стелет, печально, и как о незначащем:
– Ну… кое-что говорили и о вашем члене, о товарище Солженицыне.
Всё. Доклад кончен. «Кое-что». Очевидно – несерьёзное.
Кто возьмёт слово? Матушкин. Слезает с подоконника старик, жмётся. Дают ему 10 минут регламента. Я (предвидя, что и мне понадобится): – «Давайте больше, чего там!» Все (предвидя, что и мне понадобится): Нет, десять, десять!
Походя, с медленным разворотом, начинает Матушкин нападать на меня. (Текст известен.) Я строчу, строчу, а сам удивляюсь: как же они решились? почти уверен я был, что не решатся, и обнаглел в своей безнаказанности. Да нет, ясно вижу: им же это невыгодно, на свою они голову, зачем? Отняла им злоба ум.
Один за другим, без задержки, выступают братья-писатели: и обходительный Баранов, и простак Левченко, и чистая душа Родин, и тревожный лохматый Маркин. Маркин так явно колеблется даже в своём выступлении: «Не хочу я участвовать в этом маятнике, – сейчас мы А. И. исключаем, потом принимать, потом опять исключать, опять принимать…», – и голосует за исключение. (Его б совсем немного поддержать, раньше мне выступить бы, что ли, – да вот как сошлось: добивался он два года комнаты – и завтра обещают ему ордер выписать. И Левченко сколько лет без квартиры. И Родин который год просится в Рязань – тоже не дают. И опыт начальства показывает: так – держится крепче.)
Я: – Разрешите вопрос задать.
Не дают: нет! нельзя.
Я: – Стенографистки нет. Протокола не будет?
Ничего, им не надо!
Что-то разговорился этот брюхатый, победительный, как Наполеон, я ему:
– Простите, кто вы такой, что здесь, на собрании писателей…
Он даже хохочет от изумления:
– Как – кто? Ха-ха! Не знаете? Представитель обкома!
– Ну и что ж, что представитель? А – кто именно?
– Секретарь обкома!
– Какой именно секретарь? – не унимаюсь я.
Это даже омрачает ему радость выигранного сражения: что за победа, если противник тебя и не узнаёт?
– По агитации.
– Позвольте, ваша фамилия как?
– Хм! Фамилии моей не знаете? – Явно оскорблён, даже унижен: – Кожевников!!
Ну-у-у! – действительно смешно, засмеялся б и я, да времени нет. По советским меркам это дико даже: он – отец родной всем рязанским деятелям идеологии, он – безсменно в Рязани, я – уже семь лет рязанский писатель, и спрашиваю, кто он такой!.. Обидишься…
– Да, – назидает, – мы с вами никогда не виделись.
– Нет, виделись, – говорю, – просто у меня слабая зрительная память. – (Каких только шуток она со мной не играла.) – Мы виделись, когда я из Кремля приехал, рассказывал тут о встрече с Хрущёвым, вы приходили послушать меня.
Как я прославился – он вызывал меня из школы по телефону, я ответил: устал, не могу. На мою славу прихрущёвскую он послушно притопал, сел в уголке. Потом сколько было наставлений писателям – а меня всегда нет. (Правильно делают, что меня исключают: какой я, в самом деле, советский писатель, подручный партии?) А год назад позвонил мне домой: – «Как вы относитесь, что “Советская Россия” вас нехорошо упоминает?» – «А я её не читал». – «Как? Статья “О чём шумит югославская пресса”, о вас!» – «Да я вообще “Советской России” не читаю». – «Как так?» – «Да так». – Изумился: «Слушайте, я по телефону вам прочту». – «Да нет, я так не умею». – «Приходите побеседовать». – «На тайное собеседование, в кабинет? не пойду! Собирайте всех писателей, гласно побеседуем». – «Нет, митинга мы не будем устраивать».
Ну вот дождался, вот у праздничка, оттого и сиянье такое.
Исключенье – решено, но как мне успеть всё записать? Вот и мне слово дают, а у меня и речь не готова, кое-как склеена, ни разу не прочтена. Только разошёлся, кричат:
– Десять минут! Конец!!
– Что значит – десять? Вопрос жизни! Сколько надо – столько и дайте.
Матушкин, елейно-старчески: – Три минуты ему дать.
Вырвал ещё десять. Пулемётной скоростью гнал: ведь только то, что успею сказать, только то и можно будет завтра по свету пустить, а что за щекой останется, какое б разящее ни было, – не пойдёт, не сразит. Ничего, за 20 минут наговорил много. Вижу – Маркин просто счастлив, слушает, как я их долблю, да и Родину через болезнь, через температуру нравится: им самим приятно, что хоть кто-то сопротивляется.
А проголосовали – покорно.
И я, с удовольствием, – против всей резолюции в целом (про меня – только пунктик там).
Разошлись весёлые, кулуары, разговоры. Собрал я карандаши, рванулся – Таурин меня ловит, да обходительно, да сочувственно:
– Я вам очень советую, вы езжайте сейчас же в секретариат, именно завтра будет полный секретариат, это в ваших интересах!
Я: – Нигде в уставе не написано, чтобы в 24 часа исключать, можно и с разрядочкой.
(Про себя: мне б только слух успеть пустить, мне б «Изложение» скорей пустить, а тогда посмотрим, как вы будете заседать. Уверен я всё-таки был, что без меня нельзя исключать, – а можно! всё у нас можно!)
– Слушайте, – цепляется Таурин за рукав, – никто исключать вас не хочет! Вы только напишите вот эту бумажечку, единственное, что от вас требуют, вот эту бумажечку, что вы возмущены, что на Западе там…
Может быть, и правда, они рассчитывали? подарок к октябрьской годовщине?.. А без этого ведь совсем никакого смысла не было в исключении, только месть одна. Пока они меня не исключали, положение, казалось, в их пользу: стоит шеститысячная глыба, из сожаления не давит меня, а захочет – раздавит. А вот как исключат, да я цел, – тогда что?
Ещё в коридоре ловил меня Женя Маркин, громко просил прощения (это – по хорошему Достоевскому, ещё несколько раз он будет каяться, плакаться, на колени становиться, и опять отрекаться, ему и правда тяжко, он душой и правда за меня, да грешное тело не пускает)[39]. Я – скорей, скорей, и на телефонную переговорную. В Рязани я – в капкане, в Рязани меня додушить нетрудно, надо, чтобы вырвалась, вырвалась весть по Москве – и в этом только спасение. У нас в Рязани завели единственный междугородний автомат, и если он сейчас не испорчен… Нет… и очереди нет… Набираю номер Али. Никого. Набираю другой. Не подходят. Куда же звонить? В «Новый мир»! – ещё нет пяти вечера, ещё не разошлись. Так и сделал: через Асю Берзер. (Потом возникнет рабское истолкование: «За то и разогнали “Новый мир”».)
Тогда, уже спокойный, воротился домой, сел записывать подробно «Изложение». В 6 утра проснулся, включил по обычаю «Голос Америки», безо всякой задней мысли, и как укололо:
«По частным сведениям из Москвы, вчера в Рязани, в своём родном городе, исключён из писательской организации Александр Солженицын»!
Я – подскочил! Ну, век информации! Чтобы так моментально – нет, не ожидал!!
Четыре раза в кратких известиях передали, четыре раза в подробных. Хор-рошо! Вышел в сквер заряжаться, когда нет ещё никого на улице, смотрю: заметенный снегом стоит грузовик с кузовной надстройкой, уже на другой слежке мною однажды замеченный, а в тёмной кабине сидят двое. Прошёл мимо их кабины близко, оглядел; они без радио, не знают, что уже упустили.
Однако и тревожно: не схватят ли меня? Чуть отъедешь от Москвы – глухой колодец, а не страна, загородить единственный продух ничего не стоит.
С предосторожностями отправил из дому один экземпляр «Изложения», спасти [12].
Рассвело, раздёрнул занавеси – и с уличного щита мой затаённый Персонаж бойко, бодро глянул на меня из-под кепочки. Да не писалось мне больше о нём, и в том была главная боль – от таких оторвали страниц! (С тех пор полтора года прошло – а всё не вернусь. Персонаж мой за себя постоять сумел.)
В рязанском обкоме переполошились! оказывается: «Би-би-си уже передаёт, что Солженицына исключили! Ясно, что у них в Рязани есть агентура, следят за нашей идеологической жизнью и моментально передают в Лондон!» И догадались: посадить того же бездомного Левченко к телефону и на все звонки из Москвы отвечать, что он – посторонний, ничего не знает, никого не исключали. Западные корреспонденты действительно звонили, наскочили, поверили – и начались по западному радио опровержения. А в этот же самый день 5 ноября секретариат РСФСР в Москве меня таки исключил, управился и без меня!
Я этого сам ещё два дня не знал и, кроме «Изложения», ничего больше не собирался писать и распространять. Лишь когда узнал – заходил во мне гнев, и сами высекались такие злые строки, каких я ещё не швырял Союзу советских писателей, – это само так получалось, это не было ни моим замыслом, ни моим манёвром. (Замысел был лишь спопутный: защитить угрожаемых Лидию Чуковскую и Копелева. Они хорошо воткались в текст – и, кажется, защита удалась: замялась с ними чёртова сотня.)
«Изложение» я отправил в Москву вперёд себя, а сам в Рязани ещё пытался работать над Лениным, но уже утерян был покой и вкус, а строки грозного письма шагали по-солдатски через голову, выколачивались из груди к бою. Кончились ноябрьские праздники, посвободнели поезда – и я поехал в Москву. Ещё не думал, что это – навсегда. Что жить мне в Рязани уже не судьба, исключеньем закрыли, забили мне крест-накрест Рязань. (А как ещё приезжал туда по беде, подходил к столу – а через окно-то, с уличного щита, всё так же щурился на меня в кепочке Ленин; так и проторчал он, год и другой, во все непогоды, перед моим покинутым окном, – есть незавидность в избыточной славе. Я опять уехал, он опять остался.)
А уж в Москве-то меня Трифоныч дождаться не мог! (Мы ещё тем были сближены нежно, что в октябре он прочёл двенадцать пробных глав Самсоновской катастрофы и остался ими сверхдоволен, очень хвалил и уже редакторски предсмаковал, как я кончу – и всё будет проходимое, патриотическое, и уж тут нас никто не остановит, и напечатается Солженицын в «Новом мире», и заживём мы славно! Ведь не говорил же я ему, какие ещё будут в «Августе» шипы, ленинская глава. Никак не мог он принять и поверить, что открытый им, любимый им автор – непроходим навеки…) Накануне Твардовский настаивал, чтобы я скорей приехал: ему надо говорить со мной больше даже о себе, чем обо мне. (Опять эта разбереженность, как и после чтения «Круга»!..)
11 ноября я пришёл в редакцию прямо с поезда. Вся редколлегия сидела в кабинете А. Т., перед кем-то лежало моё «Изложение», они только что вслух его прочли и обсудили. Все, как по команде, поднялись и оставили нас вдвоём (это уж так повелось, никогда не ждали, чтоб А. Т. сказал: «мы наедине хотим поговорить»). Заказал А. Т. чай с печеньем и сушками – высшая форма новомирского гостеприимства.
Предполагая Трифоныча на низшем гражданском градусе, чем он был, я стал объяснять ему, почему не мог успеть на секретариат, что они даже и вызова мне не послали, а косвенное телефонное извещение, и то поздно. Но, оказывается, в этом А. Т. не надо было убеждать: он и для себя считал презренным там быть, не пошёл. (Слухи-слухи! слух по Москве: он был и яростно меня защищал.)
Он вот что, он с тревогою (и не первый раз!) – о западных деньгах: неужели правда, что я получаю деньги за западные издания романов?
Заклятая советская анафема: кто думает не так, обязательно продался за вражеские деньги; если советских не платят – умри патриотически, но западных не получай!
Я: – Не только за романы, пришло за «Денисовича» от норвежцев – и то пока не беру. Просто, сволота из СП не может представить, что доступно человеку прожить и скромно.
Сияет А. Т. Хвалит «Изложение». Но опять же: как могло получиться, что уже вчера «читатели-почитатели» ему приносили это самое «Изложение»?
– А я – пустил.
Он отчасти напуган: как же можно? ведь разъярятся! (то есть наверху).
А у меня в портфеле уже томится, своего часа ждёт, готовое «Открытое письмо» секретариату. И ведь вот же: распахнут, расположен А. Т., однонастроены мы! – а показать ему боюсь, по старой памяти об его удерживаниях и запретах. Всё-таки подготовляю:
– Александр Трифоныч! Вы меня любите, и хотите мне добра, но в советах своих исходите из опыта другой эпохи. Например, если бы я в своё время пришёл к вам советоваться: посылать ли письмо съезду? распускать ли «Раковый корпус» и «Круг»? – вы бы усиленно меня отговаривали. – (Мягко сказано… стекло настольное об меня бы разбил.) – А ведь я был прав!
Старое-то приемлется. Но о новом – не смею. Просто:
– Поймите. Так надо! Лагерный опыт: чем резче со стукачами, тем безопаснее. Не надо создавать видимости согласия. Если промолчу – они меня через несколько месяцев тихо проглотят – по «непрописке», по «тунеядству», по ничтожному поводу. А если нагреметь – их позиция слабеет.
Он: – Но на что вы надеетесь? Все эти «читатели-почитатели» только играют в поддержку. Лицемерно вздыхают о вашем исключении и тут же переходят на другие темы. Я верю, что вы не позу занимаете, когда говорите, что готовы к смерти. Но ведь – безполезно, ничего не сдвинете.
Если память не изменяет – не первый раз мы уже на этом брёвнышке противовесим. Только сегодня – без горячности, с грустным благожелательством. Да больше: такой сердечности, как сегодня, не бывало у нас сроду. Нет, сердечность бывала, а вот равенства такого не бывало. Впервые за 8 лет нашего знакомства действительно как с равным, действительно как с другом.
Я: – Если так – пусть так, значит жертва будет пока напрасна. Но в дальнем будущем она всё равно сработает. Впрочем, думаю, что найдёт поддержку и сейчас.
(Да, я так думал. Меня избаловала поддержка ста писателями моего съездовского письма. С обычным для меня перевесом оптимизма я и сейчас ожидал массового писательского движения, борьбы, может быть выхода из СП. А его – не получилось. Не было никакого настоящего гнёта, не было арестов, не было громов, – но усталые люди потеряли всякий порыв сопротивляться. С разной степенью громкости и резкости написали протесты 17 членов СП, да восьмеро – Можаев, Максимов, Тендряков, Искандер, Окуджава, С. Антонов, Войнович, Ваншенкин – сходили Воронкова пугать, потом их по одному тягали в ЦК на расправу.)
А. Т.: – Сейчас идёт отлив, обнажаются коряги, водоросли, безобразная картина.
Я: – Где вода была – там и будет.
А – разговор о нём, о Трифоныче? Наконец и он. Для меня потеря СП – формальность, даже облегчающая, на Твардовского находит трагедия большая, ибо – души касается: подходит неизбежное время покидать ему своё детище, «Новый мир». И в моём исключении он видит последний к тому толчок. А предпоследний: звонил инструктор ЦК, хочет приехать «подрабатывать» состав редакции (почему? никто его не звал; видимо – Лакшина, Хитрова, Кондратовича выталкивать).
Как вдумчивые верующие люди всю жизнь, и в высший час её, размышляют о своей грядущей, неизбежной смерти, так сколько раз уже, сколько раз А. Т. заговаривал со мной о своей отставке – ещё когда мне только не дали ленинской премии, ещё когда мы все казались на гребне хрущёвской волны. И всякий же раз, и сегодня особенно энергично (обойдя со стулом его большой председательский стол и к его креслу туда, рядом) убеждал я его: «Новый мир» сохраняет культурную традицию, «Новый мир» – единственный честный свидетель современности, в каждом номере две-три очень хороших статьи, ну пусть одна – и то уже всё искуплено, например вот лихачёвская «Будущее литературы», – А. Т. сразу повеселел, встряхнулся, с удовольствием поговорили о лихачёвской статье. А от чего приходится отказываться! – например, есть воспоминания участника сибирского крестьянского восстания 1921 года. («А дадите почитать?» – «Дам». – Вот тут мы – не разлей, как и начинали с «Денисовича».)
– Но, – твердил А. Т., – я не могу унизиться править Рекемчука. Я стоял сколько мог, а теперь я шатаюсь, я надломлен, сбит с копыльев.
Я: – Пока стоите – ещё не сбиты! Зачем вы хотите поднести им торт – добровольно уйти? Пусть эту грязную работу возьмут на себя.
Договорились: если не тронут Лакшина-Хитрова-Кондратовича – он стоит, если снимут их – уходит.
Прощался я от наперсного разговора – а за голенищем-то нож, письмо секретариату, и показать никак нельзя, сразу всё порушится. Бодро:
– Александр Трифоныч, в общем, если вынудят меня на какие-нибудь резкие шаги – вы не принимайте к сердцу. Вы отвечайте им, что за меня головы не ставили, я вам не сын родной!
Ещё и к Лакшину зашёл, для амортизации:
– Владимир Яковлевич! Прошу вас: сколько сможете, смягчите А. Т., если…
Неуклонным взглядом через молодые очки смотрит Лакшин. Кивает.
Нет, не сделает. У него – своя проблема, своё уязвимей. Неужели же в такую минуту наперекор становиться разгневанному А. Т.? Направленье моё – не его, я ему не союзник.
На другой день – удар! секретариат с недельным опозданием (перевалить ноябрьскую годовщину) объявил своё решение обо мне.
И я без колебаний – удар! Только дату и осталось вписать. Рас-пус-каю!!! [13]
Борис Можаев (прекрасно вёл себя в эти дни, как и во все тяжёлые дни «Нового мира»), со всем своим внутренним свободным размахом ушкуйника, за годы привык искать и гибкие выходы, держит меня за грудки, не пускает: нельзя посылать такое письмо! зачем рубить канаты? не лучше ли формально обжаловать решение секретариата РСФСР в секретариат СССР, пойти туда на разбирательство?
– Нет, Боря, сейчас меня и паровозом не удержишь!
Смеётся:
– Ты как задорный шляхтич, лишь бы поссориться.
А по-моему, вот это и есть самое русское состояние: размахнуться – и трахнуть! В такую минуту только и чувствуешь себя достойным сыном этой страны. Разве я смелый? – я и есть предельный боязливец: «Архипелаг» имею – молчу, о современных лагерях сколько знаю – молчу, Чехословакию – промолчал, уж за это одно должен сейчас себя выволочить. Да правильно сказала Лидия Корнеевна о политических протестах:
– Без этого не могу главного писать. Пока этой стрелы из себя не вытащу – не могу ни о чём другом!
Так и я. При всеобщей робости и не хлопнуть выходною дверью – да что я буду за человек! (Кому надо оправдаться, такой встречный слух распустят: он сам своей резкостью помешал за себя заступиться, мы только-только собирались, а он хлопнул и всё испортил. Если уж «классовую борьбу» обсмеял – действительно не подступишься. Да ведь всё отговорка, – кто хотел, тот раньше успел.)
А послал – и как сразу спокойно на душе. Хотя в тот день гнали за мной по московским улицам двое нюхунов-топтунов – мне казалось: за город, в благословенный приют, предложенный мне Ростроповичем (в самом сердце спецзоны, где рядом – дачи всех вождей!), за мной не ехали. Здесь (хоть уже и «газовщики» и «электрики» приходили какие-то) мнится мне: я скрылся ото всех, никому не ведом, не показываюсь, по телефону не звоню. Пусть там бушует моё письмо, а здесь так исцелительно, тихо, – и так ясно работает радиоприёмник, лови своё отражённое письмо и ещё устаивайся на сделанном. Да и работать же начинай.
Не помню, кто мне в жизни сделал больший подарок, чем Ростропович этим приютом. Ещё в прошлом, 68-м, году он меня звал, да я как-то боялся стеснить. А в этом – нельзя было переехать и устроиться уместней и своевременней. Что б я делал сейчас в рязанском капкане? где бы скитался в спёртом грохоте Москвы? Надолго бы ещё хватило моей твёрдости? А здесь, в несравнимой тишине спецзоны (у них ни репродукторы не орут, ни трактора не рычат), под чистыми деревьями и чистыми звёздами, – легко быть непреклонным, легко быть спокойным.
Не первый раз стучится Ростропович в переплёт этих очерков. Но – невозможно: уже не держит книга, и без того взбухла, а в Ростроповиче жизни и красок на десятерых, жаль описывать его побочно.
В ту осень он охранял меня так, чтоб я не знал, что земля разверзается, что градовая туча ползёт. Уже был приказ посылать наряд милиции – меня выселять, а я не знал ничего, спокойно погуливал по аллейкам.
Иногда безпечная близорукость – спасение для сердца. Иногда борони нас, Боже, от слишком чуткого предвидения.
Впрочем, на случай прихода милиции у меня была отличная защита придумана, такая ракета, что даже жалко – запустить не пришлось.
А тут ещё такой неожиданный оборот тревоги: всё-таки на Западе писатели изрядно протестуют против моего исключения. Национальный комитет писателей Франции (и среди них много советских любимчиков – и Арагон, и Триоле, и Сартр, и Пикассо) публикует протест в коммунистическом «Летр Франсэз» – мол, опомнитесь, дорогие товарищи, ведь огромная ошибка, повторение, как с Пастернаком, а вот Николай II не репрессировал Чехова за «Сахалин». Затем и международный ПЕН-клуб публикует в «Таймс» письмо Федину: мы потрясены, призываем восстановить Солженицына. И ещё одно письмо в «Таймс» от густого сбора западных писателей: международный скандал! новая охота за ведьмами! писатель такого масштаба… Прекратите гонения, иначе призовём к международному бойкоту СССР! И ещё в «Монд» от Союза писателей Франции, видимо ещё другого, – протест против попыток напечатать «Пир победителей» на Западе (опаснейшая затея наших! – но вот проваливалась).
И я вот чего напугался: а что если наши сейчас так сдрейфят, что в секретариате СП СССР пересмотрят решение секретариата РСФСР и восстановят меня, – и что ж: я молча, покорно вернусь как блудный сын? Стал составлять проект нового письма:
«Внезапное постановление бюро ССП СССР отнюдь не является решением вопроса. Оно не снимает ответственности с “Литературной газеты” за клевету на меня в анонимной статье 26.6.68. Оно не даёт оценку тому отрепетированному спектаклю, каким было моё исключение из рязанской организации, и пожарным действиям бюро РСФСР в моё отсутствие, а говоря общее: оно обходит вопросы, поднятые в моём письме Четвёртому съезду писателей, и само то письмо. Оно обходит глубокие недостатки устава ССП, где среди задач Союза не поставлено ничего, кроме построения коммунизма и дружбы между народами. Там нет: задач нравственного обновления нашего общества, не упомянуты писательские задачи перед отдельным человеком. И ещё общее: возможно ли такие задачи внести в устав какого бы то ни было союза? Соответствует ли существующий Союз задачам нестеснённой литературы – с его громоздким аппаратом, где писателями управляют почему-то чиновники, иногда специфического ведомства, где происходят неслыханные административные злоупотребления, подтасовка голосов и состава съездов. И орган Союза “Литературная газета” – совсем не литературная, но с оттенком политической бульварности. Положение литератора могло бы безо всякого союза вполне обезпечиваться членством в Литературном фонде…»
Доработать не пришлось – не понадобилось.
Хранил я надежду, что раз я «не Западу жаловался» и раз А. Т. «на одном поле не сел бы…» с тем секретариатом, – вдруг и это последнее моё письмо встретит он благоприятно? Вот открывалась бы подлинная дорога к пониманию.
Но слишком многого захотел я от Твардовского! Он и так уже в своей перестройке, развитии, приятии и понимании отдался крайнему взлёту качелей, – а моё письмо, такое грубое по отношению к священной классовой борьбе, и с объявленьем «тяжёлой болезни» самого передового в мире общества, – рывком реальной тяжести поволокло, поволокло его вниз и назад.
Было буйство в редакции, стулья ломал, кричал: «Предатель!» «Погуби-и-ил!!!» (то есть «Новый мир» погубил…). Конечно – «Вызвать!!», конечно – меня нет и «никто не знает». Схватился звонить Веронике Туркиной, набросал кучу оскорблений заодно и ей, она тихо слушала и только осмелилась:
– А. Т.! Но что пишет А. И. – ведь это всё правда.
– Не-е-ет! – заревел он в телефон. – Это – антисоветская листовка! это – ложь! И я доложу куда следует!!
Не он выкрикивал те несчастные слова, а наша низменная природа 30-х годов, угнетённо-приученный советский язык, верноподданный сын, который «не отвечает за отца». Я распространил открытое письмо, а он, бедняга, – доложит куда следует.
Потянуло Веронику на беду пойти в редакцию, мутно-угодливый Сац, сподвижник Луначарского, увидел её и побежал донести А. Т. предположительно, что она пришла «распространять письмо Солженицына» по редакции, – в их лбы не помещалось, что «первый этаж» журнала вообще читает самиздатское прежде «второго этажа». И Твардовский стал вымещать свой гнев на Веронике: «Кто её сюда пускает? Кто даёт ей писать рецензии?» (внутренние, она подрабатывала у них). «Не давать!»
И какие-то произошли у него переговоры с СП, где Твардовского тщетно вынуждали отречься от меня, и какие-то с Демичевым (а тот – пугал, надеясь, видимо, через А. Т. остановить меня от распространения). Вчера готовый покинуть «Новый мир», – нет, Твардовский не был ещё готов, он ещё топырился по-курячьи в надежде отстоять своё детище от коршунов. Косвенный телефонный звонок нашёл меня на даче Ростроповича: А. Т. в очень тяжёлом состоянии! требует меня! готов ждать до ночи!
А разве я – облегчу? Если приеду и ещё раз поругаемся – кому станет легче? Всё равно письмо уже пошло. И не откажусь я от него. И я не санитарная команда. Я – прячусь от ГБ. Не хочу мельтешить по Москве и хвосты всюду приводить.
Не поехал.
Через несколько дней после спада его гнева послал ему смягчительное письмо: «…Сейчас эпоха другая – не та, в которую Вы имели несчастье прожить большую часть Вашей литературной жизни, и навыки нужны другие. Мои навыки – каторжанские, лагерные. Без рисовки скажу, что русской литературе я принадлежу не больше, чем русской каторге, я воспитался там, и это навсегда. И когда я решаю важный жизненный шаг, я прислушиваюсь прежде всего к голосам моих товарищей по каторге, иных уже умерших, от болезни или пули, и верно слышу, как они поступили бы на моём месте.
…Этим письмом я: 1) показал, что буду сопротивляться до последнего, что мои слова «жизнь отдам» – не шутка; что и на всякий последующий удар отвечу ударом, и может быть посильнее. Итак, если умны, то остерегутся, трогать ли меня дальше. В такой позиции я могу обороняться независимо от позиции «литературной общественности»; 2) использовал неповторимый однодневный момент: я уже свободен от устава СП и их терминологии и ещё имею право к ним обратиться; а секретариат – очень удобный адресат; 3) всю жизнь свою я ощущаю как постепенный подъём с колен, постепенный переход от вынужденной немоты к свободному голосу. Так вот письмо съезду, а теперь это письмо были такими моментами высокого наслаждения, освобождения души…»
А Твардовский и сам постепенно смягчался. Только день-два ошеломления он испытал от моей выходки – а дальше трезво оценил и правоту мою, и – радостное облегчение, что теперь-то им не надо за меня заступаться. Жёсткий мах качелей кинул его назад, отпускал же и снова вперёд. Говорил, вздыхая: «Да, он имел право так написать: ведь он в лагере был, когда мы сидели в редакциях». И… перечитывал «Ивана Денисовича». (Уже верный год он писал мемуары, и в них обо мне. А я – о нём. Такие вот прятки.)
Три месяца мы не встречались, тоже была детская игра. На редакцию приходила мне часть поздравительных писем ко дню рождения, потом к Новому году. Он не велел их пересылать, и когда я попросил Люшу Чуковскую забрать у него те письма – не дал: «Не обязательно ко мне лично, но должен сам прийти за письмами». Почему – сам? Да потому что помириться хотелось. О, трудно ему!.. (А я поздравлял с Новым годом его и редакцию так: писал под Москвой, везли в Рязань, а там – в почтовый ящик. Де, может, я всё-таки в Рязани, оттого не являюсь.)
Игра-то игра, но меня настигли новые тревоги: не давая взнику, налетела опасность, пожалуй, страшней предыдущих всех: необъяснимым путём вырвался в «Цайт» 5 декабря отрывок из «Прусских ночей» и обещалась вскоре вся поэма! Это удалось остановить, потому что с осени, спасибо, я обзавёлся адвокатом на Западе. (Да ведь и адвоката надо бы Твардовскому объяснять: почему взял, не посоветовался? почему – буржуазный? Так не делают!) Тут слух прошёл, что и в Москве поэму уже читают. Я кинулся глушить[40].
* * *
За этими тревогами и за своим углубленьем в «Р-17» я проглядел, не заметил издали, как собиралась гроза над Твардовским и «Новым миром». Верно чувствовал А. Т.: душенье не было эпизодом, оно было рассчитанной кампанией.
В «Посеве», родственнике «Граней», появилась (хотя совсем по Самиздату не ходила) злосчастная, недописанная, ни властями, ни публикою не принятая, поздняя гордость и горечь автора – его поэма «По праву памяти». Потрясён, обезкуражен, удручён был А. Т., – вот уж не хотел! вот уж не ведал! вот уж не посылал! да даже и не распускал!
В январе 1970 стали его дёргать наверх, требовать объяснений, негодований и отречений, как полагается от честного советского писателя, – да он и не против был, но одного отречения уже мало было властям, просто так отречения они уже и помещать не хотели, им надо было разгромить ненавистный журнал. Сколько лет и месяцев текла у них слюна на эту жертву! Сколько месяцев и недель обормоты и дармоеды из агитпропа ЦК потратили на составление планов, на манёвры, атаки и обходы! – засушенные мозги их не замечали, что уже рушилась вся их эпоха целиком, все пятьдесят этажей междуэтажных перекрытий, – они жадали вот эту одну лестничную площадку захватить. Разливался по стране свободный Самиздат, уходили на Запад, печатались там русские романы, возвращались на родину радиопередачами, – этим плеснякам казалось: вот эту одну супротивную площадку захватить – и воцарится, как при Сталине, излюбленное хоровое единомыслие, не останется последнего голоса, кто б мог высмеивать их.
Твардовскому, теперь ослабленному своей виною – что поэма-то стала оружием врага! – опять, как весной минувшего года, стали предлагать сменить редколлегию – одного члена, двух, трёх, четырёх! Чтоб усилить нажим – на каком-то из безсчётных писательских пленумов выступил некий Овчаренко – лягавый хваткий волк (только фамилия пастушья), и назвал Твардовского кулацким поэтом. А Воронков каждый день, как на службу, вызывал к себе этого поэта на собеседование, – и подавленный, покорный, виноватый Твардовский ехал на вызов. И этого самого Овчаренко ему предложили взять в редакцию!.. (Выверт 30-х годов!)
Тут, перед концом, особенно больно проявилось, что либеральный журнал[41] был внутри себя построен так же чиновно, как и вся система, извергавшая его: живя извечно в номенклатурном мире, нуждался и Твардовский внутри своего учреждения отделить доверенную номенклатуру (редакционную коллегию) от прочей массы. А «масса»-то была в «Новом мире» совсем не обычная: здесь не было просто платных безразличных сотрудников, работавших за деньги, здесь каждый рядовой редактор, корректор и машинистка жили интересами всего направления. Но как в хорошие дни не разделяли с ними заслуг Главный редактор и его ближайшие, так и теперь в горькие не приходило им в голову хоть не таить, как дела идут, не то чтобы всех собрать: «Друзья! Мы с вами 12 лет работали вместе. Я не ставлю на голосование, но важно знать, как думаете вы: если нескольких членов редколлегии заберут – оставаться нам всем или не оставаться? вытянем – или нет? Мне – уходить в отставку или ждать, пока снимут?» Нет. Отвечая на поклоны, молча проходил Твардовский в кабинет, втягивались туда члены коллегии, и за закрытыми дверьми часами обсуживались там новости и планы, и с каждого слово бралось – не разглашать! А рядовые редакторы, всё женщины, чья личная судьба решалась не менее, и не меньшим же было щемленье за судьбу журнала, – собирались в секретарскую подслушивать голоса через дверь, ловить обрывки фраз и истолковывать их. Кому-нибудь из писателей в дачном посёлке Твардовский открывал больше – и от этого писателя вызнавали потом в редакции.
Разносился по Москве слух, что топят «Новый мир», – и всё больше авторов стекалось в редакцию, заполнены были и комнаты и коридоры, «вся литература собралась» (да если вообще была советская литература – так только тут), писатели, во главе с Можаевым, стали сколачивать коллективное письмо опять тому же Брежневу, да всё равно судьба того письма, как и тысяч, была остаться неотвеченным. А редколлегия сторонилась этих писательских попыток! – состоя на честной советской службе, она не могла участвовать в открытом бунте, даже жаловаться с перескоком инстанций.
В такой день, 10 февраля, когда уже решено было снятие Лакшина-Кондратовича-Виноградова, пришёл и я в это столпотворение. Все кресла были завалены писательскими пальто, все коридоры загорожены группами писателей. А. Т. у себя в кабинете (когда Косолапов здесь на стене прибьёт барельеф Ленина – тогда станет ясно, чего не хватало у Твардовского) сидел трезво, грустно, бездеятельно. (Бездеятельно, если б не так ужасно курил – одну за другой, одну за другой грубые сильные сигареты.) Это первая была наша встреча после ноябрьской бури. Мы пожали руки, поцеловались. Я пришёл убеждать его, что пока ещё остаются, считая с ним вместе, четверо членов редакции – можно внутри редакции продолжать борьбу, ещё 23 месяца пойдут приготовленные номера, лишь когда надо будет подписать уже совсем отвратный номер – тогда и уйти. А. Т. ответил:
– Устал я от унижений. Чтоб ещё сидеть с ними за одним столом и по-серьёзному разговаривать… Ввели людей, каких я и не видел никогда, не знаю – брюнеты или блондины.
(Хуже: они даже писателями не были. Руководить литературным журналом назначались люди, не державшие в руках пера, Трифоныч был прав, да я б на его месте ещё и раньше ушёл, – а предлагал я в духе того терпенья, каким и жили они все года.)
– Но как же так, А. Т., самому подавать? Христианское мировоззрение запрещает самоубийства, а партийная идеология запрещает отставку!
– Вы не знаете, как это в партии принято: скажут подать – и подам.
Более настойчиво и более уверенно я убеждал его не отрекаться от западного издания своей поэмы, не слать ей хулы. Я не знал: уже отречено было! – и, напротив, – как милости и прощения ждал А. Т., чтоб не отказались его отречение напечатать в газете… (Бедный А. Т.! Не станет злопамятности напомнить ему, как «наверно я сам» отдал «Крохотки» в «Грани», – иначе как бы они появились?..) Ни того отречного письма, ни письма Брежневу (написал: «Я – не Солженицын, а Твардовский, и буду действовать иначе». И очень жаль, на этом пути не выиграешь…) он мне не показал – «копий нет». (Чего-то же стыдился в них передо мной.)
И всё-таки, полузастенчиво и с надеждой:
– А вы поэму мою не читали?
– Ну как же! Вы мне подарили, я читал…
(А сказать-то ничего не могу, не хочу, – да ещё в такой день…)
Он чувствует: – Вы не последнюю редакцию читали, она потом лучше стала…
(Боюсь, что последнюю…)
Опять безпокоился, живу ли я на западные деньги и тем себя мараю. В который раз предлагал своих денег.
Подбодрял я его:
– Ну что ж, вы своё отбухали, теперь будете отдыхать. Вот приедем за вами с Ростроповичем, заберём вас в его замок, дам вам ту книгу свою почитать.
(Под потолками не скажешь: «Архипелаг».)
Даже сиял, нравилось ему.
Высказал очень странное:
– Вот у вас есть и повод, почему вы сегодня пришли в редакцию: вам надо было получить свои поздравительные письма.
Это – не в виде укора, не подцепить, а – какое-то затмение, надвинутое из 1937 года.
– Да что вы, А. Т.! Какой повод? Перед кем?
– Ну, – потупленно говорил А. Т., – если вас станут спрашивать, почему в такой день…
– Меня, Александр Трифоныч! Да уж я-то в своём отечестве ни перед кем не отчитываюсь!
Или не знал, что все коридоры 1-го этажа забиты авторами?..
А вот что было трогательное.
– А. Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. – (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский.) – Сегодня – день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. – (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова.) – И в эти же дни вас разгромили…
Он вдруг очень от души:
– А вот хотите мистику? Сегодня ночью я не спал. Выпил кофе, потом снотворное, заснул тревожно. Вдруг слышу приглушённый, но ясный голос Софьи Ханановны (секретарша А. Т.): «Александр Трифоныч! Пришёл Александр Исаич». И так именно днём произошло.
Очень меня это тронуло. Значит, сегодня он приехал с такой надеждой. Который раз он проявлял, насколько наши нелады ему тяжелее…
В этот день всё ожидалось, что будет в завтрашней «Литературке», и агенты приносили разные сведения: то – идёт отречное письмо А. Т., то не идёт; то – будет подтасовка, что он согласен с переменами в редакции, то – не будет.
Изменила б «Литгазета» своему характеру, если бы не сжульничала. На другой день и подтасовка была конечно, и невозвратное объявление о выводе четырёх членов редколлегии, и – письмо А. Т., которого уже истомился он ждать в печати, но чести оно принесло ему мало:
«…моя поэма… абсолютно неизвестными мне путями, разумеется, помимо моей воли… в эмигрантском журнальчике “Посев”… искажённом виде… Наглость этой акции… безпардонная лживость… провокационное заглавие… будто бы она “запрещена в Советском Союзе”». (А разве же – не запрещена? А разве не спрашиваете вы друзей: «читали мою поэму?» А разве это письмо – откроет ей печатанье в СССР?)
И – за что заплачена цена? За то, что разогнали вашу редакцию, Александр Трифонович?..
Сломали…
Перейдена была мера унижений, мера стойкости, и 11 февраля Твардовский подписал, столько лет из него выжимаемое: «прошу освободить»…
И ещё мы не знали: в это самое 11-е вызвали его на «совещание членов Президиума КОМЕСКО» – ну, наших обязательных представителей в угодливой вигореллевской организации, которая теперь на дыбки всё же поднялась из-за меня. И Твардовский – за что платя теперь, сегодня? – подписал продиктованное заявление об уходе с вице-председателя КОМЕСКО – то есть сдал ещё одну позицию, сдал себя, хоть и безвредно. И с самым искренним чувством обнял меня на следующий день, не упомянув об этом, да даже и не понимая. Ведь если партия указывает – надо подписывать.
12-го был я в редакции вновь. Уже всё было другое – у редакции не ожидание судьбы, у писателей – не попытка к бою. Чистили столы. Во множестве нахлынули авторы, забирали свои рукописи (потом иные вернут). Другие рукописи рвались в корзины, в мешки, и в бумажках рваных были полы. Это походило на массовый арест редакции или на высылку, эвакуацию. Там и здесь приносили водку, и авторы с редакторами распивали поминальные. Однако в кабинет А. Т. писателям, как всегда, не было открытого доступа. Несколько их с водкою и колбасой пошли в кабинет Лакшина и просили позвать Трифоныча, но от имени А. Т. Лакшин извинился и отказал. Уже и снятому Главному было неприлично вот так непартийно появиться среди недовольных авторов.
В кабинете я застал А. Т. опять одного – но на ногах, у раскрытых шкафов, тоже за сортировкой папок и бумаг. Сказал он, что испытывает облегчение оттого, что заявление подал. Я согласился: уже оставаться было нельзя. Но вот во вчерашнем письме фраза (если б только одна!)… Поэму будто бы запретили?
Трифоныч стал живо возражать, даже ахнул, как я слабо разбираюсь (ахнул, потому что чувствовал промах):
– Это вы не поняли! Это очень тонкая фраза. Из-за неё-то письмо и не хотели печатать! Ведь я объявил по всему Советскому Союзу, что существует вот такая поэма и её держат.
Я не искал переубеждения, избегал обострения.
Упомянул про его близкое 60-летие. Он подсчитал, что вёл «Новый мир» в два приёма целых 16 лет, а ни один русский журнал никогда не существовал больше десяти.
– Ещё до семидесяти, А. Т., вполне можете писать! – утешал я.
– Да Мориаку – восемьдесят пять, и то как пишет! – Покосился: – Бунин вот в жизни никого не хвалил, кроме Твардовского, а Мориака похвалил.
А вот и зёрнышко:
– А. Т.! Крупным-то ничего: Лакшину, Кондратовичу, им уже устроили посты, будут деньги платить. А мелким что делать?
– Виноградову? Да он ещё лучше устроится.
– Нет, аппарату.
Не расслышал. Не понял! Как тогда с «Вехами» – просто не понял, понятия такого – «аппарат», ещё 20 человек, которые…
– Авторам? Они в «Новом мире» не будут печататься.
Правда, на следующий день, 13-го, А. Т. начал обход всех комнат трёх этажей: он шёл прощаться. Он еле сдерживал слезы, был потрясён, растроган, всем говорил хорошие слова, обнимал… – но почему не раньше собрал эти свои две дюжины? И почему сегодня не боролись, а так трогательно, так трагично-печально сдавались?[42]
Потом члены редколлегии выпили в просторном кабинете Лакшина, посидели, уехали. А мелкой сошке всё не хотелось расходиться в последний день. Скинулись по рублю, кто-то и из авторов скромных, принесли ещё вина и закуски, и придумали: а пойдём в кабинет Твардовского! Уже темно было, зажгли свет, расставили тарелки, рюмки, расселись там, куда пускали их изредка и не вместе, – «они нас бросили». За стол Твардовского никто не сел, поставили ему рюмку.
На другой день ждали прихода нового Главного. А – нет, и это снова по-советски! – бумажка, заложенная в заглот аппарата, почему-то не сразу пошла. В таком темпе душили час за часом – и вдруг ослабли руки, и замерло. Всего-то из пяти соседних комнат надо было секретарям СП сбежаться и постановить – но, видимо, не поступило верховного телефонного согласования, и заела машина, и все замерли по кабинетам, – и Твардовский в своём, на Пушкинской площади, ожидая приговора. И так потекли дни, и вторая неделя, – Твардовский приезжал, трезвый, тревожный, ожидал телефонного звонка, входа, снятия, – не звонили, не шли… Наконец, и сам он звонил, ускоряя удар, – но уж как заколодит нечистую силу, так нет её! – скрывался Воронков, не подходил к телефону, эта техника у советских бюрократов высочайше поставлена: легче к ним на крыльях долететь и крышу головой прошибить, чем по телефону от секретарей дознаться: есть ли он на свете вообще, когда будет, когда можно позвонить? И в один вечер, когда уже Твардовский ушёл, а секретарь его ещё присутствовала (и наверное ж, точно высчитав момент!), Воронков позвонил сам, в игриво-драматическом тоне: «Уже ушёл? Ах, как жалко… Ведь он, наверно, на меня обижается… А ведь это не от меня зависит. Я всё послал в Центральный Комитет. А сам я – что могу? Без Центрального Комитета я ни бэ ни мэ». – И довольно верно поняли в редакции: Воронков зашатался, может быть и слетит, не так провернул.
Решенье повисло, решенье могло и не состояться. Хотя такие тягостные оттяжки под секирой – не лучшие поры для размышлений, а выдалось всем подумать: если Твардовского не снимут, так может, журнал ещё существует? Твардовский есть – так есть и журнал? можно остаться и бороться? Но поскольку о снятии Лакшина, Кондратовича, Виноградова уже было напечатано в газете, это, по советским понятиям, невозвратимо, невосстановимо, ибо самая драная жёлто-коричневая советская газетка не может ошибиться. Бывшие заместители Твардовского уже ходили на свои новые должности, но каждый день бывали и здесь, – и в этом новом положении выяснилось, что любимцы А. Т., его заместители, не хотят, чтобы Твардовский вдруг остался бы без них: «Нового мира» без себя они не мыслили.
Можно гибнуть по-разному. «Новый мир» погиб, на мой взгляд, без красоты, с нераспрямлённой спиной. Никакого даже шевеленья к публичной борьбе, когда она уже испробована другими и удаётся! Уж не говорю: ни разу не посмели, ещё при жизни журнала, пустить в Самиздат изъятую цензурой статью или абзацы, как сделала с «Мастером» Е. С. Булгакова. Скажут: погубили бы журнал. Да ведь всё равно погубили, к тому уже шло, уже горло хрипело, – а всё бы не на коленях! В эти февральские дни – ни одного открытого письма в Самиздат (а потому что – риск для партийных билетов и следующих служб отрешённых членов?), робость даже в ходатайствах по команде, два унизительных письма Твардовского в «Литгазету». Хуже того: Твардовский и Лакшин небрезгливо посетили ничтожный писательский съезд РСФСР, проходивший вскоре. Твардовский пошёл и сел в президиум, и улыбался на общих снимках с проходимцами, как будто специально показывая всему миру, что он нисколько не гоним и не обижен. (Уж пошёл – так выступи!) А Лакшин таким образом внешне отметился в верноподданстве, в кулуарах же ловил новомирских авторов и убеждал забирать свои рукописи назад.
Вот это направление усилий старой редакции было неблагородно. И вообще-то нельзя вымогать жертв из других, можно звать к ним, но прежде того и самим же показав, как это делается. Уходящие члены редколлегии – не сопротивлялись, не боролись, оказали покорную сдачу, кроме Твардовского, – и не пожертвовали ничем, шли на обезпеченные служебные места, – но ото всех остальных после себя ожесточённо требовали жертв: после нас – выжженная земля! мы пали – не живите никто и вы! Чтобы скорей и наглядней содрогнулся мир от затушения нашего светоча: все авторы должны непременно и немедленно уйти из «Нового мира», забравши рукописи, кто поступит иначе – предатель! (А где ж печататься им?) Весь аппарат – редакторы, секретари, если что хорошее пытаются сделать после нас, – предатели! тем более члены коллегии ещё не исключённые – должны немедленно подать в отставку, уйти любой ценой! (выходом из СП? гражданской смертью? Повинуясь этой линии, 60-летний, тяжело больной Дорош подал заявление, его не отпускали, – так предатель!).
Но если весь новомирский век состоял из постоянных компромиссов с цензурой и с партийной линией – то почему можно запрещать авторам и аппарату эту линию компромиссов потянуть и продолжить, сколько удастся? Как будто огрязнённый «Новый мир» становится отвратнее всех других, давно грязных, журналов. Не сумели разгрома предотвратить, не сумели защитить судно целым, – дайте ж каждому в обломках барахтаться, как он понимает. Нет! в этом они были непримиримы.
А потому что, как это бывает, свою многолетнюю линию жизни совсем иначе видели – вовсе не как вечную пригнутость в компромиссах (иной и быть не может у журнала под таким режимом!). Видели совсем иначе, высоко и стройно, – и это проявилось, когда осмелели всё-таки на Самиздат, осмелели: выпустили два анонимных – и исключительно партийных! – панегирика погибшему журналу. (И зачем же такая робкая выступка: совсем не опасно, зачем же анонимно? Вероятно, потому, что авторы должны были не открыть своей близости к старой редакции – уж и так просвечивала осведомлённость: что осталось в портфеле старой и как проходят дни новой. Да нетрудно угадать, рассмотреть и лица их.)
Уже шибало в нос, как они подписаны: Литератор, Читатель, – по худшему образцу советских газет. У Читателя – обстоятельный, медленного разгону эпиграф (опять же легко узнать манеру), – да эпиграф-то из кого? – из Маркса! – это в 70-м году! это для Самиздата! а дальше и Ленин цитируется – о, мышление подцензурника, как ты выдаёшь свои приёмы!.. В том самом феврале, когда разогнали «Новый мир», гнусный суд над Григоренко засудил первого честного советского генерала в сумасшедший дом; дюжина «Хроник» на своих бледных исчитанных папиросных страницах уже назвала сотни героев, отдавших за свободу мысли – свободу своего тела, заплативших потерей работы, тюрьмой, ссылкой, сумасшедшим домом, – анонимы объявляют разгром «Нового мира» – «важнейшим событием внутренней жизни», которое «будет иметь значительные политические последствия» (чтоб имело последствия – надо самим-то выступать посмелей); надуто хвалят себя: «наши самые честные уста» (честнее тех, кто замкнуты тюрьмою?), «непобедимость новомирской Правды» (и в воспоминаниях маршала Конева? и коминтерников?), «важнейший элемент оздоровления советского общества», «голос народной совести» (одобривший оккупацию). «Только он один продержался в защите очистительного движения после XX съезда» (в чём очистительного? все золы режима перевалить на Сталина?). Эта линия верности XX съезду КПСС искренно понимается авторами как «дух фундаментальных проблем… в которых вся наша историческая судьба». Только бы одолеть «положительный фанатизм» «сталинистов-экстремистов», ну и конечно же «отрицательный фанатизм… безпроблемное нигилистическое критиканство и озлобленность», – да это же в «Правду» можно подавать, зачем же анонимно, братцы? Эта верноподданность тем особенно и разит, что она – анонимна и в Самиздате! На страницах «Нового мира» её можно было хоть цензурою оправдывать… Итак, какая главная беда от разгона «Нового мира»? – «теперь нашим врагам будет гораздо легче бороться с идейным влиянием коммунистического движения во всём мире». Но всего главней, конечно, социализм! – только он «способен быть прогрессивной исторической альтернативой миру капитала» (прямо с подцензурных страниц), «не умерщвлённая в народе способность к борьбе за подлинный социализм» (тю-тю-у! поищите-порыщите, где она осталась, только не в нашей стране). А кто ж в неудачах социализма виноват? да кто ж! – Россия, как всегда: «извращения социализма коренятся в многовековом наследии русского феодализма», – неужели ж допустим, товарищи, что социализм порочен сам по себе, что он вообще не осуществим в доброте?!
Более мелкой эпитафии нельзя было произнести «Новому миру», и тем выразить мелкость собственного понимания истинно-большого дела.
Впрочем, Самиздат – не дурак, разбирается: панегирики эти не были приняты им, хождения не получили, канули; до меня только и дошли через редакционные круги. И огорчили не меньше той статьи Дементьева.
От отставленных членов я не скрыл, что осуждаю всю их линию в кризисе и крахе «Нового мира». Так и передано было Твардовскому (уверен, что – Лакшиным), но безо всех вот этих мотивировок.
И снова, в который раз, наша утлая дружба с Трифонычем утонула в тёмной пучине. Придушенные одним и тем же сапогом, замолкли мы – врозь.
Моё одиночество, впрочем, не одиночество было, а деятельная работа над «Августом». И не стал я слаб вне Союза писателей и не ослабел без журнала, напротив, только независимей и сильней, – уже никому теперь не отчитываясь, никакими побочными соображениями не связанный. Der Starke ist am mӓchtigsten allein, без слабых союзников свободнее руки одинокого.
Одиночество же Трифоныча было полно горечи всеобщего, как ему ощущалось, предательства: он годами жертвовал собою для всех, а для него теперь никто не хотел жертвовать: не уходили из «Нового мира» сотрудники, и лишь немногие отхлынули авторы. Вся эта возня с «теневой» редакцией, непрерывными обсуждениями, что делается в реальной, только больше должна была изводить его и усилить начавшийся от угнетения скрытый ход болезни.
Тут защита схваченного Ж. Медведева снова сроднила нас, хоть и по-заочью. Я, как обычно, писал в Самиздат, а Трифоныч – ездил в психбольницу в Калугу (мимо ворот моего Рождества, так никогда им не найденного и не виденного), ошеломив там своим явлением всех врачей-палачей.
Тут приближался 60-летний юбилей А. Т., открывая возможность снова перекликнуться. Я телеграфировал:
«Дорогой наш Трифоныч! Просторных вам дней, отменных находок, счастливого творчества зрелых лет! В постоянных спорах и разногласиях неизменно нежно любящий вас, благодарный вам Солженицын».
Говорят, он очень был рад моей телеграмме, уединялся с нею в кабинет. Мог бы и не отвечать, юбиляру это трудно, он ответил:
«Спасибо, дорогой Александр Исаевич, за добрые слова по случаю 60-летия моего. Расходясь с вами во взглядах, неизменно ценю и люблю вас как художника. Ваш Твардовский».
И, по темпам наших отношений, месяцев ещё через несколько мы бы с ним повидались. Я написал ему письмо, прося разрешения показать в октябре свой оконченный роман. Я знал, что это доставит ему удовольствие.
Но – не пришло ответа. А узналось – что рак у него (и – скрывают от него). Рак – это рок всех отдающихся жгучему, жёлчному, обиженному, подавленному настроению. В тесноте люди живут, а в обиде гибнут. Так погибли многие уже у нас: после общественного разгрома – смотришь, и умер. Есть такая точка зрения у онкологов: раковые клетки всю жизнь сидят в каждом из нас, а в рост идут, как только пошатнётся… – скажем, дух. Лишь выдающееся здоровье Твардовского при всех коновальских ошибках кремлёвских врачей даёт ему ещё много месяцев жизни, хоть и на одре.
Есть много способов убить поэта.
Твардовского убили тем, что отняли «Новый мир».
Февраль 1971
Жуковка
Третье Дополнение (лето 1970 – осень 1973)
Нобелиана
«Нобелиана» – это я не придумал, это краткий телеграфный адрес Нобелевского Фонда (Nobelianum), да ведь и так же принято обозначать всякие растянутые торжества или пышные оркестровые разработки. Со мной торжество не торжество, мученье не мученье, но суматошная разработка потянулась два полных года.
В странах нескованных что есть присуждение Нобелевской премии писателю? Национальное торжество. А для самого писателя? Гряда, перевал жизни. Камю говорил, что он не достоин, Стейнбек – что готов от радости львом рычать. (Правда, Хемингуэй на такую безделицу отвлечься не удосужился, ответил, что интереснее писать очередную книгу, – и то тоже правда, хоть и не без кокетства.)
А что такое Нобелевская премия для писателя из страны коммунизма? Через пень колоду, не в те ворота, или неподъёмное, или под дёготный зашлёп. Оттого что в нашей стране не кто иной, как именно сама власть, от кровожадно-юных дней своих, загнала всю художественную литературу в политический жёлоб – долблёный, неструганный, как на Беломорканале ладили из сырых стволов. Сама власть внушила писателям, что литература есть часть политики, сама власть (начиная с Троцкого и Бухарина) выкликала все литературные оценки политическим хриплым горлом – и закрыла всякую возможность судить иначе. И поэтому каждое присуждение Нобелевской премии нашему отечественному писателю воспринимается прежде всего как событие политическое.
Кто у нас был писатель истинный в 20-е, 30-е, 40-е годы – того через ведьминскую вьюгу разобрать из Стокгольма было невозможно. И первый русский, получивший эту премию, был эмигрант Бунин, безцензурно и неподнасильственно печатавший за границей свои произведения именно в том виде, в каком он их писал. Ну уж, разумеется, ничего, кроме брани и презрения, такая премия, институт таких премий вызвать в СССР не мог. Навсегда было решено, что премии эти ничтожны, и даже газетного петита не заслуживают. А на размах листа печатались – сталинские. И мы все о Нобелевских почти думать забыли. И вдруг через 25 лет доглядела Шведская Академия Пастернака и решилась дать ему. Известно, какой это вызвало гнев коммунистической партии (Хрущёв), комсомола (Семичастный) и всего советского народа. И сейсмоволны этого гнева так ударили под фундамент Шведской Академии, что в глазах прогрессивного человечества она обязана была себя реабилитировать, да поскорей. И, выдержав приличные 7 лет, присудили третьему нашему соотечественнику, – да кому? За книгу, авторство которой он никогда подтвердить не мог, за книгу, напечатанную уже треть столетья тому и по достоинству оцененную ещё прежде бунинской премии. Зато имя Шолохова было угодно советскому режиму – и спешили ему подластить. И эта поспешность, и эта задержка, и вся форма заглаживания, и наше казённое удовольствие – равно отшлёпали и на третьей премии остро-политическую печать.
Хотя в политике всё время обвинялась Шведская Академия, но это наши лающие голоса делали невозможной никакую другую оценку. Так произошло и с четвёртой премией, и, если не очнётся Россия, – с пятой будет то же самое.
А так как и учёные наши не больно часто те заморские премии получали, то у нас почти и не поминали их, до пастернаковской бури мало кто и знал о существовании таких. Я узнал, не помню, от кого-то в лагерях. И сразу определил, в духе нашей страны, вполне политически: вот это – то, что нужно мне для будущего моего Прорыва.
Прорыва – большого, а я пока и малого сделать был не в состоянии. Конечно, не хочется писать только посмертное, напечататься бы при жизни, тогда и умереть спокойно! Но из лагеря это грезилось как несбыточное: где ж такое возможно при жизни? Только за границей. Но и после лагеря, вечно ссыльный: ни сам туда не попадёшь, ни дошлёшь туда свои вещи.
Впрочем, в ссылке я сумел довести всю свою лагерную работу до начинки книжного переплёта (пьесы Б. Шоу, на английском). Теперь если бы кто-нибудь взялся поехать в Москву, да там на улице встретив иностранного туриста – сунул бы ему в руки, а тот, конечно, возьмёт, легко вывезет, вскроет переплёт, дальше в издательство, там с радостью напечатают неизвестного Степана Хлынова (мой псевдоним) – и… мир конечно не останется равнодушным! Мир ужаснётся, мир разгневается, – наши испугаются – и распустят Архипелаг.
Но – и попросить было некого, кто бы в Москву повёз, я был один-одинёшенек в те годы, и москвичи не приезжали в наш Кок-Терек погостить.
Когда же в 1956 я и сам поехал в Москву и присматривался, кому б из западных туристов эту книгу перекинуть, – увидел: при каждом туристе идёт переводчик от госбезопасности, а самое-то изумляющее старого зэка: те туристы такие сытые, лощёные, развлечённые своей весёлой советской поездкой, – зачем им наживать неприятности?
И уехал я в Торфопродукт, потом в Рязань, работать дальше. Дальше – ещё больше будет написано, ещё сильней можно тряхнуть. Но и страшней: ещё больший объём зависает в опасности погибнуть, никому никогда не показавшись. Один провал – и всё пропало. Десять лет, двадцать лет сидеть на этой тайне – утечёт, откроется, и погибла вся твоя жизнь, и все доверенные тебе чужие тайны, чужие жизни – тоже.
И в 1958, рязанским учителем, как же я позавидовал Пастернаку: вот с кем удался задуманный мною жребий! Вот он-то и выполнит это! – сейчас поедет, да как скажет речь, да как напечатает своё остальное, тайное, что невозможно было рискнуть, живя здесь! Ясно, что поездка его – не на три дня. Ясно, что назад его не пустят, да ведь он тем временем весь мир изменит, и нас изменит, – и воротится, но триумфатором!
После лагерной выучки я, искренно, ожидать был не способен, чтобы Пастернак избрал иной образ действий, имел цель иную. Я мерил его своими целями, своими мерками – и корчился от стыда за него как за себя: как же можно было испугаться какой-то газетной брани, как же можно было ослабеть перед угрозой высылки, и униженно просить правительство, и бормотать о своих «ошибках и заблуждениях», «собственной вине», вложенной в роман, – от собственных мыслей, от своего духа отрекаться – только чтоб не выслали?? И «славное настоящее», и «гордость за то время, в которое живу», и, конечно, «светлая вера в общее будущее», – и это не в провинциальном университете профессора секут, но – на весь мир наш нобелевский лауреат? Не-ет, мы безнадёжны!.. Нет, если позван на бой, да ещё в таких превосходных обстоятельствах, – иди и служи России! Жестоко-упречно я осуждал его, не находя оправданий. Перевеса привязанностей над долгом я и с юности простить и понять не мог, а тем более озвенелым зэком. (Никто бы мне в голову тогда не вместил, что Пастернак уже и напечатался и высказался, и та бы речь стокгольмская могла б оказаться не грозней его газетных оправданий.)
Тем ясней я понимал, задумывал, вырывал у будущего: мне эту премию надо! Как ступень в позиции, в битве! И чем раньше получу, твёрже стану, тем крепче ударю! Вот уж, поступлю тогда во всём обратно Пастернаку: твёрдо приму, твёрдо поеду, произнесу твердейшую речь. Значит, обратную дорогу закроют. Зато: всё напечатаю! всё выговорю! весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлаговские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замёрзших! Дотянуть до нобелевской трибуны – и грянуть! За всё то доля изгнанника – не слишком дорогая цена. (Да я физически видел и своё возвращение через малые годы.)
Однако «Иван Денисович», во всём мире расхватанный как хрущёвская политическая сенсация, не выше (в Москве перегнанный на английский прихлебателем халтурщиком Р. Паркером), – не много приблизил меня к Нобелевской. Просто уж по задумке, смешивая замысел с предчувствием, я почему-то верил и ждал её как неизбежности. Хотя Пастернак своим отречением, а затем и скорой смертью закрывал дорогу следующему лауреату прийти из России: как же можно давать премию русским, если она убивает их?..
А годы – шли, а книги – всё писались, а напечатать – нельзя, голову отрубят, и всё труднее скрыть их в тайне, и всё обидней держать их втуне, – и какой же выход у подпольного писателя?..
Все годы я в этом и не переменялся, как в лагере выковался, как думал вместе с лагерными друзьями: самая сильная позиция – разить нашу мертвечину лагерным знанием, но оттуда. Тогда всё моё оружие – к моим рукам, ни одно слово более не утаено, не искажено, не пригнуто. И так это прочно я усвоил, что когда в 68-м году Аля (Наталья Светлова), поражённая, стала убеждать меня горячо, что как раз наоборот: оттуда все слова мои будут отшибаться железною коркой, охватившей нашу страну, а пока я внутри – приемлющая порая масса всасывает их, дополняя, достраивая несказанное и намёкнутое, – я поразился встречно. Я решил: она оттого так рассуждает, что в лагере не сидела.
А была она мне не случайный собеседник и не одноразовый. К 1969 я решил передавать ей всё своё наследие, всё написанное, и окончательные редакции и промежуточные, заготовки, заметки, сбросы, подсобные материалы, – всё, что жечь было жаль, а хранить, переносить, помнить, вести конспирацию не было больше головы, сил, времени, объёмов. Я как раз перешёл тогда через пятьдесят лет, и это совпало с чертой в моей работе: я уже не писал о лагерях, окончил и всё остальное, мне предстояла совсем новая огромная работа – роман о 1917 годе (как я думал сперва – лет на десять). В такую минуту своевременно было распорядиться всем прошлым, составить завещание и обезпечить, чтоб это всё сохранилось и осуществилось уже и без меня, помимо меня, руками наследными, твёрдыми, верными, и головою, думающею сродно. Я счастлив был, я облегчён был, найдя всё это вместе, и весь 1969 мы занимались передачей дел. Тогда же, вместе, мы нашли пути дать доверенность адвокату Хеебу защищать мои интересы на Западе и создать опорный пункт за границей, как наш филиал и продолжение, на случай гибели обоих тут. И – надёжный «канал» туда для связи в обе стороны. Неслышно, невидимо моё литературное дело превращалось в фортификацию.
При всей этой работе вопрос о том, где буду я и что со мной через год, через два, имел совсем не теоретическое значение, от этого на каждом шагу зависело, как решать. К тому ж были и другие живые планы: ещё с 1965 я носился с затеей журнала – то ли будущего, в свободной России, то ли самиздатского, и уже сейчас. (Подзаголовок: «Журнал литературы и общественных запросов», с разделами – прозы; критики литературы и искусства; новейшей истории России XX века; человечество и современность; будущее устроение России; книжное обозрение.) Летом 69-го года мы сидели с Алей у Красного Ручья на берегу Пинеги и разрабатывали такую сложную систему издания журнала, при которой он будет самиздатски издаваться здесь (отдел распределения – глубже его действующая редакция – ещё глубже теневая редакция, готовая принять дела, когда провалится действующая, и создать себе вторую теневую), а я – может быть здесь, а может быть и там, но и в этом случае подписываю журнал (участвую в нём оттуда). И при всех этих разработках мы так и не сошлись в коренном вопросе: Аля считала, что надо на родине жить и умереть при любом обороте событий, а я, по-лагерному: нехай умирает кто дурней, а я хочу при жизни напечататься. (Чтобы в России жить и всё напечатать – тогда ещё представлялось чересчур рискованно, невозможно.)
Как в насмешку, именно в эти дни бежал на Запад Анатолий Кузнецов, мы на Пинеге слушали по транзистору. Перепугались на верхах, а он ликовал, думал, наверно: вот сейчас всю историю повернёт. Ан ошибка бегляческая, смещение масштабов. Главное же: тут у нас, в СССР, почти поголовно не одобрил его образованный круг, и не только за податливость гебистам, за игру в доносы, но и за самый побег: лёгкий жребий! Человеку беззвестному, досаждённому, можно простить, но писателю? Какой же, мол, тогда ты наш писатель? Нерациональные мы люди: десятилетиями бродим и хлюпаем в навозной жиже, брюзжим, что плохо. И не делаем усилий выбраться. А кто выбарахтывается и бежит прочь, кричим: «изменник! не наш!» (Это повернулось, впрочем, вскоре и резко: как только приоткрыли клапан эмиграции, туда устремилось немало и писателей, и образованный круг не стал это осуждать.)
А как думало правительство? Уверен я был: так же, как я. Пока я тут, в клетке, – я им полустрашен, меня всегда можно прихлопнуть. А оттуда – я ужасен для них, я успею (пока не всадят ножа мне в рёбра, не отравят, не застрелят, не выбросят из поезда), успею развернуть всё, укрытое ими за полстолетия! – и после того захлёста им уже не жить, или только доковыливать (так мне казалось).
При Сталине так и понимали: всех несогласных покрепче вязать. Но, видимо, в последние годы какие-то новые веяния пробились даже в их туполобую дремучесть: посадили Синявского-Даниэля – неожиданный для них международный скандал; отправили Тарсиса за границу – сразу всё стихло, никаких неприятностей. (Что я – не совсем Тарсис, этого им не домыслить.) И вот Демичев, в задушевных беседах, какие бывали у него то с одним, то с другим писателем, стал проговариваться:
– Вот мы вышлем Солженицына за границу, к его хозяевам, увидит он капиталистический рай – сам к нам на брюхе приползёт.
Мне пересказывали, я значения не придавал: обычный агитпропский приём. Вдруг, через десять дней после моей оплеухи секретариату СП, вечером 25 ноября 1969, включаю «Голос Америки» и слышу: «Писатель Солженицын высылается из Советского Союза». (Завтрашнее сообщение «Литгазеты» они неправильно передали.)
Это было на даче Ростроповича, первые месяцы там, только устроился. Я встал. Чуть прошлись мурашки под волосами. Может быть, через какой час за мной уже и приедут. О рукописях, о заготовках, о книгах – сразу много надо было сообразить, чересчур много! Хоть всю жизнь готовься, а застаёт всегда не вовремя. Вышел погулять по лесным аллейкам. Стоял не по времени тёплый грозно-ветреный, сырой, тёмный вечер. Я гулял, захватывал воздух грудью. И не находил в себе ни борения, ни сомнения: всё шло по предначертанному.
Из моих любимых образов – пушкинский царевич Гвидон. Чтобы верно погубить, засадили, засмолили младенца с матерью в бочку и пустили по морю-океану. Но – не потонула бочка, а аршинный младенец рос по часам, поднатужился, выпрямился,
Вышиб дно и вышел вон! –правда, на берегу чужеземном. И сам вышел и, заметим, выпустил свою мать.
Не до точности чужого берега должен образ сойтись, и непомерно честь велика выпустить на свободу Мать, – а вот как донья трещат у меня под подошвами и над макушкой, как из бочки вываливаются клёпки – это я ощущаю уже несколько лет, и только точного момента не ухватил, когда ж я именно донья выпер, уже ли? Не в тот ли самый момент, когда исключенье меня из СП обернулось громким поражением моих и наших гонителей? когда стенка из тридцати одного западного писателя, выказывая единство мировой литературы, объявила письмом в «Таймс», что в обиду меня не даст? Или ещё это впереди? И сейчас, когда пишу, – впереди?
Что-то из этого треска доносилось до ушей того решилища, которое Чехословакию осмелело давить, а меня – нет, что-то из занозистой обломанной древесины отлетало к ним, – ибо не высылали меня за границу, нет (через час принесли мне завтрашнюю «Литгазету», выкраденную из редакции), а только приглашали уехать, только разрешали.
А это – другой расклад. Экибастузскому затерянному зэку предложили бы – минуты бы не колебался. Но мне сегодняшнему – предлагать? В ответ им пустил по Москве «мо», устный самиздат:
– Разрешают мне из родного дома уехать, благодетели! А я им разрешаю ехать в Китай.
Они мне – ещё в одной газете намёк. Ещё в одной. На Западе – отзвон изрядный. И норвежцы – духом твёрдые, единственные в Европе, кто ни минуты не прощал и не забывал Чехословакии, – предложили мне даже приют у себя – почётную резиденцию Норвегии, присуждаемую писателю или художнику. «Пусть Солженицын поставит свой письменный стол в Норвегии!» Несколько дней я ходил под тем впечатлением. Вторая родина сама назвалась, сама распахнула руки. Север. Зима, как в России. Крестьянская утварь, деревянная посуда, как в России.
Пауза. Верхи затихли. И я молчал.
Нелегко покидается жгучий зэческий замысел, ненапечатанные книги кричат, что жить хотят. Но скорбным контуром вырастала и другая согбенная лагерная мысль: неужели уж такие мы лягушки-зайцы, что ото всех должны убегать? почему нашу землю мы должны им так легко отдавать? Да начиная с 17-го года всё отдаём, все отдают, – так оно вроде легче. Уже сколькие поддались этой ошибке – переоценили силы их, недооценили свои. А были же люди – Ахматова, Пальчинский, кто не поехал, кто отказался в 1923 году подписать заявление на лёгкий выезд.
Неужели мы так слабы, что здесь побороться не можем?
А властям эта мысль уже, видно, заседала: от неугодных избавляться высылкой за границу – мысль Дзержинского и Ленина, план новой «третьей» эмиграции, чего мы и вообразить не могли тогда, с 69-го на 70-й. На разных закрытых семинарах в полный голос объявляли: «Пусть Солженицын убирается за границу!» Первоосведомлённый Луи шнырял на посольских приёмах, предлагал западным деятелям: «Не пригласите ли Солженицына лекции, что ли, у вас почитать?» – «Да разве пустят?» – удивлялись. – «Пу-устят!»
Но публично не высказывалось более ничего. Осенний кризис мой как будто миновал, затягивался. С дачи Ростроповича, где я жил безо всяких прав, непрописанный, да ещё в правительственной зоне, откуда выселить любого можно одним мизинцем, – не выселяли, не проверяли, не приходили. И постепенно создалось у меня внешнее и внутреннее равновесие, гнал я свой «Август», и в тот год, 70-й, сидел бы тише тихого, писка бы не произнёс. Если бы не несчастный случай с Жоресом Медведевым в начале лета. Именно в эти месяцы, конца первой редакции и начала второй, определялся успех или неуспех всей формы моего «Р-17», а так потребна была удача! так жаждалось: историческое объёмное повествование именно о революции: ведь замотают её скоро свои и чужие, что не доищешься правды. И благоразумные доводы о жребии писателя приводили мне отговаривающие друзья.
Но – разумом здесь не взвесить: вдруг запечёт под ногами, оказывается – сковорода, а не земля, – как не запляшешь? Стыдно быть историческим романистом, когда душат людей на твоих глазах. Хорош бы я был автор «Архипелага», если б о продолжении его сегодняшнем – молчал дипломатично. Посадка Ж. Медведева в психушку была для нашей интеллигенции даже опаснее и принципиальнее чешских событий: это была удавка на самом нашем горле. И я решил – писать. Я первые редакции очень грозно начинал:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(то есть им всем, палачам. В начале меня особенно заносит, потом умеряюсь). За лагерное время хорошо я узнал и понял врагов человечества: кулак они уважают, больше ничего, чем сильней их кулаком улупишь – тем и безопасней. (Западные люди никак этого не поймут, они всё уступками надеются смягчить.) Едва продирал я глаза по утрам – тянуло меня не к роману, а Предупреждение ещё раз переписать, это было сильней меня, так во мне и ходило. Редакции с пятой стало помягче:
ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ [14].
В ноябре 1969 упрекали меня, что быстротою своего выскока с ответом СП я помешал братьям-писателям и общественности за меня заступиться, отпугнул резкостью. Теперь, чтобы своей резкостью не потопить Медведева, я взнуздал себя, держал, дал академикам высказаться, – и только в Духов день, в середине июня, выпустил своё письмо. По делу Жореса оно оказалось может уже и лишним – струхнули власти и без того. Но зато – о психушках крупно сказал, кого-то же всё-таки напугал, если не Лунца, у кого-то сердце сожмётся впредь.
Этого письма не могли мне простить. И насколько есть достоверные сведения, в тех же июньских днях решили высылать меня за границу. Подготовили ведущие соцреалисты (кажется, в апостольском числе двенадцать) ходатайство к правительству об изгнании мерзавца Солженицына за рубежи нашей святой родины. Новой идеи тут не заключалось, но ход делу был дан формальный. Марков да Воронков, упряжка неленивая, передали это в «Литгазету», да говорят с прибавкой уже готового и постановления Президиума Верхсовета о лишении меня советского гражданства.
Но опять же – не сработала машина, где-то защёлка не взяла. Я думаю так: слишком явна и близка была связь с жоресовской историей, неудобно было за это выгонять, отложили на месяца два-три, ведь провинюсь ещё в чём-нибудь…
А тут – Мориак, царство ему небесное, затеял свою кампанию выхлопатывать мне Нобелевскую премию. И опять у наших расстроилась вся игра: теперь высылать – получится в ответ Мориаку, глупо. А если премию дадут – за премию выгонять, опять глупо. И затаили замысел: сперва премию задушить, а потом уже выслать.
(А я за эту осень как раз и кончал, кончал «Август».)
Премию душить – это мы умеем. Собрана была важная писательская комиссия (во главе её – Константин Симонов, многоликий Симонов, – он же и гонимый благородный либерал, он же и всевходный чтимый консерватор). Комиссия должна была ехать в Стокгольм и социалистически пристыдить шведскую общественность, что нельзя служить тёмным силам мировой реакции (против таких аргументов никто на Западе не выстаивает). Однако, чтоб лишних командировочных не платить, наметили комиссионерам ехать в середине октября, как раз к сроку. А Шведская Академия – на две недели раньше обычного и объяви, вместо четвёртого четверга да во второй! Ах, завыли наши, лапу закусали!..
Для меня 1970 был последний год, когда Нобелевская премия ещё нужна мне была, ещё могла мне помочь. Дальше уже – я начал бы битву без неё. Приходила пора взрывать на Западе «Архипелаг». Уже я начал исподволь готовить публичное к тому заявление (сохранился первый намёток): «…Почему помещение здешних людей в психиатрические больницы не возмущает Запад так, как медицинские эксперименты нацистов?.. Мы предаём умерших и позорим себя своим молчанием. Но подходит время суда и разбора – и пусть эта книга будет свидетелем…»
А тут премия – свалилась, как снегом весёлым на голову! Пришла, как в том анекдоте с Хемингуэем: от романа отвлекла, как раз две недельки мне и не хватило для окончания «Августа»!.. Еле-еле потом дотягивал.
Пришла! – и в том удача, что пришла, по сути, рано: я получил её, почти не показав миру своего написанного, лишь «Ивана Денисовича», «Корпус» да облегчённый «Круг», всё остальное – удержав в запасе. Теперь-то с этой высоты я мог накатывать шарами книгу за книгой, утягчённые гравитацией: три тома «Архипелага», «Круг»-96, «Пленники», «Знают истину танки», лагерную поэму…
Пришла премия – и сравняла все ошибки 62-го года, ошибки медлительности, нераскрыва. Теперь как бы и не было их.
Пришла – прорвалась телефонными звонками на дачу Ростроповича. Век мне туда не звонили – вдруг несколько звонков в несколько минут. Неразвитая, даже дураковатая женщина жила в то время в главном доме дачи, бегала за мной всякий раз, зная меня под кличкой «сосед», и за руку тянула, и трубку вырывала:
– Да вы что – с корреспондентом разговариваете? Дайте я ему расскажу – квартиры мне не дают!
Она думала – с корреспондентом «Правды», других не воображая.
То был норвежец Пер Эгил Хегге, отлично говорящий по-русски, редкость среди западных корреспондентов в Москве. Вот он добыл где-то номер телефона и задавал вопросы: принимаю ли я премию? поеду ли в Стокгольм?
Я задумался, потом ходил за карандашом с бумагой, он мог представить, что я – в смятеньи. А у меня замыслено было: неделю никак не отзываться и посмотреть – как наши залают, с какого конца начнут. Но звонок корреспондента срывал мой план. Промолчать, отклониться – уже будто сползать на гибельную дорожку. И при старом замысле: всё не как Пастернак, всё наоборот, оставалось уверенно объявить: да! принимаю! да, непременно поеду, поскольку это будет зависеть от меня! (У нас же и наручники накинуть недолго.) И ещё добавить: моё здоровье – превосходно и не помешает такой поездке! (Ведь все неугодные у нас болеют, потому не едут.)
В ту минуту я нисколько не сомневался, что поеду.
Потом, давая ответную телеграмму Шведской Академии: «Рассматриваю Нобелевскую премию как дань русской – (уж не советской, разумеется) – литературе и нашей трудной истории».
Тут начали постигать меня неожиданности. Ведь как ни обрезаны с Западом нити связей, а – пульсируют. И стали ко мне косвенными путями приходить: то – упрёк, зачем это про трудную историю, вот и скажут, что мне дали премию именно по политическим соображениям. (А мне без трудной истории – и премия бы не нужна. При лёгкой истории мы бы справились и без вас!) Потом двумя косвенными путями одно и то же: не хочу ли я избежать шумихи вокруг моего приезда в Стокгольм? в частности, Академия и Фонд опасаются демонстраций против меня маоистски настроенных студентов – так поэтому не откажусь ли я от Гранд-Отеля, где все лауреаты останавливаются, а они спрячут меня на тихой квартире?
Вот это – так! Для того я к премии шагал с лагерного развода, чтобы в Стокгольме прятаться на тихой квартире, от лощёных сопляков уезжать в автомобиле с детективами!
По левой я ничего не ответил, – тогда стали и обыкновенной почтой приходить: от Нобелевского Фонда – телеграмма о том же: «постараемся найти для вашего пребывания более тихое и укрытое место», от Академии письмо: считают они, что «вы сами хотели бы провести по возможности спокойнее ваш стокгольмский визит», и они сделают всё возможное, «чтобы обезпечить вас оберегаемой квартирой. Позвольте добавить, что получатель премии вовсе не обязан иметь какие-либо сношения с печатью, радио и т. д.».
«По возможности спокойнее»! – отнюдь не хочу! «Не иметь сношений с печатью и радио»? – на лешего тогда и ехать?
Оборвалась храбрость шведов! – на том оборвалась, что решились дать мне премию. (Да уж какое спасибо-то, в семиэтажный дом!) А дальше – боятся скандала, боятся политики.
Да, им – так и надо, это – прилично. Но мой неисправимо лагерный мозг никак не ожидал. Идёшь-бредёшь, спотыкаешься в колонне по пять, руки назад, думаешь: только и ждут там услышать нас. А они – нисколько не ждут. Они дают премию по литературе. И естественно, не хотят политики. А для нас это не «политика», это сама жизнь.
Так шло – по одной линии. А по другой: через несколько дней после объявления премии мелькнула у меня идея: вот когда я могу первый раз как бы на равных поговорить с правительством. Ничего тут зазорного нет: я приобрёл позицию силы – и поговорю с неё. Ничего не уступаю сам, но предложу уступить им, прилично выйти из положения.
А – кому послать, колебания не было: Суслову! Отчего он так горячо меня приветствовал тогда, в фойе кремлёвской встречи? Ведь при этом и близко не было Хрущёва, никто из Политбюро его не видел, – значит, не подхалимство. Для чего же? Выражение искренних чувств? законсервированный в политбюро свободолюбец? – главный идеолог партии!.. Или присматривался, как меня обротать к партии?.. (Кстати, 4 месяца перед тем, в июле 1962, это именно Суслов вызвал В. Гроссмана по поводу отобранного романа: слишком много политики, да и лагеря понаслышке, кто же так пишет, несолидно. Твердел себе в кресле, уверен был: не понаслышке – никогда не будет, передушили. И вдруг такая радость ему – «Иван Денисович»!..) Запало это загадкой во мне на много лет, ни разу не разъяснилось. Но и не скрещивались больше наши пути. А теперь, в октябре 70-го года, меня толкнуло – ему! [15]
Если здесь сдвинуть только то, что я предложил (амнистию пойманным читателям, быстрый выход и свободная продажа «Корпуса», снятие запрета с прежних моих рассказов, затем и печатанье «Августа»), это было бы изменение не только со мной, а – всей литературной обстановки, а там дальше и не только литературной. И хотя сердце рвётся к чему-то большему, к чему-то решающему, но историю меняют всё-таки постепеновцы, у кого ткань событий не разрывается. Если б можно плавно менять ситуацию у нас – надо с этим примириться, надо б и делать. И это было бы куда важней, чем ехать объяснять Западу.
Но так и зависло. Ответа не было никогда никакого. И в этом деле, как и всяком другом, по надменности и безнадёжности вожди упускали все сроки что-либо исправить.
А шведы тем временем слали мне церемонийные листы: какого числа на каком банкете, где в смокинге, где с белой бабочкой во фраке. А речь – произносится на банкете (когда все весело пьют и едят – о нашей трагедии говорить?), и не более трёх минут, и желательно только слова благодарности.
В сборнике Les Prix Nobel открылся мне безпомощный вид кучки нивелированных лауреатов со смущёнными улыбками и прездоровыми папками дипломов.
Который раз крушилось моё предвидение, безполезна оказывалась твёрдость моих намерений. Я дожил до чуда невероятного, а использовать его – не видел как. Любезность к тем, кто присудил мне премию, оказывается, тоже состояла не в громовой речи, а в молчании, благоприличии, дежурной улыбке, кудряво-барашковых волосах. Правда, можно составить и прочесть нобелевскую лекцию. Но если и в ней опасаться выразиться резко – зачем тогда и ехать вообще?
В эти зимние месяцы ждался первенец мой, но вот премия приносила нам с Алей разлуку, и я уезжал, как было прежде между нами решено. Без надежды даже раз единый увидеть родившегося сына.
Уезжал, чтобы грудь писательскую освободить и дышать для следующей работы. Уезжал – убедить? поколебать? сдвинуть? – Запад.
А на родине? – кто и когда это всё прочтёт? Кто и когда поймёт, что для книг – так было лучше, уехать?
В 50 лет я клялся: «моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России». А в 52 года представился отъезд – и убежал?..
А что, правда: остаться и биться до последнего? И будь что будет?
Ещё эти кудряво-барашковые волоса да белая бабочка…
Как в наказательную насмешку, чтоб не поспешен был осуждать предшественника, Пастернака, я на гребне решений онемел и заколебался.
Я вот как сделать уже хотел: записать нобелевскую лекцию на магнитофон, туда послать ленту, и пусть в Стокгольме её слушают. А я – здесь. Это – сильно! Это – сильней всего!
Но в напряжённые эти полтора месяца (тут наложилось тяжёлого семейного много) я уже не в состоянии был составить лекцию.
А в Саратове или Иркутске будущий, следующий наш лауреат корчится от стыда за этого Солженицына: почему ж не мычит, не телится? почему не едет трахнуть речугу?
Наши очень ждали моего отъезда, подстерегали его! Как раз бы и был он в согласии с правилами поддавков: я как будто пересекал всю доску, бил проходом несколько шашек – но на том-то и проигрывал! Достоверно потом узнал: было подготовлено постановление, что я лишаюсь гражданства СССР. Только оставалось – меня через границу перекатить. Есть какие-то сроки подачи заявлений и анкет, после которых уже опаздываешь; никто тех сроков не знает, но в Отделе Виз и Регистрации, в ГБ и в ЦК думают, что все знают, – и удивлялись: как же я их пропускаю? На те недели притихла, вовсе смолкла и газетная кампания против меня. Лишь на одном, другом инструктаже прорывало, не выдерживали их нервы, секретарь московского обкома партии, за ним и шавки-«международники» (без меня давно ни одна «международная» лекция не обходилась):
– Господин Солженицын до сих пор почему-то не подаёт заявления на выезд.
А Твардовский, передавали, за меня в кремлёвской больнице тоже томился и раздумывал: как бы мне премию получить, не поехавши? Он лежал с полуотнятой речью, бездеятельной правой рукой, но мог слушать, читать, следил за моей нобелевской историей, а когда возвращалась речь, говорил и даже кричал сестрам и нянечкам:
– Браво! Браво! Победа![43]
А у меня на столе уже лежало письмо-отказ от поездки и каждое утро правилось, где буквочкой, где запятой. Я выбирал наилучший день – ну, скажем, за две недели до нобелевской процедуры. Несмотря на внешнюю твердокаменность нашего государства, внутри инициатива не уходила из моих рук: от первого до последнего шага я вёл себя так, будто их вообще не было, я игнорировал их: сам решил, объявил, что поеду, – и не вязались переубеждать; теперь сам решил, объявлял, что не поеду, и наши позорные полицейские тайны выкладывал, – и опять-таки слопают, и не сунутся пересоветывать мне.
А как – переслать? Почта задержит. Надо снести самому в шведское посольство, да и договориться: диплом с медалью пусть мне вручат в Москве. Вот мысль: соберём с полсотни видных московских интеллигентов – тут и трахну речь! Отсюда говорить – ещё посильнее выйдет, и насколько!
А как прорваться в посольство? Счастье такое: перед шведским не стоит милиционер! Уютный маленький особнячок в Борисоглебском переулке. На целое кресло разъевшийся кот. Эстафета шведов, принимающих меня из двери в дверь (были предупреждены через Хегге). Как раз возвратился в Москву Г. Ярринг – шведский посол, а более того – арабо-израильский примиритель, а ещё более того, как меня предварили, – претендент на место уходящего У Тана, возглавить ООН, а потому старательный угождатель советскому правительству. Семь лет уже Ярринг послом в Москве, при нём была премия Шолохову, и с Шолоховым он очень дружил и носился.
Скрытный, твёрдый, высокий, чёрный (на шведа не похож?), меня встретил настороженно. Я удобно расселся в посольском кресле и, помахивая своим письмом, а читать его не давая:
– Вот, я написал письмо в Шведскую Академию насчёт моей поездки, но боюсь, что по почте задержится, а им важно знать моё решение уже теперь. Вы не взялись бы отправить? [16]
По-русски он понимает, а мне через переводчика, атташе по культуре, Лундстрема:
– Как вы решили?
– Не ехать.
Продрогнуло удовлетворение. Ему – спокойней:
– Завтра утром будет в Стокгольме.
Значит, берёт дипломатической почтой. Хорошо. Отсылаю и автобиографию. А диплом и медаль? Нельзя ли устроить приём в вашем посольстве?
– Невозможно. Так никогда не было.
– Но ведь и такого случая, как со мной, никогда не было. Не загадывайте, господин Ярринг. Пусть подумает Академия.
Уверенно отвечает Ярринг: или по почте, или вручим вам в кабинете, как сейчас, без присутствующих.
Без лекции? Так мне не надо. Нехай остаётся всё в Академии.
При себе не дал ему письма прочесть, всё оставил и ушёл. А обещанье-то взято.
Клал я три дня, чтоб Академия, получив, распоряжалась моим письмом. К исходу третьих суток назначил выход в Самиздат. Академия же послала мне телеграмму, что хочет объявлять письмо только на банкете. Мне это поздно было, мне сейчас надо было прояснить, что – не еду. Но испытать взрывное действие российского Самиздата шведам не пришлось: у самих же утекло между пальцами, кажется при переводе на шведский, уже и опубликовано, и внагон послали мне вторую телеграмму: извиняются, досадуют, что ускользнуло, не пришлю ли к банкету ещё чего-нибудь?
Я – ничего не собирался: пока сказал кое-что, умеренно, а всё главное – в лекцию. Но от телеграммы – толчок!
Этого не было в моём плане, но что бы, правда, один абзац, выпадающий из нобелевской лекции, а сюда – по сцепленью дат:
«Ваше Величество! Дамы и господа! Не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днём Прав человека…»
Господа, это моя скифская досада на вас: зачем вы такие кудряво-барашковые под светом юпитеров? почему обязательно белая бабочка, а в лагерной телогрейке нельзя? И что это за обычай: итоговую – всей жизни итоговую – речь лауреата выслушивать за едой? Как обильно уставлены столы, и какие яства, и как их, непривычные, привычно, даже не замечая, передают, накладывают, жуют, запивают… А – пылающую надпись на стене, а – «мене, текел, фарес» не видите?..
«…Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключённые держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав».
Не сказано – чьи заключённые, не сказано – где, но ясно, что у нас. И это – не придумано, известно мне, что 10 декабря наши зэки во Владимирском централе, и в Потьме некоторые, и некоторые в дурдомах будут держать голодовку. Объявится о том с опозданием – а я вот в самый срок.
(Средь поздравлений меня с премией было и из потьминских лагерей коллективное, но там проще подписи собрать, а как вот во Владимирской тюрьме умудрились стянуть 19 подписей через каменные стены? и мне принесут на днях, самое дорогое из поздравлений:
«Яростно оспариваем приоритет Шведской Академии в оценке доблести литератора и гражданина… Ревниво оберегаем… друга, соседа по камере, спутника на этапе».)
Без колебания – посылать! Есть уже крыльная лёгкость, отчего ж не позволить себе это озорство? Как посылать? – да опять же через посольство.
Повадился кувшин по воду ходить.
Прошлый раз, опасаясь преграды, пошёл без телефонного звонка. Сейчас есть и номер:
– Господин Лундстрем?.. Вот я получил две телеграммы из Шведской Академии, хотел бы с вами посоветоваться…
(Не говорить же – несу подсунуть кое-что.)
Бедный Лундстрем, у него открыто крупно дрожали руки. Он не желал оскорбить лауреата грубым отказом, а Ярринга не было, но (потом узнаю) посол запретил ещё что-нибудь от меня принимать после того наглого письма, не прочтённого им вовремя: – «Довольно с меня посредничества между Израилем и арабами, чтоб я ещё посредничал между Солженицыным и Академией». 14 лет уже служил Лундстрем в Москве, очевидно спокойно, и всеми нитями связан с ней, – а теперь рисковал карьерой под силовым напором бывшего зэка, не умея ему отказать. Отирая пот, нервно куря и всей фигурой, и голосом, и текстом извиняясь:
– Господин Солженицын… Если вы разрешите мне высказать своё мнение… Но я должен говорить как дипломат… Понимаете, ваше приветствие [17] содержит политические мотивы…
– Политические?? – совершенно изумлён я. – Какие же? Где?
Вот, вот, – и пальцами, и словами показывает мне на последнюю фразу.
– Но это не направлено ни против какой страны, ни – группы стран! Международный День Прав человека – это не политическое мероприятие, а чисто нравственное.
– Но, видите, такая фраза… не в традиции церемониала.
– Если бы я был там – я бы её произнёс.
– Если бы вы сами были – конечно. Но без вас устроители могут возражать… Вероятно, будут советоваться с королём.
– Пусть советуются!
– Но пошлите почтой!
– Поздно, может опоздать к банкету!
– Так телеграммой!
– Нельзя: разгласится! А они просят сохранить тайну.
Трудно достались ему 15 минут. Брал от меня, ещё с извинениями, заявление в посольство (об отправке письма). Предупреждал, что может и не удаться. Предупреждал, что это – последний раз, а уж нобелевскую лекцию ни в коем случае не возьмёт…
Безжалостно я оставил ему свою речужку, ушёл.
А оказалось: на собственные деньги, потративши свой уикенд, он частным образом поехал в Финляндию и оттуда послал.
Вот он, европеец: не обещал, но сделал больше, чем обещал.
Впрочем, совесть меня не грызёт: те, кто держат голодовку во Владимирской тюрьме, достойны этих затрат дипломата.
Обидно другое: фразу-то выкинули, на банкете её не прочли! То ли – церемониала стеснялись, то ли, говорят, опасались за меня. (Они ведь все меня жалеют. Как сказал шведский академик Лундквист, коммунист, ленинский лауреат: «Солженицыну будет вредна Нобелевская премия. Такие писатели, как он, привыкли и должны жить в нищете».)
Этот мой необычный – нобелевский – вечер мы с несколькими близкими друзьями отметили так: в чердачной «таверне» Ростроповича сидели за некрашеным древним столом с диковинными же бокалами, при нескольких канделябрах свечей, и время от времени слушали сообщения о нобелевском торжестве по разным станциям. Вот дошло до трансляции банкетных речей. Одну передачу смазала заглушка, но такое впечатление, что моей последней фразы не было. Дождались повторения речи в последних известиях, – да, не было!
Эх, не знают нашего Самиздата! – завтра утречком па-а-сыпятся бумаженьки с моим банкетным приветствием.
Снова на инструктажах: «Ведь была ему дана возможность уехать – не уехал! остался вредить здесь! Всё делает как хуже советской власти!» Но газетная кампания против меня в этот раз (как всегда, когда проявишь силу) не сложилась – или я её, по привычке, не ощутил? Я уже настолько вырвался из круга их убогой терминологии, что перестал их замечать. Прорвалась статья в «Правде», что я «внутренний эмигрант» (после отказа эмигрировать!), «чуждый и враждебный всей жизни народа», «скатился в грязную яму», романы мои – «пасквили». Подпись под статьёй была та самая, что под статьями античехословацкими, толкнувшими оккупацию, и естественно было ждать разворота и свиста. Но – не наступило. Ещё в генеральской прессе, более верной идеям партии, чем сама партия, разъяснили армейским политрукам, что: «нобелевская премия есть каинова печать за предательство своего народа»[44]. Ещё на инструктажах, как по дёргу верёвочки: «Он, между прочим, не Солженицын, а Солженицер…» Ещё в «Литгазете» какой-то беглый американский эстрадный певец учил меня русскому патриотизму…
Как и всё у них, закисла и травля против меня, и письмо у Суслова – в той же их немощной невсходной опаре. Движение – никуда. Брежневское цепенение.
Не сбылась моя затея найти какой-то мирный выход. Но и нобелевский кризис, угрожавший вывернуть меня с корнем, перенести за море и похоронить под пластами, после слабых этих конвульсий – утих.
И всё осталось на местах, как ничего не произошло.
В который раз я подходил к пропасти, а оказывалась – ложбинка. Главный же перевал или главная пропасть – всё впереди, впереди.
* * *
Хотя и следующий 1971 год я совсем не бездеятельно провёл, но сам ощутил его как проход полосы затмения, затмения решимости и действия.
Во многом я чувствовал так потому, что проступила, надавила, ударила та сторона жизни, которая на струне моего безостановного движения всегда была мною пренебрежена, упущена, не рассмотрена, не понята, и теперь отбирала сил больше, чем у всякого другого бы на моём месте, едва ли не больше, чем ухабы главного моего пути. Шесть последних лет я сносил глубокий, пропастный семейный разлад и всё откладывал какое-нибудь его решение – всякий раз в нехватке времени для окончания работы, или части работы, всякий раз уступая, смягчая, ублаготворяя, чтобы выиграть вот ещё три месяца, месяц, две недели спокойной работы и не отрываться от главного дела. По закону сгущения кризисов отложенное хлопнуло как раз на преднобелевские месяцы – и дальше растянулось на год, на два и больше. (Государство не упустило вкогтиться в развод как в добычу, поддерживая отказы жены, поволокли меня через четыре судебных разбирательства, и сложилась такая уязвимость: что ни случись со мной, сестра моей работы и мать моих детей не может ни ехать со мною, ни прийти в тюрьму на свидание, ни защищать меня и мои книги, это всё попадало к врагам.)
А ещё потому, должно быть, что не бывает пружин вечного давления, и всякий напор когда-то осуждён на усталость.
Так ждал этого великого события – получить Нобелевскую премию, как высоту для атаки, – а как будто ничего не совершил, не пшиком ли всё и кончилось? – даже лекции не послал.
Моя нобелевская лекция заранее рисовалась мне колокольной, очистительной, в ней и был главный смысл, зачем премию получать. Но сел за неё, даже написал – получалось нечто, трудно осиливаемое.
Хотел бы я говорить только об общественной и государственной жизни Востока, да и Запада, в той мере, как доступен был он моей лагерной смётке. Однако, пересматривая лекции своих предшественников, я увидел, что это дерёт и режет всю традицию: никому из писателей свободного мира и в голову не приходило говорить о том, у них ведь другие есть на то трибуны, места и поводы; западные писатели если лекцию читали, то – о природе искусства, красоты, природе литературы. Камю это сделал с высшим блеском французского красноречия. Должен был и я, очевидно, о том же. Но рассуждать о природе литературы или возможностях её – тягостная для меня вторичность: что могу – то лучше покажу, чего не осилю – о том и не рассуждаю. И такую лекцию мою – каково будет прочитать бывшим зэкам? Для чего ж мне был голос дан и трибуна? Испугался? Разнежился от славы? Предал смертников?
Посилился я соединить тему общества и тему искусства – всё равно не получилось, два многогнутых стержня, отделяются, распадаются. И пробные близкие подтвердили – не то. И послал я шведам письмо, всё объяснил как есть, честно: потому и потому хочу от лекции отказаться [18].
Они вполне обрадовались: «То, что для учёного кажется естественным, может оказаться неестественным для писателя – как раз в вашем случае… Вы не должны чувствовать, что как бы нарушили традицию».
И на том – закрыли мы лекцию. Впрочем, тут ещё недоразумение было: директору Нобелевского Фонда пришлось публично объявлять о моём отказе. Но, видимо, опасаясь причинить мне вред, он не обнародовал истинной причины отказа, а сочинил свою, для Запада вполне приличную, не догадавшись (роковой разрыв западного и восточного сознаний!), что на Востоке такая причина позорна для меня: потому, де, не посылаю лекции, что не знаю, каким путём отправить: легальным – цензура задержит, нелегальным – рассматривается властями моей страны как преступление. То есть получив Нобелевскую премию, я стал благонамеренный раб?.. Это меня уязвило, пришлось посылать опровержение, оно застряло в пути. Поди из нашей дыры руками маши, ведь мы безправны и безголосы, нас выверни как хочешь. (Через полтора года, уже после лекции, это выплывет в «Нью-Йорк таймс» такой наоборотицей: будто я сперва составил вариант лекции вялый, чисто литературный, а друзья пристыдили меня: нужно острей!)
Но та была правда в этом случайном вздоре, что пригнулась стальная решимость, с какой я прорезался все годы от ареста и без какой – не дойти.
Я не заступился за Буковского, арестованного в ту весну. Не заступался за Григоренко. Я вёл свой дальний счёт сроков и действий. Главный-то грех ныл во мне – «Архипелаг».
Сперва я намечал его печатанье на Рождество 1971. Но вот оно и пришло, и прошло, – а у меня отодвинуто. (Впрочем, на европейские языки всё ещё не переведено, не готово.) Для чего же спешили с таким страхом и риском? Уже Нобелевская премия у меня – а я отодвигаю? Какие бы объясненья я ни подстилал, но для тех, кто в лагерные могильники свален, как мороженые брёвна, с дрог по четыре, мои резоны – совсем не резоны. Что было в 1918, и в 1930, и в 1945 – неужели в 1971 ещё не время говорить? Их смерть хоть рассказом окупить – неужели не время?..
Если бы я поехал – уже сейчас бы сидел над корректурой «Архипелага». Уже весной бы 1971 напечатал его. А теперь измысливаю оправдание, как отодвинуть, отсрочить неотклонимую чашу?
Нет, не оправдание! – хотя для строгости лучше признать так. Не оправдание, потому что не я один, но и некоторые из 227 зэков, дававших показания для моей книги, могут жестоко пострадать при её опубликовании. И для них – хорошо бы она вышла попозже. А для тех, похороненных, – нет! скорей!
Не оправдание, потому что Архипелаг – только наследник, дитя Революции. И если скрыто о нём – то ещё скрытее, ещё недокопаемей, ещё искажённее – о ней. И с ней спешить – ещё более надо, никак не отлагательней. И так сошлось, что именно – мне. И как всё успеть одному?
В мирной литературе мирных стран – чем определяет автор порядок публикации книг? Своею зрелостью. Их готовностью. Хронологической очерёдностью – как писал их или о чём они.
А у нас – это совсем не писательская задача, но напряжённая стратегия. Книги – как дивизии или корпуса: то должны, закопавшись в землю, не стрелять и не высовываться; то во тьме и беззвучии переходить мосты; то, скрыв подготовку до последнего сыпка земли, – с неожиданной стороны в неожиданный миг выбегать в дружную атаку. А автор, как главный полководец, то выдвигает одних, то задвигает других на пережидание.
Если после «Архипелага» мне уже не дадут писать «Р-17», то как можно большую часть его надо успеть до.
Но и так – безсмысленная задача: 20 Узлов, если каждый по году, – 20 лет. А вот «Август» 2 года писался, – значит, 40 лет? Или 50?
Постепенно сложилось такое решение. Критерий – открытое появление Ленина. Пока он входит по одной главе в Узел и не связан прямо с действием – этим главам можно оставлять пустые места, утаивать их. Узлы выпускать без них. Так возможно с первыми тремя, в Четвёртом Узле Ленин уже в Петрограде и ярко действует, открыть же авторское отношение к нему – это всё равно что «Архипелаг». Итак – написать и выпустить три Узла – а потом уже двигать всё оставшееся, в последнюю атаку?
По расчётам казалось, что это будет весна 1975 года.
Человек предполагает…
Окончательное решение, окончательный срок приносили лёгкость и свет. Пока – отодвинуть, и работать, работать. Зато потом – вплотную, неизбежно, безо всякой лазейки. И радость: неизбежно? – тем проще!
Пока – печатать уже готовый «Август». Новизна шага: открыто, в западном издании, от собственного имени, безо всяких хитрых уклонов, что кто-то использовал мою рукопись, распространил без ведома, а остановить-де руки мои коротки. Всё-таки – новый угол радостного распрямления, всё-таки – движение в ту же сторону. Что-то скажется прямо и о Боге, залузганном семячками атеистов. И для будущих публикаций не безразлично, как будет принят на Западе «Август».
Без вынутой ленинской главы не было в «Августе» почти ничего, что разумно препятствовало бы нашим вождям напечатать его на родине. Но слишком ненавистен, опасен и подозрителен (не без оснований) был я, чтобы решиться утверждать меня тут печатанием. Я это понимал и не дал себе труда послать рукопись «Августа» советскому издательству (да это было бы и уступкой по сравнению с «сусловским» письмом: сперва пусть «Раковый» печатают). «Нового мира» не было теперь, и я свободен был от частных обязательств. В марте я уже отправил рукопись в Париж, обещал Никита Струве за три месяца набрать. Тут Ростропович, в духе своих блестящих шахматных ходов, предложил всё-таки послать и в советское издательство – изобличить их нежелание. «Да я даже экземпляра им не дам трепать! Одна закладка сделана, для Самиздата!» – «А ты и не давай. Ты пошли им бумажку: извести, что кончил роман, пусть сами у тебя просят!» Это мне понравилось. Не одну, а семь бумажек отпечатал, в семь издательств, в разных вариантах: ставлю вас в известность, что окончил роман на такую-то тему, такой-то объём. Разослал. Игра всё-таки с риском: а вдруг запросят? придётся дать рукопись, и тогда остановить набор в Париже? Печатать всё равно не будут, а год вполне могут у меня вырвать. Но так уже тупо заклинило у нас, что и этого хода они не использовали: ни одно издательство и ухом не повело, не отозвалось. – Да может, были даже разочарованы, что я пишу о 1914, как бы уклоняюсь от окончательной расправы надо мной? Нет, иначе: ГБ само раздобыло мою машинопись – и хитроумно подсунуло издательству «Ланген-Мюллер» в ФРГ – готовить пиратское издание ещё раньше, чем вышел оригинал в Париже. Откуда ж они взяли текст? Ведь я не давал в Самиздат. Думаю – в квартире, где считывали отпечатки вслух, – записали на магнитофон? ведь везде подслушивание. Или, быть может, произошла утечка у кого-то из моих «первочитателей» (зимой 1970/71 человек тридцать читало: по новизне дела, исторический роман, я просил их заполнить некую авторскую анкету, помочь мне разобраться).
А Твардовский-то! – так ждал мой следующий роман для своего журнала когда-то. Теперь ему хоть перед смертью бы его прочесть.
В феврале 1971, как раз через год после разгрома «Нового мира», его выписали из кремлёвской больницы, искалеченного неправильным лечением, с лучевой болезнью. И мы с Ростроповичем поехали к нему.
Мы ожидали застать его в постели, а он – стараясь для нас? – сидел в кресле, в больничной курточке фиолетово-зелёно-полосчатой и в больничных кальсонах, обёрнут ещё пледом. Я наклонился поцеловать его, но он для того хотел непременно встать, поднимали его с двух сторон дочь и зять: правая сторона у него бездействовала!! – инсульт? – и сильно опухла правая кисть.
– По-ста-рел, – тяжело, но чётко выговорил он. Неполная по движениям губ улыбка выражала сожаление, даже сокрушение.
По краткости фразы (а оказалась она едва ли не самой длинной и содержательной за всю беседу!..), по недостатку тона и мимики я так и не понял: извинялся ли он за постарение своё? или поражался моему?
Опять его опустили, и мы сели против него. Всё в том же памятном холле, в сажени от камина, и даже на том самом месте, где впервые, в живых движениях и словах, он поразил меня своей склонностью к Самиздату и к Би-би-си. Теперь, лицом к целостенному окну, он сидел почти без движений, почти без речи, и голубые глаза, ещё вполне осмысленные, а уже и рассредоточенные, как будто теряющие собранную центральность, – то ли понимание выражали, то ли пропуски его, а всё время жили наполненней, чем речь.
Быстро определилось, что связных фраз он уже не говорит вообще. В напряжении начинает – вот, скажет сейчас, – нет, выходит изо рта набор междометий, служебных слов – без главных содержательных:
– А как же… как раз… это самое… вот…?
Но действующей левой рукой – курил, курил неисправимо. А писать – уже не сможет?..
Жена А. Т. принесла 5-й, последний, том его собрания сочинений. Я высказал, что помню: тот самый том, который задерживало упорство А. Т. не уступить абзацев обо мне. (Но не спросил, как теперь, наверно уступлены.) А. Т. – кивает, понимает, подтверждает. Потом я вытащил переплетенный в два тома машинописный «Август» и, невольно снижая темп речи, упрощая слова, показывал и растолковывал Трифонычу, как мальчику, – что это часть большого целого, и какая, зачем приложена карта. Всё с тем же вниманием, интересом, даже большим, но отчасти и рассредоточенным, он кивал. Выговорил:
– Сколько…?
Второе слово не подыскалось, но очень ясен редакторский вопрос: сколько авторских листов? (Во скольких номерах «Нового мира» это бы пошло?..)
Читал я расстановочно и своё письмо Суслову, объяснял свои ходы и препятствия в Нобелиане, и с Яррингом, и с премиальными деньгами, – всё это с большим вниманием и участием вбирал он, и движеньями головы и заторможенной мимикой выказывал своё вовсе не заторможенное отношение. Усиленно и иронично кивал, как он с Сусловым меня знакомил. Как бы и смеялся не раз, даже закатывался – но только глазами и кивками головы, не ртом, не полнозвучным хохотом. Увидев карту при «Августе», изумлённо мычал, как делают немые, так же – на произошедшее тем временем тайное моё исключение из Литфонда. Будто понимал он всё – и тут же казалось: нет, не всё, с перерывами, лишь когда сосредотачивался.
Мне приходилось разговаривать с людьми, испытывающими частный паралич речи, – эти мучения передаются и собеседнику, тебя дёргает и самого. У А. Т. – не так. Убедясь в невозможности выразиться, и не слыша правильного подсказывающего слова, он не сердится на это зря, но общим тёплым принимающим выражением глаз показывает свою покорность высшей стихии, которую и все мы, собеседники, признаём над собой, но которая нисколько не мешает же нам понимать друг друга и быть единого мнения. Активная сила отдачи была скована в А. Т., но эти тёплые потоки из глаз не ущерблены, и болезнью измученное лицо сохраняло его изначальное детское выражение.
Когда Трифонычу особенно требовалось высказаться, а не удавалось, я помогающе брал его за левую кисть – тёплую, свободную, живую, и он ответно сжимал, – и вот это было наше понимание.
…Что всё между нами прощено. Что ничего плохого как бы и не бывало – ни обид, ни суеты…
Я предложил домашним: отчего б ему не писать левой рукой? всякий человек может, даже не учась, я в школьное время свободно писал, когда правая долго болела. Нашли картон, прикрепили бумагу, чтоб не сползала. Я написал крупно: «Александр Трифонович». И предложил: «А вы добавьте – Твардовский». Картон положили ему на колени, он взял шариковую ручку, держал её как будто ничего, но царапающе-слабые линии едва-едва складывались в буквы. И хотя много было простора на листе – они налезли на мою запись, пошли внакладку. А главное – цельного слова не было, смысловая связь развалилась:
Трси …Как же он отзовётся на мой роман? (И что теперь ему в этом чтении?..) Я предложил два цвета закладок – для мест «хороших и плохих».
И ещё сколького не увидит он, не узнает! – самого интересного в России XX века. Предчувствовал:
Смерть – она всегда в запасе, Жизнь – она всегда в обрез.А болезни своей он так и не ведал. Грудь болит, кашель, – думает: от курения. Голова? – «у меня болезнь, как у Ленина», – говорил домашним.
Потом затеяли чай, одевали А. Т. в брюки, вели к столу. Особенно на ковре бездейственная нога никак не передвигалась, волочилась, её подтягивали руками сопровождающих; усадив отца на стул, весь стул вместе с ним, крупным, ещё подтягивали к столу.
Ростропович за чаем в меру весело, уместно, много рассказывал. А. Т. всё рассеянней слушал, совсем уже не отзывался. Был – в себе. Или уже там одной ногой.
А потом мы опять отвели его в кресло к окну – так, чтобы видел он двор, где три года назад, чистя снег, складывал своё письмо к Федину; и прочищенную не им дорожку к калитке, по которой мы с Ростроповичем сейчас уйдём.
Ах, Александр Трифонович! Помните, как обсуждали «Матрёнин двор»? – если бы Октябрьская революция не произошла, страшно подумать, кем бы вы были?..
Так вот и были бы: народным поэтом, покрупней Кольцова и Никитина. Писали бы свободно, как дышится, не отсиживали бы четыреста гнусных совещаний, не нуждались бы спасаться водкой, не заболели бы раком от неправедного гонения.
А когда через три месяца, в конце мая, мы с Борисом Можаевым ещё раз приехали к нему – Трифоныч оказался значительно лучше. Он сидел в том же холле, в том же кресле, так же повёрнутый лицом к дорожке, по которой приходили из мира и уходили в мир, а он сам не мог добрести и до калитки. Но свободной была его левая нога, и левая рука (всё время бравшая и поджигавшая сигареты), свободнее мимика лица, почти прежняя, и, главное, речь свободнее, так что он осмысленно мог мне сказать о книге (прочёл! понял!): «Замечательно», и ещё добавил движением головы, мычанием.
Стояло в холле предвечернее весёлое освещение, щебетали птицы из сада, Трифоныч был намного ближе к прежнему виду, рассказываемое всё понимал, и можно было вообразить, что он выздоравливает… Однако левой рукой не писал и связных фраз более не выговаривал.
Увы, и в этот последний раз я должен был скрытничать перед ним, как часто прежде, и не мог открыться, что через две недели книга выйдет в Париже…
Тем более не мог ему открыть, не мог высказать при домашних, чем ещё я очень занят был в ту весну (в перерыве между Узлами, в перерывах главной работы всегда проекты брызжут, обсуждался уже со многими самиздатский «журнал литературы и общественных запросов» – с открытыми именами авторов; уже и редакционный портфель кое-что содержал). В ту весну 71-го внешне только и было одно событие со мной: выход «Августа», открыто от моего имени. (При этом я предполагал опубликовать своё письмо Суслову, объясняя, что им – было предложено, это они отвергли все мирные пути. Но потом раздумал: сам по себе выход книги сильнее всякого письма, нападут – опубликую.)
______________
Не сразу собрались напасть на «Август», сложно готовились. Тем временем, как бывает при затишьи военных действий, шла непрерывная подземная, подкопная, минная война. Она полна была труда, забот, высших волнений, – пройдёт или нет? срыв или удача? – а снаружи совершенно не видна, снаружи – бездействие, дремота, загородное одиночество. Мы – готовили фотокопии недостающих на Западе моих рукописей, ещё много было прорех; пользуясь каналом, о котором когда-нибудь (Пятое Дополнение), – мы с Алей благополучно отправили всё на Запад, создали недосягаемый для врага сейф. Это была крупнейшая победа, определяющая всё, что случится потом. («Архипелаг» пришлось сдублировать, послать вторично. Та рискованная Троицына отправка расплылась потом в человеческом несовершенстве, я перестал быть её полным хозяином, и мне надо было снабдить адвоката независимым экземпляром. (Об этом тоже когда-нибудь.) Только с этого момента – с июня 1971 года, я действительно был готов и к боям и к гибели.
Нет, даже ещё не с этого, позже. Моё главное завещание (невозможное к предъявлению в советскую нотариальную контору) было отправлено адвокату Хеебу в 1971, но – незаверенным. Лишь в феврале 1972 приехавший в Москву Генрих Бёлль своей несомненной подписью скрепил каждый лист, – и, вот только отправив на Запад это завещание, я мог быть спокоен, что обезпечена и будущая судьба моих книг и посмертная воля.
Завещание начиналось с программы, для отдельной публикации:
«…Настоящее завещание вступает в силу в одном из трёх случаев:
– либо моей явной смерти;
– либо моего безследного (сроком в две недели) исчезновения с глаз русской общественности;
– либо заключения меня в тюрьму, психбольницу, лагерь, ссылку в СССР.
В любом из этих случаев мой адвокат г. Ф. Хееб публикует моё завещание, и этой публикацией оно вводится в силу. Никакое в этом случае моё письменное или устное возражение из тюрьмы или иного состояния неволи не отменяет, не изменяет в данном завещании ни пункта, ни слова. Некоторые скрытые подробности и личные имена устроителей, распорядителей оглашаются моим адвокатом лишь после того долгожданного дня, когда на моей родине наступят элементарные политические свободы, названным лицам не будет грозить опасность от разглашения и откроется ненаказуемая легальная возможность это завещание исполнять…»
И дальше – распределение Фонда общественного использования (я называл не цифры, а цели, в которых хотел бы участвовать, надеясь, что они привлекут и других желателей помочь, и таким образом будут восполнены недостающие суммы). Такая публикация сама по себе представляла сильный отдельный удар.
Долго это, долго: подготовить к бою корпуса, снабдить до последнего патрона и вывести на исходные позиции.
За этим многолетним изнурительным поединком многое важное я и пропускал. Долго болел Александр Яшин и настойчиво звал меня к себе в больницу, ощутил, что нужен я ему перед смертью, хотя мы почти незнакомы. А я долго же и собирался: то душа занята, то ведь, чтобы мочь поехать, надо тайники выгребать. Наконец поехали к нему, с тем же Можаевым, – остановили нас перед дверьми палаты: подождите. Может, и не пустят? Я сидел и на коленях писал ему письмо. Через полчаса впустили – за эти-то полчаса он и умер, пока мы были за порогом. Лежал с ещё живым лицом, плакала вдова.
А разговор с Фёдором Абрамовым, ещё в «Новом мире» когда-то, я отклонил из-за того, что мне о нём говорили, и не один человек, будто он – бывший следователь КГБ. А вроде – оказалось и неправда. Так и обидел его зря.
С ними-то – как раз и надо было говорить.
А враги – вели подкопы свои, о которых мы, естественно, не знали. Тот же Флегон в Англии в 1971 готовил пиратское издание «Августа» с целью подорвать права моего адвоката и с этой стороны разрушить моё возможное печатание на Западе[45]. В СССР по тексту «Августа» начались розыски моего соцпроисхождения. Почти все родственники уже были в земле, но выследили мою тётушку – и к ней отправилась гебистская компания из трёх человек выкачать на меня «обличительные» данные.
А я тем летом был лишён своего Рождества, впервые за много лет мне плохо писалось, я нервничал – и среди лета, как мне нельзя, решился ехать на юг, по местам детства, собирать материалы, а начать – как раз с этой самой тёти, у которой не был уже лет восемь.
В полном соответствии с ситуациями минной войны иногда подкопы встречаются лоб в лоб. Если б я доехал до тёти, то гебистская компания приехала бы при мне. Но меня в дороге опалило (как я тогда думал, см. [46]), и я с ожогом вернулся от Тихорецкой, не доехав едва-едва. Гебисты-«почитатели» успешно навестили тётю, от неё получили (для «Штерна») её записи, её устные рассказы, и вот ликовали! По 20-м – 30-м годам обвинения были бы убийственные, это всё и скрывали мы с мамой всю жизнь, дрожа и сгибаясь в раздавленных хибарках. Однако сорвался другой их подкоп: благодаря внезапному возврату (всё те же правила минной войны), я попросил приятеля (Горлова) съездить в Рождество за автомобильной деталью.
Он мог поехать во всякий другой день, но по случаю поехал тотчас, едва я вернулся с юга, – 12 августа, и час в час накрыл девятерых гебистов, распоряжавшихся в моей дачке! Не вернись я с юга – их операция прошла бы без задоринки, – кто больше выиграл, кто проиграл от моего возврата? В Рождестве в это лето жила моя бывшая жена, она была под доглядом своего друга (их человека), и в этот день гебистам было гарантировано, что она – в Москве и не вернётся. А я – на юге. Они так распустились, что даже не выставили одного человека в охранение, – и Горлов застал их в разгар работы, а может быть – лишь при начале её: ставили ли они какую-нибудь сложную аппаратуру? но обыска подробного ещё не успели произвести, или так и не научились этого делать? Сужу по тому, что через год, опять коротко живя летом в Рождестве, я обнаружил там не уничтоженный мною по недосмотру, давно привезенный на сожжение полный комплект (по предыдущую главу) копирки от этого самого «Телёнка», которого сейчас читает читатель, и такой же комплект копирки от сценария «Знают истину танки»! Каждый лист пропечатывался дважды, но очень многое легко читалось – и давно б у них были почти полные тексты, – нет, прошлёпали гебисты! (Позже я узнал: на другое утро, в 4 часа, в тумане, под лай собак, опять приходил их десяток, что-то доделать или следы убрать. Напуганные соседи подсматривали меж занавесок, не вышел никто.) Из-за Горлова пришлось им всё бросить и бежать, правда – Горлова волокли за собою, как пленного, лицом об землю, и убили бы его, несомненно, но он успел изобрести и в горячие минуты выдать себя за иностранного подданного, а такого нельзя убивать без указания начальства, затем сбежались соседи, потом обычный допрос в милиции – и так он уцелел. Он мог бы смолчать, как требовали от него, – и ничего б я не узнал. Но честность его и веяния нового времени не позволили ему скрыть от меня. Правда, моего шага [19] он не ждал, даже дух перехватило, а это было – спасенье для него, чтоб не давили вглухую. Я лежал в бинтах, безпомощный, но разъярился здоровей здорового, и опять меня заносило – в письме Косыгину [20] я сперва требовал отставки Андропова, еле меня отговорили Ростропович с Вишневской, высмеяли.
Так взорвался наружу один подкоп – и, кажется, дёрнул здорово, опалило лицо самому Андропову. Позвонили (!) ничтожному зэку, передали от министра лично (!): это не ГБ, нет, милиция… (Надо знать наши порядки, насколько это нелепо.) Вроде извинения…
Другие подкопы они взорвали осенью: два пиратских издания «Августа», потом статья обо мне и моих старших родственниках в «Штерне». Считаю, что взрывы намного слабей: мудростью главным образом английского судьи, создавшего юридический прецедент о праве Самиздата, проиграли они годовые судебные процессы, и права моего адвоката утвердились крепче, чем стояли. А статья «Штерна», перепечатанная «Литературкой», вызвала в СССР не гнетущую атмосферу травли, как было бы в славные юно-советские годы, а взрыв весёлого смеха: так трудолюбивая хорошая семья?! (И сами же себе развалили «сионистскую» трактовку моей деятельности.)[46]
Вот времена! – кучка нас, горсточка, а у них – величайшая тайная полиция мировой истории, какой опыт, сколько лбов дармовых, какая механизация врубового дела, сколько динамита, – а минную войну не могут выиграть.
С нашей стороны тут было и не без избыточного озорства. Например, в декабре 1971, отправляя по почте письмо в Швейцарию своему адвокату (письма эти когда доходили, когда нет), я положил в конверт –
«ВЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЦЕНЗУРЫ
Московского Международного почтамта
В вашей фактической власти всякое письмо – читать, анализировать, фотографировать, изучать на нюх, на просвет, над огнём, с помощью мочи и других химикалиев. Однако вы обязаны доставлять его адресату в сроки, правдоподобные при нынешних транспортных скоростях, – хотя бы для того, чтобы прикрыть свою деятельность и сделать вид, что почтовая связь как бы существует. Если ещё раз какое-либо письмо ко мне или от меня пропадёт или долго задержится (срочное письмо – 35 дней!), – я вынужден буду написать вам открытое письмо на эту тему. Оно не покроет вас славой.
А. Солженицын»(И самое смешное, что это вложение дошло в сохранности до Хееба! – цензура предпочла притвориться, что её нет! Вот уж мы с Алей смеялись, узнав!)
А в марте 1972 как-то раз мои доброхоты в одном учреждении, где прихожий гебист положил портфель и отлучился в другую комнату, с отчаянной смелостью заглянули в портфель, успели перекопировать и передали мне:
«I отдел 5 Управл. КГБ при СМ СССР – Широнину
Ленинград. УКГБ – Носыреву
6 марта вечерним поездом из Москвы в гор. Ленинград в сопровождении “НН” выезжает жена “Паука” – Решетовская Наталья Алексеевна. Просим вас дать указание продолжать мероприятие “НН” в отношении Решетовской, выявлять посещаемые адреса. В Ленинграде Решетовская ориентировочно пробудет до 19 марта.
Зам. начальника 5 Управления КГБ
ген. – майор Никашкин»Я – не забезпокоился. Я не знал, что у Самутина, к которому Н. А., вероятно, пойдёт, всё ещё, вопреки моему настоянию сжечь, хранится «Архипелаг».
Много тут ещё случаев. Если рассказывать подробно и всё вспоминать, то все годы большая часть наших забот и тревог уходила не на крупные действия, дающие плодоносные результаты, но на волненья, метанья, поиски, предотвращенья, предупрежденья, – это в условиях, когда у них слежка, у них связь, телефонная, почтовая, а нам нельзя ни звонить, ни писать, иногда и встречаться, – а как-то спасать положение. Таких острых опасностей было два десятка, не преуменьшу, – когда-нибудь рассказать о них подробней.
Тут вспомню два-три случая. Один – в Свердловске (не хочется это грязное название и писать), куда заслан на хранение «Круг первый», 96-главый. Не по слежке, не по подозрению, но по обстоятельству, которого предвидеть невозможно, в комнату, где хранится «96»-й, приходят гебисты. Ясно, что обыск, и спасенья нет. А они – обыска не делают, лишь требуют признания, что у человека есть «Читают Ивана Денисовича». Он признаётся, сдаёт. Но «96»-го не уничтожает, – ведь велено хранить, и ещё долгая переписка с оказиями, мы знаем о визите ГБ, возможен повторный, и захватят «96»-й, сжигайте скорей! ответа долго нет! пока наконец сжигается.
Другой раз грянуло: «Телёнок» – вот этот самый опять, который вы держите сейчас в руках, «Телёнок» – ходит по Москве! Ошеломительно! Ведь тут – всё нараспашку, всё названо открыто, опаснее этого – что же ещё? Хранили, таили – как вырвалось? где? через кого? почему? начинаем следствие, проверяем наши экземпляры, надо (А. А. Угримову, Пятое Дополнение) ехать за город и физически проверить, что на месте, что не двигалось, что не могли перефотографировать. Подозрение, недоверие, всё в суматохе и переполохе.
И – поиск с другого конца: кто слышал, что читали? кому рассказали, что кто-то читал? и кто же – читал сам? как выглядел экземпляр? на чьей квартире читали? их адрес, их телефон? (Не обойтись без называний по телефонам голосами взволнованными, уже на Лубянке, наверно, заметили, вперебой нам пометёт и их погоня сейчас!) Я – на ту квартиру! Колитесь честно, лучше передо мной, чем ждать, пока прикатит ГБ. Колются, называют. И – машинописный отпечаток кладут передо мной. Экземпляр – не наш! (наши честно на месте оказались). Не наш – значит, новая перепечатка! Ещё четыре-пять таких? Не наш – и не фотокопия нашего. Но спечатан – точно с нашего, и даже рукописно внесены мои последнейшие поправки. Значит – воровали мне вослед, копировали из-под руки, кто-то самый близкий, тайный, кто же? Звонить тому человеку, кто приносил. Нет дома. Сидим и ждём, меньше мельканья. Через несколько часов – приходит тот человек и смущённо называет источник. Из самых доверенных! Дали ей – только прочесть. Она – тайком перепечатала (для истории? для сохранности? просто маниакально?). И дала прочесть – одному ему (он – близкий). А он принёс – этим, в благодарность за какой-то должок. А эти – позвали на радостях ближайшую подругу. А та взахлёб по телефону поделилась со своей подругой (А. С. Берзер). И на этом четвёртом колене – схвачено нами: Берзер передала – нам! Велика Москва, а пути по ней – короткие. Звоню и виновнице. Встречаюсь и с ней. Признанья, рыданья. Впредь отсечена от доверия. Конфискую добычу. За эти часы есть признаки: гебисты взволновались, засновали гебистские легковые по четыре молодчика в тёмном нутре. Облизнитесь, товарищи! Опоздали на полчасика! (Так и не знают: о чём был переполох? что мы искали? что они упустили?)
А в декабре 1969 – очень похожий случай с «Прусскими ночами». Так же вот слух по Москве: ходят! невозможно, но – ходят! Так же я бросился по квартирам, по следам, так же поймал копию: тоже – не наша! но – точно с нашей! Украдено! близким! кем? Находятся и следы: Лёва Копелев держал несколько дней, дал почитать родственнице, та – дальше, а те – перешпокали. И держали в тайне 4 года! Но поскольку меня изгнали из Союза писателей – теперь отчего ж не пустить в Самиздат? что ещё осталось для автора опасным?
Как мог – погасил по Москве, и в Уфе, куда уже проскочило. Движение рукописи прекратилось.
Вот из таких спокойных недель составляются спокойные наши годы, мирные, без заметных событий, когда главные силы неподвижны и «ничего не происходит».
И сколько же лет так можно тянуть? До сегодня – 27 лет, от первых стихов на шарашке, первых пряток и сжогов.
______________
А над этой скрытой мелкой войною высоким слоем облаков – плывёт история, плывут события всем видные, – и своим чередом зовут к действию, исторгают выклик. Сколько-то удержано, сколько-то не удержать.
В декабре 1971 мы хоронили Трифоныча.
Перегорожены были издали прилегающие улицы, не скупясь на милиционеров, а у Новодевичьего кладбища – и войска (похороны поэта!), отвратительно командовали через мегафон автомобилям и автобусам, какому ехать. Кордон стоял и в вестибюле ЦДЛ, но меня задержать не посмели всё-таки (жалели потом). От неуместного алого шёлка, на котором лежала голова покойного (в первые же часы после смерти вернулось к нему детское доброе, примирённое выражение, его лучшее) и чем затянут был гроб весь, от лютых и механических физиономий литературного секретариата, от фальшивых речей – всё, чем мог я его защитить, было два крестных знамения – после двух митингов – одно в ЦДЛ, другое на кладбище. Но думаю, для нечистой силы и того довольно. Допущенный ко гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего), я, чтобы не подводить семью, не решился в тот же вечер дать в Самиздат напутственное слово – и придержал его до девятого дня, оттого – каждый день читал его, читал, повторял – и вжился в это прощальное настроение, когда события жизней мерятся совсем другими отрезками и высотами, чем мы делаем повседневно [21].
Высказал. Так естественно – смолкнуть теперь, само горло не говорит. Но всего через неделю, в сочельник ночью, слушаю по западному радио рождественскую службу, послание Патриарха Пимена – и загорается: писать ему письмо. Невозможно не писать! И – новые заботы, новое бремя, новая сгущённость дел.
(С того письма, нет, уже с «Августа» начинается процесс раскола моих читателей, потери сторонников, и со мной остаётся меньше, чем уходит. На «ура» принимали меня, пока я был, по видимости, только против сталинских злоупотреблений, тут и всё общество было со мной. В первых высказываниях я маскировался перед полицейской цензурой – но тем самым и перед публикой. Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить всё точней и идти всё глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников, в надежде на потомков. Но больно, что терять приходится даже среди близких.)
* * *
Однако почему это всё здесь рассказывается? а где же обещанная Нобелиана?
А Нобелиана – своим чередом. Пер Хегге был сильно сердит на Ярринга за низость в нобелевской истории и обещал непременно его разоблачить. Но Хегге выслали из СССР, я об его угрозе и забыл. А он – исполнил, и попал на лучшее время: в сентябре, за месяц до присуждения новых премий и в начале той сессии ООН, где будут выбирать генерального секретаря, куда Ярринг жаждет, опубликовал книгу воспоминаний – и в ней подробно, как Ярринг подыгрывал советскому правительству против меня. (Кстати, Хегге поместил там и непроверенные слухи, – например, что только Сахаров отговорил меня от поездки в Стокгольм; о том и разговора у нас никогда не было с Сахаровым.) И – создал в Швеции скандал, даже премьер-министру Пальме, легкокрылому и быстроумому социалисту, тоже сердечно расположенному к стране победившего пролетариата, пришлось оправдываться – и по шведскому телевидению, и письмом в «Нью-Йорк таймс». Сперва: он, Пальме, не знал, как Ярринг распорядился. Потом и посмелей: а что ж оставалось делать? посольство – не место для политической демонстрации (как он заранее уверен, что чистой литературы тут не жди!). И опять качнули Шведскую Академию, покоя нет ей со мной, такой хлопотный лауреат был ли когда раньше? Секретарь Академии Карл Гиров заявил: вот в понедельник напишу Солженицыну, не хочет ли он получить нобелевские знаки в посольстве. Юмор: это он – в субботу сказал, в субботу же и по радио передали. А у меня как раз оказия на Запад в воскресенье, сижу ночью письмо пишу. Я сразу ему – ответ, отослал в воскресенье. А Гиров, оказывается, не только в понедельник, но и три недели письма не отправил. А мой ответ – получил… Мой ответ: неужели Нобелевская премия – воровская добыча, что её надо передавать с глазу на глаз в закрытой комнате?.. А пока прислали мне коммюнике Академии (срок легальных писем – 3 недели в один конец), я и коммюнике услышал по радио, и – ответил тотчас же.
После долгого своего «ожога» я только вошёл в работу над «Октябрём Шестнадцатого», оказалось – море, двойной Узел, если не тройной: за то, что я «сэкономил», пропустил 1915 год, несомненно нужный, и за то, что в Первом Узле обошёл всю политическую и духовную историю России с начала века, – теперь всё это сгрудилось, распирает, давит. Только бы работать, так нет, опять зашумела нобелиана, как будто мне с медалью и дипломом на руках будет легче выстаивать против ГБ. Раз так – надо Узел бросать, опять оживлять и переделывать лекцию, а напишешь – с нею выступать. А там такого будет наговорено – может быть, и разломается моё утлое бытие, и моё пристанище тихое безценное у Ростроповича, ах как жаль бросать Второй Узел, так хорошо я наметил: трудиться тихо до 1975 года.
Человек предполагает…
При новой редакции мне удалось освободить лекцию от избытка публицистики и политики, стянуть её точнее вокруг искусства и, может быть, приблизиться к – ещё никем не определённому и никому не ясному – жанру нобелевской лекции по литературе. Тем временем шла переписка с секретарём Шведской Академии Карлом Рагнаром Гировым [22]. Шведское м.и.д. снова отказало предоставить посольство для церемонии, я предложил квартиру Али, где сам ещё не имел права жить [23]. Прецедента, кажется, не было, но Гиров согласился. За эти месяцы я очень оценил его такт и глубокие душевные движения, он всё более проявлял себя не исполнителем почётной должности, но сердечным, решительным и смелым человеком (была ему и в Швеции на многих нужна смелость). Стали уточнять срок. Он не смог в феврале и марте. Такая отложка устроила и меня: чтение лекции казалось мне взрывом, до взрыва надо было привести в порядок дела (сколько ни приводи, всегда они в расстройстве): хоть часть глав Второго Узла довести до чтимости; рассортировать перед возможным разгромом свои обильные материалы, накопленные для «Р-17»; съездить ещё раз в Питер и посмотреть нужные места, пейзажи, до которых, может быть, меня уже никогда не допустят. (Отдельная новелла, как я проник в Таврический дворец, – Пятое Дополнение.)
Немало сил отобрало непривычное письмо Патриарху, надо было советоваться (с отцом Глебом Якуниным) и не дать разгласиться. Тут ударила «Литературка» по моей родословной и по мне, приходилось изнехотя обороняться. Ещё плохо зная нравы западных корреспондентов, я дал ответ через корреспондента гамбургской «Ди Вельт», а он отдал в третьи руки, смазал, ответа не вышло, было мелко-досадно. А отвечать (не только на это, уж много накопилось, снесенного молча) мне казалось необходимым. И появилась естественная мысль: несколько назревающих выступлений стянуть во времени, так чтоб они прошли кучно, каскадом, семь бед один ответ, а не поодиночке. Такие сгущения событий рождаются сами собой в кризисные моменты, как было в апреле 1968 при выходе «Ракового», но кроме того их можно сгущать и по собственному плану, используя неповторимую особенность советских верхов: тупоумие, медленность соображения, неспособность держать в голове сразу две заботы. Дату нобелевской церемонии – 9 апреля, на первый день православной Пасхи, Гиров объявил, подавая заявление на визу, кажется, 24 марта. 17 марта я послал своё письмо Патриарху, рассчитывая, что оно опубликуется лишь в конце марта. Через несколько дней после него дам интервью, первое за 9 лет, – форма, которой власти от меня не ждут, да большое. И прежде чем они успеют его переварить – проведу нобелевскую церемонию и прочту лекцию, в которой и полагал самое опасное. После чего и можно смирно сидеть и ждать всех кар.
А пошло так: письмо Патриарху, пущенное лишь в узкоцерковный Самиздат, с расчётом на медленное обращение среди тех, кого это действительно трогает, вырвалось в западную печать мгновенно. Как я потом узнал, оно вызвало у Госбезопасности захлёбную ярость – большую, чем многие мои предыдущие и последующие шаги. (Немудрено: атеизм – сердце всей коммунистической системы. Но, парадоксально: и среди интеллигенции этот шаг вызвал осуждение и даже отвращение: как я узок, слеп и ограничен, если занимаюсь такой проблемой, как церковная; или с другой мотивировкой: при чём тут духовенство? оно безсильно – то есть как и интеллигенция, самооправдание по аналогии, – пусть пишет властям. Подождите, дойдёт дело и до властей. При многом осуждении я ни разу не пожалел об этом шаге: если не духовным отцам первым показать нам пример духовного освобождения ото лжи – то с кого же спрос? Увы, наша церковная иерархия так и оставила нас на самоосвобождение.)
И (позднейшая реконструкция) где-то в 20-х числах марта было принято давно откладываемое правительственное решение: ошельмовать меня публично и выслать из страны. Для этого расширилась и усилилась газетная кампания против меня. По обычному своему недоумию они выбрали невыгоднейшее для себя поле: клевать «Август», не перехваченный пиратскими перепечатками, так теперь объявленный моей самой лютой антипатриотической и даже антисоветской книгой. Для того мобилизовали коммунистическую западную прессу (ибо в СССР кто же мог «Август» прочесть?) и перепечатывали оттуда всякую ничтожную писанину – большей частью в «Литературке», но затем и в других центральных газетах, иные статьи обвиняли меня прямыми формулировками из уголовного кодекса, а послушная советская «общественность» от писателей до сталеваров посылала гневные «отклики на отзывы». На этот раз настолько твердо решенье было принято, что придумывались и практические приёмы, как меня будут этапировать: через полицейское задержание, то есть временный арест (просочился к нам и этот замысел, сменивший прежний план автомобильной аварии, «вариант Ива Фаржа»); настолько твёрдо, что Чаковский на планёрке в своей редакции при 30 человеках открыто, многозначительно объявил: «Будем высылать!» Видимо, на середину апреля намечалась эта операция, к тому времени должна была достичь максимума газетная кампания.
Но мой график был стремительней. Американские корреспонденты пришли ко мне без телефонного звонка (сговорились через Ж. Медведева). Газеты их были две сильнейшие в Штатах, происходило это за полтора месяца до приезда американского президента в СССР. Интервью не имело значения общественного, я не говорил ни об узниках, ни о разлитых по стране несправедливостях, – уже скоро два года молчал я об этом, в жертве всем для «Р-17», так и сейчас отмерял не перейти неизбежный уровень столкновения и не заслонить лекцию. Интервью [24] было в основном разветвлённою личной защитою, старательной метлой от мусора, сыпанного мне на голову несколько лет, – но сам вид этого мусора сквозь ореол «передового строя» вызвал достаточное впечатление на Западе[47].
Это интервью появилось в двух американских газетах 4 апреля. И менее чем через сутки, вопреки своей обычной медлительности, власть, себе на посмех и позор, отказала секретарю Шведской Академии в праве приехать и вручить мне нобелевские знаки. Что будет читаться лекция – не писалось в наших письмах, не говорилось под потолками, только смутно догадываться могли власти, публично шла речь лишь о том, что на частной московской квартире будут вручены нобелевские знаки в присутствии друзей автора – писателей и деятелей искусства. И этого – испугалось всемирно могучее правительство!.. – будь левый Запад не так оправдателен к нам, одна эта самопощёчина надолго бы разоблачила всю советскую игру в культурное сближение. Но по закону левого выворота голов – красным всё прощается, красным всё легко забывается. Как пишет Оруэлл: те самые западные деятели, которые негодовали от одиночных смертных казней где бы то ни было на Земле, – аплодировали, когда Сталин расстреливал сотни тысяч; тосковали о голоде в Индии – а исполегающий голод на Украине замечен не был.
Впрочем, по обычному ловкому умению давать отмазку, советское посольство в Стокгольме оговорилось: «оно не исключает, что виза Гирову будет дана в другое, более удобное время», – чтобы смягчить раздражение, создать иллюзию и плавный переход на ноль. Шведское м.и.д. сделало заявление в масть. Но мы-то здесь слишком понимаем такую игру! – и я тут же разрубил её особым заявлением [25]. Запрет на приезд Гирова закрывал, обезсмысливал всю церемонию.
Да и облегчал – и устроителей, и тех, кто дал согласие прийти. Подготовка этой церемонии кроме бытовых трудностей – прилично принять в рядовой квартире 60 гостей, и всё именитых, либо западных корреспондентов, – подготовка была сложна, непривычна во всех отношениях. Сперва: определить список гостей – так, чтобы не пригласить никого сомнительного (по своему общественному поведению), и не пропустить никого достойного (по своему художественному или научному весу), – и вместе с тем, чтобы гости были реальные, кто не струсит, а придёт. Затем надо было таить пригласительные билеты – до дня, когда Гиров объявил дату церемонии, и теперь этих гостей объехать или обослать приглашениями – кроме формальных ещё и мотивировочными письмами, которые побудили бы человека предпочесть общественный акт неизбежному будущему утеснению от начальства. Число согласившихся писателей, режиссёров и артистов удивило меня: какая ж ещё сохранялась в людях доля безстрашия, желания разогнуться или стыда быть вечным рабом! А неприятности могли быть для всех самые серьёзные, но вот правительство освободило и приглашённых и себя от лишних волнений. (Конечно, были и отречения – характерные, щемящие: людей с мировым именем, кому не так уж грозило.)
В подготовку церемонии входил и выбор воскресного дня, чтобы никого не задержали на работе, и дневного часа – чтобы госбезопасность, милиция, дружинники не могли бы в темноте скрыто преградить путь: днём такие действия доступны фотографированию. Надо было найти и таких безстрашных людей, кто, открывая двери, охранял бы их от врыва безчинствующих гебистов. Предусмотреть и такие вмешательства, как отключение электричества, непрерывный телефонный звонок или камни в окно, – бандитские методы последние годы становятся в ГБ всё более излюбленными.
Ото всех этих хлопот избавило нас правительство.
В виде юмора я посылал приглашение министру культуры Фурцевой и двум советским корреспондентам – газет, которые до сих пор не нападали на меня: «Сельской жизни» и «Труда». Якобы «Сельская жизнь» и прислала на несостоявшуюся церемонию единственного гостя-гебиста, проверить, не собрался ли всё-таки кто. А «Труд», орган известного ортодокса Шелепина, поспешил исправить свой гнилой нейтрализм и в эти самые дни успел выступить против меня.
Но то было – из последних судорог их проигранной кампании: потеряв голову, опозорясь с нобелевской церемонией, власти прекратили публичную травлю и в который раз по несчастности стекшихся против них обстоятельств оставили меня на родине и на свободе. (Вскоре за тем М. Розанова-Синявская передала Але, что видный генерал КГБ, с которым у неё бывали свидания, выразился обо мне: «Если не уедет добровольно – кончит на Колыме». Этого предупреждения от них мне давно надо было ждать, удивило только, какой они путь выбрали. Но у нас с Алей и колебания не было: мы – остаёмся!)
И так была бы исчерпана полуторагодичная Нобелиана, если б не осталось главное в ней – уже готовая лекция. Чтоб она попала в годовой нобелевский сборник, надо было побыстрей доставить её в Швецию. С трудом, но удалось это сделать (разумеется, снова тайно, с большим риском). К началу июня она должна была появиться. Я всё ещё ждал взрыва, в оставшееся время поехал в Тамбовскую область – глотнуть и её, быть может, в последний раз.
Но ни в июне, ни в июле того изнурительно-жаркого лета лекция не появилась. Неужели ж настолько прошла незамеченной? Лишь в августе я узнал, что летом была в отпуску многая шведская промышленность, в том числе и типографские рабочие. Годовой сборник опубликовался лишь в конце августа 1972.
Пресса была довольно шумная, больше недели. Но две неожиданности меня постигли, показывая неполноту моих предвидений: лекция не вызвала ни шевеления уха у наших, ни – какого-либо общественного сдвига, осознания на Западе.
Кажется, я очень много сказал, я даже всё главное сказал – и проглотили? А: лекция была хоть и прозрачна, но всё же – в выражениях общих, без единого имени собственного. И там и здесь предпочли не понять.
Нобелиана – кончилась, а взрыв, а главный бой – всё отлагался и отлагался.
Встречный бой
Встречным боем называется в тактике такой вид боя, в отличие от наступательного и оборонительного, когда обе стороны назначают наступление или находятся в походе, не зная о замыслах друг друга, – и сталкиваются внезапно. Такой вид неспланированного боя считается самым сложным: он требует от военачальников наибольшей быстроты, находчивости, решительности и обладания резервами.
Такой бой и произошёл на советской общественной арене в конце августа-сентябре 1973 года – до той степени непредвиденный, что не только противники не ведали друг о друге, но даже на одной стороне «колонны» (Сахаров и я) ничего не знали о движениях и планах друг друга.
Хотя прогляженные в предыдущей главе 1971 и 72 годы уж не такие были у меня спокойные, но и не такие сотрясательные, то ли я притерпелся. (О новочеркасском на меня покушении – я тогда не понял, не разобрался.) У меня всё время было сознание, что я скрылся, замер, пережидаю, выигрываю время для «Р-17», а современность как будто перестаю различать в резком фокусе. И всякий раз, отказываясь от вмешательства, я даже не мог никому, а тем более деятелям «демократического движения» (очень лёгким на распространение сведений), объяснять, почему ж я именно молчу, почему так устраняюсь, хотя как будто мне «ничего не будет», если вмешаюсь. Да при дремлющем роке и само житьё у Ростроповича в блаженных условиях, каких у меня никогда в жизни не было (тишина, загородный воздух и городской комфорт), тоже размагничивало волю. Не взорвался на письме министру ГБ, не взорвался на письме Патриарху, не взорвался на нобелевской лекции – и сиди, пиши. Тем более, что так труден оказался Второй Узел, и переход к Третьему не обещал облегчения. И ту развязку, что передо мной неизбежно висела всегда, – я откладывал. И даже когда в конце 1972 я окончательно назначил появление «Архипелага» на май 1975, мне это казалось – жертвой, добровольным ускорением событий.
Житьё у Ростроповича подтачивалось постепенно. Узнав меня случайно и почти тотчас предложив мне приют широкодушным порывом, ещё совсем не имея опыта представить, какое тупое и долгое обрушится на него давление, даже вырвавшись с открытым письмом после моей Нобелевской премии, и ещё с год изобретательно защищаясь от многочисленных государственных ущемлений, – Ростропович стал уставать и слабеть от длительной безнадёжной осады, от потери любимого дирижёрства в Большом театре, от запрета своих лучших московских концертов, от закрыва привычных заграничных поездок, в которых прежде проходило у него полжизни. Вырастал вопрос: правильно ли одному художнику хиреть, чтобы дать расти другому? (Увы, мстительная власть и после моего съезда с его дачи не простила ему четырёхзимнего гостеприимства, оказанного мне.)
Подтачивался мой быт и со стороны полицейской, уже не только министерство культуры жаждало очиститься от пятна. Да все верхи раздражал я как заноза, живя в их запретной, сладостной, привилегированной барвихской спецзоне. А по советским законам выселить меня ничего не составляло: 24 часа достаточно в такой особой правительственной зоне. Но соединение двух имён – Ростроповича и моего, сдерживало. А попытки делались. Наезжал капитан милиции ещё перед Нобелевской премией, я сказал: «Гощу». Отвязался.
В марте 1971 как-то был у меня «лавинный день» – редкий в году счастливый день, когда мысли накатываются неудержимо, и по разным темам, и в незаказанных направлениях, разрывают, несут тебя, и только успевай записывать хоть неполностью, на любом черновике, разработаешь потом, а сейчас лови. В счастливом состоянии я катался на лыжах, ещё там дописывая в блокнотик, воротился – зовёт меня старушка Н. М. Аничкова на верхний этаж большой дачи:
– А. И., идите, пришла милиция вас выселять!
Сколько этого я ждал, уже и ждать перестал, хотя на такой случай лежала у меня приготовленная бумага, в синем конверте, в несгораемом шкафике. Неужели осмелились, да перед самым своим XXIV съездом (как сутки, не знали бы своего XXV-гo!), – или не понимают, какой будет скандал?
Трое их, от капитана и выше. Постепенно выясняется, что главный, в штатском, некто Аносов, – начальник паспортного отдела Московской области, немалая шишка, – умный, с юмором, есть у них всё-таки люди, попадаются. Я в своём счастливом состоянии так же легко, свободно влился в разговор – победоносно-развязно, в лучшей форме, как когда-то с таможенниками.
За той бумагой мне сходить в мой флигель – три минуты, и сейчас я перед вами её положу или прочту стоя, тем и вас, может быть, понужу приподняться из кресел. Нет. Нет, сегодня ещё не выселяют они меня: не составляют протокола, первого (а по второму передаётся в суд). Они только давят на меня, чтобы я в несколько дней озаботился о прописке или уезжал бы. В Рязань. В капкан.
Естественно. Всякий советский человек, без верховой защиты, что может сделать в таком положении? Тихо подчиниться. Выхода нет. Но, слава Богу, я уже вышагнул и выпрямился из ваших рядов.
Сперва, с большой заботой к их личным судьбам:
– Товарищи, пожалуйста, составляйте протокол – но остерегитесь! Очень прошу вас – не сделайте личной ошибки, на которой вы можете пострадать. Прошу вас, прежде проверьте на самом верху, действительно ли там решили, что надо меня выселить. А то ведь потом на вас же и свалят.
Тупой майор: – Если я действую по закону и в своём районе – мне ни у кого не надо спрашивать.
– Ах, товарищ майор, вы ещё мало служите!.. Вы же окажетесь и самоуправ. Мой случай – очень деликатный.
Областной начальник: – Но ведь я же насилия и не применяю.
– Ещё бы вы применяли насилие! Но даже и при самом нежном обращении – может произойти большой скандал.
Так я уверенно говорю, как будто из соседней комнаты хоть сейчас могу Брежневу звонить. Аносов, видно опытный царедворец, понимает: осторожно, заминировано, откуда-то моя уверенность идёт. Заминается.
Но что ж мне выигрывать несколько дней? Мне надо наверх через них передать, как это серьёзно, насколько я готов. Дача Ростроповича для меня – рубеж жизни и работы. Выбьют отсюда – не поднять громаду «Р-17». Нет, пусть знают, что тихо не выйдет.
И, в новом повороте разговора сделав страшноватые арестантские глаза, я заявляю металлически:
– Своими ногами в Рязань? – не пойду, не поеду! Судебному решению? – не подчинюсь! Только в кандалах!
Вот так – мне легче, совсем легко. Утопить в луже я себя не дам, накатывайте уж море! Чувствую себя молодо, сильно.
Уходят вежливые, растерянные. Не ожидали.
– Будет грандиозный скандал! – напутствую я их поощрительно.
Потому что следующий раз, когда они составят протокол, я поиграю ещё с ними в советскую букашку, буду проверять в протоколе каждую закорючку, требовать второй экземпляр для себя, а когда подойдёт дело подписывать – выну свою бумагу, подпишу её и поменяю на их протокол:
«Милиции, понуждающей меня выселиться из подмосковного дома Мстислава Ростроповича – в Рязань, по месту моей милицейской “прописки”, –
МОЙ ОТВЕТ
Крепостное право в нашей стране упразднено в 1861 г. Говорят, что Октябрьская революция смела его последние остатки. Стало быть, я, гражданин этой страны, – не крепостной, не раб, и…»
С ними так надо стараться в каждом деле: поднимать звук на октаву. Обобщать, как только хватает слов. Не себя одного, не узкий участок защищать, но взламывать всю их систему!
И всё – не подошёл к тому час?! Доколе же?
Через полгода – пришли опять. Тот же Аносов с каким-то штатским, кривым. Я к ним пошёл уже сразу с синим конвертом. Положил, между ним и собой. Но Аносов – сама любезность, лишь напоминание: как же всё-таки с пропиской?.. неудобно… вот уже два года (где два дня нельзя, где московская прописка тоже значит ноль!)… Ну, при таком тоне: вот, как улажу семейные дела… – Так улаживайте, улаживайте! – обнадёживает, торопит. – Да ведь мне и после регистрации брака всё равно московской прописки не дадут? – Что вы, что вы, по закону – обязаны прописать.
На всякий-то случай – и другой регистр: – Ведь мы можем и к Ростроповичу как к домохозяину предъявить претензии. У него могут и дачу отнять.
– Смотрите, – говорю, – эта сковородка и так накалена, зачем на неё ещё лить?..
А синий конверт – лежит между нами – безобидный, неразвёрнутый, туневой. И я: – Если на вас очень нажмут – вы не утруждайте себя визитом, отдайте районной милиции распоряжение, они так хотели составить протокол. Правда, я предам гласности…
Кривой: – Что значит «гласность»? Закон есть закон.
Я (с металлом): – Гласность? Это: я по протоколу никуда не уеду, и в суд не пойду, а выносите уголовный приговор о ссылке.
– Что вы, что вы! – заверяют, – до этого не дойдёт.
И – не двинулся «Мой ответ». Всё так же беззаконно прожил я у Ростроповича ещё полтора года.
Когда же развод с первой женой состоялся и регистрация с Алею, живущей в Москве, тоже, – и я законно подал заявление на московскую прописку, – вот тут-то новый начальник паспортного отдела города Москвы (перешедший с областного) Аносов («по закону обязаны прописать»), у себя в министерстве, с той же любезной улыбкой объявил мне лично от министра: что «милиция вообще не решает» вопросы прописки, а занимается этим при Моссовете совет почётных пенсионеров (сталинистов): рассматривает политическое лицо кандидата, достоин ли он жить в Москве. И вот им-то я должен подать прошение.
Я тоже с самой любезной улыбкой попросил выдать мне отказ в письменном виде. Он – ещё любезнее, как старый знакомый:
– Александр Исаич, ну – вам и нужна какая-то бумажка?
Ожидал я, что будут молчать-тянуть, но что прямо вот так откажут – всё-таки не ждал. Наглецы. Откровенно толкали: убирайся сам с русской земли!
(А может быть, можно понять и их обиду: не повлиял ли на власти слух, который был мне так досаден, слух от самоназванных «близких друзей», каких немало бралось объяснять мою жизнь и намерения: «да ему только бы соединиться с семьёй, он сейчас же уедет, ни минуты не останется!» Вот развели – и «законно» ждали моего отъезда, – а я что ж не уезжал?)
Заедать жизнь Ростроповича-Вишневской и дальше я уже не смел. И в мае 1973 уехал от них, пока – никуда, пока сняли с семьёй дачу в Фирсановке, а с осени вовсе бездомен.
И с июня 1973 применили новый выталкивающий приём: анонимные письма от лжегангстеров с угрозами моей семье. По почте, поспешно-небрежно разоблачая себя и заклейкою поверх почтового штампа приёма (раз для дрожи нервов вклеивши загадочный извилистый волосок), и стремительной почтовой доставкой (когда остальная переписка отметалась). Печатными разноцветными буквами, а стиль – Бени Крика, с большим ущербом вкуса. Сперва: мы – не гангстеры, вы передаёте нам 100 тысяч долларов, взамен – «мы гарантируем вам спокойствие и неприкосновенность Вашей семьи», и в знак своего согласия я должен появиться на ступеньках Центрального телеграфа. Следующий раз – уже никаких требований, а откровенно одни угрозы: «Третьего предупреждения не последует, мы не китайцы. Мы откажем вам в своём доверии и уже ничего не сможем гарантировать», – так напугать, чтобы, спасаясь от этих «гангстеров», бежал за границу.
После второго такого письма применил и я новый приём: откровенное «внутреннее» письмо в ГБ, безличное предупреждение [26]. Письмо дошло, вернулось обратное уведомление: экспедитор КГБ имярек (разборчиво). Три недели они думали. Потом по телефону позвонил всё тот же полковник Березин, который в 1971 звонил от имени Андропова. И теперь та же пластинка: «Ваше заявление (??) передано в милицию». Такую бумажку – и передадут?.. Толкали, намекали, как и в анонимках: обращайтесь в милицию за защитой. (И сами же под видом охраны на голову сядут.) Больше чем на месяц подмётные письма прекратились. В конце июля, однако, пришло третье: «Ну, сука, так и не пришёл? Теперь обижайся на себя. Правилку сделаем». Ничего не требовали, только пугали: уезжай, гад!
То было тяжёлое у нас лето. Много потерь. Запущены, даже погублены важные дела. Своих двух малышей и жену в тяжёлой беременности я оставлял на многие недели на беззащитной даче в Фирсановке, где не мог работать из-за низких самолётов, сам уезжал в Рождество писать. Поддельные ли бандиты или настоящие, только ли продемонстрируют нападение или осуществят, – ко всем видам испытаний мы с женой были готовы, на всё то шли.
Уступить насилию из-за детей? Тогда в чём мы упрекаем Запад? Рука уже сама выводила, как это составится:
«Отвечу тем, кто угрожает мне и моим детям сегодня или возьмётся угрожать в будущем. Я не раз говорил, что готов к смерти. Это – не риторическая формула. Я действительно готов к смерти каждый день и каждый час – и только поэтому возможна моя деятельность уже много лет. И жена моя вышла за меня замуж в том же сознании и в той же готовности: не уступив, умереть в любую минуту. Призывая мир противостоять насилию, хорош бы я был, если б уступил страху, что убьют кого-то из нас. Мы не поддадимся ничьей угрозе – от тоталитарного ли правительства или от левых банд. Под знамёнами тех и других уже погублено сколько тысяч младенцев на нашей родине, – и оставленные без родителей, и отправленные в морозную тайгу на телегах с “раскулаченными” семьями, и на Украине от комсомольской “голодной блокады”, когда обречённую семью не допускали даже до колодца во дворе. Всех этих детских смертей вам мало, ещё недостаточно украшено ими марксистское знамя? – тянетесь прибавить туда и наших детей? Любые условия, которые выдвинут нам любые насильники в мире, мы выполним как раз наоборот».
Ещё бы один нажим от «гангстеров» – закончил бы и опубликовал. Но они не проявились больше.
Если оглядеться, то и почти всю жизнь, от ареста, было у меня так: вот именно эту неделю, этот месяц, этот сезон или год почему-нибудь неудобно, или опасно, или некогда писать – и надо бы отложить. И, подчинись я этому благоразумию раз, два, десять, – я б не написал ничего сравнимого с тем, что мне удалось. Но я писал на каменной кладке, в многолюдных бараках, без карандаша на пересылках, умирая от рака, в ссыльной избёнке после двух школьных смен, я писал, не зная перерывов на опасность, на помехи и на отдых, – и только поэтому в 55 лет у меня остаётся невыполненной всего лишь 20-летняя работа, остальное – успел.
Знаю за собой большую инерционность: когда глубоко войду в работу, меня трудно взволновать или оторвать любой сенсацией. Но и в самом глубоком течении работы не бываешь совсем защищён от современности: она ежедневно вливается через радио (западное, конечно, но тем смекается и наша обстановка), а ещё какими-то смутными веяниями, которые нельзя истолковать, назвать, а – чувствуются. Эти струйки овевают душу, переплетаются с работой, не мешая ей (они – не посторонние ей, как посторонни бытовые помехи вокруг), создают атмосферу жизни – спокойную, или тревожную, или победную. А порой эти веяния начинают наслаиваться до толщины какого-то решения, угадки: почему-то (иногда – ясно почему, иногда – нет) пришло время действовать!
Я не могу объяснить этого причинно, тут не всегда и различишь желание от предчувствия, но чутьё такое появлялось у меня не раз, и – правильно.
Так и в это лето. Независимо от неудач и угроз, обступивших нас, своей чередою у меня: как Запад сотряхнуть, что собственных дел они вести не могут: кто послабей, вокруг тех бушуют непримиримо, а тиранам каменным – всё проигрывают, всё сдают («Мир и насилие»). И ещё почему-то, толчком родившееся, никогда прежде не задуманное «Письмо вождям». И так сильно это письмо вдруг потащило меня, лавиной посыпались соображения и выражения, что я на два дня в начале августа должен был прекратить основную работу и дать этому потоку излиться, записать, сгруппировать по разделам.
Все эти статьи легко и быстро писались потому, что это была как бы уборка урожая – использование накопленных текущих и беглых заготовок, естественное распрямление.
Среди таких веяний попадаются иногда и реальные события, мы не всегда успеваем их истолковать. Ощущался душный провальный надир[48] в общественной жизни: новые аресты, другим – угрозы, и тут же – отрешённые отъезды за границу. Приезжал Синявский прощаться (одновременно – и знакомиться), и тоской обдало, что всё меньше остаётся людей, готовых потянуть наш русский жребий, куда б ни вытянул он. Расчёт властей на «сброс пара» посредством третьей эмиграции вполне оправдывался (хорош бы я был, оказавшись в ней, хотя б и с нобелевскими знаками в руках…): в стране всё меньше оставалось голосов, способных протестовать. В начале лета исключили из Союза писателей Максимова, в июле он прислал мне справедливо-горькое письмо: где же «мировая писательская солидарность», которую я так расхваливал в нобелевской лекции, почему ж его, Максимова, не защищаю я?..
А я не защищал и его, как остальных, всё потому же: разрешив себе заниматься историей революции и на том отпустив себе все прочие долги. И по сегодня: не стыжусь таких периодов смолкания: у художника нет другого выхода, если он не хочет искипеться в протекающем и исчезающем сегодня.
Но приходят дни – вот, ты чувствуешь их надирный провал, когда все твои забытые долги стенами ущелья обступают тебя. На Второй Узел мне не хватило совсем немного – месяца четыре, до конца 1973. Но их – не давали мне. (Только срочно продублировать на фотоплёнку что есть, чтоб это-то не погибло в катастрофе.) Тем более мерк Третий Узел, так манивший к себе, в революционное полыханье. Сламывались все мои искусственные сроки, ничто не оставалось ясным, кроме: надо выступать!
И очевидно, усвоенным приёмом каскада: нанести подряд ударов пять-шесть. Начать с обороны, с самозащиты из своего утонутого положения, постараться стать на твёрдую землю – и наступать.
Когда пишешь с оборотом головы на прошлое, то непонятно: чего уж так опасался? не преувеличено ли? И сколько раз так, что за паника! – и всегда сходило благополучно.
Всегда сходило – и всегда могло не сойти (и когда-нибудь – не сойдёт). А размах удара моего каждый раз – всё больше, сотрясение обстановки больше, и опасность больше, и перед нею справедливо готовишься к прекращению своего хоть и утлого, а как-то налаженного бытия.
Кроме рукописей какая ещё у меня вещественная драгоценность? – в 12 сотых гектара моё «именьице» Рождество, где половину этого – последнего, как я думал, лета – я так впивался в работу. Лишь половину, ибо теперь делил его по времени со своей бывшей женой. Настаивала она забрать его совсем, и, очевидно, перед намеченными ударами, разумно было переписать участок на неё. В середине августа, уезжая на бой, я обходил все места вокруг и каждую пядь участка, прощался с Рождеством навсегда. Не скрою: плакал. Вот этот кусочек земли на изгибе Истьи и знакомый лес и долгая поляна по соседству есть для меня самое реальное овеществление России. Нигде никогда мне так хорошо не писалось и может быть уже не будет. Каким бы измученным, раздёрганным, рассеянным, отвлечённым ни приезжал я сюда – что-то вливается от травы, от воды, от берёз и от ив, от дубовой скамьи, от стола над самой речушкой, – и через два часа я уже снова могу писать. Это – чудо, это – нигде так.
Последняя неделя, последние ночи перед наступлением были совсем безсонные. Всё ревели самолёты над самыми крышами Фирсановки, как возвращаются чёрные штурмовики, отбомбясь. Опасались мы, что на дачном участке сказали вслух неосторожную какую фразу, и рассыпанные микрофоны подхватили её, и враг уже может догадаться, что я готовлю что-то. А весь успех – во внезапности, перед началом атаки надо быть особенно беззаботным, дремлющим, ни лишних мотаний, ни лишних приездов и встреч, и разговоры, наверно подслушиваемые, должны быть медленные, беззаботные.
Тревожило именно: не успеть выполнить весь замысел. Такое ощущение, будто идёшь заполнять какой-то уже заданный, ожидающий тебя в природе объём, как бы форму, для меня приготовленную, а мною – только вот сейчас рассмотренную, и мне, как веществу расплавленной жидкости, надо успеть, нестерпимо не успеть залить её, заполнить плотно, без пустот, без раковин – прежде чем схватится и остынет.
Сколько раз уж так: перед очередным шагом, прорывом, атакой, каскадом – весь сосредоточиваешься только на этом деле, только на этих малых последних сроках, – а остальная жизнь и время после этих сроков совсем прочь из головы, перестают существовать, лишь бы вот этот срок выдержать, пережить, а та-ам!..
Первый удар я намечал – письмо министру внутренних дел, – ударить их о крепостном праве [27]. (Не красное словцо, действительно таково: крепостное. Но, противопоставив право миллионов на свободу в своей стране – праву сотен тысяч на эмиграцию, я покоробил «общество».) Это – изменённый мой тот синий конверт, письмо, так долго томившееся наготове. А на Западе всё равно обронили главное – крепостное право, а разгласили как всего лишь «просьбу о прописке».
Я пометил письмо 21-м августа (пятилетие оккупации Чехословакии), но из-за серьёзности его текста задержал отправку до 23-го, чтобы безпрепятственно нанести второй удар – дать интервью. Интервью – дурная форма для писателя, ты теряешь перо, строение фраз, язык, попадаешь в руки корреспондентов, чужих тому, что тебя волнует. Извермишелили моё интервью полтора года назад – но опять я вынужден был избрать эту невыгодную форму из-за необходимости защищаться по разрозненным мелким поводам. (И его опять извермишелят в «Монд», непорядочно, а полный текст даже спрячут во французском м.и.д. (чтоб не портить отношений с СССР?), и придётся с многомесячным опозданием печатать полный текст в русском эмигрантском журнале, чтобы восстановить объём и смысл.) Но в этом интервью я успевал стать на твёрдую землю – сперва на колено – потом на обе ноги – и от униженной обороны перейти к отчаянному нападению [28].
Сразу после интервью я вышел в солнечный день на улицу Горького (так испорченную, что уже и не хочется называть её Тверской), быстро шёл к телеграфу сдать заказное письмо министру и повторял про себя в шутку: «А ну-ка, взвесим, сколько мы весим!» Два удара вместе, кажется, весили немало.
К тому ж накануне я уже знал из радио, что независимо от меня (издали это воспринималось как согласованное движение, и власти были уверены, что согласовано хитро) в тот же день 21 августа (совпадение первое) пошла в наступление и другая колонна: Сахаров дал пресс-конференцию по международным вопросам, откровенностью и активностью захватывающую дух: «СССР – большой концентрационный лагерь, большая зона». (Что за молодец! Нашу зэческую мысль и высказал раньше меня! Залежался «Архипелаг».) «С каким легкомыслием Запад отказался от телевизионных передач на территорию Советского Союза», «Москва прибегает к прямому надувательству».
Я только не знал, что в эти самые часы 23 августа в тёмной «достоевской» да ещё коммунальной квартире на Роменской улице в Ленинграде кончала с собой или убивали несчастную Елизавету Денисовну Воронянскую, открывшую ГБ, где хранится «Архипелаг». Противник наступал своим порядком.
(Я этого не ведал, я настроен был превесело. Мы за эти месяцы не прекращали и озоровать. То, чтоб озадачить КГБ, слали сами себе по городской почте письмецо (и конечно нам его не доставили): «Дорогой А. И.! Мне, наконец, удалось выполнить Вашу просьбу. Простите, что пишу без Вашего разрешения, но наш знакомый сейчас в отпуске, а время не ждёт. Нужно срочно увидеться, иначе всё прахом, а второй раз – пожалуй, не осилить. После 2 июля будет поздно. Жду звонка. Искренне Ваш К. Б-ч». – То 31 августа послал шутливо-злую записочку в КГБ по адресу той экспедиторши, так чётко расписавшейся на уведомлении [29]. В этот раз уведомление не вернулось: генерал Абрамов не оценил возможностей такой откровенной пикировки. А может быть, он уже листал «Архипелаг», захваченный гебистами 30 августа на даче, под Лугой?)
Под начавшееся улюлюканье нашей прессы Сахаров, никак не ожидая никакого положительного продолжения, поехал отдохнуть в Армению и часть событий воспринимал там, не могучи сесть на поезд (предсентябрьский пик).
А власти тем более не знали наших планов. У них план был: к этой осени окончательно разгромить оппозицию. Для этого (по тупости мысли их) надо было провести показательный процесс Якира-Красина, те раскаются, что всё «демократическое движение» было сочинено на западные диверсионные деньги, – и тогда советская интеллигенция и западная общественность окончательно отвернутся от такой мерзости, и последние диссиденты заглохнут. Конечно, поражение таилось уже в самом идиотском замысле: применить в 70-е годы избитый приём 30-х. И всё-таки угнетение общественного настроения в Союзе, ещё худший опуск его были бы достигнуты, если бы не уляпались власти с этим судебным процессом – да во встречный бой: 14 месяцев они всё откладывали, откладывали этот свой бездарный процесс, думая, что грозней подготовят, страшней напугают, – и влезли с открытием в 27 августа!
Этой даты, конечно, никто из нас не знал. Но я, предвидя, что когда-то они соберутся всё же, решил загодя парировать, накрыть их ещё до открытия, – и сказал в интервью, что процесс будет унылым (на Западе перевели «прискорбным», совсем другой смысл) повторением недаровитых фарсов Сталина-Вышинского, даже если допустят западных корреспондентов. Опубликовать интервью назначил – 28 августа, на Успение.
27-го они и открыли процесс, ещё дешевле сортом – без допуска иностранных корреспондентов, и не успели посмаковать свою пятидневную тягомотину, как на другой день Ассошиэйтед Пресс по всему миру понесло мою презрительную оценку. (Совпадение второе. Правда, успели они на ходу вставить за это и меня в процесс: я оказался главный вдохновитель и направитель «Хроники»! Тявкнула «Литгазета»: «Солженицын потерял в Якире единомышленника», на ходу оттявкнулся и я им письмом [30].)
Встречный бой! – где в ловушку захлопнули мы их, где – они нас. 29-го, 30-го, 31-го я слушал по всем радиостанциям, как идёт моё интервью, ликовал и дописывал – несло меня – «Письмо вождям». А тем временем захвачен был «Архипелаг», и – худые вести не сидят на насесте – 1 сентября пришли мне сказать об этом, ещё не совсем точно. 3-го – уже наверняка.
Как именно и что произошло в Ленинграде – мы не узнали тогда, не узнали точно и до сих пор: все затронутые этой историей были окружены слежкой ГБ, и моя открытая поездка туда по горячему следу могла бы только повредить. Воронянской было уже за 60, расстроенное здоровье, больная нога, – ленинградский Большой Дом навалился на неё всей своей мощью, началось с подробного обыска, потом 5 суток допросов, потом дни неотступной слежки. За всё это время никто не сумел дать нам никакого сообщения. Что именно происходило с Воронянской, – все последние сведения от соседки по квартире, которая сама не вызывает доверия, подселенная перед тем прокурорская племянница. В вариантах её рассказа – пятна крови или даже ножевые раны на повешенном трупе, что противоречит версии о самоубийстве через петлю. Есть большие основания подозревать и убийство, если боялись, что Е. Д. сообщит мне, если она попытки такие делала. Медицинская же констатация записана – «удушение», а труп не показан троюродной сестре. После конца допросов миновало две недели, за это время в несчастной женщине взяли верх иные чувства, чем тот страх, который она всегда испытывала к шерстяным родственникам, чьи когти и зубы особенно остро изо всех нас предчувствовала, хотя как будто – в шутку и к острому словцу. Она металась по комнатушке, очевидно искала выхода, как известить нас об опасности. Откуда и как пришло на Воронянскую подозрение и розыск – мы ещё выясним когда-нибудь до конца, как и всю историю её смерти. Реальной работы со мной она не вела уже три года и не виделась почти. Но самое досадное, что провала никакого бы и не было: никакого хранения ей не было оставлено, а из страсти к этой книге, из боязни, что погибнут другие экземпляры, она обманула меня, поклялась и красочно описала, как, исполняя моё уже третье настойчивое требование, – сожгла «Архипелаг». А на самом деле – не сожгла. И из-за этого только обмана – Госбезопасность схватила книгу.
Да и схватила-то ещё не сразу. Считая, что книга теперь в руках, не спешили. Очевидно, более всего опасались (и справедливо) – чтобы я не узнал, это важней даже было, чем схватить. Своё хранимое Воронянская стала держать на даче у Леонида Самутина, бывшего зэка. Теперь на допросах сама и открыла хранение. (Сколько говорит мой опыт, никогда ничего закопанного не находили прямым рытьём, всегда – дознанием и добровольным показанием. Земля хранит тайны надёжней людей.)[49] Открыла – а брать не шли. Но когда известие о смерти её Копелев открыто передал по телефону мне в Москву, – ГБ, очевидно, решило, что дальше ждать нельзя, я могу приехать за «Архипелагом» через несколько часов. И пошли брать. И об этом я тоже узнал совсем случайным фантастическим закорочением, какими так иногда поражают наши многомиллионные города, – ГБ надеялось глодать и грызть свою добычу втайне от меня, – я же, почти с места не пошевелясь, уже 5 сентября отозвался в мировую прессу [31]. Тут – не всё точно, мне передали, что Елизавета Денисовна пришла из ГБ 28 августа и кончила 29-го. Но – встречный бой, удары не планируются, не проверяются, а наносятся на ходу.
Так судьба повесила ещё и этот труп перед обложкой страдательной книги, объявшей таких миллионы.
Провал был как будто бездный, непоправимый: самая опасная и откровенная моя книга, которая всегда считалась «голова на плаху», даже если б оглашена по всему миру и тем меня защищала, – теперь была в руках у них, ещё и не двинувшись к печатанью, готова к негласному удушению, вместе со мной. Провал был намного крупней, чем провал 1965 года, когда взяли «Круг», «Пир» и «Республику труда».
А настроение, а ощущение – совершенно другое: не только никакого конца, гибели жизни, как тогда, но даже почти нет и ощущения поражения. Отчего же? Во-первых: сейф на Западе, ничто не пропадёт, всё будет опубликовано, хотя бы пал я сию минуту. А во-вторых: вокруг мечи блестят, звенят, идёт бой, и в нашу пользу, и мы сминаем врага, идёт бой при сочувствии целой планеты, у неё на глазах, – и если даже наш главный полк попал в окружение – не беда! это – на время! мы – вызволим его! Настроение весёлое, боевое, и в памяти: именно с 4 на 5 сентября 1944 у Нарева, близ Длугоседло, мы выскочили вперёд неосторожно, и маленький наш пятачок отжимали от главных сил, сжимали перешеек с двух сторон, нас – горстка, а почему-то никак не уныло: потому что всё движение – в нашу пользу, размахнутое фронтокрылое движение, и уже завтра мы не только будем освобождены, но на плотах поплывём через реку, захватывать плацдарм.
Ни часа, ни даже минуты уныния я не успел испытать в этот раз. Жалко было бедную опрометчивую женщину с её порывом – сохранить эту книгу лучше меня, и вот погубившую – и её, и себя, и может быть многих. Но, достаточно уже ученый на таких изломах, я в шевеленьи волос теменных провижу: Божий перст! Это ты! Во всём этом август-сентябрьском бою, при всём нашем громком выигрыше – разве бы я сам решился? разве понял бы, что пришло время пускать «Архипелаг»? Наверняка – нет, всё так же бы – откладывал на весну 75-го, мнимо-покойно сидя на бочках пороховых. Но перст промелькнул: что спишь, ленивый раб? Время давно пришло, и прошло, – открывай!!!
Я ещё был пощажён – сколько провалов я миновал: за год до того с «96»-м, за полтора – с «Телёнком», когда я был в задушьи, в косном недвиженьи, не способный подняться быстро. А тут – на коне, на скаку, в момент, избранный мною же (вот оно, предчувствие! – начинать кампанию, когда как будто мирно и не надо!), – и рядом другие скачут лихо, и надо только завернуть, лишь немного в сторону, и – руби туда!! Провал – в момент, когда движутся целые исторические массы, когда впервые серьёзно забезпокоилась Европа, а у наших связаны руки ожиданием американских торговых льгот, да европейским совещанием, и несколько месяцев стелятся впереди, просто просящих моего действия! То, что месяц назад казалось «голова на плаху», то сегодня – клич боевой, предпобедный! Помоги Бог, ещё и выстоим!
Пониманье, обратное 65-му году: после захвата моего архива – кто же ущемлён? я? или они? Тогда, полузадушенный, накануне ареста, я мечтал и путей не имел: о, кто б объявил о взятии моего архива? Объявили через два месяца, и прошло в тумане для Запада. А сейчас – я сам, через два дня, и на весь мир, и все откинулись: ого! что ж там за жизнь, если за книгу платят повешением?
И что за заклятая полицейская жадность: искать и выхватывать хранимые рукописи? Лежал бы «Круг первый» ещё и ещё, нет, выследили, схватили, взликовали, – и я пустил его, и через три года он напечатан. Лежал бы «Архипелаг», нет, выследили, схватили, взликовали, – пускаю! Читайте через три месяца! Их же руками второй раз решается действие против них!
Оглянуться – так и все годы, во всём: сколько ни били по мне – только цепи мои разбивали, только высвобождали меня! В том-то и видна обречённость их.
3-го вечером я узнал о провале, тут же с Алей мы решались, накануне её родов, третьего нашего сына; 5-го вечером посылал не только извещение о взятии «Архипелага» – но распоряжение: немедленно печатать!
И – сопроводил, чтоб облегло раньше титульного листа:
«Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими. Но теперь, когда Госбезопасность всё равно взяла эту книгу, мне ничего не остаётся, как немедленно публиковать её».
И в тот же день – послал и «Письмо вождям». И это было – истинное время для посылки такого письма: когда они впервые почувствовали в нас силу. (Меня в такие минуты заносит, я уже писал. «Письмо вождям» я намерен был делать с первой минуты громогласным, жена остановила: это безсмысленно и убивает промиль надежды, что внимут, а сразу как пропаганда, дай им подумать в тиши! Дал. «Письмо» завязло, как крючок, далеко закинутый в тину. Закинутый, но потянем же и его.)
Буря в газетах, удары по Сахарову больше, но сыпались и по мне, объединяют два имени наших и на Востоке и на Западе. Достаются мне удары уже плашмя, с его плеча, а по другому понять – как гонка за лидером: главное сопротивление среды преодолевать ему, а я подсохраниваю свои силушки. И того не стыжусь: мой бой – впереди, мои-то силы – все, все ещё пригодятся. (А впрочем, гудит западное радио десятикратно в день: преследования, гонения на Солженицына, – а я этих гонений и не замечаю пока, тьфу-тьфу-тьфу, нешто это гонения по сравнению с лагерной жизнью? Того, что в наших газетах гавкают, – я того не читаю, для нервов зэка пустое дело. А остальных гонений с меня и не сослабляли никогда. Я к ним притерпелся.)
За 55 лет это был, я думаю, первый случай, что травимые советской прессой смели отлаиваться. Действия и решительность этой осени потому дались нашей кучке «инакомыслящих» (выступили Турчин, Шафаревич), что были – просто естественным распрямлением затёклой, изнывшей гнуться спины. И ещё потому, что мы поднялись в самом надире, когда уже дальше невозможно было молчать и сносить. Когда уже так было плохо, что просто выстоять – не спасение было для нас, нам нужно было достоять до победы.
В ту же разгарную неделю я отправил на публикацию «Мир и насилие». Эта статья готовилась у меня как конкретное разъяснение моей нобелевской лекции – против западных иллюзий, искажающих пропорций. Она не была целью своей связана с Нобелевскими премиями мира, хотя и толковала их. Но когда 31 августа, в самый разгар боёв, я услышал, что Нобелевский комитет мира отобрал 47 кандидатов, и среди них Никсона и Тито (я ещё не знал о Киссинджере и Ле Дык Тхо!), – я решил обратить статью в форму помехи тем кандидатам и выдвинуть Сахарова на эту премию, в соответствии со смыслом изложенного. К 4 сентября статья была у меня закончена, 5-го (всё – в один день) отправлена. А 6-го, за несколько дней до намеченной публикации, я дал прочесть её Сахарову. Это и было наше единственное свидание и согласование за весь встречный бой. Победа прорисовывалась в те дни. И всё-таки нельзя было думать, что уже так близка! – что через день дадут отбой травле, ещё через четыре дня снимут глушение западных передач!
Вступая в этот бой, ни он, ни я не могли рассчитывать на западную поддержку большего размаха, чем она бывала все эти годы: достаточно ощутительная, чтоб оградить нас от ареста и уничтожения, но не достаточная, чтобы влиять на ход дел у нас или за границей. А теперь как почти и все исторические движения непредсказуемы для человеческого ума, так и накал западного сочувствия стал разгораться до температуры непредвиденной[50]. Приводимые дальше факты и цитаты скороспешно записаны мною по русским передачам западных радиостанций ещё в период глушения их, не всё расслышано, не каждый день слушано, ни одной газеты за это время я не видел. Даты могут быть с ошибкою в день-два: иногда – день события, иногда – день слушания. Уже всю первую неделю, с 24 августа по конец его, «инакомыслящие в СССР» были жгучей темой всей европейской печати (сюда ведь и процесс Якира-Красина ввалился). Но сверх нашего ожидания на ещё большем накале прошла следующая неделя – первая сентябрьская: в ответ на советскую газетную травлю – там ещё больше распихивалось.
«За разрядку напряжённости нам предлагают платить слишком большую цену – укреплением тирании». – «Советская власть опять хочет одурачить западных интеллектуалов. Может быть поэтому Сахаров и Солженицын решили предупредить Запад об опасности» (Би-би-си). – «В мрачной обстановке Солженицын и Сахаров бросили свой вызов руководителям советским и западным. Если их заставят замолчать силой – это только докажет, что они говорят правду». – Бывший посол Великобритании в СССР В. Хейтер: «Нельзя сотрудничать в разрядке с диктаторским режимом».
В поддержку советских инакомыслящих выступили: 3-го сентября – канцлер Австрии; 6-го – шведский министр иностранных дел (это – из правительства Пальме, так до сих пор к СССР предупредительного! – и то было «наиболее резкое высказывание в Швеции об СССР со времени оккупации Чехословакии»); в ФРГ – не только христианские демократы, но и президиум с-д (и только отмалчивался миротворец Брандт); начиная с 7-го поднял скандал Гюнтер Грасс, до сих пор один из общественных столпов брандтовской Ostpolitik: теперь он назвал её (в «Штерне») политическим безумием: разрядка не должна идти экономическая за счёт областей культуры; он дал вызывающее интервью германскому телевидению.
К 8 сентября уже накопилось довольно, чтобы наши власти поняли, что проиграли с газетною травлей и надо её кончать. 8-го в «Правде» подвели итоги – и кончили по этому сигналу. По привычке десятилетий представлялось Старой площади так, что с этим оборвётся и всё: вольно травителям смолкнуть, тут же благодарно вздохнут перепуганные травимые, и естественно стихнет Запад. А не тут-то было! – всё только начиналось!
8-го же Сахаров дал новую пресс-конференцию – о злодейской психиатрии у нас, о галоперидоле, и, отбиваясь от газетных обвинений: советские газеты «безстыдно играют на ненависти нашего народа к войне». («Дейли телеграф»: «Перчатка, брошенная КГБ!» Ещё позавчера ей казалось: «Всё тесней сжимается кольцо вокруг них», а теперь: «Вся кампания велась, чтоб они замолчали, но оба полны решимости стоять до конца».) И 9-го дал интервью нидерландской радиостанции: пусть представители Красного Креста проинспектируют наши психдома! 9-го президент американской Академии Наук: «Нас охватило чувство негодования и стыда, когда мы узнали, что в этой травле приняло участие 40 академиков. Нарушение этоса науки лишило русский народ своего полного гения в ней. Если Сахарова лишат свободы, американским учёным будет трудно выполнять обязательства своего правительства по сотрудничеству с СССР». (Самый чувствительный удар по нашим, да обидно как: Никсон подписал, а учёные откажутся – и ничего не вырвешь.) – Присоединилась к защите и молодёжная организация с-д ФРГ (уж самая левая): «нельзя расширять торговые отношения за счёт таких людей, как Сахаров и Солженицын». – И молодёжная организация ХДС. – И министр иностранных дел Норвегии. – И Баварская Академия Искусств: «Отправить нобелевского лауреата в Сибирь? – фашизм, сравнимый с делом Карла Осецкого». – 10-го раздался голос больного, со своей фермы, Вильбора Милза, председателя бюджетной комиссии палаты представителей США: он – против расширения торговых связей с СССР, пока не прекратятся преследования таких людей, как Солженицын и Сахаров. То есть расширялась поправка Джексона: от эмиграции – до прав человека в СССР! А в его комиссии обсуждение подходило как раз к решительному моменту.
Вообще, сила западной гневной реакции была неожиданна для всех – и для самого Запада, давно не проявлявшего такой массовой настойчивости против страны коммунизма, и тем более для наших властей, от силы этой реакции они просто растерялись. Суммировали комментаторы, что к этому времени «советское правительство оказалось почти в таком же положении, как в августе 1968». И, спасаясь из этого состояния, 13 сентября правительство сняло глушение западных передач, введенное именно под лязг чехословацкой оккупации! Уж это была победа ошеломительная, совсем неожиданная (как все победы, вырываемые у наших) и вполне историческая – ибо прежде того только XX съезд снимал глушение.
И как же взбодрилось наше общество, так недавно столь упавшее духом, что даже отказалось от Самиздата!
10-го «Афтенпостен» напечатала «Мир и насилие»[51] (статья предназначалась для «Монд», но та отшатнулась: благоприличную её левизну такая прямота из Советского Союза уже оскорбляла). Сперва она была понята лишь как выдвижение Сахарова на Нобелевскую премию мира, он 10-го же ответил корреспондентам, что рад будет принять её, что «выдвижение моей кандидатуры на Нобелевскую премию положительно скажется на положении преследуемых в нашей стране. Это – лучший ответ» на травлю. И – покатилась новая всемирная кампания вокруг выдвижения Сахарова. Хотя Нобелевский комитет мира (где уже зрела позорная мысль разделить премию между захватчиком Вьетнама и капитулянтом?) в тот же день отверг моё право и время выдвигать кандидатов, – тотчас полились предложенья взамен: 11.9 выдвижение переняли члены британского парламента, 12.9 – целая либеральная фракция датского парламента, затем – мюнхенская группа физиков, затем и другие: если не в 1973, так в 1974 дать Сахарову премию! (Лишь 12.9 более полно перевели мою статью с норвежского, разобрались, что она не ограничивается выдвижением Сахарова, – и возбудились противоречивые комментарии по сути статьи. Она шла вразрез и не во вкус тем самым западным кругам, которые более всех нас и поддержали.)
Но кампания западной поддержки как разогнанный маховик с силою вымахивала и дальше. Публиковались телеграммы Сахарову то от ста британских психиатров, то от трёхсот французских врачей («послать международную комиссию для проверки деятельности психдомов в СССР»). В нашу защиту выступал премьер Дании, бургомистр Западного Берлина, итальянские с-д («можно ли доверять стране, которая преследует мнения внутри себя?»). Комитет обезпокоенных учёных (США), Комитет интеллектуальной свободы (там же), итальянская палата представителей, Консультативная Ассамблея Европейского Сообщества, норвежские писатели, учёные и актёры, швейцарские писатели и художники, 188 канадских творческих интеллигентов; собирались подписи 89 нобелевских лауреатов по всему миру (это – задержится, и потом они сами задержат из-за ближневосточной войны); в Париже собиралась конференция писателей, философов, редакторов, журналистов и священнослужителей, – где упрекали французское общество в примиренчестве с советскими несвободами. Сенат США публиковал декларацию (для правительства не обязательную) в защиту свободы в СССР, а палата представителей в тот же день предлагала присвоить Сахарову и Солженицыну звание «почётных граждан Соединённых Штатов». – 19.9, Би-би-си: «Запад и сам окажется под инфекцией тирании, если мы проигнорируем преследование инакомыслящих в СССР». И, суммируя к 22.9 четвёртую неделю нашего боя: «По всему видно, советским властям не удалось запугать инакомыслящих».
В ту неделю был и генерал Григоренко переведен в больницу обычного типа. В те же самые дни пошёл через огонь Евгений Барабанов. 15.9 он пришёл ко мне (я уже знал, как его тягают в ГБ и душат) и у меня сделал корреспонденту своё тоже вполне поворотное заявление: распрямлялся рядовой раб, до сих пор никому не известный, подымался с ноля – и сразу в мировую известность, распрямлялся на том, на чём мы согнуты были полвека: что отправить рукопись за границу не преступление, а честь: рукопись этим спасается от смерти. И – чудо! Уже назначен был Барабанову в ГБ последний допрос, чтобы с него не вернуться домой, обещаны 7 лет заключения! – и вдруг отвалилась от него нечистая сила, как руки отсохли: материал угрожающего следствия, вынесенный пред очи мира, оказался похвальным листом. Барабанов был только изгнан с работы.
Вот именно этого распрямления, одного такого духовного распрямления безо всякого действия достаточно было бы ото всех наших рабов, чтобы мы в одно дыхание стали свободными. Но – не смеем.
Западная реакция на заявление Барабанова, как и многое в тот месяц, превосходила наши ожидания. В Италии католическим священникам было рекомендовано коснуться его поступка в проповедях, во Франции его защищали академики.
После того как западный мир равнодушно промалчивал уничтожение у нас целых народов и события миллионные, – нынешний отзыв на такое малозначительное событие на Востоке, как публичное поношение малой группки инакомыслящих, поражал нас, мы ушам не верили, переходя от одной радиостанции на другую, ежеутренне и ежевечерне. Ещё не успели высохнуть моё интервью и статья с горькими упрёками Западу за слабость и безчувственность, а уже и старели; Запад разволновался, расколыхался невиданно, так что можно было поддаться иллюзии, что возрождается свободный дух великого старого континента. На самом деле сошлись какие-то временные причины, которых нам отсюда не разглядеть (одна из них, вероятно, – наболевшая настороженность к СССР из-за препон, чинимых эмиграции). Эта вспышка, напоминавшая славные времена Европы, уже невозможна была бы месяцем позже, когда та же Европа трусливо и разрозненно склонилась перед арабским нефтяным наказанием.
Но в сентябре – она прополыхала! И ослепила наших сов. Тупо задуманный, занудно подготовленный якировский процесс пролетел холостым прострелом, никого не поразив, никого не напугав, только позором для ГБ. Они заняли позицию худшую, чем без процесса бы. Сколотили, сочинили заявление советских психиатров, что у нас не сажают в дурдома (3.10), – молниеносно (4.10) в западной прессе ответили им Сахаров и Шафаревич. Семь месяцев пыжились, готовили – кто будет подавлять выход советских рукописей за рубежом, 21-го утром объявлено о создании ВААП, – 21-го вечером объявлено, что я «бросил им вызов»: чтоб испытать их юридическую силу, отдаю в Самиздат главы из «Круга»-96 [32]. (Третье совпадение в нашу пользу! Это был очередной из моей серии ударов по графику.) Мы как будто действовали с быстротой сверхтанковой, техникой, какой у нас и не бывало. Мы носились по полю боя, будто нас вдесятеро больше, чем на самом деле.
А с Запада, с неизбежными ошибками дальнего зрения, это выглядело так. В конце августа, перед началом боя («Дейли телеграф»): «В СССР всё задушено, остался один единственный голос Сахарова, но скоро замолкнет и он». В конце сентября («Дойче альгемайне»): «От Магдебурга и до Москвы Госбезопасность уже не имеет прежней силы, её уже не боятся, с ней мало считаются».
Всё это время высказывались наирезче круги левые и либеральные – всё друзья СССР и наиболее влиятельные в западном общественном мнении, создававшие десятилетиями общий левый крен Запада. Американская интеллигенция стала в оппозицию к советско-американскому сближению. В безвыходном положении юлили и лицемерили коммунисты всех западных стран: невозможно вовсе не оказать поддержки свободе слова в «будущем» обществе, но и как-нибудь тут же нас принизить и опорочить. И в таком же затруднении были правительства Никсона и Брандта, кому стоянием нашим срывалась вся игра. Киссинджер уклонялся так и сяк. Американские министры финансов и здравоохранения всё это время визитствовали в СССР, один обещал кредиты, другой, воротясь на родину, настаивал: американо-советское сотрудничество в здравоохранении (с нашими психиатрами!) важнее, чем преследование инакомыслящих. Из Брандта своя собственная партия вырвала нехотное «духовное родство с советскими диссидентами» – 9.9, а уже через три дня, спасая Ostpolitik: он «искал бы наладить отношения с СССР, даже если бы во главе его стоял Сталин». («Наладить отношения» с убийцей миллионов, – отчего ж тогда б и не с его младшим братом Гитлером? Ненужной крайностью своего заявления Брандт оскорбил и всех нас, живых, и всех погибших узников лагерей.) К концу сентября ступил и назад, с оговоркой иной. Так и протоптался.
И с ещё большей настойчивостью в эти недели боя за свободу духа поддерживали восточную тиранию – западные бизнесмены, читай: «диктатуру пролетариата» вернее всех поддерживали капиталисты. Они уговаривали американский конгресс, что именно торговля и возвысит права человека в СССР!.. Лишь редкий из них, Самуэль Пизар, опубликовал 3.10 открытое письмо Сахарову: «Свобода одного человека важнее всей мировой торговли». И Ватикан, парализованный всё тем же сближением с Востоком, прохранил весь месяц молчание, несмотря на критику Папы рядовыми священниками. Папа так и не промолвил ни слова. Начальник его отдела печати изнехотя заявил уже в пустой след, в октябре: «Права человека в СССР – не внутреннее его дело».
Для меня весь этот размах мировой поддержки, такой неожиданно непомерный, победоносный, сделал с середины сентября излишним дальнейшее моё участие в бою и окончание задуманного каскада: бой тёк уже сам собою. А мне надо было экономить время работы, силы, резервы – для боя следующего, уже скорого, более жестокого, – неизбежного теперь после того, как схватили «Архипелаг».
21 сентября, точно через месяц после начала, я счёл кампанию выигранной и для себя её пока законченной (выпуском в этот день глав из «Круга»). Для себя, – увы, по рассогласовке действий я не способен был передать это Сахарову.
А его выход из боя растянулся ещё на месяц и с досадными, чувствительными потерями. Андрей Дмитриевич замедлил выходом, не умея отказать допытчивым, честолюбивым и даже бездельным корреспондентам, кто и в Москву съездить не удосуживался, но, снявши трубку где-нибудь в Европе, по телефонному проводу рвал кусочек сахаровской души и себе. Ясность действий Сахарова была сильно отемнена расщеплённостью жизненных намерений: стоять ли на этой земле до конца или позволить себе покинуть её? (Всё обсуждался план, не проситься ли ему на курс лекций в США?) И ещё – его доверчивостью к добросоветчикам. Затянули его в несчастный эпизод с Пабло Нерудой (21.9), доказать своим и чужим, что мы – объективны, мы – за свободу везде, и вот на всякий случай безпокоимся и о Неруде (которому ничто не угрожало). Однако же не в хамской манере, принятой у нас, писать защитное письмо, но вежливо оговориться о высоких целях возрождения страны, которые, возможно, есть у чилийского правительства Пиночета, – и так подставил коммунистам нашим и западным свой бок в беззащитном повороте. Остервенело на Сахарова навалились, и ослаблены были уже выигранные позиции.
Дав интервью истинному или подставному корреспонденту ливанской газеты, Сахаров тоже открыл свою беззащитную сторону и коммунистическому и арабскому мирам, когда уже арабо-израильская война положила естественный предел или перерыв нашему бою. Это интервью повлекло за собой налёт мнимых же арабских террористов, – снова Сахаров был под угрозой, требовалась выручка, так был зловещ приём гебистов. А теперь никто ниоткуда не шёл ему на помощь. Вмешаться в тот момент, когда надо было тихо дотянуть до взрыва «Архипелага», значило для меня нерасчётливое обострение положения, но и Сахарова нельзя было оставить таким одиноким и угрожаемым. Я написал А. Д. письмо и передал в Самиздат [33], оно тут же пошло по станциям.
Выходя из боя, я по привычке примерял за врагов: что теперь они придумают против меня, какой шаг? Главная для них опасность – не то, что уже произошло, а то, что произойти может и должно: лавинная публикация всего моего написанного. Всегда они меня недооценивали; и до последних дней, пока не взяли «Архипелаг», в самом мрачном залёте воображения, я думаю, не могли представить: ну что уж такого опасного и вредного мог он там сочинить? Ну, ещё два «Пира победителей». Теперь, держа в когтях «Архипелаг», нося его от стола к столу (а наверно, от своих же засекретили, прячут в несгораемых), от экспертов к высоким начальникам, даже и Андропову самому, – должны ж они оледениться, что такая публикация почти смертельна для их строя (строй бы – чёрт с ним, для их кресел!)? Должны ж они искать – не как отомстить мне когда-нибудь потом, но как остановить эту книгу прежде её появления? Может быть, они и не допускают, что я осмелюсь? А если допускают? Я видел за них такие пути:
1. Взятие заложников, моих детей, – «гангстерами», разумеется. (Они не знают, что и тут решение принято сверхчеловеческое: наши дети не дороже памяти замученных миллионов, той Книги мы не остановим ни за что.)
2. Перехват рукописей там, на Западе, где они готовятся к печати. Бандитский налёт на «Имку». (Но где их надежда, что они захватят все экземпляры и остановят всякое печатание?)
3. Юридически раздавить печатание, открыто давить, что оно противозаконно. (Предвидя этот натиск, мой адвокат Хееб уже составляет для меня проект «Подтверждения полномочий» – специально на «Архипелаг» и в условиях после конвенции.)
4. Громить моих тайных друзей и помощников. (Но это требует времени, и всё равно не остановит публикации. Даже наоборот: усилит её, терять станет совсем нечего.)
5. Личное опорочение меня (уголовное, бытовое) – с тем, чтобы обездоверить мои показания.
6. Припугнуть – по пункту 1 или по 4?
7. Переговоры?
Это я совсем под вопросом ставил, их надменность не позволит им спуститься до переговоров ниже межправительственного уровня. Запалялся же Демичев: «С Солженицыным – переговоры? Не дождётся!» (Я-то думаю – дождусь. Когда, может быть, поздно будет и для дела, и для них, и для меня.)
Кончая бумажку этим вопросом – «Переговоры?», не верил я в их реальность, да для себя не представлял и не хотел: о чём теперь переговоры, кроме того, что в «Письме вождям»? Не осталось мне, о чём торговаться: ни – что запрашивать, ни – что уступать.
Да и каким путём они ко мне обратятся? Всех подозрительных, промежуточных, переносчиков и услужников я давно обрезал. Общих знакомых у нас с ними нет.
Составил я такой перечень 23 сентября, а 24-го звонит взволнованно моя бывшая жена Наталья Решетовская и просит о встрече на завтра. В голосе – большая значительность. Но всё же я не догадался.
Дня за два перед тем я виделся с ней, и она повторяла мне всё точно, как по фельетону «Комсомольской правды»: что я истерично себя веду, кричу о мнимой угрозе, клевещу на Госбезопасность. Увы, уже клала она доносно на стол суда мои письма с касанием важных проблем, да все мои письма уже отдала в ГБ. И уже была её совместная с ними (под фирмой АПН) статья в «Нью-Йорк таймс». Но всё-таки: были и колебания, были там отходы, и хочется верить в лучшее, невозможно совсем отождествить её – с ними.
На Казанском вокзале, глазами столько лет уже стальными, злыми глядя гордо:
– Это был звонок Иннокентия Володина. Очень серьёзный разговор, такого ещё не было. Но – не волнуйся, для тебя – очень хороший.
И я – понял. И – охолодел. И в секунду надел маску усталой ленивости. И выдержал её до конца свидания.
Я изгубил одиночеством свои ссыльные годы – годы ярости по женщине, из страха за книги свои, из боязни, что комсомолка меня предаст. После 4 лет войны и 8 лет тюрьмы, оставленный женой, я изгубил, растоптал, задушил три первые года своей свободы, томясь найти такую женщину, кому можно доверить все рукописи, все имена и собственную голову. И воротясь из ссылки, сдался, вернулся к бывшей жене.
И вот через 17 лет эта женщина пришла ко мне, не скрываясь, – вестницей от ГБ, твёрдым шагом по перрону законно вступая из области личной в область общественную, в эту книгу. (Моя запись – в первый же час после разговора, ещё вся кожа обожжена.)
– Ты согласишься встретиться кое с кем, поговорить?
– Зачем?
– Ну, в частности, обсудить возможности печатать «Раковый корпус».
(«Раковый корпус»? Схватилась мачеха по пасынку, когда лёд прошёл…)
– Удивляюсь. Тут не нужна никакая встреча. Русские книги естественно печатать русским издательствам.
(А всё-таки – переговоры! Они идут – на переговоры? Здорово ж мы их шибанули! Больше, чем думали.)
– Но ты – пойдёшь в издательство заключить договор? Ведь от тебя не знают чего ждать, боятся. Нужно же обговорить условия.
(Хотят выиграть время! Понюхали «Архипелаг» – и хотят меня замедлить, усыпить. Но и мне нужно выиграть три месяца. И мне полезно – их усыпить.)
– Условий никаких не может быть: точный текст слово в слово.
– А после издательства ещё с кем-то встретишься?
– А этот кто-то, в штатском, и так будет сидеть около стола главреда, сбоку.
Эти штатские и сейчас с параллельных перронов фотографируют нас или подслушивают? я чувствую их всем охватом спины, этого не спутать привычному человеку.
– Ну а… выше?
– Только – Политбюро. И о судьбах общих, не моей лично.
– Тебя преследовало как раз не ГБ, а ЦК. Это они издавали «Пир победителей», и это была ошибка. (Какая уверенная политическая оценка ЦК в устах частной женщины.) …А эти, пойми, совсем другие люди, они не отвечают за прежние ужасы.
– Так надо публично отречься от прошлого, осудить его, рассказать о нём – тогда и не будут отвечать. Кто убил 60 миллионов человек?
Какие «60» – не переспрашивает, хоть и не знает, но быстро, но уверенно:
– Это не они! Теперь мой круг очень расширился. И каких же умных людей я узнала! Ты таких не знаешь, вокруг тебя столько дураков… Что ты всё валишь на Андропова? Он вообще ни при чём (!). Это – другие. – Всматривается в меня как в заблудшего, как в потерянного, как в недоумка: – Вообще, тебя кто-то обманывает, разжигает, страшно шантажирует! Изобретает мнимые угрозы.
– Например, «бандитские письма»?
– (горячо): ГБ ни при чём!
– А ты откуда знаешь?
Я – ленив, я допускаю и мою ошибку. Она – воинственно уверена – в себе и в своих новых друзьях:
– Когда-нибудь покажешь мне одно из этих писем! Они на тебя не нападают, тебя никто не трогает!
– Выперли от Ростроповича, не дают прописки?
– Перестань ты настаивать с пропиской! Не могут же они тебе сразу дать! Постепенно.
– Хватают архив второй раз…
– Это их функция – искать!
– Художественные произведения?
Я – только удивляюсь, я не спорю, я устал от долгой, правда, борьбы с этим ГБ, я и рад отдохнуть бы… Я из роли – ни на волосок.
– Ты объявляешь, что главные произведения ещё впереди, в случае твоей смерти потекут, – и этим вынуждаешь их искать. Ты вот в письме съезду назвал «Знают истину танки», теперь ищут и их…
(Да откуда ж ты знаешь, что ищут, что ищут? А что ты сама им добавила в список названий? Вот этого «Телёнка» – тоже?)
– …Они вынуждены искать, у какой-нибудь Евы.
Так – уже назвала?.. (Н. И. Столярова.) Я – первый раз в полную силу:
– Кроме тебя – никто не может её назвать! И если…
– Ты шёл на развод – должен был предвидеть все последствия.
(Я и предвидел. Давно-давно ты не знаешь многого, многих. А прежних – да…)
– Но не низость.
– Не безпокойся, я знаю, что я делаю.
(Да, да! Как можно скорей печатать «Архипелаг». Чтоб никого не схопали, не слопали в темноте. Им темнота нужна – но я им её освещу!)
– …А ты – сделай заявление, что всё – исключительно у тебя одного. Что ты 20 лет не будешь ничего публиковать.
(Очень добивается именно этого! За них добивается, им непременно так нужно! Но как же ты всю жизнь меня не знала, если думаешь, что через месяц после провала ещё есть о чём говорить? что через час после провала ещё не было решено? а через день не приведено в действие?)
Я мету в другом месте:
– Если тронут кого-нибудь из двухсот двадцати или вроде Барабанова – за всех обиженных буду заступаться тотчас.
А она – метлой сюда, сюда, знает:
– Кто рассказывал о лагерях – тому ничего не будет. А вот кто помогал делать…
(Всю ту весну 1968, как мы печатали в Рождестве – с Воронянской, Люшей Чуковской и Надей Левитской, – в задушевной беседе этим умным-умным людям – ты уже всё рассказала, да?..)
– Я буду каждого отдельного человека защищать немедленно и в полную силу!
(Когда-то, когда-то мы были так просты друг с другом… Но давно уже ловлю, что ты – актриса, нет, ловлюсь, в пустой след, вовремя не заметив. Но сегодня на этом твёрдом хребте, на моей главной дороге жизни – не обыграете вы меня, со всеми режиссёрами.)
– Вообще, если ты будешь тихо сидеть, всем будет лучше!
– А я сам и не нападаю, они вынуждают…
– Ты одержимый, своих детей не жалеешь…
И другой раз о детях:
– Что ж, с ребёнком что-нибудь случится, – тоже ГБ?
(Их ход мысли: за ребёнка их не заподозрят.)
– Да, конечно, сейчас вы одержали победу. Но если «Раковый корпус» сейчас напечатают – ты не сделаешь публичного заявления, что ты одержал победу?
– Никогда. Даже удивляюсь вопросу. В крайнем случае скажу: разумная мера, для русской читающей публики… Мне-то это печатание почти уже и не нужно.
(А правда: нужно или не нужно? Как же не желать, не добиваться первей всего – своего печатания на родине? Но вот уродство: так опоздано, что уже не стоит жертв. Символический тираж, чтобы только трёп пустить о нашей свободе? Продать московским интеллигентам, у кого и так самиздатский экземпляр на полке? Или, показавши в магазинах, да весь тираж – под нож? Вот сложилось! – я уже и сам не хочу. Москва – прочла, а России – вся правда нужней, чем старый «Раковый». Препятствовать? – не смею, не буду. Но уже – и не нужно…)
– В декабре 67-го «Раковый» не напечатали – по твоей вине!
– Как??
– А помнишь: ты притворился больным, не поехал, послал меня. А Твардовский хотел просить тебя подписать совсем мягкое письмо в газету.
(Да, совсем мягкое, отречение: зачем шумят на Западе… Только об этом шло тогда и на секретариате… Вот так и вывернут мою историю: это не власть меня в тупик загоняла (и всех до меня), это я сам… (мы сами)…)
– Напечатают книгу – ты получишь какие-то деньги… Но ты должен дать некоторые заверения. Ты не сделаешь заявления корреспондентам об этом предложении? Об этом нашем разговоре? Он должен остаться в полном секрете.
Превосходя наибольшие желания их и её, я:
– Разговор не выйдет за пределы этого перрона.
(Длинного, узкого перрона между двумя подъездными путями рязанских поездов, откуда мы приезжали и куда уезжали с продуктами, с новостями, с надеждами – 12 лет… Долгого перрона в солнечное сентябрьское утро, где мы разгуливаем под киносъёмку или магнитную запись. В пределах этого перрона я и описываю происшедший разговор.)
Узнаю, как она старается в мою пользу:
– Я считаю, что своими высказываниями в беседах и отдельными главами мемуаров, посланными кой-кому, я объяснила твой характер, защитила тебя, облегчила твою участь…
Она взялась объяснять! Никогда не понимав меня, никогда не вникнув, ни единого поступка моего никогда не предвидя (вот как и сейчас), – взялась объяснять меня – тайной полиции! И в содружестве с ними – объяснять всему миру?..
Всегда ли так: насыщения требует уязвленное самолюбие, и тем большего, чем больше зрителей? Когда самолюбие, наверно – всегда. Но – пойти и за тайной полицией?.. Не каждая.
Не с тобой ли переписывали из блокнота в блокнот? диктовала ж ты мне и эту пословицу: Та не овца, что за волком пошла.
– Смотри, Наташа, не принимай легко услуги чёрных крыл. Это так приятно: вдруг поднимают, несут…
– Не безпокойся, я знаю, что я делаю.
И что б ещё ни сделала на этом пути и для этих хозяев (сегодня она разговор провела не так, не склонила меня к частной встрече с гебистами, будем «ждать» предложения от издательства, – зато уверенно доказано, что я не атакую, не печатаю «Архипелага», что я мирно настроен), – что б ни сделала она в будущем, никогда я не смогу отъединиться и швырнуть: «Это сделала – ты!» Раз она, так и я… И каким ещё ядом ни протравится будущее – оно и из прошлого, я сам виноват: я в тюрьмах пронизывал человека, едва входящего в камеру; но ни разу не всмотрелся в женщину рядом с собой. Я допустил этому тлеть и вспыхнуть.
Так мы платим за ошибки в пренебрежённой второстепенной области – так называемой, в месткомовских открытках, личной жизни…
______________
Увы, с соседней, союзной колонной не налажено было у нас путей совета и совместных действий.
Осмелюсь сказать тут о Сахарове – в той мере, в какой надо, чтобы понять его поступки, уже имевшие или маячащие иметь последствия, значительные для России.
Когда Ленин задумал и основал, а Сталин развил и укрепил гениальную схему тоталитарного государства, всё было ими предусмотрено и осуществлено, чтоб эта система могла стоять вечно, меняясь только мановением своих вождей, чтоб не мог раздаться свободный голос и не могло родиться противотечение. Предусмотрели всё, кроме одного – чуда, иррационального явления, причин которого нельзя предвидеть, предсказать и перерезать.
Таким чудом и было в советском государстве появление Андрея Дмитриевича Сахарова – в сонмище подкупной, продажной, безпринципной технической интеллигенции, да ещё в одном из главных, тайных, засыпанных благами гнёзд – близ водородной бомбы. (Появись он где поглуше – его упроворились бы задушить.)
Создатель самого страшного оружия XX века, трижды Герой Социалистического Труда, как бывают генеральные секретари компартии, и заседающий с ними же, допущенный в тот узкий круг, где не существует «нельзя» ни для какой потребности, – этот человек, как князь Нехлюдов у Толстого, в какое-то утро почувствовал, а скорей – от рождения вечно чувствовал, что всё изобилие, в котором его топят, есть прах, а ищет душа правды, и нелегко найти оправдание делу, которое он совершает. До какого-то уровня можно было успокаивать себя, что это – защита и спасение нашего народа. Но с какого-то уровня уже слишком явно стало, что это – нападение, а в ходе испытаний – губительство земной среды.
Десятилетиями создатели всех страшных оружий у нас были безсловесно покорны не то что Сталину или Берии, но любому полковнику во главе НИИ или шарашки (смотря куда изволили изобретателя помещать), были безконечно благодарны за золотую звёздочку, за подмосковную дачу или за стакан сметаны к завтраку, и если когда возражали, то только в смысле наилучшего технического выполнения желаний самого же начальства. (Я не имею свидетельств, что «бунт» П. Капицы был выше, чем против неудовлетворительности бериевского руководства.) И вдруг Андрей Сахаров осмелился под размахнутой рукой сумасбродного Никиты, уже вошедшего в единовластие, требовать остановки ядерных испытаний – да не каких-то полигонных, никому не известных, но – многомегатонных, сотрясавших и оклублявших весь мир. Уже тогда попал он в немилость, под гнев, и занял особое положение в научном мире, – но Россия ещё не знала, не видела этого. – Сахаров стал усердным читателем Самиздата, одним из первых ходатаев за арестованных (Галанскова-Гинзбурга), но и этого ещё не видели. Увидели – его меморандум, летом 1968.
Уже тут мы узнаём ведущую черту этого человека: прозрачную доверчивость, от собственной чистоты. Свой меморандум он раздаёт печатать по частям служебным машинисткам (других у него нет, он не знает таких путей) – полагая (! – он служил в наших учреждениях – и не служил в них, парил!), что у этих секретных машинисток не достанет развития вникнуть в смысл, а по частям – восстановить целое. Но у них достало развития снести каждая свою долю копий – в спецчасть, и та читала меморандум Сахарова прежде, чем он разложил экземпляры на своём столе, готовя самиздат. Сахаров был менее всего приспособлен (и потому – более всех готов!) вступить в единоборство с безсердечным, зорким, хватким, неупустительным тоталитаризмом! В последнюю минуту министр атомной промышленности пытался отговорить, остановить Сахарова, предупреждал о последствиях, – напрасно. Как ребёнок не понимает надписи «эпидемическая зона», так беззащитно побрёл Сахаров от сытой, мордатой, счастливой касты – к униженным и оскорблённым. И – кто ещё мог это, кроме ребёнка? – напоследок положил у покидаемого порога «лишние деньги», заплаченные ему государством «ни за что», – 150 тысяч хрущёвскими новыми деньгами, 1,5 миллиона сталинскими.
Когда Сахаров ещё не знал либерального-самиздатского-мыслящего мира, на поддержку к нему пришёл молодой безстрашный историк (с его грандиозными выводами, что всемирная закономерность была загублена одним неудачным характером), – как же не обрадоваться союзнику! как же не испытать на себе его влияния! Прочтите в первом сахаровском меморандуме – какие реверансы, какое почтение снизу вверх к Рою Медведеву. Виснущие предметы отягчают воздушный шар. Предполагаю, что задержка сахаровского взлёта значительно объясняется этим влиянием Роя Медведева, с кем сотрудничество отпечатлелось на совместных документах узостью мысли, а когда Сахаров выбился из марксистских ущербностей, закончилось выстрелом земля-воздух в спину аэронавту[52].
Я встретился с Сахаровым первый раз 28 августа 1968, тотчас после нашей оккупации Чехословакии и вскоре после выхода его меморандума. Он ещё тогда не был выпущен из положения особосекретной и особоохраняемой личности: он не имел права звонить по телефону-автомату (вмиг не подслушаешь), а только по своему служебному и домашнему; не мог посещать произвольных домов или мест, кроме нескольких определённых, проверенных, о которых известно, что он бывает там; телохранители его то ходили за ним, то нет, он наперёд не мог этого знать. Поэтому мою встречу с ним было весьма трудно устроить. К счастью, нашёлся такой дом, где я уже был однажды, а он имел обычай бывать там. Так мы встретились.
С первого вида и первых же слов он производит обаятельное впечатление: высокий рост, совершенная открытость, светлая мягкая улыбка, светлый взгляд, тепло-гортанный голос и значительное грассирование, к которому потом привыкаешь. Несмотря на духоту, он был в старомодно-заботливо затянутом галстуке, тугом воротнике, в пиджаке, лишь в ходе беседы расстёгнутом, – от своей старомосковской интеллигентской семьи, очевидно, унаследованное. Мы просидели с ним четыре вечерних часа, для меня уже довольно поздних, так что я соображал неважно и говорил не лучшим образом. Ещё и перебивали нас, не всегда давая быть вдвоём. Ещё и необычно было первое ощущение – вот, дотронься, в синеватом пиджачном рукаве – лежит рука, давшая миру водородную бомбу!
Я был, наверно, недостаточно вежлив и излишне настойчив в критике, хотя сообразил это уже потом: не благодарил, не поздравлял, а всё критиковал, опровергал, оспаривал его меморандум, да ещё без подготовленного плана, увы, как-то не сообразил, что он понадобится. И именно вот в этой моей дурной двухчасовой критике он меня и покорил! – он ни в чём не обиделся, хотя поводы были, он ненастойчиво возражал, объяснял, слабо-растерянно улыбался, – а не обиделся ни разу, нисколько, – признак большой, щедрой души. (Кстати, один из аргументов его был: почему он так преимущественно занят разбором проблем чужих, а не своих, советских? – ему больно наносить ущерб своей стране! Не связь доводов переклонила его так, а вот это чувство сыновней любви, застенчивое чувство вело его! Я этого не оценил тогда, подпирала меня пружина лагерного прошлого, и я всё указывал ему на пороки аргументации и группировки фактов.)
Потом мы примерялись, не можем ли как-то выступить насчёт Чехословакии, – но не находили, кого бы собрать для сильного выступления: все именитые отказывались поголовно, он подтвердил, что из видных физиков никто не подпишет.
Кажется, та наша встреча прошла тайно от властей, и я из обычной осторожности ещё долго скрывал, что мы познакомились, не выявлял этого внешне никак: такое соединение должно было показаться властям очень опасным. Однако через год, когда я переехал в Жуковку к Ростроповичу, я оказался в ста метрах от дачи Сахарова, надо же так совпасть. А жить в соседах – быть в беседах. Мы стали изредка встречаться. В конце 1969 я дал ему свою статью по поводу его меморандума («На возврате дыхания и сознания»), – всё ту же критику, однако уже сведенную в систему и намечаемую в Самиздат (но не отдал туда). Сахаров, почти единственный читатель той статьи тогда, хотя и с горечью прочёл (признался) и даже перечитывал – но никакого налёта неприязни это не наложило на его отношение ко мне.
У него был свой период замиранья: долго болела и умерла его жена. Совсем его не было видно, потом появлялся он по воскресеньям с любимым сыном, тогда лет двенадцати. Иногда мы говорили о возможных совместных действиях, но всё неопределённо.
И для зоны униженных-оскорблённых Сахаров всё ещё был слишком чист: он не предполагал, что и здесь могут быть не одни благородные порывы, не одни поиски истины, но и корыстные расчёты: построить своё имя не общепринятым служебным способом, не в потоке машин и тягачей, но – касанием к чуду, но прищепкою к этому странному, огромному, заметному воздушному шару, без мотора и без бензина летящему в высоту.
Другим из таких людей, взявших высоту с помощью воздушного шара, был В. Чалидзе. Сперва он выпускал скучнейший самиздатский юридический журнал. Затем изобрёл Комитет защиты прав человека, с обязательным участием Сахарова, но с хитросоставленным уставом, дающим Чалидзе парировать в комитете всякую иную волю. В октябре 1970 Сахаров пришёл ко мне посоветоваться о проекте комитета, но принёс лишь декларацию о создании, ни о каком уставе речи не было, структура не проявлялась. Странный, конечно, комитет: консультировать людоедов (если они спросят) о правах загрызаемых. Зато была принципиальная безпартийность, на нашей безправности – всё-таки нечто. Я не нашёл возражений. 10 декабря, в самый день выдачи Нобелевских премий, Сахаров приехал из города на такси, очень спешно, на 5 минут, узнать, не согласился ли бы и я войти в комитет членом-корреспондентом? Это не потребует от меня никакой конкретной деятельности, участия в заседаниях и т. д. Ну… Как будто мне там и не место совсем, а с другой стороны – что ж отшатываться, не поддержать? Я согласился, «в принципе», то есть вообще когда-нибудь… Мне невдомёк было – отчего так спешно? И Сахаров сам не понимал, он был наивным гонцом. Оказывается: для того Чалидзе и погнал его так быстро за 30 километров: тут же по возвращении состоялось 5-минутное заседание, комитет срочно «принял» меня (и Галича), немедленно же Чалидзе сообщил о том западным корреспондентам, и, накладываясь на нобелевскую процедуру, полетела в западную прессу такая важная весть, что нобелевский лауреат в этот самый день и час вместо присутствия в Стокгольме сделал решающий поворотный шаг своей жизни – вступил в комитет, отчего (растолковано было корреспонденту и дальше) «начинается новый важный период в жизни писателя», чушь такая.
В этот комитет и вложил Сахаров много своего времени и сил, размазываемых утончёнными прениями, исследованиями и оговорками Чалидзе – там, где нужно было действовать. (Возникал ли вопрос о политзаключённых, – «надо дать определение политзаключённого», как будто в СССР это не ясно; о психушках против инакомыслящих, – расширить изучение на всю область прав душевнобольных, до «возможностей освобождения от контроля их сексуальной жизни».) Холодно-рациональным торможением, с ледяно-юридической кровью, Чалидзе остановил и испортил достаточно начинаний комитета, который мог бы сыграть в нашем общественном развитии и значительно большую роль. (С какого-то момента, утомясь от защиты прав человека, Чалидзе решил переехать за океан. Самый последний наивец согласится, что для получения визы на выезд за границу (в 70-х годах) читать лекции о правах человека в СССР – не обойтись без разработанной уговорённости с ГБ, которая не достигается единократной встречей, – и это будучи членом комитета!) После вступления в комитет Игоря Шафаревича постепенно создался перевес действия, были выражены главные обращения комитета – к мировым конгрессам психиатров, по поводу преследования религии и др. Все многочисленные заступничества Сахарова за отдельных преследуемых, стояния у судебных зданий, куда его обычно не пускали, ходатайства об оправдании, помиловании, смягчении, выпуске на поруки, часто носили форму деятельности как бы от имени комитета, – на самом деле были его собственными действиями, его постоянным настоятельным побуждением – заступаться за преследуемых.
Эта форма – защиты не всего сразу «человечества» или «народа», а – каждого отдельного угнетаемого, была верно воспринята нашим обществом (кто только слышал по радио, хоть в дальней провинции, кто только мог знать) как чудесное целебное у нас правдоискательство и человеколюбство. Но она же (при злобно-мелочном сопротивлении и глухоте властей) была изнурительной, забравшей у Сахарова сил и здоровья непропорционально результатам (почти нулевым). И она же, благодаря безсчётности обращений за его подписью, начинала уже рябить, дробиться в сообщениях мировой прессы, тем более что употреблялась (иногда выпрашивалась, вырывалась) несоразмерно бедствию. И когда весной 1972 Сахаров написал наиболее до тех пор решительный из своих документов общего типа («Послесловие к Памятной записке в ЦК», где он далеко и смело ушёл от своего первого «Размышления» и где много высказано истин, неприятных властям, о состоянии нашей страны и предложен статут «Международного Совета Экспертов»), – этот документ прошёл незаслуженно ниже своего истинного значения, вероятно из-за частоты растраченной подписи автора.
Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке в 1972, но не возникли между нами совместные проекты или действия. Во многом это было из-за того, что изменились обстоятельства жизни Сахарова, и я опасался, что сведения будут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг «демократического движения». Отчасти из-за этого расстроилась и попытка привлечь Сахарова к уже начатой тогда подготовке сборника «Из-под глыб». (Из моих собственных действий я за все годы не помню ни одного, о котором можно было бы говорить не тайно прежде его наступления, вся сила их рождалась только из сокровенности и внезапности. Даже о простой поездке в город на один день я не говорил ни под потолками, ни по телефону, всё намёком или по уговору заранее, – чтоб не управилось ГБ совершить налёт на моё логово, как это случилось в Рождестве, и всё перепотрошить.) Отчасти же Сахаров не вдохновился этим замыслом.
Так мы обреклись на раздельность, и при встречах обменивались лишь новостями да оценками уже происшедших событий. Да и приезжал он всё реже.
Зимою на 1973 год расстраивались и отношения А. Д. с «демократическим движением» (половина которого, впрочем, уже уехала за границу): «движение» даже написало «открытое письмо» с укорами Сахарову. Тут ещё и с официозной стороны поддули привычной травли, что Сахаров – виновник смерти ректора МГУ Петровского. Как это может сложиться в самых огромных делах или жизнях, – стечение мелких, а то и гадких, враждебных обстоятельств омрачало и расстраивало великую жизнь, крупные контуры. К сумме всех этих мелких расстройств добавлялась и общая безнадёжность, в какой теперь видел Сахаров будущее нашей страны: ничего нам никогда не удастся, и вся наша деятельность имеет смысл только как выражение нравственной потребности. (Возразить содержательно я ему не мог, просто я всю жизнь, вопреки разуму, не испытывал этой безнадёжности, а, напротив, какую-то глупую веру в победу.) Весной 1973 Сахаровы в последний раз были у меня в Жуковке – в этом мрачном настроении, и рассказали о своих планах: детям Е. Г. Боннэр пришло приглашение учиться в одном из американских университетов, самому А. Д. скоро придёт приглашение читать лекции в другом, – и они сделают попытку уехать.
Всё тот же, тот же роковой выбор, прошедший черезо всех нас, раздвоился и лёг теперь перед А. Д. Не лёг свободным развилком, но повис на шее раздвоенным суком.
У него появилась новая поза: сидеть на стуле не ровно-высоко, как раньше, когда мы знакомились, когда он с добро-весёлой улыбкой вступал в эту незнаемую область общественных отношений, – но оседая вдоль спинки, и уже сильно лысоватой головой в туловище, отчего плечи становились высоки.
Тут я уехал от Ростроповича, подобие соседства нашего с Сахаровым перестало существовать – и мы уже не виделись до самого август-сентябрьского встречного боя, вошли в него порознь. В августовских боевых его интервью не замолкает разрушительный мотив отъезда. Мы слышим, что «было бы приятно съездить в Принстон». 4.9 западная пресса заключает, что «Солженицын и Сахаров заявили о твёрдом намерении остаться на родине, что бы ни случилось». 5.9 Чалидзе из Нью-Йорка: он по телефону разговаривал с Сахаровым, тот рассматривает приглашение Принстонского университета. 6.9 – подтверждает то же и сам Сахаров. 12.9 (германскому телевидению) Сахаров «опасается, что его не пустят назад». 15.9 («Шпигелю»): «Принципиально готов занять кафедру в Принстоне». (И западная пресса: «Сахаров готов покинуть СССР. Это – новый вызов (??) советскому правительству!»)
Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не возьмусь я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные – и частны все их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную позицию, – у этих лиц решения могут быть частными лишь в «тихие» периоды, в период же напряжённого общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, со сбоем то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русскою судьбой – такого движения не было в нём ни минуты!), – нарушал, уступая воле близких, уступая влияниям.
Давние, многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ль не предпочтительнее перед всеми остальными проблемами, были, вероятно, навеяны в значительной мере тою же волей. И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути – сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, А. Д. допустил в середине сентября – через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперёд. Группа около 90 евреев написала письмо американскому конгрессу с просьбой о своём: чтоб конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешат еврейской эмиграции. Чужие этой стране и желающие только вырваться, эти девяносто могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно, была уже традиция, что к Сахарову с этим можно идти, он не откажет. И действительно, по традиции и по наклону к этой проблеме, Сахаров подписал им – через 2–3 дня после поправки Вильбора Милза! – не подумав, что он ломает фронт, сдаёт уже взятые позиции, сужает поправку Милза снова до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И письмо 90 евреев было тут же обронено, не замечено, а письмо Сахарова «Вашингтон пост» набрала 18.9 крупными буквами. И конгресс – возвратился к поправке Джексона… Если мы просим только об эмиграции – почему ж американскому сенату надо заботиться о большем?..
Этот перелом в ходе боя, это колебание соседней колонны прошло незамеченным для тех, кто не жил в ритме и смысле событий. Но меня – обожгло. 16.9 из загорода я написал А. Д. об этом письмо [34] – и то был второй и последний контакт наших колонн во встречном бою.
В ноябре Сахаров днями просиживал в следственной приёмной, пока допрашивали его жену, и 29.11 мы услышали по радио: «Сахаров подал заявление на поездку в Принстон». И «Дейли мейл» выразила общее чувство: «Казалось чудом сопротивление малой группы лиц тоталитарному государству. Грустно сознавать, что чудо не произошло. Тирания снова одержала победу».
А со снятием глушения в Москве даже многие школьники стали приникать к радиоприёмникам, следить за волнами нашего боя. В какой-то школе восьмиклассник остановил учительницу истории: «Если вы так говорите о Сахарове (по-газетному), то ничему полезному мы у вас научиться не можем». И тут же стали свистеть, мяукать, сорвали ей урок, предупредили два параллельных класса, сорвали и там. А теперь они должны все узнать, что Сахаров на том и покидает их? Приходят письма из провинции, раздаются телефонные звонки: «Передайте Сахарову – пусть ни за что не уезжает!»
1 декабря Сахаровы пришли к нам. Жена – больна, измучена допросами и общей нервностью: «Меня через две недели посадят, сын – кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунеядца, дочь без работы». – «Но всё-таки мы подумаем?» – возражает осторожно Сахаров. – «Нет, это думай ты».
Мы сами ждали выхода «Архипелага» через месяц и с ним – судьбы, которую уже твёрдо приняли. Здесь. И к тому – убеждали их.
А. Д. красен до темян от невыносимой проблемы, глубоко думает, ещё глубже теперь утанывает телом – в жёстком кресле, головой между плеч. Можно поверить, что трудней – ещё не складывалось ему в жизни, изгнание из касты он перенёс весело. Заявления об отъезде он, оказывается, ещё не подавал, но попросил характеристику в своём академическом институте, как это принято по рядовым советским порядкам. Он! – в сентябре арбитр европейских правительств, победитель над самым страшным из них, теперь просил через нижайшее окошечко себе характеристику от злобно-поражённых!..
«Да я сразу бы и вернулся, мне б только их (детей жены) отвезти… Я и не собираюсь уезжать…» – «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!» – «Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу?..» (Искренно не понимает – как.)
Уже столько вреда от этой затеи, а внутри его и движенья такого нет – уехать. Мало того, что его не выпустят, – я думаю, он и сам в последнюю минуту дрогнет, визы не возьмёт. Уж мы стали с ним как будто не лицами, а географическими понятиями, что ли, так связались с нашей поверхностью, что как будто не подлежим физическому перемещению по ней, а только разве на три аршина вниз.
______________
Весь минувший бой имел для меня значение, теперь видно, чтобы занять позицию защищённую и атакующую – к следующему, главному сражению, шлемоблещущему, мечезвенящему. Уже вижу завязи его, кое-что и сейчас наметить можно бы, да это уже – к расстановке сил, план операции.
А они, противник, – научились ли чему во встречном бою? Похоже по их началу, что – нет. Дмёт их гордость всемирных победителей, и мешает видеть, и мешает рассчитывать движения. Грозятся вынести домашний скандал на улицу, бить детей не в чулане, а на мостовой, открывать за границей судебные процессы против «Архипелага». Глупей придумать нельзя, только чванство их повело. Но и за них рассудить: а что им остаётся?
Подсылаются новые анонимные письма: «В смерти найдёшь успокоение! Скоро!» На лекциях для крупных чиновников, узко, вот на днях, в декабре: «Солженицыну мы долго ходить не дадим».
Слышу: зубы дракона скребут по камню. Ах, как он алчет моей крови! Но и: как вам моя смерть отрыгнётся, злодеи, подумали? Не позавидую вам.
Есть сходство в той поре, в том настроении, с каким я кончал главный текст этой книги весной 1967 и кончаю теперь – может быть уже и навсегда, надо и честь знать, за всею жизнью пером не поспеешь. И тогда и сейчас распутывал я нити памяти, чтоб легче быть перед ударом, перед выпадом. Тогда казалось, да и было страшней: слабей позиция, меньше уверенности. Теперь – ударов много будет, взаимных, но и я же стою насколько сильней, и в первый раз, в первый раз выхожу на бой в свой полный рост и в свой полный голос.
Мою биографию для нобелевского сборника я так и кончил – намёком: даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не можем оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удивителен оказывается для нас ход событий грядущих.
Для моей жизни – момент великий, та схватка, для которой я, может быть, и жил. (А когда б эти бои – да отшумели? Уехать на годы в глушь, и меж поля, неба, леса, лошадей – да писать роман неторопливо…)
Но – для них? Не то ли время подошло, наконец, когда Россия начнёт просыпаться? Не тот ли миг из предсказаний пещерных призраков, когда Бирнамский лес пойдёт?
Вероятно, опять есть ошибки в моём предвидении и в моих расчётах. Ещё многое мне и вблизи не видно, ещё во многом поправит меня Высшая Рука. Но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и утверживает, что не я всё задумываю и провожу, что я – только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговорённый рубить её и разгонять.
О, дай мне, Господи, не переломиться при ударах! Не выпасть из руки Твоей!
Декабрь 1973
Переделкино
Четвёртое Дополнение (январь – февраль 1974)
Пришло молодцу к концу
Предыдущее, Третье Дополнение уже окончено было, но ещё оставалось его перепечатать, перефотографировать, отправить на Запад, остаток спрятать, когда 28 декабря в Переделкине, на даче Чуковских, где с осени был мой новый пустынный зимний приют, во время обычного дневного пережёва под слушанье дневного Би-би-си, я неожиданно услышал, что в Париже вышел на русском языке первый том «Архипелага». Неожиданно – лишь в днях, я просил его и ожидал – 7 января, на православное Рождество, но по перебивчивости нашей связи опоздала моя просьба, а самоотверженные наши издатели, не зная ни воскресений, ни вечернего досуга, силами настолько малочисленными, каким удивятся когда-нибудь, опередили мои расчёты. Всего на 10 дней, но именно дни и решают судьбу подпольной литературы: не хватит вёдра на уборку – пропал многомесячный урожай.
Услышал – не дрогнул, и вилка продолжала таскать капусту в рот. Уже сколько шагов за эти годы я делал, и каждый казался отчаянным, и каждый оставался без последствий от правительства, – изумляла слабость, неупругость той стены или той непомерной дубины, незаслуженно названной дубом, лишь в подгон к пословице. Столько раз проходило – отчего б ещё раз не пройти?..
Через час опалило мне руку из газового котла, пришлось с ожогом ехать в Москву, я подумал: символ? А ощущался со всеми близкими – праздник, так и провели вечер. И какое ж освобождение: скрывался, таился, нёс – донёс! С плеч – да на место камушек неподъёмный, окаменелая наша слеза. Даже держать не смели дома, а сейчас – кому не лень, друзья, приходите читайте!
Много лет я так понимал: напечатать «Архипелаг» – заплатить жизнью. Не отрубить за него голову – не могут они: перестанут быть сами собой, не выстоит их держава. Чтобы голову сохранить, надо прежде уехать на Запад. А если здесь – то естественно, человечески, оттягиваешь: вот ещё бы Первый Узел написать, вот ещё бы Второй, а и до Четвёртого бы хорошо, когда уже Ленин приедет в Петроград и историко-военный роман взорвётся в революционный, и уж заодно под брёвнами горящими погибать. А пока между делом и «Телёнка» бы дочертить. (Только потому и довёл его, что вовремя спохватывал Первое-Второе-Третье Дополнения; не написал бы в срок – нипочём бы сегодня, когда уж оборвалась вся эта напряжка подполья и зашвырнуло меня в изменённую жизнь, под окном моего горного домика – солнечная чаша швейцарских гор, и рукописи уже не стерегутся, и под потолками говорится в открытую. Другая жизнь.) Так и откладывался «Архипелаг» – от своего первого срока, и всё дальше, – как вот прорвало.
И как же явственно, кто видеть умеет: до чего они ослабели! Городили конвенцию авторских прав – хлипкую загородочку против разнесшегося быка, конвенцией думали остановить «Архипелаг»? Ещё 23 декабря начальник вертухайского ВААПа Панкин грозил: «сделка будет признана недействительной… а также иная ответственность» по закону, – да кто же кошачьего расцарапа боится, когда шашки рассвистались наотмашь? Заявление ВААПа перед самым «Архипелагом» могло выражать такое решение, что нашим легче задушить за границей несколько издательств, чем здесь меня самого. Но и это был ложный расчёт: не сделка был «Архипелаг». Они могли останавливать любой роман, хотя бы мой «Октябрь Шестнадцатого», и их претензии ещё давали бы юристам пищу подумать – обосновано? не обосновано? Но душить «Архипелаг» юридическими волосяными петлями выражало слишком явную безпомощность. Американские издатели поспешили заявить, даже просить: они очень хотят, чтобы советские власти померялись силами, затеяли бы судебный процесс. (Прошло полгода, и недавно Панкин, как кот, не доставший молока в кувшине, облизнулся: на Западе очень хотели, чтобы мы судились против «Архипелага», а мы разочаровали их.)
Удивительно: ещё в августе схватили эту книгу, разглядели. Видели раскалённую, уже оплавленную массу – и всё ещё думали: температуры не хватит, металл не потечёт? Ни канавок, ни опок, ни изложниц – ничего не готовили, куда б его отвести. Убаюкал я их на Казанском вокзале, обманул любимое министерство. Проспали октябрь, проспали ноябрь. (Только в декабре зашевелились: слали в письмах череп и кости, похоронные вырезки из нью-йоркского «Нового русского слова», кто ж в Союзе ещё получает его, номер за номером? обещанья расправиться до конца года, – но до конца же года я их опередил!) Пример безпечности, характерный для слишком великой бюрократической системы. Стоило создавать величайшую в мире контрразведку, чтоб не только прохлопать свою смертельную книгу, но даже собственными руками вытащить её на поверхность? Стоило создавать величайший в мире пропагандистский аппарат, чтоб на скосительную свою книгу не подготовить ни единого аргумента встречь?
Первую неделю обомление полное. С 4 января посыпались судорожные ТАССовские заявления, но только для заграницы, без перевода на русский, без печатанья для своих: «испортил Новый год… посеять недоверие между народами… очернить народ Советского Союза… представить гитлеровский режим милосердным… Кто не сбесился на антисоветской пропаганде – отвергнет эту книгу… Повод приписать советской действительности язвы капитализма… Пасквиль в обмен на валюту…» В этой убогости аргументации – вся их растерянность и страх. Всего-то? Полстолетия убивать миллионы – и всего-то защиты? Но и всех перемахнул французский коммунист Ларош 7 января по московскому телевидению: Солженицын не отразил (в «Архипелаге»…) рекордного урожая последнего года и вообще не учитывает (над могилами) экономических достижений СССР!.. Один за другим поспешные слабые, небольные удары.
Что в те дни промелькнуло против меня негодования – я тогда не уследил, потом уже кой-что подсобралось, рассказывали. В «Окнах ТАССа» на улице Горького выставлялся, я сам не видел, большой плакат, как уродцы с трубами и барабанами возносят «сочинения Солженицына», жёлтый череп, чёрные кости, и с блистательным стихом знаменитого поэта А. Жарова:
Своей стряпнёй писатель Солженицын, Впадая в клеветнический азарт, Так служит зарубежным тёмным лицам, Что ныне поднят ими как штандарт.Или такие прикладывания верности:
«В Свердловский райком КПСС. – С чувством глубокого возмущения узнали о новых фактах предательской деятельности Солженицына, направленной на подрыв интересов Советского государства и социалистического строя. Антисоветская шумиха, поднятая буржуазной пропагандой вокруг его последнего писания, ещё раз наглядно показывает, что этот человек окончательно оторвался от нашего общества и откровенно служит нашим идейным врагам. Клеймим позором отщепенца и предателя, считаем, что ему нет места на советской земле! – Коллектив редакции журнала “Молодая гвардия”».
Молодая гвардия… А я-то защищал их перед «Новым миром»…
На Новый год опять составил я прогноз – «Что сделают?». Вот он:
1. Убийство – Пока закрыто
2. Арест и срок – Мало вероятно
3. Ссылка без ареста – Возможно
4. Высылка за границу – Возможно
5. В суд на западное издательство – Самое желательное для меня и самое глупое для них
6. Газетная кампания, подорвать доверие к книге – Скорее всего
7. Дискредитация автора (через мою бывшую жену) – Скорее всего
8. Переговоры – Не ноль. Но – рано
9. Уступки, отгородиться: до 1956 г. были «не мы». (К тому отчасти и подзаголовок был поставлен: 1918–1956.) – Не ноль
В каком смысле «закрыто убийство»? – пока только из-за горячей публичности, а то отчего же? – в любой момент. Ещё в барвихском лесу прикончить одинокого лыжника они могли стесняться, что это – их закрытая «спецзона», где никого, кроме них, не бывает. Но и в Рождестве ничего не стоило меня убить (иногда под разными предлогами приходили явные агенты), да и в Переделкине на тёмной дороге с вечерней электрички. Бог меня берёг, не допустил их до такого решения. А при высылке за границу – так сразу за тем можно и укокать, уж там-то они за меня не отвечают. Ссылка же куда-нибудь в Сибирь – мне не казалась серьёзной бедой, привычное дело. Только вместо революции придётся писать что-нибудь из давней русской истории.
Двумя же последними пунктами оценивал я их слишком высоко. Дорасти до такого понимания они не могли. А ведь лежало у них с сентября моё «Письмо вождям», могли б соотнести, подумать. (Да читали ли они его, кто-нибудь?..) Мой замысел отчасти и был: нанося прямой крушащий удар «Архипелагом» – тут же смутить отвлекающей перспективой «Письма», поманить их по тропке 9-го пункта. В декабре я послал моему адвокату и издателям такой график: печатать «Письмо» автоматически – через 25 дней после первого тома «Архипелага». То есть, давши вождям подумать 25 дней и ничего не дождавшись, перенести эту двойственность, это смущение вовне, в общественность, чтоб нависло не над одною закрытою комнатой Политбюро, но знали бы: и все наблюдают их выбор.
И верил я: ещё могло потянуть разно. Не могло, чтоб совсем никто наверху не задумался над «Письмом». (Хотя б другие, кто взойдёт на место нынешних: как путь, для себя возможный, как выход из тупика.)
Из-за того что «Архипелаг» вышел раньше, и срок «Письма вождям» переходил теперь с 31 января на 22-е. Но когда ТАСС закричало так гневно и бранно, в этой багровой окраске примирительный тон «Письма» мог восприняться как уступка моя, как будто я напуган, не заметят и даты «5 сентября». Мой замысел – от «Архипелага» сразу и прямо пытаться толкнуть нашу государственную глыбу, оказался слаб, плохо рассчитан. Да, предстояло «Архипелагу» менять историю, в этом я уверен, но не так быстро и, видимо, не с Москвы начиная. И 10 января со случайной оказией я поспешил остановить печатанье «Письма». Это успело телефонным звонком условной фразой в последний миг, ведь объём письма не мал, уж его запустили в набор. Остановили[53].
Возможно, было и другое совмещение, более логичное, я раньше имел его в виду: спарить «Письмо вождям» с «Жить не по лжи», уже четыре года томившимся, и с чем составляли они две стороны единого: отшатнуться от одной и той же мерзости и народу и правительству.
Впрочем, начиная печатать такую поворотную книгу, как «Архипелаг», а за ней теперь и все прочие накопившиеся, сплошь, – нуждался ли я вообще в тактических шагах и каскадах? текли бы просто книги. (О таком образе жизни и сегодня мечтаю. Из долгого боя выйти непросто, вот уже 4 месяца в Европе и ещё многие месяцы придётся дояснять, договаривать, отражать догонные удары, а истинно хочется: уйти совсем в тишину, писать, – и книги пусть текут. Общественное поведение людей объясняют общественными обстоятельствами, но ведь и законы возраста и внутренних наших перемен подготавливают наши общественные решения.)
После отмены «Письма» я настроился: пусть свистят и улюлюкают, я своё дело сделал пока. Придёте, возьмёте? – берите, и к тюрьме готов. Пассивное защитное состояние. Впрочем, по-серьёзному, мы с женою не ждали, что расправа – будет. Многажды сходило с рук, и эту безнаказанность начинаешь ложно продлять вперёд. Аля в этот раз особенно была убеждена: кроме газетной брани, ничего не будет, проглотят. Я не думал так, но вёл себя именно так: не самозаперся в нашей московской квартире без дневного света (от прогляда и фотографирования закрыты были наши занавеси круглосуточно), без воздуха и простора, но мирно ездил в Переделкино, неторопливо надышивался под соснами, и в темпе необычно для меня медленном (ах, спохвачусь я по этим денёчкам!) доканчивал статьи для сборника «Из-под глыб». Сейчас даже не верится, что размеренно, ровно, буднично текла наша жизнь в январе. Во время газетной травли друзья приходили к нам в Козицкий переулок и говорили: «Только у вас в доме и покойно». Да всю эту брань во всей печати мы и не читали, не искали прочесть, даже и размаха не представляли. Аля перепечатывала последние главы «Телёнка», мы их фотографировали, готовили к отправке. И, за городом, радио наслушивался я вдосталь: собственный «Архипелаг» доносился из эфира как живущий сам по себе, своими болями полный, а мной никогда не построенный, не могущий созданным быть, – и меня же до слёз пронимал. Мировой отклик на русское издание книги превзошёл по силе и густоте всё мыслимое. Ну, конечно, перемешивали со своим, более понятным: страшные вести о диком Архипелаге – и снятие запрета с воскресных автомобильных поездок в ФРГ; в головы невмещаемая архипелажная жизнь и трёхдневная рабочая неделя в Великобритании. Топливный кризис дохнул на преблагополучный Запад – и эти первые слабые ограничения поразили его чувства. К чести Запада, однако, страдания с бензином не показались сильней, чем страдания тех вымерших туземцев.
Только теперь, нет, только сегодня я понимаю, как удивительно вёл Бог эту задачу к выполнению. Когда весь 1962 год «Иван Денисович» сновал по Самиздату до Киева, до Одессы, и ни один экземпляр за год, каким чудом? не уплыл за границу, – Твардовский так боялся, а я нисколько, мне по задору даже хотелось, чтобы «Денисович» вырвался неискажённый, – я совсем не понимал, что только так, именно так вколачиваюсь я, по наследству от Хрущёва, невыемным костылём в кремлёвскую стену. И когда ленинградский экземпляр «Архипелага» не сожжён был, как я понуждал, как был уверен, а достался гебистам и вызвал спешное печатанье, под яростный их рёв, – именно этим путём возводился «Архипелаг» в свидетельство неоспоримое. Сейчас тут, на Западе, узнаю: с 20-х годов до тридцати книг об Архипелаге, начиная с Соловков, были напечатаны здесь, иные переведены, оглашены – и потеряны, канули в беззвучие, никого не убедя, даже не разбудя. По человеческому свойству сытости и самодовольства: всё было сказано – и всё прошло мимо ушей. В случае с советским Архипелагом тут веял ещё и славный социалистический ветер: стране социализма можно простить злодейства и непомерно большие, чем гитлеровские: это всё гекатомбы на светлый алтарь. Напечатай я «Архипелаг» с Запада – половины бы не было его убойной силы при появлении.
А теперь даже удивительно, как понимали:
«Огненный знак вопроса над 50-летием советской власти, над всем советским экспериментом с 1918 г.» («Форвертс»). «Солженицын рассказывает всему миру правду о трусости коммунистической партии» («Гардиан»). «Может быть, когда-нибудь мы будем считать появление “Архипелага” отметкой о начале распада коммунистической системы» («Франкфуртер альгемайне»). «Солженицын призывает к покаянию. Эта книга может стать главной книгой национального возрождения, если в Кремле сумеют её прочесть» («Немецкая волна»).
Ассоциация американских издателей выразила готовность опубликовать исторические материалы, которые советское правительство захотело бы противопоставить «Архипелагу». Но – не было таких материалов. За 50 лет палачи не подсобрали себе оправданий. И за последние полгода, уже книгу имея в ГБ, – не удосужились. Напечатали в «Нью-Йорк таймс» вялую статью Бондарева (как будто «Архипелаг» о 2-й мировой войне, а не о советских тюрьмах и лагерях, – Сталинград да генерал Власов. А обо мне что ж? – нет художественной правды, не понимаю нравственности, антиславянское чувство, национальный нигилизм, нахожусь в ссоре со всем народом). Напечатали в «Известиях» статью – опять о генерале Власове, обширную, я развернул, думаю: ну, сейчас будут опровергать, кто Прагу от немцев освободил, документы – у них, каких нет – подделают, а где ж мне моих сокамерников теперь созвать? Но – нет! даже не хватило наглости, главного не опровергли: что единственным боевым действием власовских дивизий был бой против немцев – за Прагу!
За полстолетия нисколько разумом не возрастя, но много даже поубавившись от изворотливых коминтерновских 20-х годов, советская пресса умела и знала одно: лобовую брань, грубую травлю. Её и открыла «Правда» 14 января: «Путь предательства». Материал – директивный: на другой день перепечатали её все крупные и местные газеты, это уже тираж миллионов под 50. Ещё на следующий день «Литгазета» указала и специальный термин для меня: литературный власовец. И в несколько дней посыпало изо всех типографий, со всех витрин. И главный передёрг: тюрьмы, лагеря – вообще не упоминались как тема, вся осуждаемая книга есть оскорбление памяти погибших на войне, а главное, изящно-непрозрачным выражением: как будто (и отступить можно) у подлеца три автомашины – и этот смачный кусок, брошенный толпе, более всего дразнит: «Гад! чего ему не хватало?!»
Со следующего же дня после сигнала «Правды» началась трёхнедельная атака телефонных звонков в нашу московскую квартиру. Новое оружие XX века: безличным дребезжаньем телефонного звонка вы можете проникнуть в запертый дом и ужалить проснувшегося в сердце, сами не поднявшись от своего служебного стола или из кресла с коктейлем.
Началось – блатным рыком: «Позови Солженицына!» – «А вы кто такой?» – «Позови, я – его друг!» Жена положила трубку. Снова звонки. Взяла трубку молча (ни «да», ни «слушаю») – тот же блатной хрипящий крик: «Мы хоть и сидели в лагерях, но свою родину не продавали, понял?? Мы ему, суке, ходить по земле не дадим, хватит!!» (Лектор ЦК в декабре – слово в слово, только без «суки».) Телефонная атака была неожиданное, непривычное дело, требовала нервов, мгновенного соображения, находчивых ответов, твёрдого голоса (нас не проймёте, не старайтесь). Аля быстро овладела, хорошо находилась. Слушала, слушала всю брань молча, потом тихо: «Скажите, зарплату дают в ГБ два раза в месяц или один, как в армии?» – по ту сторону в таких случаях всегда терялись. Или даже поощряла междометиями, давая выговориться, потом: «Вы всё сказали? Ну так передайте Юрию Владимировичу (то есть министру КГБ), что с такими тупыми кадрами ему плохо придётся». Звонили так сдирижированно непрерывно, что не давали прорваться звонкам друзей, а не взять трубку – может быть именно друг и звонит? Всё ж удалось и самим сообщить об этом шквале (и в тот же вечер западные радиостанции, дай Бог им здоровья, уже передавали о телефонной атаке). Голоса мужские и женские, ругань, угрозы, сальности, – и так непрерывно до часу ночи, потом перерыв – и снова с 6 утра. Немного звонили и к Чуковским в Переделкино, оскорбляли Лидию Корнеевну, вызывали меня: «с женой плохо». (Неслучайно совпало это всё в этих же днях с исключением Л. К. из Союза писателей, отчасти и как месть, что она приютила меня. Успел я и ответить, через корреспондентов [35].) К счастью, кто-то принёс нам недавно приспособление записывать телефонные разговоры на диктофон, я по телефону же, не стесняясь ГБ, проинструктировал Алю – как включать, и она по телефону же демонстрировала воспроизведение: вот, мол, наберём на кассету самых отборных… Цивилизация рождает оружие – рождает и контроружие. Подействовало, стали остерегаться, говорить помягче, разыгрывать роли сочувственников («боимся, что его арестуют!»).
В тот первый вечер затевали и большее, чем звонки, – кажется, народный гнев: какие-то лица созваны были во двор на Козицком, и сюда же стянуто несколько десятков милиционеров – охранять, но ни битья стёкол, ни «охраны» не осуществилось, очевидно переменили команду, когда-нибудь узнаем.
А телефонные звонки зарядили на две недели, хотя уже не с такою плотностью, как в первый день, зато разнообразнее:
– …Власовец ещё жив?..
– …Я читал все его произведения, молился на него, но теперь вижу, что мой кумир – подонок.
А то и – крик отчаяния (после моего нового заявления прессе):
– Да что ж он делает, гад?!! Что ж он не унимается?!
Темы не столько перемежались, сколько сменяли друг друга по команде: день-два только угрозы убить, потом – только «разочарованные почитатели», потом – только «друзья по лагерю», потом – доброхоты, с советами: не выходить на улицу, или детей беречь, или не покупать продуктов в магазине – для нас успеют их отравить. Но удивительно: среди сотен этих звонков не было ни одного умелого, артистического, фальшивость выявлялась в первом же слове и звуке, независимо от сюжета. И все сбивались от встречной насмешки. И, чтоб не тратить своего досуга, все стали вмещаться в служебное время, только.
Такова была попытка сломить дух семьи – и через то мой. Но госбезопасности не повезло на мою вторую жену. Аля не только выдержала эту атаку, но не упустила течения обязанностей. Шла работа, и семья жила, и малыши ещё не скоро поймут, что их младенчество было не совсем обычное.
Параллельно телефонной атаке (и, само собою, газетной) велась ещё и почтовая. По почте враждебные письма всегда были с полным точным нашим адресом – но анонимны. Прорвалось и несколько дружеских (ошибка цензуры: «Немецкая волна» назвала наш адрес без номера квартиры – и потому эти письма шли другою разборкой, не попадали под арест) – то от «рабочих с Урала», то – от детей погибших зэков.
Советская газетная кампания, шумливая, яростная и безтолковая, на международной арене была проиграна в несколько дней, так глупа она была. Предупреждала «Нью-Йорк таймс»: «Эта кампания может принести СССР больший вред, чем само издание книги». И «Вашингтон пост»: «Если хоть волос упадёт с головы Солженицына – это прекратит культурный обмен и торговлю». Уж там прекратит не прекратит, преувеличение конечно, разрядку-то упускать никак нельзя, однако, читая западные газеты на Старой площади, можно и раздуматься: чёрт ли в этом Солженицыне, стоит ли из-за него портить всю международную игру? Западная пресса звучала таким могучим хором моей защиты, что исключала и убийство, и тюрьму.
А тогда – куда ж и к чему это всё лаялось? Куда выносило необдуманно серые паруса наших газет? (Для себя я видел в газетной кампании уже ту победу, что, отдавшись крику на весь мир, они упускали простую бывалую молчаливую хватку – зубами на горло и в мешок.) Но – начали, по срыву, по злости, не вырешив до конца, начали, задели миллионы неведавших голов у себя в стране, – и теперь за них, прежде всего – за соотечественников, начиналась борьба. Да и перед Западом как будто непонятно становилось: отчего уж я так не оправдываюсь, ни единым словом? может, в чём-то клевета и права?
Вот так и зарекайся – в драке дремать молчаливо. На то нужен не мой нрав.
Я ответил в два удара – заявлением 18 января [36] и коротким интервью журналу «Тайм» 19-го [37]. В заявлении ответил на самые занозистые и обидные обвинения советских газет, подсобравши всё к двум страничкам; в интервью развил позицию: упущенный в ноябре ответ братьям Медведевым; и образумленье себе, и Сахарову, и всем, кто за гомоном и гоненьем потерял ощущение меры: что как бы нас на Западе ни защищали, спасибо, но надо скорей на ноги свои; и – пока ещё рот не заткнут, а как там вывернется с «Жить не по лжи» – не знаешь, высунуть на свет и этот главный мой совет молодёжи, эту единственную мою реальную надежду; и просто вздохнуть освобождённо, как чувствует душа: «Я выполнил свой долг перед погибшими…»
Отстонались, отмучились косточки наши: сказано – и услышано…
Передавали по многим радио, телевидениям – а в газетах пришлось во многих на 21 января – в полустолетие со дня смерти Ленина, какого и не вспомнили в тот день. Броском косым и укусом мгновенным сколько схваток он выиграл при жизни! – а вот как проигрывал через полвека, ещё неназванно, ещё полузримо.
Би-би-си: «Двухнедельная кампания против Солженицына не смогла запугать его и заставить замолчать». – «Ди Вельт»: «За устранение его Москве пришлось бы заплатить цену, аналогичную Будапешту и Праге».
И так перестояли мы неделю после правдинского сигнала – бить во все! Перестояли, и даже ТАССу пришлось отзываться, – но как же отозваться на мой призыв к молодёжи – не лгать, а выстаивать мужественно? Вот как: «Солженицын обливает грязью советскую молодёжь, что у неё нет мужества». Но это было уже 22 января, день, когда в Вашингтоне перед зданием Национального клуба печати состоялась демонстрация американских интеллектуалов разных направлений, очень ободрившая меня: читали отрывки из «Архипелага», возглашали: «Руки прочь от Солженицына! Наблюдает весь мир!» 22-го, когда появился «Архипелаг» уже и на немецком и первый тираж был распродан в несколько часов. Мы перестояли неделю, но ею завершался почти полный первый месяц от выхода книги, самый трудный месяц, когда плацдарм ещё так мал, ещё мир и не читал – а уже так много понял! Теперь же плацдарм расширялся, начиналось массовое чтение на Западе, при взятом уже разгоне даже трудно было предвидеть последствия. 23-го у меня записано: «А что если враг дрогнет и отойдёт (начнёт признавать прошлое)? Не удивлюсь». (Ещё раньше, вслед за русским тотчас, должно было появиться американское издание, мною всё было сделано для того, но два-три сухих человека западного воспитания всё обратили в труху, всю Троицыну отправку 1968 года; американское издание опоздает на полгода, не поддержит меня на перетяге через пропасти – и только поэтому, думаю, наступила развязка. А могло быть, могло бы быть – чуть ли бы не отступление наших вождей, если бы на Новый, 1974 год вся Америка читала бы реально книгу, а на Старой площади только и умели сплести, что она воспевает гитлеровцев…)
Я понял тогда так: если первый месяц решалось, что будет со мной, – от нынешнего момента сражение расходится шире и глубже: теперь о том идёт, проглотит ли Россию пропагандистская машина ещё раз – или поперхнётся? газетная ложь – опять и опять разольётся свободно или наконец встретит сопротивление? Я верил, что благоприятный перелом возможен, и тем более понимал смысл положения своего: делать следующие заявления не к Западу, а по внутренним адресам.
В конце января газетная брань ещё ожесточилась, умножилась, гроздьями и гроздьями набирали подписи, теперь уже и известных, – но и молодые безтрепетные выступали по одному, как на смерть, выходили в полный рост, беззащитные, под свинец, – Дима Борисов, Боря Михайлов, Женя Барабанов, по совпадению у каждого – неработающая жена и по двое малых детей. И Лидия Корнеевна назвала, кто кого предал [38], ответ с литературным сверканием. Газетная брань гремела выгибанием жестяных полотнищ, но с Запада издали чутко заметили: что мои заявления были «явно наступательного характера», а власти – как будто бы отступают, тратя усилия многие, и всё равно безпомощно.
Утки в дудки, тараканы в барабаны, на своём месте каждый посильно толкал. Пока газеты бранились – в Госбезопасности обряжали моего школьного друга Виткевича на интервью кому-нибудь западному. Такой поворот поразительный: обвиняла меня Госбезопасность, что я был против неё недостаточно стоек, не с первого знакомства по морде бил, как сегодня. Хоть и сам я ожидал вероятнее всего дискредитации личной, но ждал, что это будут вести только через первую жену, не предполагал через друга юности. Кем я у них уже не был – полицаем, гестаповцем, – теперь доносчиком в ГБ. Предпочёл бы я вовсе не отвечать, слишком часто. Да влезши в сечь, не клонись прилечь. Ну а раз отвечать – так во весь колокол [39].
И снова мировое радио и пресса подхватили. «Против вооружённых повстанцев можно послать танки, но – против книги?» – «Расстрел, Сибирь, сумасшедший дом только подтвердили бы, как прав Солженицын». – «Пропаганда оказалась бумерангом…» И уже не впервые поддержал меня звучно Гюнтер Грасс.
И мне показалось: я выиграл ещё одну фазу сражения. Дал новый залп, а их атаки как будто замирают или кончились (как уже было в сентябре)? Я – ещё и ещё укрепился? 7 февраля записал: «Прогноз на февраль: кроме дискредитации от них вряд ли что будет, а скорей передышка». Неразумно так я писал, сам же и не забывая, что конец января – начало февраля всю жизнь у меня роковые, многие в эти дни сгущались опасности, окруженье, арест, гибельный этап, операция, и помельче, а как переживёшь эти дни – так сразу и спадало. Я больше хотел так, передышку: замолчать, убраться в берлогу, как много уже раз после столкновений – уцелевал и замолкал. Хотя по ходу сражения даже жалко было – в передышку.
Особенность человека, что он и грозные, и катастрофические периоды жизни переживает схоже с рядовыми, занят и простым вседневным, и только издали потом оглядясь: ба, да земля под ногами крошилась, ба, да при свете молний!
Сам я никакого перелома не заметил. А жена в начале февраля почуяла зловещий перелом: в том, что телефонная атака на нашу квартиру прекратилась, да даже и газетная кампания увяла как-то – всё, чем прикрывали до сих пор нерешительность власти. (Брежнев вернулся с Кубы, я значения не придал. А его и ждали – принять обо мне решение.)
Среди множества, прозвучавшего за этот месяц, было и вещее, да незамеченное, как всегда это бывает, могущее и впусте пройти, пока возможность не стала выбором. Сейчас, пересматривая радиобюллетень за тот месяц, нахожу с удивлением для себя: 18 января, корреспондент Би-би-си из Москвы: «Есть намёки, что склоняются к высылке». 20 января, Г. Свирский, уже эмигрант: «Солженицына физически заставят войти в самолёт». Как по-печатному! И ведь я допускал возможность высылки, а вот этой формы простейшей – силою, в самолёт, да меня одного, без семьи – как-то не видел, упустил. (Да что! – сейчас в печать отдавая, проглядываю эту книгу – откинулся: в марте 1972 нас же и предупреждали, что именно так и будет: высылка через временный арест. Совершенно забыли, никогда не вспомнили!..) И уж меньше всего мог думать, что так прилипнет ко мне, что канцлер Брандт 1 февраля сказал молодым социалистам (нисколько тем не довольным, провалился бы я и сквозь землю): «В Западной Германии Солженицын мог бы безпрепятственно жить и работать». Сказал – и сказал.
Высылка – могла быть, но она и прежде уже не раз быть могла, да никогда к ней не подкатывало. А если будет, то, представляли мы с Алей: охватят кольцом нашу квартиру, всех вместе, отрежут телефон и велят собираться – поспешно или посвободнее. Если бы продумать медленно, могли бы догадаться, что такая форма властям не подойдёт. Но медленно никогда не доставалось нам подумать: всегда мы были в гонке текущих дел. Уже третий год, как держали мы такую бумажку: «Землетряс», и варианты: застигло нас вместе, порознь, в дороге, – но так никогда и не собрались детально разработать. Да перебрать все годы по неделям – каждая была наполнена как главная из главных: что-то пишу, срочно доделываю, или исправляю старую редакцию, перепечатываем, фотографируем, рассредоточиваем (и сколько переменных решений: эту вещь – лучше дома держать? не дома? и так пробуем, и этак), отправляем за границу, сопровождаем пояснительным письмом. И за теми заботами и за свалкой с врагами так никогда и не углубились превратить «Землетряс» в график.
8 февраля «Архипелаг» вышел в Швеции, поддержка прибывала. И в Норвегии после выступлений в стортинге министр иностранных дел передал советскому послу безпокойство норвежской общественности. Тут и датская с-д партия – тоже в мою защиту. (А всё Шулубин с «нравственным социализмом»…) Спокойно я работал в Переделкине. И вдруг от Али неурочный звонок: приносили повестку из Генеральной прокуратуры [40], явиться мне туда, и немедленно, к концу рабочего дня. (Это и невозможно было из Переделкина, голову сломя, как не рассчитали, зачем написали так?) Придравшись, что исходящего номера нет (уж до чего халтурили, спешили), повестка не мотивирована, не указаны причины вызова, в качестве кого вызываюсь (придраться непременно надо было, глазами ела эту повестку), – жена отклонила вызов.
У Чуковских в столовой много лет телефон стоял на одном и том же месте – на резном овальном столике, противоположно окну, так что в пасмурный день, да к концу его – серо было. И, взявши трубку и услышав о Генеральной прокуратуре, я сразу вспомнил, так и прокололо, как на этом самом месте в такие же полусумерки из этой же трубки в сентябре 65-го я услышал от Л. Копелева: «Твоё дело передано в Генеральную прокуратуру». Дело моё тогда было – захваченный архив, с «Пиром победителей» и «Кругом», и передача его в Генеральную прокуратуру означала судебный ход. (Почему они на него не решились тогда – загадка. Имели бы успех.) Тогда-то – в Генеральной прокуратуре «Круг» мой просто заснул в сейфе. Но какое-то пророчество было в том: чтобы через 8 лет та же задремавшая змея на том же месте меня ужалила.
Что ж. Громоглашу я против них уже 7 лет, должны были и они, наконец, подать команду.
По телефону с Алей мы разговаривали всегда условно, притворно, всё через Лубянку, так и сейчас – будто этот вызов в прокуратуру не выше прыща (она и звонила не тотчас). А поняли оба, что дело серьёзно. Серьёзно, однако сбивало, что летом туда же вызывали Сахарова, и всего-навсего для увещательной беседы: прекратить «непристойную деятельность». Однако к нему и ко мне отношение властей всегда было разное. Номенклатурно мысля: он – три медали «Золотая Звезда», уж от него ли государство не попользовалось? зачеркнуть даже им непросто. А я, сколько знают они меня, – как спирт нашатырный под нос, другого от меня не видели. Вызывать меня на увещание – никак не могли. А тогда – на что? И почему – к концу рабочего дня, последнего в неделе? Тут бы и вникнуть. Нет, аналогия всё-таки отвлекала. (Они на неё и рассчитывали, заманить?..) Ясно было, что своими ногами я не пойду, но и будто – простор ещё оставался, время.
Двух часов не прошло – вдруг топот мужской на крыльце и сильнейший грозный стук по стёклам, – именно так стучали, как ЧКГБ, – властно, последним стуком. А Лидия Корнеевна ничего не знала: чтоб работы её не прерывать, я ей о прокуратуре ещё и не сказал, и впопыхах объяснять уже некогда. Не готовы мы оказались, впустили! (Л. К. говорит: знала бы – не открыла.)
Трое. С глупейшим поводом: для ремонта дачи (какого делать не будут) уже приходили дважды, «составляли смету» (осматривали меня и мою комнату), – так вот, опять «смету составлять». Выедали меня глазами, с полуслепой Л. К. ходили по комнатам. Вдруг – телефонный звонок, и – чужой ремонтник, в чужом доме! – хватнул трубку, выслушал, буркнул – и тут же, смету более не составляя, – ушли сразу все. Пошла Л. К. за ними, успела увидеть за воротами машину и ещё двоих-троих.
Почему они не взяли меня тогда же, там же? (А вот почему: они приходили – только проверить: не сбежал ли я за те два часа, что мне уже известен вызов прокуратуры? Спокойность моего ответа жене по телефону ничего не доказывала: уже знали они и маскировочную манеру разговаривать и моё уменье исчезать на месяцы. Если б я исчез в 1–2 часа – где б меня искать на просторах Отечества, чтобы выполнить распоряжение Политбюро – выслать до 14 февраля? но проверили: не сбежал. И установили слежку за переделкинской дачей в расчёте, что в понедельник я и сам в прокуратуру приду – так будет мирней, скрытней, без шумного ареста.)
Кажется, так явно: приходили за мной. Нет, безнаказанность стольких уже сошедших эпизодов, а главное – инерция работы, не давшая мне много лет нигде завязть, захряснуть, затиниться, – эта самая инерция мешала мне тотчас же кинуть всю работу, методически собраться и утром катить в Москву. Кончалась пятница, и двое суток – субботу и воскресенье, могли мы с Алей потратить на самое нетерпящее, улаживая, обдумывая, признав, что Землетряс уже начался! (Хотя, конечно, и суббота с воскресеньем – не защита от хватки их, вполне бы и схватили.) Нет, я просидел ещё три ночи и два дня в Переделкине, вяло продолжая и ничего не докончив, уже как будто невесомо взвешенный, а всё ещё и на земле, и даже в понедельник утром, не слишком рано спеша в Москву, оставил на месте свой быт, поверхность письменного стола, книги.
Утром 11-го, по дороге в Москву, я знал уже, что отвечу прокуратуре. Но так не рано приехал я, а посыльной прокуратуры (офицер, конечно, но с застенчивой улыбкой) так в рани рабочего дня с новою повесткой, что я не успел и с Алей обсудить как следует, и уже при нём, посыльном, посадивши его в передней, перепечатывал на машинке свой ответ [41] – и вместо подписи приклеил его к повестке. Растянулось долго, и посыльной офицер нервничал в передней, при моём проходе зачем-то вскакивал и вытягивался. Получив ответ – благодарил, и так торопился уйти, листа не сложив, что я ему: «В конверт положите, дождь». Втиснул неловко.
Началась драка – бей побыстрей! Ещё при посыльном стали мы звонить корреспондентам, звать к себе. Сперва – объявить мой ответ. Но заскакивало чувство дальше, раззудись рука, – после этаких слов какие ж ещё остались запреты? Выговаривать – так до дна. И схвативши третий том «Архипелага», выпечатывали мы уже отрывок из 7-й части, из брежневского времени: Закона нет. Пришли от «Нью-Йорк таймс», от Би-би-си, я прочёл им вслух на микрофон. Вот эти два ответа за несколько часов – стоили ситуации.
А собираться, прощаться – мы и не начинали. Бой – так не первый же раз, не грознее прежних.
Но после дерзкого моего ответа утром – почему не шли взять меня тотчас, если было уже всё решено? Пока надеялись, что я сам приду в прокуратуру (а так просто метнуться по моему характеру, она – рядом, на Пушкинской, две минуты ходьбы, и не какое-нибудь же заклятое ГБ), – вот попался бы гусь, вот бы в ловушку! – меня бы тут же и взяли, беззвучно, неглядно. Но почему ж не брали в понедельник и во вторник, давали трубить на весь мир? Может быть, и сробели – от громкости моего отпора. Если б я явился в прокуратуру – значит, ещё признавал их власть, значит, ещё была надежда на меня давить, переговариваться.
К вечеру пошли мы с женой погулять, поговорить на Страстной (Нарышкинский) бульвар: это было любимое наше место для разговора подольше – и удивительно, если нас не прослушивали там никогда (правда, мы старались всё время менять направление ртов). Тот самый Страстной бульвар – уширенный конец его, почти кусочек парка, – и вообще любимый, и за близость к «Новому миру», сколько здесь новомирских встреч! В этот раз следили за нами плотно, явно, даже, в виде пьяного, один наталкивался на меня грудью. Но когда не следили совсем? – от этого день не становился изрядным.
Перебрали, что в чертах общих мы готовы как никогда, все главные книги спасены, недосягаемы для ГБ. И что надо приготовиться к аресту, простые вещи собрать. Но – усталые, приторможенные мозги: на настоящее обсуждение Землетряса – он пришёл, но он ли уже? – не достало чёткости, какая-то вялость. Я повторил, как и прежде, что два года в тюрьме выдержу – чтоб дожить до напечатания всех вещей, а дольше – не берусь. Что в лагере работать не буду ни дня, а при тюремном режиме можно бы и писать. Что писать? Историю России в кратких рассказах для детей, прозрачным языком, неукрашенным сюжетом. (С тех пор задумал, как свои сыновья пошли, а – соберусь ли?) Обсуждали способы, как при свидании передавать написанное серьёзное. Как буду вести себя на следствии, на суде (давно решено: не признаю их и не разговариваю с ними).
Был безсолнечный полуснежный день (земля – под белым, деревья и скамьи черны), а вот уже и к сумеркам – горели враждебные огни в АПН, и с двух сторон бульвара катили огоньки автомобилей. Кончался день, не взяли.
Покойный рабочий вечер. Делали последнюю фотоплёнку с «Тихим Доном». Слушали радио, как мой утренний ответ уже по миру громыхал. Собрали простейшие тюремные вещи, а мешочка не нашли – вот заелись: тюремного мешка нет наготове! Ночью, в обычную безсонницу, я тоже хорошо поработал, сделал правку «Письма вождям»: оценки и предложения все оставались, но надо было снять прежний уговорительный тон, он сейчас звучал бы как слабость. Да ведь если они когда и прочтут – то только вот этот текст, распубликованный, – разве скрепку, сданную в окошко ЦК, кто-нибудь из них читал?
И так на душе было спокойно, никаких предчувствий, никакой угнетённости. Не кидался я проверять, сжигать, подальше прятать, – ведь для работы завтра и через неделю всё это понадобится, зачем же?
С утра опять работали, каждый за своим столом. У Али много стеклось опасного, и всё лежало на столе. 10 часов, назначенные во вчерашней повестке. Одиннадцать. Двенадцать. Не идут. Молча работаем. Как хорошо работаем! – отпадает с души последняя тяжесть: Отступили! Живём дальше!! Я ответил: Судить виновников геноцида! – и мир и покой, облизнулись и отступили. Потерпят и дальше. Никакие патриоты не звонили, никто не рвался в квартиру, никто подозрительный не маячил под парадным. Может быть, потому не шли, что иностранные корреспонденты дежурили близ нашего дома?
И я даже не проверил как следует большой заваленной поверхности своего письменного стола, не видел плёнки-копии, давно назначенной на сожжение. Хуже. Лежали на столе письма из-за границы от доверенных моих людей и от издателей, их надо было срочно обработать и сжечь, – и тоже времени не было. Да, вспоминаю, вот же почему: 14-го вечером назначена была моя встреча с западным человеком (со Стигом Фредриксоном, см. Пятое Дополнение) – и я гнал подготовить то и только то необходимое, что предполагал в тот вечер отправить.
Теперь имею возможность открыть, во что поверить почти нельзя, отчего и КГБ не верило, не допускало: что многие передачи на Запад я совершал не через посредников, не через цепочку людей, а сам, своими руками. Следило ГБ за приходящими ко мне, за уходящими, и с кем они там встречались дальше, – но по вельможности своего сознания, по себе меря, не могли представить ни генерал-майоры, ни даже майоры, что нобелевский лауреат – сам, как мальчишка, по неосвещённым углам в неурочное время шныряет со смененной шапкой (обычная в рюкзаке), таится в безфонарных углах – и передаёт. Ни разу не уследили и ни разу не накрыли! – а какое бы торжество, что за урожай!.. Правда, помогало здесь моё загородное житьё – то в Рождестве, то в Жуковке, то в Переделкине, обычно шёл я на встречи оттуда. Из Рождества можно было гнать пять вёрст по чистому полю на полустанок, да одеться как на местную прогулку, да выйти лениво в лес, а потом крюку и гону. Из Жуковки можно было ехать не обычной электричкой (на станции то и дело дежурили топтуны), – в другую сторону и кружным автобусом на Одинцово. Из Переделкина – не как обычно на улицу, а через задний проходной двор, где не ходили зимой, на другую улицу и пустынными снежными ночными тропами – на другой полустанок, Мичуринец. И перед тем по телефону с Алей – успокоительные разговоры, что, мол, спать ложусь. И – ночной огонёк оставить в окне. А если попадало ехать на встречу из самой Москвы, то либо выехать электричкой же за город, плутануть в темноте и воротиться в Москву, либо, либо… Нет, городские рецепты пока придержим, другим пригодятся. …А ещё ж остаётся и быстрая ходьба. В 55 лет я не считал себя старым для такой работы, даже очень от неё молодел и духом возвышался. Обрюзгшие гебисты не предполагали во мне такого, сейчас прочтут – удивятся.
В 3 часа дня, не обедая, я со Степаном, 5-месячным моим сынком, пошёл гулять во двор – понёс его коляску под мышкой. На просмотре всех окон, всех прохожих и дворовых, стал похаживать с бумагами, как обычно, почитывать, подумывать. Спокойный день получился. Вот когда только и дошла очередь до чтения тех писем из-за границы – к завтрему надо было на них ответить. Так, на просмотре, на полной открытости, похаживал мимо спящего Стёпки и читал конспиративные письма… Но не суждено было мне их дочитать: пришёл, подошёл ко мне Игорь Ростиславич Шафаревич.
А не пора ли мне и о нём написать, открыто? Когда эта книга напечатается, уже он выступит со своим «Социализмом» и примет свой рок или Бог отведёт от него. С Игорем Шафаревичем мы уже три года к тому времени вместе готовили «Из-под глыб».
Мы познакомились в начале 1968. Время ценя, а зубоскальство застольное нисколько, я отклонял многие знакомства, в академических особенно был разочарован, насторожен был и к этому, зашёл на полчаса. Глыбность, основательность этого человека, не только в фигуре, но и во всём жизненном образе, заметны были сразу, располагали. Но первый наш разговор не дошёл до путного, тут ещё вмешалась насмешливая случайность: лежали у него на столе цветные адриатические пейзажи, он был там в научной командировке и мне показал зачем-то. Ему самому это было крайне не в масть, нельзя придумать противоположной. А я решил: балуют его заграничными командировками (а как раз наоборот), такие – безнадёжны для действий. Сказал я ему: вообще, сколько академиков видел – все любят поговорить интересно и даже смело, а как действовать да выстаивать, так и нет никого. И ушёл. Не открылось вмиг, на чём бы нам сблизиться. Позже. Уже с третьей встречи стала проступать наша общая работа. Тот год был, кажется, самый шумный в «демократическом движении», и уже тогда стал опасно напоминать 900-е и 910-е годы: только – отрицание, только – дайте свободу! а что дальше – никто с ответственностью не обдумывал, с ответственностью перед нашей несчастной страной, – чтоб не новый крикливый опыт повторить и не новое потрошенье внутренностей её, а сама она хоть пропади.
Все мы – из тёплого мяса, железных не бывает, никому-никому не даются легко первые (особенно первые) шаги к устоянию в опасности, потом и к жертве. Две тысячи у нас в России людей с мировой знаменитостью, и у многих она была куда шумней, чем у Шафаревича (математики витают на Земле в бледном малочислии), но граждански – все нули, по своей трусости, и от этого нуля всего с десяток взял да поднялся, взял – да вырос в дерево, и средь них Шафаревич. Этот безшумный рост гражданского в нём ствола мне досталось, хоть и не часто, не подробно, наблюдать. Подымаясь от общей согнутости, Шафаревич вступил и в сахаровский «комитет прав»: не потому, что надеялся на его эффективность, но стыдясь, что никто больше не вступает, но не видя себе прощения, если не приложит сил к нему.
Вход в гражданственность для человека негуманитарного образования – это не только рост мужества, это и поворот всего сознания, всего внимания, вторая специальность в зрелых летах, приложение ума к области, упущенной другими (притом свою основную специальность упуская ли, как иные, или не упуская, как двудюжий Шафаревич, оставшийся по сегодня живым действующим математиком мирового класса). Когда такие случаи бывают поверхностны, мы получаем дилетантство, когда же удачны – наблюдаем сильную, свежую хватку самобытных умов: они не загромождены предвзятостями, доведенными до лозунгов, они критически провеивают полновесное от трухи. (И. Р. эту свою вторую работу начал совсем частным образом, для себя, с музыки, и именно естественнее всего – с гениального, трагического и опустившегося Шостаковича, к которому его всегда тянуло. Он пытался понять, за чем застаёт Шостакович наши души и что обещает им, – сама собою просится такая работа, но никем не совершена. Напечатать статью было, конечно, негде, – и по сей день. Исследование о Шостаковиче привело И. Р. к следующему расширению: к общей оценке духовного состояния мира как кризиса безрелигиозности, как порога новой духовной эры.)
Вот, три крупных имени вошли в эти литературные заметки – лиц, делавших или делающих нашу гражданскую историю. Заметим: лишь Твардовский из них – гуманитарист от начала до конца. Сахаров – физик, Шафаревич – математик, оба занялись как будто не своим делом, из-за того, что некому больше на Руси. (Да и про меня заметим, что образование у меня – не литературное, а математическое, и в испытаньях своих я уцелел лишь благодаря математике, без неё бы не вытянул. Таковы советские условия.)
А ещё Шафаревичу прирождена самая жильная, плотяная, нутряная связь с русской землёй и русской историей. Любовь к России у него даже ревнива – в покрытие ли прежних упущений нашего поколения? И настойчив поиск, как приложить голову и руки, чтобы по этой любви заплатить. Среди нынешних советских интеллигентов я почти не встречал равных ему по своей готовности лучше умереть на родине и за неё, чем спастись на Западе. По силе и неизменности этого настроения: за морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да своё.
Два года обсуждая и обсуждая наш сборник «Из-под глыб» и материалы, стекающие к нему, мы с Шафаревичем по советским условиям должны были всё это произносить где-то на просторной воле. Для этого гуляли мы подолгу – то под Жуковкою, то по несравненным холмам близ Рождества (граница Московской области и Калужской), то однажды (в разгар «встречного боя» 31 августа 1973, накануне того, как я узнал о захвате «Архипелага») близ села Середникова (позже узнал – бывшего столыпинского) с его разреженными избами, печальными пустырями (разорённое в коллективизацию, сожжённое в войну, оно никогда уже более не восстановилось), с его дивной церковкой времён Алексея Михайловича и кладбищем. Мы переходили малую светлую речушку в мягкой изгибистой долине между Лигачёвым и Середниковым, остановились на крохотном посеревшем деревянном мостке, по которому богомолки что ни день переходят на подъём и кручу к церкви, смотрели на прозрачный бег воды меж травы и кустов, я сказал:
– А как это всё вспоминаться будет… если… не в России!
Шафаревич, всегда такой сдержанный, избегающий выразить чувство с силою, не показалось бы оно чрезмерным, ответил, весь вытягиваемый изнутри, как рыбе вытягивает внутренности крючком:
– Да невозможно жить не в России!
Так выдохнул «невозможно» – будто уж ни воздуха, ни воды там не будет.
Со свежестью стороннего, непредубеждённого, точного ума Шафаревич взялся и за проблему социализма – с той свободой и насмешкой, какая недоступна сегодня загипнотизированному слева западному миру. В сборник помещалась лишь статья умеренного объёма, Шафаревич начал с книги, с обзора подробного исторического, от Вавилона, Платона, государства инков – до Сен-Симона и Маркса, мало надеясь на доступность ему источников после того, как опубликуется «Из-под глыб».
Очередная редакция этой книги и лежала у меня последние недели, я должен был прочесть, всё некогда было, тут обнаружилось, что машинописный отпечаток мне достался очень бледный, я просил – нельзя ли ярче. 12 февраля, часа в 4 дня, Игорь и принёс мне другой экземпляр своей книги, оставил портфель в квартире, а сам спустился ко мне во двор. И здесь, среди бела дня, насквозь наблюдаемые и неужели же неслушаемые (уже несколько таких важнейших бесед по вечерам проводили мы в нашем дворе – и если б хоть раз подслушали бездельники из ГБ, неужели не приняли бы мер захватить и остановить наш сборник)? – здесь мы, потупляя рты от лазеров, меняя направление лиц, продолжали обсуждать состояние дел со сборником. Обсудили без помех. Оставалось разменяться экземплярами. Для этого нужно было мне подняться в квартиру. И, на минутку оставив малыша со старшим мальчиком Митей, я поднялся с Игорем в дом. В большую, уже тугую, портфельную сумку уложил Игорь кроме «Социализма» ещё и две моих статьи для сборника, недавно оконченные, тут раздался звонок в дверь.
Аля открыла на цепочку, пришла, говорит: «Опять из прокуратуры, теперь двое. С этим же вызовом, что-то, говорят, выяснить надо». Было уже близко к пяти, конец рабочего дня. Выяснить? Так успокоительно миновал день, уже спала вся тревога. Выяснить? Ну, пойдём вместе, откроем. Так и не дочтённые письма из-за границы кинув на письменный стол, я пошёл ко входной двери, это особый целый коридорчик от кабинета, затем передняя с детской коляской. И ничто в сердце не предупредило, потерял напряжённость! Чтобы дверь открыть, надо прежде её закрыть – цепочку снять, стала жена прикрывать дверь – мешает что-то. Ах, старый приём: ногою не дают двери закрыться. «Старый приём!» – выругался я вслух, – но куда же девалась старая зэчья реакция? – после этой ноги – как же можно было не понять и дверь открывать? Успокоенность, отвычка. И ведь были у нас с Алей переговоры, планы: когда придут на обыск – как поступать? не дать создать им численный перевес, не впускать их больше, чем есть нас взрослых тут (подбросят на обыск любую фальшивку, не углядишь), а стараться, если телефон ещё не перерезан, назвонить друзьям, сообщить. Но ведь их же – двое, но ведь – выяснить… И так не даём себе времени оттянуть, подумать, – то есть подчиняемся их игре, как и описал же я сам в «Архипелаге», – и вот теперь подчиняюсь опять, сколько же надо нас, человеков, бить-молотить, учить разуму? Да ведь минувшие дни – посыльных впускали, ничего.
Если б я сообразил и двери не открыл – они бы ломали конечно. Но ещё позвонили бы, постучали бы? Ещё сходили бы за ломами. Да по лестнице же часто ходят, значит – либо при людях, так огласка, заметность. Может, 15 минут мы бы продержались, но в обстановке яснеющей, уже что-то бы сожгли, разъяснили, уже друг другу бы что-то обещали… Очень слабое начало: просто – открыли. (Увы, всё не так, узнается после меня, и то не сразу: пока жена ходила меня звать, гебисты уже испортили, заколодили английский замок, и двери – уже нельзя было запереть! Не открывать – это значило с самого начала не открывать, но – как догадаться? А считали – будем держаться в осаде.)
И первый, и второй ещё шли, как обычно идут, но тут же, из тёмного лестничного угла навалив, задние стали передних наталкивать – мы сообразить не успели (и для чего ж твоё восьмилетнее обучение, балбес?) – они уже пёрли плотной вереницей, между вешалкой, Игнашкиной коляской, телефонным столиком, пятя, пятя нас с женою, кто в штатском, кто в милицейском, маленьких ростом и слабогрудых нет, – восьмеро!!!
Я стал кричать, что-то безсмысленное и повторительное – «Ах вот вы как?!.. Так вы так?!..», – наверно, это звучало зло-безпомощно. И – дородный, чёрный, в роскошной шубе, играя под почтенного, раскрывая твёрдую папку, в каких содержат премиальные грамоты за соцсоревнование, а в ней – большая белая немятая бумага с гербами: «Старший советник юстиции Зверев! Привод!» И – ручку совал, чтоб я расписался. Я отказался конечно.
Вот эта обожжённость внезапности, как полыхнуло пламенем по тебе, и на миг ни рассудка, ни памяти, – да для чего ж тебя тренировали, дурбень?! да где ж твоё хвалёное арестантское, волчье? Привод? В обожжённости как это просто выглядит: ну да, ведь я не иду по вызову, вот и пришли нарядом. Время – законное, действие власти – законное. Приводу? я подчиняюсь (говорю вслух) уже «в коробочке», уже стиснутый ими к выходу. Драться с восемью? – не буду. Привод? – простое слово, воспринимается: схожу – вернусь, прокуратура тут рядом. Нет, раздвоенность: я иду, конечно, как в тюрьму, как подготовились («да не ломайте комедию, – кричат, – он сейчас вернётся!»), – надо за тюремным мешочком идти в кабинет, иду – и двое прутся за мной, жене отдавливая ноги, я требую отстать, – нет! (Мелькнул, как туча чёрный, неподвижным монументом Шафаревич, в руке – перенабитый портфель, с алгеброй и «социализмом».) И вот мы в кабинете, я – за мешочком, те – неотступно, дюжий капитан в милицейской шинели нагло по моему кабинету, сокровенному закрытому месту, где только близкие бывали, но – обожжённость! – я не думаю, не гляжу, что на столе раскидана, разбросана вся конспирация, ему только руку протянуть. Мне б его из кабинета выпереть (а он липнет за мной, как за арестованным, у него задача – чтоб я в окно не выпрыгнул, не порезался, не побился, не повесился, ему тоже не до моего стола). «У вас что? – опоминаюсь, – есть ордер на обыск?» Отвечают: «Нет». – «Ах нет? Так вон отсюда!» – кричит Аля. Как на камни, не шелохнутся. Ээ, мешочек-то не приготовлен! Есть другой – Митькина школьная сумка для галош, в ней бумаги, какие я всегда увожу и за городом сжигаю, то есть самые важные, – и вот они не сожжены, и более: я выпотрашиваю их на стул, и в этот мешочек Аля кладёт приготовленные тюремные вещи. Но в таком же будоражном спехе (или безправии?) гебисты: они и не смотрят на бумаги, лишь бы я сам был цел и не ушёл. Взял мешочек, иду назад, все идём коридорчиком назад, толкаемся, – и я не медлю, я даже спешу, – вот странно, зачем же спешу? теперь бы и поизгаляться – сесть пообедать на полчаса, обсудить с семьёй бытовые дела? непременно бы разыграл, это я умею! Зачем же принял гебистский темп? – а вот зачем: скорей их увести (я уйду – они уйдут, и квартира чистая). Только соображаю: одеться похуже, по-тюремному, как и готовился, – шапку старую, овчинный полушубок из ссылки. Гебисты суют мне куртку мою меховую – «да вот же у вас, надевайте!», – э, нет, не так глуп, на этом не проведёте: а на цементном полу валяться в чём будем? Но не прощаюсь ни с кем, так спешу! (скоро вернусь?) – и только с Алей, только с женой, и то уже в дверях, окружённые гебистами, как в троллейбусной толкучке, целуемся – прощально, неторопливо, с возвратом сознания, что может быть навсегда. Так – вернуться? так ещё распорядиться? так – помедлить, потормозить, сколько выйдет? – нет, обожжённость! (А всё от первого просчёта, оттого что в дверь так глупо впустил их, и теперь дожигаюсь, пока не очищу квартиры, пока не уведу их за собой; в обожжении спутал: кто кого уводит.)
Медленно перекрестил жену. Она – меня. Замялись гебисты.
– Береги детей.
И – уже не оглядываясь, и – по лестнице, не замечая ступеней. Как и надо ждать: за парадной дверью – впритык (на тротуар налезши) легковая (чтобы меньше шага пройти мне по открытому месту, иностранные корреспонденты только-только ушли), и, конечно, дверца раскрыта, как у них всегда, для заталкивания, даже на европейских улицах. Чего ж теперь сопротивляться, уже сдвинулся, теперь сажусь на середину заднего сиденья. Двое с двух сторон вскочили, дверцы захлопнули, а шофёр и штурман и без того сидели, – поехали. В шофёрское зеркальце вижу – за нами пошла вторая, тоже полная. Четверо со мной, четверо там, значит – всех восьмерых увёл, порядок? (Не сразу понял: шофёр, и штурман, да кажется и охранники по бокам – все новые, где те мои восемь?) Сколько тут ехать, тут и ехать нечего, через задние ворота ближе бы пешком. Сейчас на Пушкинскую, по Пушкинской вниз машины не ходят, значит объехать по Петровке. Вот и Страстной бульвар. Вчера обсуждали: а если что – так как? Вчера ещё морозец не вовсе сдал, а сейчас слякоть, мечется по стеклу протиратель, – и вижу, что мы занимаем левый ряд: поворачивать не вниз, к прокуратуре, а наверх – к Садовому кольцу.
– Ах во-от что… – говорю. (Как будто другого чего ожидал. В тюрьму – не всё ли равно, в какую? Это я по обожжённости промахнулся. Но вот уже – и охлаждён, одним этим левым поворотом у Петровских ворот.) Шапку – снял (оба вздрогнули), на колени положил. Опускается, возвращается спокойствие. Как сам написал, о прошлом своём аресте:
На тело мне, на кости мне Спускается спокойствие, Спокойствие ведомых под обух.Двумя пальцами потянуло зачем-то обязательно пощупать около гортани, как бы помассировать. Справа конвоир напряжённо, быстро:
– Опустите руку!
Я – с возвращённой благословенной медленностью:
– Права знаю. Колющим-режущим не пользуюсь.
Массирую. Очень помогает почему-то. Опять правый (левый молчит, из разбойников обочь один всегда злей):
– Опустите руку! – (Похоже, что задушусь?)
Массирую:
– Права знаю.
По Садовому кольцу – направо. Наверно – в Лефортово. Дополним коллекцию: на свиданиях бывал там, а в камерах не сидел.
И вот как просто кончается: бодался-бодался телёнок с дубом, стоял-стоял лилипут против Левиафана, шумела всемирная пресса: «Единственный русский, кого власти боятся!.. Подрывает марксизм – и ходит по центру Москвы свободно!» А всего-то понадобилось две легковых, восемь человек, и то с избытком прочности.
Спокойствие вернулось ко мне – и я совершил вторую ошибку: я абсолютно поверил в арест. Не ждал я от них такой решительности, такого риска, ставил их ниже, – но что ж? крепки, приходится признать. К аресту я готовился всегда, не диво, пойдём на развязку.
((А жена, едва оторвясь от меня и не дожидаясь, пока выйдут все чекисты, затолпившие прихожую, бросилась в кабинет, сгребла со столов моего и своего всё первострашное. Невосполнимое прятала на себе, другое, поплоше, – сжигала на металлическом подносе, который в кабинете и стоял для постоянного сожжения «писчих разговоров». К телефону кинулась – отключён, так и ждали, конечно. Но почему никто из своих к ней не идёт? Не слышно ни разговоров, ни шагов, квартира беззвучна, – что там ещё случилось? Ощупав себя, запрятано плотно, пошла в прихожую, а там вот что: из восьмерых остались двое: «милицейский» вышибала-капитан и тот самый первый застенчивый «посыльной». Та-ак, значит, ждут новую группу, будет обыск. А дети-то, двое, остались на улице – и выйти за ними никому из женщин нельзя: нельзя ослабить силы здесь. И – опять в кабинет, кивнувши И. Р. защищать дверь. Он – и стал, загородил, со своим пудовым портфелем не расставаясь. Теперь – вторая разборка бумаг, уже более систематическая, а всё молниеносная. И жечь – жалко, в такие минуты чего не сожжёшь, а потом – зубами скрипи. Что можно – листочками отдельными – по книгам, найдут – не соединят. Кабинет – в гари сжигаемого, форточка не выбирает, тянет, конечно, и в прихожую, там чуют – а не идут!.. Ни горя, ни возбуждения, ни упадка, глаза сухие – спокойная ярость: Аля сортирует, перекладывает, жжёт со скоростью, невозможной в обычности. А ещё сколько разных материалов – почерками людей! А весь «Октябрь»! а все заготовки – горы конвертов и папок, ни до какого обыска не успеть! Вышла в прихожую, а их нет: всё время взглядывали на часы; через 20 минут после увода один сказал: «Пойдём?» Другой: «Ещё пару минут». Ушли молча. 22 минуты? Не прокуратура, не Лубянка… Лефортово? Только тут обнаружилось, что двери за ними уже запереть нельзя, замок сломан, полуторагодовалый Игнат лезет выйти на лестницу. Пошли за другими детьми – узнаётся: весь двор был полон милиции. Какого ж сопротивления они ждали? Какого вмешательства?.. Аля набирает и набирает телефонные номера, хотя надежды никакой. Но – не ватная тишина, а кто-то на линии дежурит (посмотреть, по каким номерам звонят?): гудок, нормальный набор – и тут же разрыв, и снова длинный гудок. А отстать – нельзя: увели – и никто не знает! И жена – всё набирает. Старший, Митя, прикатил со двора Стёпку, теперь – в детский сад за Ермошей. Может быть, там из автомата удастся позвонить корреспондентам. И вдруг – по какой случайности? – соединения не разорвали, и Аля успевает выпалить Ирине Жолковской: «Слушай внимательно, полчаса назад А. И. увели из дому силой, восемь гебешников, постановление о принудительном приводе, скорей!» И сама повесила, и скорей следующий! И ещё почему-то два звонка удались. И – опять на прежнюю систему разрыва, часа на полтора. Но хватит и трёх – по всей Москве зазвонили.))
Лефортовские знакомые подступы. (На самом взлёте, кандидатом на ленинскую премию, подходил я сюда, изучить Лефортово снаружи, никогда не помешает.) Знакомые раздвижные ворота, двор, галерея кабинетов, где у нас бывали свидания с шарашки Марфино. Пока доехали – уже темновато, фонарей на двор не хватает, какие-то офицеры уже стоят, меня ждут. Да без лишней скромности: не совсем рядовой момент в истории Лефортова, не удивлюсь, если тут и по цекистской линии кто-нибудь дежурит, наблюдает. Ну как же, столько гавкал, столько грозил – а схвачен. Как Пугачёв при Екатерине – вот он, у нас, наконец!
Распоряжаются, как в бою: куда машине точно стать, обсыпали круговой цепочкой человек десять, перебегают, какие дверцы в машине открыть, какие нет, в каком порядке выходить. Я – сижу спокойно, пока мягко, тепло, а лучше не будет. «Выходите!» – в сторону тюремных ступенек.
И, нисколько вперёд не обдумав, вот сразу тут родилось: как бы мне выйти пооскорбительней, подосадней для них? Мешочек мой – для галош, тёмный, на длинной поворозке, как на вешалках они свисают, – я перекинул через спину – и получилась нищего сума. Выбрался из машины не торопясь и пошёл в тюрьму – несколько шагов до ступенек, по ступенькам, потом по площадке – в потёртой шапке-кубанке, в тулупчике казахстанском покроя пастушьего («оделся как на рыбалку», скажет потом Маляров, метко), – пошёл хозяйской развалкой, обременённый сумою с набранной милостынею – как будто к себе в конуру, и будто их нет никого вокруг.
А кабинеты следовательские куда-то переведены, и здесь теперь у них шмональные боксы: всё в камне, голый стол, голых две скамьи, лампочка сверху убогая. Два каких-то затруханных мусорных мужичка на скамье сидели, я думал – зэки (потом оказалось – понятые из соседнего ЖЭКа! ведь вот законность!..). Сел и я, на другую скамью, положил мешочек рядом.
Нет, не думал. Честно говоря – не ждал.
Решились…
Рано, сказала лиса в капкане. А знать, ночевать.
Тут вошёл обыкновенный бойкий шмональщик серо-невыразительного вида и бодро предложил мне кидать на стол мои вещи. И этот самый обыкновенный тюремный приём так был прост, понятен, даже честен, без обмана, что я незатруднённо ему подчинился: что тратиться на спор по мелочам? Порядок есть порядок, мы под ним выросли, ну как же тюрьме принять арестанта без входного шмона, это всё равно как обедать сесть без ложки или рук не помыв. Так отдавал я ему свою шапку, тулупчик, рубаху, брюки, ожидая, встречно по-честному, тут же получать их и назад (для помощи приспел и ещё детина, рубчики перещупывать, но не строго щупали, я бы сказал). Шмональщик меня и не торопил догола раздеваться – посидите пока так. И тут вошёл наблещенный висломясый полковник с сединой.
Когда я рисовал себе будущую свою тюремную посадку – уже теперешний я, со всей моей отвоёванной силой и значением, я твёрдо знал, что не только следствие от меня ничего не услышит, легче умру; что не только суда не признаю, отвод ему дам в начале, весь суд промолчу, лишь в последнем слове их прокляну; – но уверен я был, что и низменному тюремному положению наших политических не подчинюсь. Сам я довольно писал в «Архипелаге», как ещё в 20-е годы отстаивала молодёжь гордые традиции прежних русских политических: при входе тюремного начальства не вставать и др., и др. … А уж мне теперь – что терять? Уж мне-то – можно упереться? кому ж ещё лучше меня?
Но, пройдя первым светлым, чистым (жестоким в чистоте) тюремным коридором, в первом боксе на первую севши скамью и почему-то так легко поддавшись шмону, – да по привычности, как корова замирает под дойку, – я уже задумался: где ж моя линия? Машина крутилась, знать не зная (или притворяясь, что не знает), кто там известность, кто беззвестность. А я – я силён, когда ем по своей охотке, гуляю вволю, сплю вдосталь, и разные мелкие приспособления: что под голову, да как глаза защитить, да как уши. А сейчас я вот лишился этого почти всего, и вот уже изрядно пылает часть головы от давления, и начни я ещё и по мелочам принцип давить перед тюремным начальством – ничего легче карцер схватить, холод, голод, сырость, радикулит, и пошло, пошло, – 55 лет, не тот я уже, 27-летний, кровь с молоком, фронтовик, в первой камере спрошенный: с какого курорта? И так ощутил я сейчас, что на два фронта – и против следствия, и против тюремного начальства, может мне сил не хватить. И пожалуй, разумней все силы поберечь на первый, а на втором сразу уступить, шут с ними.
И вот вошёл наблещенный, хитроватый седой полковник, с сопровождением. И спросил – самоуверенно, хотя и мягко:
– Почему не встаёте? Я начальник Лефортовского изолятора, полковник Комаров!
Раньше всяко я эти картины воображал, но сразу в камере (да прежде камеры начальство не приходит к арестанту). Вот, сижу на кровати и предлагаю: «А вы тоже присаживайтесь». Или конспективно: «В старой России политические перед тюремным начальством не вставали. Не вижу, почему в советской». Или что-нибудь о непреклонности своих намерений. Или слукавить, по грому ключа уже стоять на ногах – и как будто встал не к ним.
Но вот, в шмональном боксе, почти раздетый, и врасплох, вижу перед собой эту свиту, слышу формальное, всем тут обязательное требование встать, – и, уже рассчитавши, что силы надо беречь для главного, – медленно, искривь, нехотя, как одолжение, – а встаю.
А по сути – вот уже и первая уступка? не начало ли слома? Как высоко доложили, что я тюремным правилам подчинился? Мог ли там кто оценить и взрадоваться? Очень-очень у них мог быть расчёт в первый же вечер меня ломать – а отчего ж не попробовать?
Ну – и следующие наскоки, и следующие уступки: с формуляром офицер спрашивает фамилию-имя-отчество, год, место рождения, – смешно? не отвечать? Но я же знаю, что это – со всех, я же знаю, что это – просто порядок. Ответил. (Слом продолжается?) Врач, типичная тюремная баба. Какие жалобы? Никаких. (Неужели объявлю вам – кровяное давление?) Ничего, стетоскопом, дышите, не дышите, повернитесь, разведите руки. Не подчиниться медосмотру, отказаться? Вроде глупо. А тем временем шмон подходит к концу, тоже: разведите руки! (Я же – подчинился началу шмона, чего ж теперь?) Повернитесь, присядьте… Правильно сказано: не постой за волосок – бороды не станет. Но вот странно, выпадает из обычая, – ещё и другой врач приступает, мужчина, не так чтоб интеллектуал, хорёк тюремный, но очень бережно, внимательно: разрешите, я тоже вас посмотрю? Пульс, опять стетоскоп. (Ну, думаю, много не наслушаете, сердце ровное – дай Бог каждому, спокойствие во мне изумительное, в родных пенатах, тут всё знакомо, ни от чего не вздрогнешь.) Так достаёт, мерзавец, прибор для давления: разрешите? Вот именно давление и не разрешить? Открывается моя слабость, кошусь на шкалу, сам по ударам слушаю – 160–170, и это только начало, ещё ни одной тюремной ночи не было. Да, не хватит меня надолго. «На давление жалуетесь?» – спрашивает. Уж об этом давлении сколько мы по телефону говаривали через гебистов, вполне откровенно, о чём другом по телефону? – «Нет, нет».
Но я-то порядку подчинился, а вот они? – барахла моего мне не отдают! Почему? На часы, на крест нательный – квитанция, это как обычно, хотя о кресте поспорил, первый спор. «Мне в камере нужен!» Не отдают: металл! Но вещи мягкие, по рубчикам промятые, без железки запрятанной и без железного крючочка, – почему вещи не отдают?? Ответ: в дезинфекцию. А перечень – пожалуйста, до наглазника самодельного, всё указано. Раньше так не бывало. Но может быть, я от тюремной техники отстал, отчего б теперь и не делать дезинфекции? На полушубок показываю: «Это же не прожаривается!» – «Понимаем, не прожарим». Удивило это меня, но приписал новизне обычаев. Взамен того – грубая-прегрубая майка, остьями колет бока, это нормально. И чёрная курточка, тюремно-богаделенная, по охотке не купишь. Но поверх – костюм, настоящий, там хороший-нехороший, я в них никогда не разбирался, и полуботинки (без шнурков), – так, наверно, так теперь одевают? у нас на шарашке тоже ведь маскарад бывал, в костюмы одевали. Через час-другой всё моё вернут. Пошли. Спереди, сзади по вертухаю, с прищёлкиванием, коридоры, переходы, разминные будки – это всё по-старому. С интересом поглядываю, где ж эта американская система навесных железных коридоров, сколько мне о Лефортове рассказывали, теперь и сам посмотрю. На второй этаж. Не очень-то посмотришь, ещё придумали новое: междуэтажные сетки покрыли сероватыми полотнищами, и взгляда через сетки с этажа на этаж не осталось. Какой-то мрачный молчаливый цирк, ночью между спектаклями.
((По телефонным звонкам собралось пятеро, во главе с Сахаровым, и пикетировали на Пушкинской перед Генеральной прокуратурой – отчасти демонстрация, отчасти поджидая, не выйду ли я. А к нам в квартиру шли и шли, по праву чрезвычайности, близкие и неблизкие, по два, по три, по пять, за каждым дверь ставилась на цепочку и так болталась со щелью, зияя разорением. Аля рассказала первым, как что было, а потом уже слышавшие рассказывали следующим, она – опять за бумаги: о, сколько их тут, только теперь ощутить, жили – не замечали. Всё то ж сочетание: холодная ярость – и рабочее самообладание. Мысли плывут как посторонние, не вызывая отчаяния: что сделают с ним? убьют? невозможно! но и арест ведь казался невозможным! А другие, чёткие мысли: как делать, что куда.))
Не упустить номер на камере. Не заметил, как будто нету. Уверен, что шагаю в одиночку, – вступаю: одиночка-то одиночка, по размеру, но – три кровати, двое парней лежат – и курят, всё задымлено. Вот этого никак не ожидал: почему ж не в одиночку? И куренье: когда-то сам тянул, наслаждался, сейчас в 10 минут голова откажет. По лучшей твёрдой линии – промолчать. По линии слабости – заявляю: «Прошу поместить в одиночку. Мне куренье мешает». Сопровождающий подполковник вежливо: доложит. Вообще, все очень вежливы, может быть и это теперь стиль такой новый? (если не считать, что двух моих сокамерников тот же подполковник при входе облаял). Ну, на их вежливость и у меня же покойность, как будто я всю четверть столетия так от них и не уходил, сроднился. А вот что: спокойствие это потому так безпрепятственно мне досталось, что я подчинился тюремным правилам. Иначе б на мелкие стычки и раздёргался весь. Хоть не задумано, а умно получилось: нате моё тело, поворачивайте, а от спокойствия моего – лопните! Если там с надеждой запрашивает куратор из ЦК – бешусь? буяню? истерику бью? – ни хрёнышка! не возвысил голоса, не убыстрил темпа, на кровати сижу – как дремлю, по камере прохаживаюсь – топ-топ, размеренно. И если сохраняли они такой расчёт, что вдруг я забьюсь, ослабну, стану о чём-то просить или скисну к соглашению, то именно от спокойствия моего их расчёты подвалились. (Зачем меня сунули к этим двум? Выведать от меня? – смешно и рассчитывать; повлиять? – слабы. Чтоб с собой не кончил? головой об стенку не шибанул? – вот разве что.)
Заперли дверь. Ребята что-то растеряны. И с куреньем как же? А что ж у вас форточка закрыта? Да холодно, плохо топят, польтами накрываемся, всё равно холодно. Ну всё ж, после перекура давайте проветрим.
Так, так. Всё, как рассказывали, камеры не изменились: серый пакостный унитаз, а всё-таки не параша; кружки на столе, но не съезжают от рёва и дрожи аэродинамических труб по соседству, как тогда, тишина – и то какое благо; яркая лампочка под сеткой в потолке; на полке – чёрный хлеб, ещё много цело, а ведь вечер. Глазок то и дело шуршит, значит не дежурный один улупился, а многие меняются. Смотрите, смотрите, взяли. Да как бы вам не поперхнуться.
Слежу за собой, отрадно замечаю – никаких ощущений новичка. Смотрю на сокамерников (новички бывают только своим горем заняты). Оба ребята молодые, один – чернявый, продувной, очень живой, но весь так и крутится от обожжения, взяли его, говорит, лишь сутки назад, ещё не опомнился; второй – белокурый, тоже будто трёх суток нет, не арестованный, мол, а задержанный, но не похоже: вяловат, одутловат, бледен, – если не болен, то многие признаки долгого уже тюремного сидения, такими наседки бывают. А между собой они – впросте, и, наверно, первый второму всё рассказал… Не спрашиваю – «за что сели?», спрашиваю – «в чём обвиняют?». Валютчики.
В чём они не видят тюремной сласти – ходить по камере. Четыре шага небольших – а всё-таки. Проходка, от какой я за всю жизнь не отставал, – и вот опять пригодилась. Медленно-медленно. В ботинках чужих и мягко бы хотел, да стучат как деревянные. Глазком шуршат, шуршат, смотрят, не насмотрятся.
Решились…
((От прокуратуры с улицы сахаровская группа время от времени звонила: что – спокойно, и сказали им: «никакого Солженицына здесь нет». Всё больше подваливало своих, на длинную вместительную кухню, уже и иностранные корреспонденты, а с обыском всё не шли. Дожидаться ли его? Аля кипела в решениях: сейчас – раздать архив друзьям, знакомым? рассуют по пазухам, портфелям, сумкам? А может – того и ждут? И всех сейчас поодиночке похватают, засуют в автомашины, там обыщут безо всякого ордера и без протокола, даже не докажешь потом… Нет, не напороть бы горячки. Люди неповинные пострадают. (А может, и не арест? Ещё, может, и вернётся? Сказали – «через час вернётся». Уже прошло три. Арестован, конечно.) Предложили друзья трёхлетнего Ермолая увести от тяжёлых впечатлений. «Пусть привыкает, он – Солженицын».))
Решились. Да неужели ж не понимали, что я – как тот велосипед заминированный, какие бросали нам немцы посреди дороги: вот лежит, доступный, незащищённый, но только польстись, потяни – и нескольких наших нет. Всё – давно на Западе, всё – давно на старте. Теперь сама собой откроется автоматическая программа: моё завещание – ещё два тома «Архипелага» – вот этот «Телёнок», с Третьим Дополнением. – Сценарий и фильм. – «Прусские ночи». – «Пир победителей» (спасённый, см. Пятое Дополнение). – Пьеса о СМЕРШе. – Лагерная поэма. – «Круг»-96. – Ленинские главы. – Второй Узел… Всей полноты заряда они, конечно, не понимают. Ну, отхватите! Если б не это всё, я бы вился, сжигался сейчас хуже несчастного моего соседа. А теперь – спокоен. К концу – так к концу. Надеюсь, что и вам тоже.
Ребята предлагают мне – хлеба с полки и сухарей. Есть, пожалуй, хочется. Вспоминаю: предлагали мне дома в 3 часа пообедать, сказал – нет, Степана прогульну. Так с утра и не ел, и голодный в камеру пришёл, и уже до утра ничего не дадут, все выдачи миновали. Плохой арестантский старт, перед первым днём следствия. И даже не оказалось в кармане кошелька, ни рубля, ни копейки на ларёк, вот уж спешил! Хлеб? а как же вы? Да мы не хотим. Да его дают от пуза. От пуза?! Чудеса, неузнаваемо. Начинаю пощипывать. После средней московской черняшки – довольно мерзкий хлеб, глиноватый, специально пекут похуже. Ничего, втянусь.
Но что ж это? Уже два часа прошло, а вещей моих нет. «Голосую» (палец подняв). Сразу с готовностью открывают кормушку: тут они все толкутся, и офицер один, второй. Тихо говорю, нисколько не шумя, не как бывало, звонко права качая, а лениво даже (в те года – вся сила была в этой звонкости, а сейчас – силища другая: книги ползут неуклонно): пора вещи вернуть, все сроки прожарки кончены. «Выясняется… Вопрос выясняется». Хрена тут выяснять? Ну, может быть, теперь всё по-новому. (Упускаю у ребят спросить: а у них – долго прожаривали?) Ребята говорят: без пальто пропадёте, ночью под одним одеялом холодно. Вдруг распахивается дверь, подполковник принимает парад, а ещё один чин несёт мне второе одеяло, со склада новое, ещё не пользованное. Ребята изумлены, – что я за птица?.. Так, значит, прожарка до утра? Странно. Ну ладно. Теперь чего мне только не хватает? – скорей бы спать. Привык я в 9 уже ложиться, не стыжусь и в 8, а здесь только в 10 формальный будет отбой, да пойди засни. К завтрашней первой схватке всё решает первая ночь. Счастливое вечернее торможение, мысли вялые, – вот сейчас бы и выиграть час-два-три. Снотворных нет, и ночь будет безсонная, сейчас – самое спать. Но нельзя: разрешается лежать поверх одеяла, не раздеваясь, не укрываясь. Лежу, да только голова затекает. Как низко! (И – как это скрыть, что я стал уязвим на низкое изголовье?) А ребята – ещё по одной папиросе, ещё, но каждый раз проветривают. Чернявый вертится у меня за головой: «Ну, кто мог сказать? Кто?? Вот что меня одно интересует». С любимой, видно, женой, устраивали они жизнь покрасивше, как понимали, – что из мебели, а вот и машину купили – на это в нормальной стране рабочий может просто заработать, а у нас надо исхитриться против закона. Какие-то монетки у него взяли при обыске, теперь эти монетки надо было объяснять. «Слышь, парень, – говорю, – ты вообще в камере вот это поменьше. Тут – микрофоны, не безпокойся. Может и не было ничего, понимаешь? Ты – про себя внутри крути больше». Задумался. Ещё им из тюремного опыта кой-что рассказал, дотянуть до сна. Вдруг – замок гремит. Точно как на Лубянке бывало – ближе к отбою на допрос. Но теперь-то ночами не допрашивают? (Я и днём-то разговаривать не буду.)
Однако подполковник, фамилии моей ни разу так и не назвав, и не спросив, приглашает меня пройти. После отбоя нипочём бы не пошёл. Но сейчас – ладно, может тулупчик отдадут, – как хорошо в него укутаться, хоть на рельсах сидючи, хоть в краснухе, хоть на лагерных нарах. А идти мне, оказывается, – почти ничего, вот как камеру выбрали, не успеваешь глазами прошастать по этим полотнищам, офицер впереди, офицер позади, – а полковник, начальник Лефортова, поперёк дороги: пожалуйте вбок. Вестибюльчик – вестибюльчик – дверь в кабинет. Ярко. Вкруговую по стульям: уже двое сидят (лиц не разглядываю – откуда, кто? ряженые?), а со мной пришедшими – пятеро их. А за главным столом, сверкая лысиной, – маленький, вострый, пригнулся, и ещё под настольной лампой ярко-бело от бумаг. А посреди комнаты, на просторе, как нормальные люди не садятся, под самыми лампами – стул, к вострому лицом, и – туда мне показывают полковник и подполковник. Ничего, сидеть – лучше, чем стоять. Сел. И, чую, задние все уселись, полукругом за моей спиной. Молчим.
Главный, вострый – щуп, щуп меня глазами, как никогда людей не видавши.
Ничего, пош-шупай.
И остро, стараясь даже пронзительно:
– Солженицын??
Ошибся. Ему бы: «Фамилия?»… Ну ладно, поймали, держите:
– Он самый.
Опять остро:
– Александр Исаич?
Успокоительно:
– Именно.
И – с возможной звонкостью и значением:
– Я – заместитель генерального прокурора СССР – Маляров!
– А-а-а… Слышал.
У Сахарова читал. Да не написал Сахаров, что он маленький такой. По записи можно подумать – номенклатурная глыба, Осколупов.
Но – не размазывает, деловой. А может быть, воздухом одной комнаты со мной дышать не может, торопится:
– Зачитываю постановление…
Не запомнил я, кто «утверждает», – он ли, или самый генеральный прокурор, а «постановил» всего-навсего старший советник юстиции, тот самый Зверев, в роскошной шубе, – на квартиру почти как милиционер приходил, а тут, вишь, за всё Политбюро управляется:
– …За… за… Предъявляется обвинение по статье 64-й! (ещё там буква или часть?).
Я – голосом дрёмным, я – с мужицким невежеством:
– Вот этого нового кодекса… – (он ведь только 13 лет) – …совсем не знаю. Это – что, 64-я?
То ли было в добрые времена, при Сталине-батюшке, как посидишь десятку, так шпарь любой подпункт в темноте наизусть.
Маляров вылупился рачьи:
– Измена родине!
Не шевелюсь.
(Они за спиной впятером засели – ждут, я кинусь на прокурора?)
– Распишитесь! – поворачивает ко мне лист, приглашает к столу подойти.
Без шевеленья, давно отдуманное, слово на вес:
– Ни в вашем следствии, ни в вашем суде я принимать участия не буду. Делайте всё без меня.
Ожидал, наверно. Не так уж и удивляется:
– Только расписаться, что – объявлено.
– Я – сказал.
Не спорит. Повёртывает лист, и сам же расписывается. Ах, как меня жал следователь 29 лет назад, неопытного, зная, что в каждом человеке есть невыжатый объём. И до чего ж хорошо – зарекомендовать себя камнем литым, даже и не пытаются, не прикасаются пожать, попробовать. Следствие – не будет трудным: напрягаться умом не надо. Всех, всех предупреждал: говорите, валите, что хотите, со мной противоречий не будет никогда, потому что я не отвечу ни на вопрос.
Так – и надо. Вот она, лучшая тактика.
Всё. Тем же чередом – встают сзади меня, встаю я, офицер впереди, офицер позади, через два вестибюля – руки назад! (не резко, мягко-напоминающе). Можно бы и не брать, конечно. Но я руки назад – беру. Для меня руки назад, если б вы знали, даже ещё и уверенней: чего ж ими болтать, строить вольняшку недобитого, для меня руки назад – я железный зэк во мгновение, я сомкнулся с миллионами. Вы не знаете: вот такая маленькая пустая проходочка под конвоем насколько укрепляет зэка в себе.
А тут и не долго, вот уже и в камере. Ребята: «Ну что?»
Говорить, не говорить?..
Я и действительно не помню: до пятнадцати лет – это точно. Но, конечно, и расстрел же есть.
Да, осмелели, не ожидал от них. Вот тебе – и варианты. На всякого мудреца довольно простоты.
((Сейчас по минутам восстановить нельзя. Но вызов к Малярову был – ещё до 9 вечера. Але позвонили: «Ваш муж задержан» – в 9.15. Заявка нашего посла министерству иностранных дел ФРГ о том, что завтра утром он явится с важным заявлением, была довольно поздно вечером по-европейски, значит – ещё позже этого[54]. Такое сопоставление не исключает, что мои первые тюремные часы и когда меня вызывал Маляров – ещё не до последней точки была у них высылка решена. (А если решена – нужна ли статья?) Ещё оставляли они себе шанс, что я дрогну – и можно будет начать выжимать из меня уступки? Если был такой расчёт, то каменность моя ленивая – задавила его.
Полукультурный голос в трубке предложил моей жене наводить справки по телефону завтра утром у следователя Балашова, того самого, к которому меня якобы вызывали. Вот и всё, арестован. Повесила трубку, – и снова уже другие набирали, разнося по Москве.))
Наконец объявили в кормушку отбой. Ну, теперь побыстрей, это мы ловко когда-то умели: одеяла – откачены, куртку – прочь, брюки – прочь, да не очень-то: холодно, правда, ах, сволочи, замотали тулупчик! и носки шерстяные! Побыстрей. Так спешили обвиненье объявить – завтра, гляди, с утра и следствие покатят. И в общих движениях, в суматохе, незаметно, ботинки – тык под подушку! старый зэчий приём – для сохранности, а сейчас мне для высоты. Лампа бьёт, полотенцем накрыть глаза, на Лубянке не запрещали. А потребуют ли руку наружу? – может, и нет. Спать! Дышать глубоко-глубоко-глубоко. (Чем дышать? в камере – не воздух, я забыл уже про такой.)
Нет, собачий сын, заметил, что под моей кроватью пусто, откинул кормушку:
– Опустите ботинки на пол!
Строил, строил подушку без них. Потом дышал глубоко. Заснул.
((Дети не засыпали, пугались шума, света, многих голосов. Всё новые приходили, и сахаровская группа от прокуратуры. (А всё-таки это обилие безстрашных сочувствующих в квартире арестованного – это новое время! Пропали вы, большевики, как ни считай!..) Из нашей квартиры Сахаров отвечал канадскому радио: «Арест Солженицына – месть за его книгу. Это оскорбление не только русской литературы, но и памяти погибших». К нам звонили Стокгольм, Амстердам, Гамбург, Париж, Нью-Йорк, гости брали трубку, подтверждали подробности. А в мыслях: если взяли заговорённого Солженицына – то кого теперь запретно взять? то кого заметут завтра?..
Кто не знал конспирации, не разделит этих колебаний мучительных: где лучше хранить? Унести? Оставить? Сейчас гостей так много, – раздать? Всех, пожалуй, не похватают. Упустишь этот момент – а утром нагрянут и всё возьмут!? Но раздавать – людей губить. И удастся ли потом собрать? Ладно уж, пока не прояснится, понадеяться на захоронки домашние.))
С вечера заснуть немудрено, мудрено заснуть после первого просыпа. Всё, что было плохое за день, прорывается в первом просыпе – и жжёт грудь, жжёт сердце, где тут спать. Не вздохи, не круговерть моего валютчика за головой, не куренье его всю ночь, ни даже лампа сатанячья, разрывающая глаза, – но свои просчёты, свои промахи, и откуда только выныривают они в ночной мозг, какой чередой подаются, подаются!
Больше всего зажгло: как там обыск идёт, у Али? Почему-то с вечера хватило мне впечатлений и событий, или заторможенность, – на домашний обыск я не стянулся тревогой. А сейчас – всё на нём, и всё – из моих ошибок. Зачем я дверь открыл?! Полчаса у нас быть могло на сжиганье, на сборы, на уговоры. Зачем я спешил уйти? Остались почти все, я тех, восьмерых, потом уже как будто не видел, тот же Зверев и обыском там руководит? И надо же так сложиться: два «Социализма» сразу – и Шафаревич при них, тут же. Портфель-то ещё, может, не даст, – но один экземпляр вынул мне на стол, и уже не успеет спрятать! Хорошо взял мои статьи для сборника, – но другие экземпляры – на столе же прямо, и ещё других авторов проекты, полузаконченные, ай-ай-ай, пропало «Из-под глыб», три года готовили – в прорву. Да. А письма с Запада – просто на столе, и искать не надо, только руку протяни! никогда ни одно не попадалось, а эти – прочтут, все карты открываем!.. Да много может быть там… Да! Исправления к «Письму вождям», в последнюю ночь сделанные. Да хуже! К «Тихому Дону» последнее приложение – мало что не отправим, но – узнают всё! Да! Ещё одна плёнка, полуиспорченная, дубликат от прошлой отсылки, нужно было сжечь, я забыл за город взять, а в доме сложно палить, – уж этот трофей отдать совсем безсмысленно, совсем позорно. Да! А в несгораемом шкафу – ведь «Телёнок» весь! «Телёнок» весь, отпечатанный! – реветь хочется на всю камеру, вертеться, бегать! Ведь годы так, лотерея: то кажется, у меня всего безопаснее, и собираем ко мне, то кажется – я горю, и тащим, везём куда-нибудь целый мешок, зарываем. Да «Пленников» экземпляр не дома ли? А уж о Втором Узле и говорить нечего, и ленинские главы, – всё это теперь в их руке. Боже мой, Боже, стоял как скала, 25 лет конспирации, одни успехи, одни успехи – и такой провал. И всего-то надо было им, на что никогда не решались по трусости: просто прийти ко мне прямо. И всё.
Вздыхал бедняга-валютчик за моим изголовьем, крутился, жёгся, папиросы жёг. «Спи, – говорил я ему, – спи, силы всего нужней пригодятся». Нет, – «кто продал?» жгло его. Кроме своих промахов ещё предательство близких больше всего и жжёт всегда. А второй спал спокойно.
((К полуночи налились ноги, голова, глаза, ушла вся ясность. Даже не отрывочные мысли, а какое-то месиво, но спать не хотелось Але нисколько. Думала по третьему заходу начать просматривать бумаги, но силы ушли. Тут вспомнила, что от завтрака не ела ничего, и мужа взяли без обеда. Прежний поднос для сжиганья бумажек стал слишком мал, поставили в кухне на пол большой таз под костёр, – и стоять ему так полтора месяца.
А обыск в эту ночь был, только не здесь: вели его 14 гебистов в Рязани – у Радугиных, моих знакомых, у которых отроду ничего я не держал, а пришли искать чего-то грандиозного, хуже «Архипелага», вот этого «Телёнка» искали? всего, что ещё не досталось им. И ничего не нашли.
И в Крыму, в далёкой Ак-Мечети, у стариков Зубовых, моих друзей по ссылке, – тоже обыск, и тоже впустую, ничего у них нет уже.))
Жгло-жгло, да не непрерывно же. В чём преимущество перед сидением прежним? Голова свободна от этих изнурительных расчётов: а если так спросит? – а я так отвечу, а если так? – так. Какая свобода: ни единого ответа, ка-атитесь!.. Глубоким дыханием себя успокаивал, молился, – и благодетельно наплывали полоски сна. А после них – опять ясность жестокая. Голова пылает, затекает, уж оба кулака под подушкой – всё равно низко. Обещал я Але: в тюрьме и в лагере два года выдержу, что б со мной ни было – два года выдержу. Чтобы знать, что всё моё напечатано, и умереть спокойно: врезал. А теперь вижу – обещал не по силам. Ещё много лет я мог бы устоять в любых склонениях, но чтобы – воздух, тишина, писать бы можно. А здесь – в два месяца не кончусь ли? Минимальный срок следствия, два месяца. Не страшно, и не уступлю ничуть, но – кончусь?
И уже жизнь свою отстранённо обозревал как законченную. Ничего, удалась. С тем, что я нагрохал, – ни этим вождям, ни следующим не разделаться и за пятьдесят лет. Хотел, хотел ещё Узлы, больше-то всего их, но что успел – и на том Богу слава. Если выше, выше подняться над мелкими неудачами обыска – всё удалось, книги отправлены к печатанию, а что в движеньи, в набросках, вариантах, замысле – всё в твёрдых верных Алиных руках. Хорошо уходить из жизни, оставив достойную наследницу. Там и трое сыновей подрастут, в чём-то батькину линию продолжат.
((Не спали всю ночь. Просматривали, жгли, но не много: жалко, ведь ничего этого не восстановить. Да придут ли утром? – отчего ж тогда не сразу вечером? Вдруг – вспомнила! Вспомнила – и стала искать: прошлым летом перед встречным боем было написано заявление о неправомочности суда над русской литературой, да и покинуто без применения, черновиком. А вчера на Страстном повторил: никаких допросов, следствия, суда не признает. Догадалась, где искать! Нашла!! [42] Так пустить! Среди ночи?.. Руки жжёт! как бы не опоздать! А с 6 утра, по «закону», могут прийти – накроют, погасят, останется неизвестным. Надо пустить сейчас же, ночью!! Позвонить корреспонденту? Кому? По разным соображениям – «Фигаро» (Ляконтр). «Можете ли приехать? У меня к вам просьба». – «Буду через пять минут!» (Как? В дом арестованного, ночью, зовут по телефону иностранного корреспондента – и не задержат?? Нет, ослабли, ослабли большевики. О, где ты, пламенный Дзержинский?..) Аля садится за машинку и сразу стучит 10 экземпляров на тонкой бумаге. Ляконтр – корреспондент, почему новости не взять? Законно. Аккуратно сворачивает, заверяет, что раздаст всем агентствам. Уехал. Разбираются бумаги дальше. Сколько писем чужих надо жечь, сколько почерков надо спасать! А это что за ужас? Целых две плёнки. Надо протягивать, протягивать их долго, через лупу, чтоб убедиться: ненужные, дубликаты, жечь. А горят – плохо. Около таза – очередь бумаг на сожжение. В общем – к обыску за ночь приготовились неплохо. Да если придут – не открывать (уже замок исправили): «Арест Солженицына считаю незаконным, тем более – обыск в его отсутствие. Ломайте!» 6 часов утра. Не приходят. А вот и 7, проснулись дети, некогда взрослым спать.))
Странно, в эту ночь в камере не было холодно, хотя форточка открывалась часто. Но и не от моего ж дыхания потеплело? Пощупать батарею невозможно, она вся в заградительном ящике, а регулируется, конечно, от вертухаев, и вероятно – каждая камера отдельно, иначе как создашь нужный режим? (Вот, думаю теперь: для меня и подкрутили тепла.)
Подъём самый обычный: под ночной лампочкой грохот кормушки. Конечно, к подъёму как раз все и спят, нет, поворачивайся, подымайся быстро. Прохлопали все двери по разу, теперь по второму: кто дежурный по камере? Щётку, подметать. Но какие мягкости: оделся, постель застелил, сверху можно опять лечь. (От этих одеял какая-то мелкая нитка липнет на костюм.) Нет мрачней тюремного утра, об этом уже писано сколько раз, да и утр же сколько! При всё том же свете ночном, ярком из потолка, всё том же тёмном окне – ждать теперь обычных тюремных событий: хлеба, кипятка, утренней поверки. На следствие раньше полдесятого не выдернут никого.
Как бы не так! – грохот замка, и опять подполковник, в глубине капитан (слишком чины высоки для раннего утра, да ведь не знаю теперешних порядков, кто у них корпусной?), – и без «кто на сы…?», без малейшего сомнения в моей фамилии – жестами и словами: пройти надо мне.
Ну, пожарный порядок! В хорошей тюрьме за 12 часов ещё из бани в камеру не попадёшь (а кстати, почему бани не было?), а тут уже и обвинение предъявлено, и на первый допрос! Торопятся.
Туда ж, где вчера, но перед самым «маляровским» кабинетом – в другую сторону. На тебе, санчасть! Два врача вчерашних, а офицеры задом-задом, и ретировались. Бабёшка – вовсе не суётся, держится как медсестра, мужчина же полон заботы: как я себя чувствую?
А, звери, что-то всё-таки вам мешает, инструкция какая-то. Но и открывать себя перед следствием? нельзя. Разденьтесь до пояса. Ляжьте. Где у вас опухоль была? Всё знает, стервец, и щупает неплохо, прямо идёт по краям петрификата. Значит, врач неподдельный. Опять давление мерит, и для утра высоко, да. «Что вы обычно от давления принимаете?» Не скроешься, да по телефонам сто раз уже слышали: «Травы». «А – какие?» Что они тут, будут мне заваривать? А что мне терять? Если при следствии буду давление сбрасывать, так ещё как потяну!! И обнаглев: «Некоторые в настойках готовые продаются: боярышник, пустырник». Он – взгляд на сестру, она – тык в шкаф, и уже несёт пузырёчек родной, пустырника! (Да чего удивляться, из десяти арестантов тут восьмерых до давленья доводят.) Налили, выпил – натощак, как хорошо, самое лучшее!
В камеру. Дивятся ребята: какой-то я привилегированный, не ихний. Мне и самому забава: сам легенды слышал про именитых арестантов, сам видал, как содержали полковника МВД Воробьёва, – теперь на тот лад и меня?
А вот и пайка. Не пайка: за кормушкой на подносе нарезанные буханки, отламывай и бери, сколь хошь. Ну, жизнь! У ребят – никакого аппетита, взяли с полбуханки. Я с кровати испугался:
– Э, э! Что вы! – вскочил и, нарушая все приличия привилегированных и омрачая все возможные легенды обо мне, – сунулся в кормушку и захватил две полных буханки. Потом подумал – треть буханки сдал назад.
– До вечера всё смолотим, что вы!
Тут же и начал. Впрочем, к лефортовскому хлебушке в день не привыкнешь, одним сознаньем не ужуёшь, надо и доходить начать.
Вот и сахар, и кипяток, даже чем-то подкрашенный. Сахара – как и в 45-м году, не разбогатела родина, и даже не пиленый светлый, а песок темноватый от Кастро. На бумажке целый день хранить – ветром сдует, в кипяток его – и рассчитался.
Нет, как бы не так! Кашу принесли! Утром – ещё и кашу? Невероятно. Да сколько! Почти полная миска. Прежних лубянских обеденных порций – шесть или семь. Ну, на убой!..
Нет, не совсем-то убой: жира нет, это ясно, но – соли! – как бы не жмень. И при всём арестантском высоком сознании – есть эту пшёнку я не могу. Вот чем просто они меня и доведут: давление вскочит от пересоленного.
А тут – обход утренний. И приди мне в голову по растущей наглости, да для забавы больше: делаю формальное заявление, что нуждаюсь в безсолевой диете. (Уж всё равно карты открыты, солоней не принесут, чем эта каша.)
((А жене безконечно тянется время до девяти – когда можно будет звонить в прокуратуру. Магазин открылся – закупают продукты, на осаду. Ночью события внешнего мира как будто остановились, а вот утром – замирание, сжатие: что из трубки узнается, вломится сейчас? Руки виснут с утра – устала, как будто поздний вечер. Наконец – 9 часов. Звонит этому Балашову. Конечно, никто не подходит. Снова, снова – каждые 10 минут. Нет, нет… Что ж теперь думать? что сделали с ним? Провалы и гудки пустой телефонной трубки. Вот когда стемнело к дурноте: убили. Несуществующий телефон, и Балашова никакого не существует, никто никогда не снимет трубку, и никогда не ответят. Потому что – убили. Как же не поняла этого вчера? – суетилась, перепрятывала, сжигала. И куда ни бросься теперь – встретит стена. Рядом советуют: звонить Андропову. По советской логике – да. Но: убийцу – просить дать справку? ни за что! Никуда не денутся, сами сообщат! Только как дождаться?.. Однако и с обыском не идут – почему? Ведь за сутки можем всё запрятать. Или считают, что мы в руках, можно не спешить? Или – вообще не страшное что-то? Если б убили – как же не броситься, не захватить всё до последней строки? – Пошла стирать, детское накопилось.))
Пришло время допросов – вызвали одного парня, вызвали другого, только не меня. Где-то светало, даже день наступал, – не в лефортовском дворе, конечно, а над двором, во дворе же была пасмурь, а за камерным окном – какой-то жёлтый рассвет. И лампочка треклятая в потолке будет мертво светить весь день, неотличимо от ночи. Эх, вспомнишь роскошные лубянские камеры, особенно верхних этажей! Сократили министерство в «Комитет при» – а штаты небось расширили, и все безсмертные славные камеры Внутрянки переделали себе под кабинеты.
Метучего валютчика привели с первого допроса, а одутловатого взяли зуб рвать (да не оттого ль и был он такой вялый и сосредоточенный, всего лишь?). Парню моему объявили арест. Но после первого допроса он несколько успокоился (как бывает этот первый успокоительный: отрицаешь? – отрицаю! – ну, хорошо, распишись, иди, подумай. Следователю нужна исходная отметка, с которой он начал свою мастерскую работу). Предупредил я его, как может следствие пойти, как надо себе определить точные рубежи и на них стоять насмерть, а где отступать неизбежно – подготовить приличные объяснения. И какие бывают следовательские приёмы главные. Уж он, после двух тюремных ночей понимая неизбежность: а что, как в лагерях? Да многое изменилось, о старых могу рассказать… Рассказываю. Кругозор его интересов быстро растёт (в перепуганного кролика уже заранивается безсмертная душа зэка). Первый признак – интерес к собеседнику: а когда я сидел? за что? Немного рассказываю, потом думаю: отчего след не оставить живой? проглотят меня, никто больше живого не увидит, а этот в лагере расскажет, дальше передадут.
– Ты не читал такого «Ивана Денисовича»?
– Н-не. Но говорили. А вы – и есть Иван Денисович?
– Я-то не я… А такого Солженицына слышал?
– Вот это… в «Правде» писали? – живей, но и стеснённо: ведь предатель, небось обидно. Заинтересовался, вспоминает, спрашивает: так у меня что, капиталы за границей? А нельзя было туда уехать?
– Можно.
– И чего ж?
– Не поехал.
– Как?? Как??? – изумился, ноги на кровать, назвал ему одну Нобелевскую, 70 тысяч рублей, он за голову взялся, он стонал от боли – за меня: да как же я мог?! да на эти деньги сколько машин можно купить! сколько… И в его восклицаниях, сожалениях не было корысти, ведь он – за меня, не за себя! Просто в советское миропонимание он не мог вместить такой дикости: иметь возможность уехать к 70 тысячам золотых рублей – и не уехать. (Чтоб и верхушку нашу понять, не надо забираться выше: не тем ли и заняты головы их всегда, как строить на казённый счёт дачи – сперва себе, потом детям? Отчего и ярились они на меня, искренно не понимая: почему не уезжаю добровольно?)
Сосед сидел с поджатыми ногами на кровати, а я ходил, ходил медленно, сколько было длины, в чужих деревянистых ботинках, при тускло-жёлтом дневном окне, и в голосе этого острого сожаления представилось мне: правда, сам ведь я сюда пришёл, полной доброй волей, на самоубийство. В 1970 через Стокгольм открыт мне был путь в старосветский писательский удел, как мои предшественники могли: поселиться где-то в отъединённом поместьи, лошади, речка, аллеи, камни, библиотека, пиши, пиши, 10 лет, 20 лет. Но всей той жизни, теперь непроглядываемой, я велел не состояться, всей главной работе моей жизни – не написаться, а сам ещё три года побездомничал и пришёл околевать в тюрьму.
И я – пожалел. Пожалел, что в 70-м году не поехал…
За три года не пожалел я об этом ни разу: врезал им – чего только не сказал! Не произносилось подобное никогда при этом режиме. И вот теперь напечатал «Архипелаг», в самой лучшей позиции – отсюда!
Выполнил долг. О чём же жалеть? А: легко принимать смерть неизбежную, тяжко – выбранную самим.
Дверь. Опять подполковник. За мной, значит. Приглашающий жест. Вот и мой допрос. Повели – вниз, туда, где следовательские кабинеты были раньше. Но сейчас-то там приёмные боксы. И в соседнем с тем, где вчера меня шмонали, на столе лежит какое-то барахлишко. А вот что: шапка котиковая или как её там чёрта; пальто, понятия не имею из чего; белая-белая рубашка; галстук; шнурки к ботинкам! – тонкие, короткие, на них и воробья не удушишь, а всё ж примета вольного человека; и вместо грубо-остевой моей майки – традиционное русское, многовековое солдатское-тюремное бельё. Подполковник как-то стеснительно:
– Вот это… оденьте всё.
Вижу: заматывают мой тулупчик, да любимую кофту верблюжьей шерсти:
– Зачем это мне? Вы – мои вещи верните! До каких пор прожаривать?
Подполковник пуще смущён:
– Потом, потом… Сейчас никак нельзя. Вы сейчас – поедете…
Поедете… Точно как мне комбриг Травкин говорил при аресте. И поехал я из Германии – в московскую тюрьму.
– …А костюм оставьте на себе. Э-э!..
Ба, с костюмом-то что! В камере не видно было, а здесь при дневном свете: и пиджак, и брюки, как лежал я на тюремном одеяле – нарочно так не выделаешь, не в пухе, не в перье, в чём-то мелком-мелком белом, не сотни, а тысячи, как собачья шерсть! Засуетился подполковник, позвал лейтенанта, щётку одёжную, а кран благо тут, и велит лейтенанту чистить пиджак, да не так, ты воду стряхивай, а потом чисть, да в одну сторону, в одну сторону! Я – нисколько не помогаю им, мне-то что, мне – тулупчик верните, кофту верблюжью и брюки мои… Пиджак почистили, а брюки – уже на мне, и вот, приседая по очереди, спереди и сзади, лейтенант и подполковник чистят мне брюки, работа немалая, въедаются эти шерстинки, хоть каждую ногтями снимай отдельно, да видно и времени в обрез.
Куда же? Сомненья у меня нет: наверх или даже в правительство, в это самое их политбюро, о котором так Маяковский мечтал? Вот когда, наконец, первый и последний раз – мы поговорим! Пожидал я такого момента порой – что просветятся, заинтересуются поговорить, ну неужели ж им не интересно? И когда «Письмо вождям» писал – это взамен такого разговора и не без расчёта на следующий: не хочется совсем покинуть надежду: что если отцы их были простые русские люди, многие – мужики, то не могут же детки ну совсем, совсем, совсем быть откидышами? ничего, кроме рвачества, только – себе, а страна – пропади? Надежду убедить – нельзя совсем потерять, это уже не людское. Неужели же они последнего человеческого лишены?
Разговор – серьёзный, может быть главный разговор жизни. Плана составлять не надо, он давно в душе и в голове, аргументы – найдутся сами, свободен буду – предельно, как подчинённые с ними не разговаривают. Галстука? – не надену, возьмите назад.
Одет. Суетня: выводить? Побежали, не возвращаются. Машины ждут, на Старую площадь? Не идут. Не идут. Вернулся подполковник. Опять с извинением:
– Немножко подождать придётся…, – не выговаривает ужасного, неприличного слова «в камере», но по жестам, по маршруту вижу: возвращаемся в камеру.
Всё те же переходы, начинаю подробно запоминать. Нет, пожалуй, не цирк, а – корабль на ремонте, паруса плашмя.
Валютчики мои аж откинули лбы: рубашка белая на всю камеру сверкает. И присел бы на одеяло, да труд подполковника жалко, похожу уж.
Хожу – и мысленно разговариваю с политбюро. Вот так мне ощущается, что за два-три часа я в чём-то их сдвину, продрогнут. Фанатиков ленинского политбюро, баранов сталинского – пронять было невозможно. Но этих – смешно? – мне кажется, можно. Ведь Хрущ – уже что-то понимал.
((Да не постираешь долго, набегают вопросы, а голова помрачённая. Что делать с Завещанием-программой? А – с «Жить не по лжи»? Оно заложено на несколько стартов, должно быть пущено, когда с автором случится: смерть, арест, ссылка. Но – что случилось сейчас? Ещё в колебании? ещё клонится? Ещё есть ли арест? А может, уже и не жив? Э-э, если уж пришли, так решились. Только атаковать! Пускать! И метить вчерашнею датой. (Пошло через несколько часов.) Тут звонит и из Цюриха адвокат Хееб: «Чем может быть полезен мадам Солженицыной?» Сперва – даже смешно, хотя трогательно: чем же он может быть полезен?! Вдруг просверкнуло: да конечно же! Торжественно в телефон: «Прошу доктора Хееба немедленно приступить к публикации всех до сих пор хранимых произведений Солженицына!» – пусть слушает ГБ!..
А телефон – звонит, звонит, как будто в чужой квартире: в звонках этих ничего не может содержаться. Звонят из разных столиц. Ни у них узнать, ни самой сказать.))
За мной. Выводят. С Богом! Пошёл быстро, ночным молчаливым цирком, идти далеко. Ничего подобного – опять ближайший боковой заворот, мимо врачебного кабинета, полковник Комаров, ещё один полковник, – и в тот же кабинет, где вчера мне предъявили измену родине, – только светлый-светлый сейчас, хоть и пасмурный день, и за вчерашним столом – вчерашний же… Маляров, да, всего-навсего Маляров. Чего ж меня наряжали? И для меня – тот же стул посередь комнаты. И высшие офицеры рассаживаются позади, если кинусь на Малярова.
И с той же остротой, как вчера, и с той же взвинченной значительностью читаемого, отчётливо выделяя все слова:
– Указ – Президиума – Верховного…
И с этих трёх слов – мне совершенно уже ясно всё, в остальные вслушиваюсь слегка, просто для контроля.
Эк они мне за 18 часов меняют нагрузки – то на сжатие, то на растяжку. Но с радостью замечаю, что я не деформируюсь – и не сжался вчера, и не растянулся сейчас.
Значит, говорить со мной не захотели, сами всё знают. Сами знаете, но отчего же ваши ракеты, ваша мотопехота, и ваши гебистские подрывники и шантажисты – почему все в отступлении, ведь – в отступлении, так? Бодался телёнок с дубом, – кажется, безплодная затея. Дуб не упал – но как будто отогнулся? но как будто малость подался? А у телёнка – лоб цел, и даже рожки, ну – отлетел, отлетит куда-то[55].
Но секунды текут, надо быстро соображать.
– Я могу – только с семьёй. Я должен вернуться в семью.
Маляров – в чёрном торжественном костюме, сорочка белее моей, встал, стоит как актёр на просторе комнаты, с приподнятой головой:
– Ваша семья последует за вами.
– Мы должны ехать вместе.
– Это невозможно.
Вот как. Какая неожиданная форма высылки. А вдуматься – у них и другого пути нет, только такой: меня быстро-быстро убрать.
– Но где гарантия?
– Но кто же будет вас разлучать?
Вообще-то, шуму не оберётесь, верно.
– Тогда я должен… – секунду не сообразишь, обязательно что-нибудь упустишь, с ними так всегда, – я должен заявление написать.
Зачем заявление – до сих пор не понимаю, как будто заявление что-то весит, если они решились иначе. А просто – время выиграть, старая арестантская уцепчивость. Подумал Маляров:
– В ОВИР? Пишите.
– Ни в какой ОВИР. Указ Подгорного. Ему.
Подумал. К столу меня, сбоку. Бумагу.
Пишу, пишу. Перечень семьи, годы рождений. Добавляю мою старенькую тётю Иру из Георгиевска, это единственная возможность её взять. (Ошибка: они боятся – я стёкла буду бить, а я заявление мирно пишу.) Что б ещё придумать?
– Самолётом – я не могу.
– Почему?
– Здоровье не позволяет.
У меня и правда никакого опыта воздушных переездов, раз летел из Киева – с ушами было плохо.
Неподвижно торжественен (да ведь операция почти боевая, может и орден получить). То ли кивнул. В общем, подумает.
Некогда мне проанализировать, что поездом они не могут рискнуть: а вдруг по дороге демонстрации, разные события? Да долго, растянется.
И – в камеру назад. Я – руки нарочно сзади держу, крепче так. Вошёл – свет погашен, разгар дня, от полудня до часу дают отдохнуть электричеству. Боже, какая темень, затхлость, гибельность. И будто ступни мои всё легче, всё легче касаются пола, я взмываю – и уплываю из этого гроба. Сегодня к утру я примирился, что жить осталось два месяца, и то под следствием, с карцерами. И вдруг оказывается, я ничем не болен, я ни в чём не виновен, ни хирургического стола, ни плахи, я могу продолжать жизнь!
Второго парня опять нет, а мой сочувствующий пялится на меня, ждёт рассказа. Но сказать ему – мне совестно. Из бутырских камер провожали меня на свободу (по ошибке), тогда я ликовал, выкрикивал приветы, а сейчас почему-то совестно. Да теперь чудо какое: в камере – ежедневная газета. Фамилию мою знает, завтра сам прочтёт Указ. Всплеснётся пуще сегодняшнего: ай да-да, вот так наказали!
Отваливается кормушка. Обед. Подходим брать. Щи и овсяная каша. Но в мои руки попадают миски не простые, я не сразу понял. Парень уносит к себе на кровать, я сажусь на единственное место за столик. Беру первую ложку щей – что это? Соли – вообще тут не бывало, как я и люблю, и как не могли по тюрьме готовить. Значит, по моему заказу – безсолевая! И я с наслаждением до конца выбираю, выхлёбываю тюремные, но они же и простые русские тощие щи, не баланду какую-нибудь. А потом и кашу овсянку, ничем не заправленную, но порция – пятерная, с Лубянкой сравнивая, да и круче насколько! У меня в «Пленниках» украденный из Европы наш парень на берлинском аэродроме по солдатскому супу узнаёт возвращённую горькую родину. Так и я теперь прощаюсь с Россией по каше, последней русской еде.
Доесть не дали, гром замка, выходить. Ну, хоть щи долопал до конца. А хлеба-то я навалил на полку – кто теперь его одолеет? Сунул кус в карман пиджака, до этих Европ ещё пожрать понадобится. Парню пожал, пожелал – пошёл. Не успел я подробно всех лефортовских переходов запомнить. Только в месте каком-то всё предупреждали меня головой не стукнуться.
В приёмном боксе вернули мне часы, крест, расписаться. Подполковник побезпокоился – что это мой карман оттопырен. Я показал хлеб. Поколебался, ну – ничего.
Опять ждать. И провести время со мной зашёл хитроватый начальник лефортовской тюрьмы. Уже не давя своей наблещенностью, а даже как-то задумчиво, как тянет его на меня. Как на всё таинственное, необъяснимое, не подчинённое законам жизни, метеорит пролётный. Даже как будто и улыбается мне приятно. Головой избочась, разглядывает:
– Вы какое артиллерийское училище кончали?
– Третье Ленинградское.
– А я – Второе. И ровесник ваш.
Смешно и мне. В одно и то же время бегали голодными курсантами, мечтали о скрещенных пушечках в петлицах. Только сейчас у него на погонах – эмведистский знак. И – с чего он седой? А я – нисколько.
– Да… Воевали на одной стороне, а теперь вы – по другую сторону баррикад.
Эх, язычок ленинско-троцкий, так и присохло на три поколения, весь мир у них в баррикадах, куста калины не увидят. Баррикады баррикадами, но с вашей стороны что-то много мягкой мебели натащено. А с нашей – «руки назад!».
Выходим. Опять – кольцо во дворе, опять на заднее сиденье меж двоих, тесно. И – штурман вчерашний, что из дому вёз, та же шапка, воротник, да что-то лицо слишком знакомо? Ба, растяпа я! это ж мой врач! – вчерашний, сегодняшний на рассвете. Вот неприглядчивость, я бы больше понял: от самой двери дома врач был неотлучно при мне, с чемоданчиком, в одном шаге, берегли.
Разверзлись проклятые ворота, поехали. Две машины, и в той – четверо, значит восьмеро опять. Попробовал опять по гортани поводить – насторожились.
День и сегодня ростепельный, на улицах грязно, машины друг друга обшлёпывают. Курский миновали. Три вокзала миновали. Выворачиваем, выворачиваем – на Ленинградский проспект. Белорусский? – откуда и привезли меня когда-то арестованного, из Европы. Нет, мимо. По грязному-грязному проспекту, в неуютный грязный день, – куда ж как не в Шереметьево. Самую эту дорогу я ненавижу, с прошлого лета, с Фирсановки нашей грозной. Говорю врачу:
– Самолётом я не могу.
Поворачивается, и вполне по-человечески, не по-тюремному:
– Ничего изменить нельзя, самолёт ждёт.
(Да знал бы я – сколько ждёт! – три часа, пассажиры измучились, кто и с детьми, отчего задержка, никто не знает. И две комиссии, одна за другой, проверяли его состояние. И из Европы диспетчеры запрашивают, наши врут: туман.)
– Но я буду с вами, и у меня все лекарства.
Опять полукольцо – теперь вокруг трапа: а что если буду нырять и в сторону бежать? Трап ведёт к переднему салону. В салоне – семеро штатских да восьмой – врач, со мною. Кроме врача, все опять сменились (должны ж охрану подготовить, освоиться). Мне указывают точное место – у прохода и в среднем ряду, вот сюда. От меня к окну – сосед, позади нас двое, впереди один. И через проход – двое. И позади них двое. Так что я окружён как поясом. А вот и врач: он склонился ко мне заботливо и объясняет, какое рекомендуется мне лекарство принять сейчас, какое через полчаса, какое через два часа, и каждую таблетку на моих глазах отрывает от фабричной пачки, показывая мне, что – не отрава. Впрочем, одна из таблеток по моей мерке – снотворное, и я её не беру. (Усыпить меня в дороге или одурить?) «А что, так долго лететь? – наивно спрашиваю и я его. – Сколько часов?» Ещё более наивно озадачивается и он: «Вот, не знаю точно…» И больше уже не ждут: захлопнулись люки, зажглась надпись о ремнях. Мой сосед тоже очень заботливо: «Вы не летали? Вот так застёгивается. И – “взлётных”: берите, очень помогает». От стюардессы, в синем. А уж она – тем более невинна, совсем не знает, что тут за публика. Наши простые советские граждане.
И рулит самолёт по пасмурному грязно-снежному аэродрому. Мимо других самолётов или зданий каких, я ничего не замечаю отдельно: каждое из них отвратительно мне, как всякий аэродром, а всё вместе – последнее, что я вижу в России.
Уезжаю из России я второй раз: первый раз – на фронтовых машинах, с наступающими войсками:
Расступись, земля чужая! Растворяй свои ворота!А приезжал – один раз: из Германии и до самой Москвы с тремя гебистами. И вот опять из Москвы с ними же, только уже с восемью. Арест наоборот.
Когда самолёт вздрагивает, отрываясь, – я крещусь и кланяюсь уходящей земле.
Лупятся гебисты.
((В телефонных этих звонках ничего не может содержаться… Вдруг по квартире вопли: «Летит! Выслали! В Западную Германию!» Звонят, что слухи от друзей Бёлля: тот ожидает гостя во Франкфурте. Правдоподобно? можно поверить? Сами же пустили и слух, отвлечь от своих подвалов. «Я поверю, только если услышу голос А. И». При чём тут друзья Бёлля? Спектакль какой-то… Зачем тогда было так брать, восемь на одного? принимать всемирный позор с арестом – чтобы выслать? Но опять, опять звонят агентства, одно за другим. Министерство внутренних дел Рейн-Вестфалии подтвердило: «ожидается в Западной Германии»… Да больше: «уже прибыл и находится на пути в резиденцию Бёлля»!.. Значит, так?.. Но почему у всех радость? Это же – несчастье, это же насилие, не меньшее, чем лагерь… Выслали – свистящее, чужое… Выслали – а у нас конфискация? – ах, надо было успеть раздать, потеряла время! Жжёт. Всё жжёт. Звонят, поздравляют – с несчастьем?..))
Дальше всё – читателям привычнее, чем мне, разный там проход облаков, над облаками, солнце, как над снежною равниной. И, как установился курс, я соображаю: который час (около двух, на 15° больше истинного полдня), как летим относительно солнца, – и получается: линия между Минском и Киевом. Значит, вряд ли будет ещё посадка в СССР и значит, значит… Вена? Не могу ничего вообразить другого, не знаю я ни рейсов, ни аэродромов.
Летим, как висим. Слева спереди ослепительно светит солнце на снежно-облачные поля. А камеры для людей, думающих иначе, устроены так, что опять уже в потолках зажглись ночные лампочки – и до следующего полудня.
Господи, если ты возвращаешь мне жизнь, – как эти камеры развалить?
Многовато для меня переходов за неполные сутки. Мягкое сиденье, конфетки. А в кармане – кусок лефортовского хлеба: как в сказке удаётся из дурной ворожбы вырвать, унести вещественный кусок: что – было, что не приснилось.
Да я б и без этой краюхи не забыл.
Перелёт – как символ: оборвалось 55 лет за плечами, сколько-то где-то ждёт впереди. Висеть – как думать: правильно жил? Правильно. Не ошибись теперь, новый мир – новые сложности.
Так вишу, думаю, и даже конвой свой разглядывать нет ни досуга, ни охоты. Один – вытащил приёмник, рожа улыбится, весёлая командировка, включить больно хочется, другого спрашивает – можно ли? (Кто старший – не знаю, не видно старшего.) Я – явно брови нахмурил, покачал головой: «Мешает» (думать). Махнули ему, убрал. Двое задних – какие-то не такие, читают немецкие газеты, «Frankfurter Allgemeine». Дипломаты, что ли? А гебисты от скуки исходят, читают разбросанные рекламы, проспекты… и расписания. Расписания «Аэрофлота»? Совсем лениво, как тоже от скуки крайней, беру расписание и так же лениво просматриваю. Типов самолётов я не различаю. А рейсов тут полно, есть и Вена, есть и Цюрих, но час – ни один не подходит. В половине второго – два не выходит в Европу ни один самолёт подходящего направления. Значит, подали мне специальный. Да на это у нас казна есть, русский революционный размах.
Даже и не думать. Коромысло. Висеть и только понимать: таких часов в жизни – немного. Как ни понимай – победа. Телёнок оказался не слабее Дуба. На чём бы мысль ни собрал – не получается. Дома – какова там добыча в обыске? (Но уже не жжёт, как ночью.) И что там сейчас мои?
((Все радио десять раз повторили уже: летит – прибыл – едет к Бёллю. И когда никто уже в том не сомневался: «Самолёт прибудет через полтора часа». А как же министр сообщал: «давно прибыл»? А как же все корреспонденты? Так никто ещё не видел его живого?? Так – спектакль?! он никуда не летит?! Так то было ещё не несчастье!? А – вот оно… Сообщения сыпятся вперебой: ещё в полёте… уже сел… Ещё не вылетал из Москвы, рейс откладывается! И тогда – окончательно ясно: везут. Увезут в Египет или на Кубу, выбросят – и за него не в ответе. Ну, мерзавцы, стану вам костью в горле, устрою вам звон!))
Стюардесса разносит кофе с печеньями. Попьём, пригодится, хлебушек сэкономим. Опять наклонился врач: как я себя чувствую? какие ощущения? не хочу ли ещё вот эту таблетку? Право же, как любезен, от самого лефортовского подъёма, и спал, наверно, в тюрьме. «Простите, как ваше имя-отчество?» Сразу окостенел и голосом костяным: «Иван Иваныч». Ах, продешевился я!..
А вот что! Заветного гражданства я лишён, значит теперь человек свободный, выйду-ка я в уборную. Где она? Наверно, в хвосте. Никому ни слова, независимо встаю и быстро пошёл назад. Так быстро, что переполох у них на две секунды опоздал, но тем больший потом. Открываю дверь – сзади ещё помещение? – и совершенно пустое! Ну, эта роскошь социализму по карману. Хочу идти дальше, но тут уже нагоняют меня трое – средь них и «Иван Иваныч». Мол: что такое? Как что такое? В уборную. Так – не туда, не там, в носу! Ах в носу, ну ладно. Повернул. Это ещё могу понять как повышенную любезность. Но, достигнув носовой уборной, не могу за собой закрыть дверь: туда же ломятся и двое гебистов, впрочем не отнимая у меня первенства. Воспитание арестантское: желаете наблюдать? пожалуйста, у мужчин это совершается вот так. Вот так, и всё. Разрешите! Конечно, пожалуйста, расступаются. Однако рядом со мной у окна уже сел другой, пособачистей, прежний не оправдал доверия.
Я оглядываю внимательно нового соседа: какой, однако, убийца. Внимательно – остальных. Да их тут трое-четверо таких, почти несомненно, что уже убивали, а если какой ещё упустил – то готов отличиться сегодня же… Да какой же я лопух, что ж я разблагодушествовал? Кому ж я поверил? – Малярову? Подгорному? Старый арестант – а второй день одни ошибки. Вот отвык. Разве настоящий арестант – «тонкий, звонкий и прозрачный», смеет поверить хоть на грош, хоть на минуту – советскому прокурору или советскому президенту? Я-то! мало ли знаю историй, как наши молодчики после войны в любой европейской столице, днём на улице, – вталкивали жертву в автомобиль и увозили в посольский подвал? и потом экспортировали куда хотели? В каждом советском посольстве довольно таких комнат, полуподвальных, каменных, прочных, не обязательно на меня лефортовскую камеру. Сейчас в Вене, в припугнутой нейтральной Австрии, к самому трапу пустого самолёта вот так же подкатит вплотную посольский автомобиль, эти восьмеро толканут меня туда без усилий (да что! здесь, в самолёте, упакуют в тюк и отнесут, сколько таких историй!). Несколько дней подержат в посольстве. Объявлен Указ, я выслан, – когда, куда – не обязательно предъявлять корреспондентам. А через несколько дней находят меня убитого на обочине австрийского шоссе – и почему за это должно отвечать советское правительство? Все годы, к сожалению, они за меня отвечали, и в этом была моя безопасность, – но уж теперь-то нет?
Весь этот прояснившийся мне план настолько в стиле ГБ, что даже проверять, исследовать его не нужно. Как же это я не сообразил сразу?.. А что – теперь? Теперь вот что: как можно больше безпечности, я отдыхаю, я расслаблен, я улыбаюсь, даже с кем-то перебрасываюсь словами – я полностью им доверяю. (Хотя бы – не в тюк, хотя бы своими ногами выйти. Не знаю, совсем не знаю аэродромных порядков, но не может быть, чтобы при посадке самолёта не было ни одного полицейского вблизи. А если будет хоть один, я успею громко крикнуть. Ну-ка, ну-ка, в детстве ученый, давно заброшенный немецкий язык, выручай! Составляю в уме, составляю: «Herr Polizei! Achtung! Ich bin Schriftsteller Solschenizyn! Ich bitte um Ihre Hilfe und Verteidigung!» Успею выкрикнуть? Даже если половину и рот зажмут – поймёт!)
И теперь – только наблюдаю их. Полудремлю и наблюдаю: какие лица? как переговариваются? похоже ли на деятельную подготовку? какие у них с собой вещи? Да руки почти у всех пусты. То есть свободны…
А летим мы уже – скоро три часа. Долгонько. Сколько до этой Вены? ничего не знаю, никогда не интересовался. Но вот начинаем сбавлять высоту. И не удерживаюсь от ещё одной проверки: не порывисто, развалисто, уже известной тропой иду в носовую уборную. За 10 минут до аэродрома – ещё я зэк или уже не зэк? За мной – двое, и даже что-то укоризненно, почему не сказал? (То есть чтоб один выводной успел занять позицию впереди меня.) «Разве ещё имеет значение?» – улыбаюсь я. «Ну как же, вот я вам дверь открою». И опять – стали вдвоём на пороге, чтоб я не закрыл. С холодком: нет, дело не просто. Что-то готовят. (Теперь-то понимаю: инструкция их была: не дать мне кончить самоубийством или порезаться, повредить себя, как блатные, когда на этап не хотят. Хороши б они выглядели, выведя меня порезанного!)
Ладно. Сел на старое место и поглядываю расслабленно-беззаботно. Спускаемся. Ниже. Различается большой город. На реке. Не такая широкая река, но и не малая. Дунай? Кто его знает. Делаем круг. Венских парков и предместий что-то не видать, больше промышленности, да где её теперь нет? …А вот и аэродром. Покатили по дорожкам. Среди других зданий одно возвышается, и на нём надпись Frankfurt-am-Main. Э-ка!.. Рулим, вертимся, – есть полицейские, есть, и немало, если форму правильно понимаю. И вообще людей порядочно, сотни две, так что крикнуть будет кому.
Остановились. Снаружи везут трап. Наши некоторые к пилоту бегают и назад. Я всё-таки не выдерживаю, да естественное движение пассажира – где там пальтишко моё (лефортовское, чехословацкой братской выделки), надеть его, что ли? Сразу перегородили, и даже властно: «Сидите!» Плохо дело. Сижу. Трое-четверо бегают, суетятся, остальные сидят вокруг меня, как тигры. Сижу безпечно: и что правда в этом пальто париться? И вдруг от пилотского тамбура сюда в салон команда – громко, резко:
– Одевайте его! Выводите!
Всё по-худому сбывается, только о зэке так можно крикнуть. Ладно, повторяю про себя немецкие фразы. Впрочем, пальто своими руками надел. Шапку. Всё-таки не в тюк. Вдруг на пороге тамбура один из восьми налетает на меня лицо к лицу, грудь к груди, – и от живота к животу передаёт мне пять бумажек – пятьсот немецких марок.
Во как?? Поскольку я зэк – отчего не взять? ведь беру же от них пайку, щи… Но всё-таки джентльменничаю:
– Позвольте… А кому я буду должен?
(Мало они нашей кровушки попили. С 1918 года заработали когда-нибудь один русский рубль своими руками?)
– Никому, никому…
И – исчез с дороги, я даже лица его не отличил, не заметил.
И вообще – дорога мне свободна. Стоят гебисты по сторонам, пилот сюда вылез. Голос:
– Идите.
Иду. Спускаюсь. С боков – нету двоих коробочкою, не жмут. Шагнул перекладины три-четыре – всё-таки оглянулся, недоумеваю. Не идут! Так и осталась нечистая сила – вся в самолёте.
И – никто не идёт, я ж – пассажир единственный?
Тогда – под ноги, не споткнуться бы. Да и вперёд глянул немножко. Широким кольцом, очевидно за запретною чертой, стоят сотни две людей, аплодируют, фотографируют или крутят ручку. Ждали? знают? Вот этой самой простой вещи – встречи – я и не ожидал. (Я совсем забыл, что нельзя привезти человека в страну, не спрося эту страну. По коммунистическим-то нравам спрашивать не надо никого, как в Праге приземлялись под 21 августа.)
А внизу трапа – очень симпатичный, улыбаясь, и неплохо по-русски:
– Петер Дингенс, представитель министерства иностранных дел Федеративной республики.
И подходит женщина, подносит мне цветок.
Пять минут шестого по-московски. Ровно сутки назад, толкаясь, вломились в квартиру, и не давали мне собраться… Для одних суток многовато, конечно.
Но это уже вторые начались – на полицейской машине вывозят меня с аэродрома запасным выездом, спутник предлагает ехать к Бёллю, и мы гоним по шоссе, уже разговаривая о жизни этой: уж она началась.
Мы гоним 120 километров в час, но того быстрей перегоняет нас другая полицейская машина, велит сворачивать в сторону. Выскакивает рыжий молодой человек, подносит мне огромный букет, с объяснением:
– От министра внутренних дел земли Рейн-Пфальц. Министр выражает мнение, что это – первый букет, который вы получаете от министра внутренних дел!
Да уж! Да уж, конечно! От наших – наручники разве. Даже с семьёй своей жить было мне отказано…
((Иностранным корреспондентам в Москве объявили указ о лишении гражданства. «Семья может соединиться с ним как только пожелает». – «Не поверю, пока не услышу его голоса». Теперь из ФРГ: подробности встречи на аэродроме. Такого не придумаешь, не актёр же прилетел? Звонит корреспондент «Нью-Йорк таймс»: он только что звонил Бёллю и разговаривал с Солженицыным… Наконец – и сам звонит. В кабинет, где два рабочих стола, и ещё вчера в напряжённой тишине дорабатывали, потом врывались гебисты, потом сжигалось столько, – теперь столпилось 40 человек – друзья, знакомые, – посмотреть разговор. …Предъявили измену… одели во всё гебешное… полковник Комаров… Тут слух был (пустили, да впопыхах, не успели разработать), что добровольно выбрал изгнание вместо тюрьмы. «Ты никакого обещанья не подписал?» – «Да что ты, и не думал». Ну, сейчас он им врежет! Сейчас он там им врежет!!))
Вечером, в маленькой деревушке Бёлля мы пробирались меж двух рядов корреспондентских автомобилей, уже уставленных вдоль узких улочек. Под фотовспышками вскочили в дом, до ночи потом и с утра слышали гомон корреспондентов под домом. Милый Генрих развалил свою работу, бедняга, распахнул мне гостеприимство. Утром, как объяснили мне, неизбежно выйти, стать добычей фотографов – и что-то сказать.
Сказать? Всю жизнь я мучился невозможностью громко говорить правду. Вся жизнь моя состояла в прорезании к этой открытой публичной правде. И вот наконец я стал свободен как никогда, без топора над головою, и десятки микрофонов крупнейших всемирных агентств были протянуты к моему рту – говори! и даже неестественно не говорить! сейчас можно сделать самые важные заявления – и их разнесут, разнесут, разнесут… – А внутри меня что-то пресеклось. От быстроты пересадки, не успел даже в себе разобраться, не то что подготовиться говорить? И это. Но больше – вдруг показалось малодостойно: браниться из безопасности, там говорить, где и все говорят, где дозволено. Да и – что скажешь после «Архипелага»? И вышло из меня само:
– Я – достаточно говорил, пока был в Советском Союзе. А теперь – помолчу.
И сейчас, отдаля, думаю: это – правильно вышло, чувство – не обмануло. (И когда потом семья уже приехала в Цюрих, и опять рвались корреспонденты, полагая, что уж теперь-то, совсем ничего не боясь, я сказану, – а нечего мне было добавить.)
Помолчу – я имел в виду помолчать перед микрофонами, а своё состояние в Европе я уже с первых часов, с первых минут понял как деятельность, не стеснённую наконец: 27 лет писал я в стол, сколько ни печатай издали – не сделаешь, как надо. Только теперь я могу живо и бережно убрать свой урожай. Для меня было главное: из лефортовской смерти выпустили печатать книги.
А у нас там в России моё заявление могло быть истолковано и загадочно: да как же это – помолчу? за столько стиснутых глоток – как же можно молчать? Для них, там, главное было – насилие, надо мной совершённое, над ними совершаемое, а я – молчу? Им слышалось это в громыхании лермонтовского «На смерть поэта», гневно выраженного тогда у Регельсона [43]. Им так казалось (аффект минуты): лучше в советском лагере, чем доживать за границей.
Так и среди близких людей разность жизненной встряски даже за сутки может родить разнопонимание.
((«Одели во всё гебешное»… мерзко! И чтобы ссыльные прирождённые вещи лежали у них? – грязь прилипает. Как будто ещё держат тело. Забрать. Но как попасть в Лефортово? Оно заперто. Телефон? Таких телефонов не бывает в книжке. Телефоны следователей? – Кое-кто знает своих мучителей. Но следователь даёт следующий телефон, который уже не ответит. Прокуратура? – «У нас нет телефона Лефортовской тюрьмы». – «Но вы отвезли туда Солженицына». – «Ничего не знаем». Вспомнили: четверг в Лефортово – день передач. И поехала прямо. Дубасить в закрытое окошко: «Позовите полковника Комарова!» В стене – гремят, гремят замки, и сопровождённый двумя адъютантами (они выскакивают и строятся с двух сторон), висломясый, седой, с важностью:
– Начальник Лефортовского изолятора полковник… Петренко!
По эту сторону баррикады свищи-ищи конца фамилий! А тем более – вещей… Сожжены! В тот же день, мол, сожжены. Или между своими разобраны? Или взяты для подделок?))
То ли ей предстояло! Ей предстояло теперь самое главное, начать и кончить: весь мой огромный архив, 12-летние заготовки по многим Узлам вперёд, – перенести в Швейцарию, по воздуху, по земле или по воде, не утеряв ни бумажки, ни упаковочного привычного конверта, чтобы потом в те же ящики вернуть в этот письменный стол, когда он приплывёт туда, – и по дороге ни единого важного листика (а неважных мало у меня) не пронести через железный обруч погранохраны, не дать им на таможне сфотографировать десятком приготовленных копировальных аппаратов, уж не говоря – не дать отобрать, ибо физически не может ЧКГБ, физически не может советская власть выпустить на свободу хоть листик один, который им не по нраву.
И эта задача моей жене – удалась. Без этого был бы я тут, в изгнании, с вырванным боком, со стонущею душой, инвалид, а не писатель.
И эту бы историю ещё как раз в сию книгу вставить. Да – нельзя, нельзя…[56]
Июнь 1974
Штерненберг, нагорье Цюриха
Пятое Дополнение. Невидимки
1. Николай Иванович Зубов
Во всякую пору незаметно живут на земле люди с талантом: не описывать для потомков, но сохранять для собеседников – и для самых поздних, через десятилетия, для самых юных, когда вспоминающий уже стар. И пока голова эта ещё не поникла с шеи, ещё светит нам своей доброй сединой – мы черпаем из неё сохранённое прошлое, а уж там дальше – как сами распорядимся.
Таким особым талантом, и с ранней юности, владел Николай Иванович. Революция застигла его 22-летним внимательным и памятливым наблюдателем – и весь тот прежний русский мир, порушенный в месяцы невосстановимо, поразительно отчётливо сохранился в его памяти, – правда, не цельной большой картиной, потому что Н. И. не обладал политическим отношением к жизни, – но во множестве сверкающих осколков, и до старости Н. И. охотно мог извлечь из глубины и показать такой осколок – о железнодорожных порядках, о географических особенностях местностей, о жизни чиновничества, о быте малых городков, о третьестепенных, но примечательных подробностях нашей истории. Он всегда рассказывал такое, о чём нельзя было самому догадаться и чего в книгах нельзя найти. Напротив, современник Гражданской войны, он почти ничего не мог о ней рассказать, он пережил её на окраине, не участником, – и голова его как бы отказалась вместить это страшное месиво. Жизнь отдельного человека имеет столько своих задач и событий, что умеет течь и независимо от событий всеобщих. Рано умер отец – и этот отроческий возраст, в котором Коля Зубов осиротел, так ярко вспыхнул в нём, что определил характер до старости: юношеское отношение к жизни, мальчишеская гордость – всегда иметь с собой перочинный нож, уметь много делать руками, и как-то затаённо, нежно, но и боязливо относиться к женщинам. И до последнего дыхания он почтительно любил мать, не смея противоречить её решениям. А она была полна всяких уверенных идей и полной воли проводить их на сыне. Одна из таких идей была: что слишком нежному интеллигентному мальчику надо жениться на женщине из народа, а для того идти в народ. И по окончании медицинского института она послала его в Новгородскую губернию поработать маслоделом в кооперации. Уж знаний о маслодельстве и о Новгородской губернии молодой человек набрался на всю жизнь. А вот задачу женитьбы решил плохо. Об этой истеричной женщине из народа в доме их потом говорить не любили, и я ничего не знаю о ней, – но она достаточно растерзала жизнь Николая Ивановича, так что он сам должен был отступиться, забрав троих детей: тихого, невыразительного сына, который никогда не стал никаким его продолжателем и чужим вырос, и двух дочерей с наследственным сумасшествием от матери. И за этого разведенца с тремя неблагополучными детьми вышла замуж сокрушённая тридцатилетняя вдова Елена Александровна – после смерти своего первого мужа, который был на 25 лет старше её и жизнь с которым она вспоминала как вершину возможного земного счастья. Вышла замуж – вошла под волю свекрови, оттого что Н. И. не смел из-под этой воли выйти уже никогда. И в советские 30-е годы – уж никак не век женского семейного смирения, переработала в себе эту новую долю, втянулась в «своё средневековье». А потом поразила их десница НКВД и перебросила супругов в лагерь. (Я описал их историю в «Архипелаге ГУЛАГе», ч. 3, гл. 6, и в «Раковом корпусе» – Кадмины.)
После маслодельства Н.И. мог вернуться к медицине и специализировался – гинекологом. Это никак не было случайно. Тут сложилась и тонкая чувствительность рук, и нежная настойчивость характера, и, может быть, что-то – от молодой нерешённости со всеми этими другополыми существами на Земле. Я думаю, это был на редкость удачный гинеколог, радость и облегчение для пациенток. Они сохраняли неизменную благодарность к нему, он до старости – тягу к своей работе. Со всеми лагерными перебоями выработав пенсию к 70 годам, он всегда оставался охотлив и отзывчив на вызов к тяжёлым родам или тяжёлой больной. И уже в 75 лет осуществил один из замыслов: в местной средней школе ввести короткий курс для десятиклассниц обо всём «стыдном», к чему им надо быть готовыми, но никогда прямо не говорят родители, и друг от друга узнаётся смутно, и потом перекорёжена вся жизнь. Хотел он и книгу об этом писать, как бы педагогический курс.
Врачебная специальность помогла Николаю Ивановичу перенести 10 лагерных лет (и Елену Александровну устроить медсестрой и годами жить на одном лагпункте). Но разнообразная умелость рук всё время толкала его и на ручные работы, из которых давно излюбленной домашней было переплётное ремесло. Всё необходимое главное – обрезной тесак, тиски – были у него и дома до ареста, и даже в спокойный лагерный период изготовили ему свои мастера, и потом в ссылке он расстарался тоже достать. На досуге он жаждал переплетать, и что-нибудь достойное. Это всё было в нём среди задержавшегося мальчишеского, как и особая любовь к латыни (лагерные пути свели его с крупным латинистом Доватуром, и врачебным покровительством он устраивал тому даже лекции латинского языка! – медсёстрам), и – из любимых увлекательных игр – конспирация. Сам Н. И. всегда оставался политике чужд (впрочем, лагерь кого не наведёт на размышления, и с М. П. Якубовичем, полубольшевиком, они вели долгие дискуссии о русской истории), так что сам в конспирации подлинно не нуждался, но приёмы её не уставал разрабатывать на досуге. Так, у него был приём, как по открытой почте завязать конспиративную переписку с отдалённым и не ведающим никаких хитростей корреспондентом. Сперва посылалось безобидное стихотворение с горячей просьбой сохранить его на память. Удостоверясь в получении, второе письмо – о том, что то был акростих. Человек читал по колонке первых букв: «Расклеи конверт», – и расклеивал, уже второй, нынешний. Тут по заклеенной полоске было написано, как он получит следующую информацию: в переплёте ли книги, двойном ли дне ящика или – верх искусства! – просто в почтовой открытке, если её положить в тёплую воду, а потом расслоить. Фантастическая техника! Н. И. насухую расслаивал простую почтовую открытку, писал на внутренней стороне, что надо, склеивал (много разных клеев он знал и разрабатывал) и потом писал наружный текст – так, чтобы строчки ложились на внутренние строчки и те бы не просвечивали. Открытки во всех цензурах почти не проверяются, они легче всего проходят. (Надо сказать, советские вольняшки пугались таких конспиративных завязей и чаще не поддерживали их.)
Вся эта техника была у Николая Ивановича в лагере на ходу – а не видно, кому бы нужна. Тут познакомился он с московским учёным-литературоведом Альфредом Штёкли, и тот сказал, что если б знал, как прятать, – писал бы в лагере повесть из времён Спартака – по аналогии (как большинство смельчаков в советской литературе пишет), описывал бы рабскую психологию, исходя из зэческой. Н. И. тотчас же предложил ему блистательный приём хранения: не заделкою листов в переплёты (это много бы переплётов понадобилось) – но склейкой переплётов из многих листов рукописи, таким клеем, чтобы при расслоении написанное сохранялось. Проверили – превосходно. И Штёкли начал писать. Набиралось на толщину переплёта – Н. И. склеивал и держал перед лагерными шмональщиками совершенно открыто. Потом Штёкли увезли на этап или он раньше покинул замысел – а всё им написанное Н. И. не только сохранил, но вывез из лагеря, привёз в ссылку и потом освободившемуся Штёкли писал в Москву: приезжайте, берите! Штёкли отвечал любезными отговорками. Я очень сочувствовал этому тайному автору, содругу моему. Мы думали – он в письмах не понимает намёков и считает, что сокровище его пропало. В 1956 я ехал в Москву тоже, Николай Иванович поручил мне найти Штёкли и сказать прямыми словами. Увы, реабилитированный, с восстановленной научной карьерой, опять в своей квартире на Петровке, Штёкли потерял интерес к лагерной писанине: какое там ещё рабовладение? Вся история эта напомнила мне лермонтовского преданного и пренебрежённого Максима Максимыча.
В Кок-Терек, в ссылку, Н. И. приехал раньше меня на несколько месяцев, с женой его разлучили, отправили её в Красноярский край (не по чекистскому умыслу, по эмведистской небрежности), сюда привезли её годом позже. Дотащилась к сыну и старуха-мать, из-за которой случилась вся посадка, и приехала одна из дочерей, уже на грани полного безумия, однако это всё потом. А пока он жил один – совсем уже седой, но легкоподвижный, как молодой человек, худощавый, низкорослый, ясноулыбчивый, – а ясноглазый такой, что одного взгляда пропустить и забыть было нельзя. Мы встретились в районной больнице, куда я лёг с непонятной болезнью, схватившей меня тотчас по освобождении (это были годичные метастазы рака, но ещё никто не определил, Н. И. первый и заподозрил), не он лечил меня, мы встретились как зэк с зэком. А вскоре после моей выписки как-то шли вместе по аулу, зашли в чайную выпить пива, посидели, два безсемейца: он ждёт жену, меня жена в моё последнее лагерное время оставила. Ему тогда шёл 58-й год (в созвучии с нашей знаменитой статьей, где этот номер нас не преследовал!), мне – 35-й, а в завязавшейся нашей дружбе было что-то юношеское: и эта наша безсемейность, и юношеские характеры у обоих, и это ощущение раннего прекрасного начала жизни, какое овладевает освободившимся арестантом, и даже степная казахстанская весна с цветением пахучего джингиля, верблюжьей колючки, – да ещё первая весна после смерти Сталина, последняя весна Берии.
Но насколько возраст Николая Ивановича был выше моего, настолько выше и его оптимизм: начинать жизнь в 58 лет, когда прошлой жизни как не было. Всё разрушено – и ещё не жито!
Я всегда решал для себя людей с первой встречи, с первого взгляда. Николай Иваныч так сразу очаровал меня, так растворил замкнутую грудь, что я быстро решил ему открыться – первому (и последнему) в ссылке. Вечерами мы стали ходить за край посёлка, садились на горбик старого арычного берега, и я читал ему, читал из своего стихотворного (да уже и прозного) запаса, проверяя, насколько ему понравится. Это был за тюремное время девятый мой слушатель, но неожиданная реакция его была первой: не похвалы и не критика, а – изумление: как я изнуряю мозг, нося в себе это всё годами. Я и не допускал другого хранилища, кроме моей памяти, я уже свыкся с напряжением её, с вечными повторениями, – а он взялся разгрузить. И через несколько дней принёс мне в подарок первое приспособление – поразительное по своей простоте, обычности в самой скудной обстановке, потому безподозренное, да ещё и легко переносимое: небольшой посылочный фанерный ящичек, какой стоит в больших городах немного, а в ссылке не купить, и естественно ссыльному его беречь, использовать для мелочей, и не рознит он со скудной меблишкой и земляным полом. А в ящике том дно было – двойное, но фанера не прогибалась, и только руки гинеколога могли с двух сторон на ощупь соотнести, что дно со дном не сходится. Затем два гвоздика оказывались не вбиты, а плотно вставлены. Плоскогубцами они быстро вытягивались, выпадал загораживающий брусочек, открывалась тайная полость – желанная тёмная глубина, сотня кубических сантиметров пространства, как будто и на территории СССР, а не контролируемого советской властью. Быстро было – туда закинуть, быстро и достать, легко обезпечить, чтоб не перекатывалось, не стучало. При моём почерке, измельчённом необходимостью, этого объёма было достаточно, чтобы записать работу пяти лагерных лет. (В главном тексте «Телёнка» я написал: «счастливая чужая мысль и помощь», но так, будто это было уже после поездки в Ташкент, – пример искажения, чтоб на Николая Ивановича не навести. От этого дня подарка в мае 1953 я и стал постепенно записывать свои 12 тысяч строк – стихи, поэму, две пьесы.)
Я пришёл в восторг: момент освобождения не меньший, чем выйти за лагерные ворота! И лучились глаза Н. И., и улыбка развела его седые усы и бородку: пригодилась, не пустой оказалась конспиративная его страсть!
Надо же было в посёлке, где политических ссыльных менее сорока человек, а русских и десятка нет, самодеятельному тайному автору сразу наскочить на прирождённого самодеятельного конспиратора! Разве не чудо?
Позже Н. И. устроил мне потайное приспособление и в грубом столе. Объёмы для хранения росли, доступность была быстрая, и как же это облегчило мне подпольное писательство: в последнюю минуту перед школой я всё прятал в своей одинокой халупке с лёгким навесным замочком, игрушечными рамами, и уходил на многие часы совершенно спокойно: и грабитель не польстится, и сыщик из комендатуры не найдёт, не поймёт. И при огромной (двойной) школьной загрузке я успевал теперь каждый день да глянуть в свои листки, каждый день сколько-нибудь да пописать, и сплошь все воскресенья, если не гнали на колхозную работу, – и в месяц уже не тратил неделю на повторение и новое заучивание. Теперь я и дорабатывать мог тексты: я видел их отвыкшими глазами и не боялся, что изменения подорвут память.
Помощь Николая Ивановича в самые одинокие минуты моей разгромленной погиблой жизни и сочувствие приехавшей осенью Елены Александровны – были поток тепла и света, заменивший мне всё остальное человечество, от которого я таился. Е. А. приехала, а я ждал разрешения на отъезд – в раковый диспансер, почти наверняка умирать. Суровое было наше знакомство, и так по-деловому говорили мы о моей близкой смерти и как они имуществом распорядятся. Не стал я рукописи оставлять в их доме, чтоб не огрузнять их, но на своём участке закопал в землю бутылку с лагерной поэмой и пьесами, и единственный Н. И. это место знал. Из ташкентской раковой клиники (позже – из Торфопродукта, ещё из Рязани) я писал им частые, обильные, сочные письма, каких никому никогда больше за всю жизнь.
Оба Зубовы принадлежали к той лучшей половине зэков, кто уже до смерти не забудет своего лагерного сидения и считает его высшим уроком жизни и мудрости. Это и соединило меня с ними, как с родными, а по возрасту (Н. И. был немногим моложе моего покойного отца) почти как с родителями, да не всякому с родителями так интересно и весело, как мне бывало с ними, – переписывались ли мы записочками в собачьем ошейнике (собачка бегала от дома к дому понятливо), шли ли вместе в поселковое кино или сидели в их глиняной беседке на краю голой степи. И откровенней, чем теперь с родителями принято, сетовали мы вместе, что мне жениться нельзя из-за рукописей, и перебирали, нельзя ли всё ж на ком.
Когда весной 1954 я был награждён выздоровлением и в радостном полёте писал «Республику труда», то имел в виду почти их одних, чтоб именно им прочесть, старым зэкам и благословенным моим друзьям. А прочесть – тоже было непросто, они дома не одни, дочь опасна, да и хатка их втеснена между соседскими, а я хотел в полный голос и во всех ролях. Моя же халупа хорошо стояла, за 100 метров видны подходы. Но пьеса была огромная, в полтора раза больше, чем теперь осталось, читать с антрактами пять часов, просидеть у меня столько днём – соседям и комендатуре подозрительно, да и служба, и хозяйство не терпит. И так ничего другого не получалось, как прийти им, когда уже стемнеет, и просидеть ночь. Ночь стояла парная, концеиюньская и торжественно лунная, какая бывает только по степной открытости. А окна приходилось держать затворенными, чтобы звуки не разносились, и так весь воздух мы оставили снаружи, а сидели в жаркой духоте, в подванивании керосиновой лампы. В антрактах проветривались, и я выходил наружу осматривать местность – не подкрался ли кто? не подслушивает? Да лежали при хатке собаки Зубовых, они бы залаяли. За ту ночь поднялась перед нами лагерная жизнь во всей её яркой жестокости – ощущение, какое мир через 20 лет испытает от «Архипелага», а мы – в ту ночь. Вышли после спектакля – всё тот же необъятный свет на всю степь, только перешла луна на другую сторону, давно спал посёлок, уже предутренним тянуло туманцем, отчего ещё фантастичнее. Зубовы были потрясены – ещё потому, может быть, что в первый раз серьёзно поверили в меня и разделили: вот здесь, в этой халупке, готовится нечто ошеломительное. И пятидесятилетняя Елена Александровна, опираясь на руку уже скоро шестидесятилетнего мужа, сказала: «И какое чувство у нас молодое! Ощущение – вершины жизни!»
Нас, зэков, не баловала жизнь вершинами.
Едва мы с Николаем Иванычем стали на «вольной» службе зарабатывать уже не лагерного масштаба деньги, мы, как два повзрослевших мальчика, осуществили свою давнишнюю мечту: купили по фотоаппарату. (Это – основательно делалось, изучалась сперва теория, по книге. А Н. И. вскоре и писал заводу «Смена» свои критические замечания о конструкции аппарата.) Сласть этого ремесла, однако, уже не могла заслонить, а только развивала нашу конспиративную мысль: а как поставить на службу нам и фотографию? Изучили по учебнику технику репродуцирования, в моих лечебных поездках в Ташкент я добывал нестандартные химикалии – и научился отлично делать фильмовые пересъёмки. Недостроенный глинобитный сарай, обвод стен без крыши, служил мне прикрытием от ветра и соседских глаз: едва наступала короткая в Казахстане пасмурность, я спешил туда, там монтировал своё переносное устройство и, ловя постоянное освещение (облака разволакивает или крапает дождь – бросай), спешил фотографировать свои крохотные рукописные листики (самый больший – 13×18 см). Но вся главная тонкая работа предстояла Николаю Ивановичу: снять переплёт случайной английской книжки, в обеих корках сделать хранилища на конверт, в конвертах закрепить полоски по 4 кадра, да в несколько слоёв, – и всё заделать так, будто книжка – только что из магазина. Наверно, самая сложная переплётная работа, какую Н. И. когда-либо делал, – но и залюбоваться ж было! (Только безпокоило нас, что от солей серебра картонные переплёты оказывались тяжелей ожидаемого.) Теперь оставалось лишь найти того благородного западного туриста, который гуляет где-то по Москве и рискнёт взять криминальную книгу из торопливых рук прохожего… Туриста такого не нашлось, потом тексты я переделал, они устарели. Хранил я книгу как память об изумительной работе Н. И., но в момент провала в 1965 году – сжёг. А – стоит перед глазами. Это были пьесы Бернарда Шоу, по-английски, но советского издания.
Как ни расположились мы с Зубовыми жить в Кок-Тереке вечно, как было вписано нам, – но весной 1956 упразднили всю политическую ссылку, и я уезжал тотчас, а они оставались – хотя не пленниками МВД, но от бытовой тяжести: трудно сдвинуться, силы падают, а мать больна; безумная дочь, беззащитно бродя по Кок-Тереку, забеременела, видимо от председателя сельсовета, родила Зубовым на руки казашонка, сама канула навек в сумасшедший дом. (Поразительная наследственность: выросши в русской семье, младенцем уехавши из Казахстана, никогда тому не ученый и не имев примера для подражания, мальчик избирал как любимую позу – по-мусульмански поджатые ноги.) Другая дочь, годом позже, выбросилась из подмосковной электрички.
Так была легка и перевозоудобна техника хранительная Н. И., что он выслал мне её почтой вослед в Среднюю Россию, в Торфопродукт, уже – три было таких посылочных ящика, и они ещё много лет служили мне, и даже перед самой высылкой из СССР я ещё иногда к ним прибегал. Когда же я переехал в Рязань (вновь соединился со своей первой женой Натальей Решетовской, к тому времени 6 лет уже бывшей замужем за другим, – ложный шаг, очень дорого впоследствии стоивший нам обоим), и там при пишущей машинке хранимые объёмы сразу выросли, 3–4 экземпляра от каждой рукописи, – понадобились новые хранения, однако Н. И. так навострил мой взгляд, что у меня и самого родились придумки недурные: то сделать двойной потолок у шкафа, то натолкать рукописей во внутренний объём всё равно тяжёлого проигрывателя.
Как хорошо казалось нам наше ссыльное место, пока было неизбежно безвыходным, уж мы его так полюбили! и как потоскливело оно, когда появился дар свободы, и все уезжали, уезжали. Уже не было Зубовым пути назад, в Подмосковье («билеты в страну прошлого не продаются!» – любимая печальная поговорка Н. И. после лагерного опыта). Тогда в Крым? – порывалась Е. А.: в Симферополе протекла её счастливая юность, и весь Крым был заповедным воспоминанием. При советских порядках и всякому человеку стронуться с места – гири мешают, а каково бывшему зэку – да не реабилитированному? (Всё простить им не могли короткого приюта, данного дезертиру.) Зэка и вовсе никто нигде принимать не хочет. Долгая переписка, запросы, – наконец согласились дать доктору Зубову место в Ак-Мечети (теперь Черноморском) – захолустном посёлке в северо-западном голом Крыму. В 1958 стронулись и со всеми тяготами поехали. От Крыма, что в это слово вкладывается и что помнила Елена Александровна, там было мало, вокруг – пустынная степь, как и в Кок-Тереке, и даже сходна эта пустынная выжженность местности (пошутил я как-то: «Кок-Терек, где комсомольцы выкопали море», но понял, что обидел их), – зато гладкий пляж, настоящая черноморская вода, а главное, неподалеку от дома – скамья на бухту, и супруги, взявшись под руку, что ни вечер ходили туда смотреть закаты. Со своим поразительным уменьем источать счастье из самих себя и быть довольными всяким немногим – Зубовы признали, что это – счастливое место, и уже до смерти никуда никогда. Е. А. не по годам рано теряла, теряла подвижность, а теперь – и вовсе лежит, уже не доходя и до той скамьи. Умели они жить – внутренней жизнью, друг со другом под тихой крышей, вечерней музыкой, перепискою с друзьями, – и весь мир был тут.
С машинкой появились у меня копии всех рукописей, и возник смысл хранить их рассредоточенно. И уже б не обременять стариков – а не было никого ближе и доверенней. В 1959 отвёз я им из Рязани – все пьесы, лагерную поэму и «Круг первый» (96 глав), который тогда казался мне уже готовым. И снова Н. И. устроил двойные донья, двойные стенки в своей грубой кухонной мебели – и попрятал моё.
Из Рязани я продолжал переписываться с ними сердечно – но лишь в той степени подробно, как это разрешала подцензурность. Когда Твардовский признал моего «Денисовича» – не было мне желанней кому рассказать об этом, как Зубовым. Но все оттенки в письме не помещались. А к Пасхе 1962 окончив ещё одну перепечатку «Круга», я с одним экземпляром рванулся к Зубовым в Крым. Там при знакомой мне обстановке, за похожим круглым столом, как бывало когда-то, я рассказывал моим любимым старичкам о невероятных новомирских событиях, Е. А. при этом щипала зарезанного петуха для парадного обеда, с перьями в руке останавливалась в изумлении – и именно потому, что так знакомо повторялись наши кок-терекские уютные сидения втроём, только теперь с электричеством, – мне самому во всей остроте, кажется впервые, явилось это чудо: ведь никогда ничего мы не надеялись увидеть напечатанным при нашей жизни! Да ещё и – будет ли?..
В другом месте не придётся: готовясь ко всякой встряске при выходе «Денисовича», я тою весной сделал ещё три полных фотокопии всего-всего, написанного мною до сих пор. И под видом нашего с женой летнего путешествия поехал развозить их по друзьям заключения. Одну – несравненному моему тёплому тюремному другу Николаю Андреевичу Семёнову, с кем вместе мы сочиняли на бутырских нарах «Улыбку Будды» (в «Круге» – Потапов), на Пермскую ГЭС. Он – принял, и честно сохранял, пока я потом не сжёг сам. Вторую – под Кизел, лагерному герою Павлу Баранюку (в «Пленниках» и в «Танках» – Павел Гай). Я ехал – не понимал, что добраться до Павла можно было только на машинах МВД и что сам он стал – как бы не лагерным надзирателем, но не признавался в письмах; эта потеря – рана, до сих пор не объяснена, но понятна: так зажали его после нашего экибастузского мятежа. С капсулой плёнок в кармане, как бомбой, я оглядчиво ходил целый день по Кизелу – одной из гулаговских столиц, чтоб как-нибудь случайно, по подозрению, по проступку, меня не взяли многочисленные тут патрули. Так и не доехал до Павла, и хорошо. Третью – в Екатеринбург, Юрию Васильевичу Карбе – благородному, всегда невозмутимому экибастузскому поверенному другу. Он – тоже принял и тоже честно сохранял, где-то в лесу, в земле. В мае 1968 он умер, почти в один день с Арнольдом Сузи (оба – сердечники, а были в те дни какие-то солнечные явления). И сейчас отказала память: вернул ли он мне всё и я уничтожил, или та плёнка поныне в уральском лесу.
С напечатанием «Денисовича» круг моей переписки, знакомств, обязанностей и сбора материалов расширился взрывом, соответственно и внимание ко мне Недреманного Зрейма, и я всё реже мог сесть за обстоятельные письма к Зубовым, всё меньше выразить в них. Я и всегда, сколько помню себя, по плотности выполнял работу доброго пятка людей, но до выхода на поверхность ещё оставались малые затишки для писем, для бесед. Теперь – их не стало. Правда, летом 1964 Николай Иванович приехал разделить наше с женой первое путешествие на своём «москвиче» – от Москвы в Эстонию. Всё снова было близко и понятно. Но опять канул он в свой посёлок – а его сделали «запретной зоной» (стоянка военно-морского флота), получилась ссылка наизнанку: чтобы достичь их, надо было теперь брать пропуск из своего областного МВД. Сами же Зубовы всё меньше двигались, Елену Александровну приковало к постели, Николай Иванович по развившейся глухоте не мог слушать западного радио. Они замкнулись в своём статичном мире, углубились в классиков, а из нового только за тем следили, что до них доходило, чаще не лучшее. Наши опыты и темпы расходились, подцензурная переписка становилась почти безсмысленной: намёки не улавливались, истолковывались неверно.
В октябре 1964, в ночь, когда узнали о свержении Хрущёва, Зубовы сожгли всё моё хранимое и сообщили об этом условной фразой в письме. Таков и был уговор: если, по их мнению, возникает серьёзная опасность – они вольны всё сжечь. Тогда и не им одним казалось, что сейчас в несколько дней начнётся всеобщий разгром. В тех самых днях и по той же причине я отправил не оставленный в Кизеле рулон фотоплёнки на Запад (с В. Л. Андреевым) и не очень был затронут их костром: теперь достаточно было экземпляров. И вот только получалось: «Пир победителей», один из двух, у меня остался единственный отпечаток.
Но ещё через год при провале архива у Теуша это отозвалось: «Пира победителей» у меня не осталось вовсе. Правда, его издали закрытым тиражом в ЦК, может, для будущего сохранится у них, но мне было горько, что теперь для меня «Пир» утрачен. В 1966 мы встретились с Николаем Иванычем в Симферополе, к ним проехать было нельзя. Я спрашивал, всё ли сожгли, действительно ли всё? Он отвечал уверенно. Единственное, что случайно сохранилось, – ранний вариант «Круга», и теперь мы сожгли его вдвоём, в Симферополе, в печи. И году в 1969 Н. И. приезжал в Москву, был в Рождестве, – всё то же, я уже и не сомневался, с «Пиром» простился навсегда. А в 1970 была в его письме какая-то непонятная фраза, что мне надо бы посетить в Москве его старую, давнюю знакомую, а я не додумал (потерян был наш кок-терекский сострой, когда мы так легко понимали друг друга и удивлялись тупости вольных адресатов; долгая разлучка ввела и между нами тупость). Не собрался. Весной 1971 Н. Решетовская, с которой мы уже были врозь, взяла в МВД пропуск и на несколько дней заехала к Зубовым погостить. Я сам, письмом, обременительно просил Зубовых, чтоб они её приняли, надеясь на смягчающее благородное влияние их. Я тогда допустить не мог, в чьи руки забросит мою бывшую жену наш развод: что она вот-вот станет, уже стала для меня опаснее любого соглядатая – и потому что согласна на любых союзников против меня, и потому что знает многих тайных. Она забрала у Н. И. почти всю пачку моих писем к ним, именно за те годы, когда бросала меня, и они нужны были ей, чтоб заполнить пробел в её мемуарах. И ей же теперь, так же не понимая, куда она движется, Н. И. доверил передать мне тайную историю и продиктовал адрес.
Оказывается, тот внук-казашонок из Кок-Терека, от безумной дочери, через силу взращённый стариками, уже достигший лет 13, отсталого развития и необычайно злой, в короткий приезд из интерната трудновоспитуемых (что за труд был ещё сдать его туда! ведь накланяешься и напросишься), поссорясь со стариками (грозя убить их, уже не первый раз), в приступе злости не удержался открыть соседке, что «старики в руках» у него, «держат антисоветчину» скрытно в мебели, а он обнаружил! Что бы было с Зубовыми, если б он успел донести! – уж высылка из посёлка военно-морской базы это самое мягкое и малое, а при их состоянии – всё равно разгром. Но соседка тотчас передала Н. И., он кинулся – и обнаружил забытую им заначку – и в ней «Пир победителей», «Республика труда» и другое мелкое. Тут же он и перепрятал. Внук обнаружил пропажу, чертыхался и бесился. А Н. И. уже знал, что «Пир» надо сохранять, – но держать теперь опасно, ведь донесёт? И не знал, как мне сообщить, и ехать тоже не мог. И безстрашно держал ещё несколько месяцев! Столь затянулась, уже не по силам ему, конспирация, так весело начатая в Кок-Тереке 17 лет назад.
Летом 1970 в Черноморское приехали на отдых из Ленинграда знакомые его знакомых – того самого латиниста, античного историка Доватура аспирантка Ирина Валерьяновна и муж её Анатолий Яковлевич Куклин, молоденькие, с малой дочкой. Та атмосфера душевного тепла, которая всегда окружала Зубовых как ореол, втянула и этих молодых с первого их приезда сюда и с первого дня знакомства. И теперь с полным доверием отдал им Николай Иванович найденные мои рукописи с тем, чтобы возвратили мне при случае, а уж придётся худо – уничтожили бы. По свойствам советского транспорта и быта из прямого поезда Крым – Ленинград сойти в Москве они не могли. Когда же Ирина была раз в Москве – передала мне записку через Ростроповича, но так неясно было, и меня так многие добивались видеть по вздору, – я не оторвался от работы, не ответил.
И вот в июне 1971 настороженно враждебная моя бывшая жена, но ещё тогда не потерявшая расчёт меня вернуть, в минуту ещё не худшую, передала мне всю эту историю и адрес. Я постарался принять адрес без большого значения (воротясь из Ленинграда, ответил на её вопрос, что ездил – зря, давно они всё сожгли). А сам через два дня уже был в Ленинграде, в Сапёрном переулке, где в старом здании, в неустроенном сыроватом полуподвале эти славные безстрашные молодые люди уже год хранили и вот дохранили моё взрывчатое, пугающими словами ругаемое повсюду на лекциях и в газетах. Снова был у меня «Пир»!
Полюбил я этих молодых. Совсем из другого поколения («инфанты» закодировали мы их с Люшей), пришли они в моё литературное подполье, которому уже было четверть века, пришли всего на один эпизод, всего одну пьесу спасти – а не поплатятся ли за то разорением жизни? Они потянулись помогать мне и дальше; оба – историки, и обоим непереносимо соучаствовать в казённой лжи, хоть на чём-то хочется лёгкие очистить. Но этого – мало пришлось, это был их порыв – выше возможности: тут вскоре родилась у них и вторая дочь, а безвыходный подвал всё тот же, и Анатолий болеет, и руки разрываются, и денег нет, – впору не брать мне их помощь, а им помогать. Последнее перед высылкой я слышал, что стали его утеснять на работе, хотя это могло и не связано быть со мной.
А могло – и быть. Особая моя связь с Н. И. ясна была хотя бы через Решетовскую: она спешила при мне живом публиковать обо мне воспоминания и не пощадила, открыто напечатала (в 1972, в «Вече»), что Зубовы были самые близкие мне в ссылке, читали все мои лагерные вещи и были хранителями «Круга»! Да я продолжал и переписываться с ними открыто по почте, даже в последний год посылки посылал. (Однажды прислал Николай Иванович милого одного человека, из 227 моих рассказчиков «Архипелага», Андрея Дмитриевича Голядкина, – с письмом, минуя почту. А позже был А. Д. шафером на нашем венчании с Алей – так косвенно и Н. И. поприсутствовал, в той роли отца, всю жизнь ему не удавшейся.) По своим затруднениям Куклины лета два не ездили в Черноморское. Но в 1974, уже после изгнания моего, поехали.
Поехали, и такую весть привезли осенью (дошла до меня зимой в Швейцарию): в ночь моего ареста с 12 на 13 февраля к Зубовым пришли чекисты с обыском. О, злыдни, когда же вы отвяжетесь? Подробностей не знаю, но так это представить легко: стук, и тревога измученного арестантского сердца, безпомощная старость, накинутые халаты, Н. И. почти полностью глух, сколько окидывается жизнь – 40 лет – 50 лет – 60 лет – всё те же чекисты, всё те же обыски. Вопросы о Солженицыне. Что храните написанное им? Перешаривают, забирают письма (и те несколько кок-терекского времени, не отданные Решетовской, самые интимные), средь них и «левые», конечно, и может быть – благодарность за «Пир», а скорее: левые – сожжены…
Сколько верёвочке ни виться…
И – чем могу я их защитить? Как их спасти? Взывать к западному общественному мнению? Оно – уже устало от чужого горя.
А чекисты, может быть, и о двойных стенках наслышаны, и мебель проверяли, и полы? В те сутки не у Зубовых одних, по разным далёким провинциальным местам искали они моё «главное» хранение (так вывели почему-то, что я в провинции храню). Ошиблись: моё главное хранение было уже в Цюрихе, в сейфе. Ушли ни с чем, только измучили стариков.
Но может быть, уж это было – последнее сотрясение их жизни. Годами раньше похоронена была своенравная матушка. Две дочери ушли из жизни. Сын – был и не был. У Е. А. сестра единственная, жила в Крыму – уехала. Всегда радушным к молодёжи, так и не довелось им оставить никакого прямого своего потомства. Каждую весну всё продолжает, наверно, Н. И. вести свой короткий курс с десятиклассницами, чтоб они жизней не покалечили. Иногда зовут его в родильный дом на помощь. А всё остальное время он ведёт домашнее хозяйство и ухаживает за Е. А., почти не встающей с постели.
Была жизнь! – в тюрьмах, в лагерях, в ссылке, была! – но вот уже и кончается.
Сел писать эти страницы – и все вызываемые памятью мои соратники, сотрудники, помощники, почти все ещё живые и угрожаемые, обступают меня тёплыми тенями, вижу глаза и вслушиваюсь в голоса – внимательнее, чем это было в пылу сражения.
Беззвестные, всем рисковали, даже людского признания не получая взамен, того признания, которое скрашивает нам и гибель. И напечатка вот этих очерков придётся многим уже в пустой след.
Вот повернулось: я – цел, а они все – под топором. Есть предчувствие, есть вера: я ещё вернусь в Россию. Но – кого из них уже не застану?[57]
2. Николай Иванович Кобозев
Об этом человеке намеревался я написать отдельную повесть. И не было к тому преград, кроме вечной моей гонки, вечной недостачи времени. Повесть о том, как советская система умела уничтожать лучшие умы России, даже не сажая их в тюрьмы.
Н. И. Кобозев был – из самых умных людей, когда-либо встреченных мною. Он был крупный физико-химик, но, шире того, в высшей традиции прежней русской науки, он, сопутно своим главным исследованиям, в рабочее время и в досужное, обдумывал и сопоставлял факты и проблемы наук параллельных, ещё и философии, истории России и православия. Правда, и времени для медленных мыслей ему судьба послала больше, чем многим в этом веке.
Все особенности его биографии, почему не заглотнула его, не смолола машина Архипелага, произошли из-за постоянного его нездоровья. До 20 своих лет, ещё в ранние годы советской власти, он перемещался в компании со здоровыми, путешествовал в лодках, где-то на Алтае. Но с конца 1920-х годов, когда начался разгром и подавление уцелевшей научно-технической интеллигенции, болезни уже овладевали им. Профессор Московского университета, он с середины 30-х годов уже не приезжал читать лекций: агорафобия (боязнь пространства) сделала выезды эти, даже и на занятия в своей лаборатории, всё более редкими и прекратила совсем. Учеников и аспирантов он стал принимать только дома. Постепенно он свыкся с жизнью всего только в двух-трёх комнатах городской квартиры – со старинной коричневой мебелью, библиотекой, потом по стенам причудливо-интересными картинами 12-летнего сына.
Окна выходили на 3-ю Тверскую-Ямскую, десятилетиями тихую, а в последнее время огрохоченную и отравленную непрерывным автомобильным потоком, так что не осталось отшельнику ни тишины, ни воздуха даже по ночам. А ночи были – главное время его, как у всех безсонников и безпорядливо живущих людей: без движения и воздуха сон приходит всё позже, всё позже в ночь, а то уже и утром, время сна передвигается на светлые часы, пробужденье – на обед. Вызванный болезнями, этот безпорядок обратным влиянием усиливает болезни и разрушение. А болезней – каких только не было у Кобозева, перечислить не взялся бы. Одна рука его была постоянно вывернута в локте и ничего брать не могла, вторая тоже неуверенно держала ложку и вилку, так что жена измельчала и упрощала пищу ему, как ребёнку, к тому ж и по язве желудка это требовалось. У него было прокапывание мозговой жидкости в нос, развилась слабость ног, потом они вовсе отнялись, и его катали в кресле; у него было несколько спутанных заболеваний костей, спинного хребта, кровеносной системы, сложные мозговые явления под конец, болезней всегда сразу по несколько, и лечение одних противопоказывалось лечению других. Не раз ложился он в больницы – на недели, на два месяца, вдруг – ходил по комнатам, улыбался, летом живал в Узком – сперва в дорогом академическом санатории, потом, с денежным упадком, просто в избе. Идя к нему и в хорошее время, нельзя было знать, застанешь его сидя или лёжа. Наслано было болезней на него, как на истинного Божьего любимца, едва ли не гуще, чем на библейского Иова, но никогда не взорвало его гневом, а улыбался он с покорностью Божьей воле. Он роста был малого, – а в постели, скрюченный болезнями – вовсе безпомощный комочек, всё ближе к ребёнку.
Несмотря на редкое проявление в научно-общественном мире, Кобозев был постоянно не в милости у администрации, не поощряли к печатанью его работы, и только энергичные ученики своим напором сами добивались финансирования деятельности лаборатории. А исследования профессора, выходящие за пределы его «службы», и вовсе не поощрялись, им не находилось места, как ничему оригинальному в советской стране. Какому научному плану могли удовлетворять такие исследования Кобозева, как общежизненное и общеприродное оптимальное соотношение (2:1) для всякого поиска – соотношение векторной настойчивости и броунизированной пассивности? Как счастье выпадало, если таким исследованиям находились страницы в «Бюллетене испытателей природы» – никем на торной научной дороге не читаемом журнальчике, почему-то недодавленном с царских времён. К 1948 году, совершенно независимо от Винера, ничего не зная о его трудах, Кобозев в одиночку разработал, совсем в иной терминологии и методике, то, что за океаном стало кибернетикой, а через 8 лет пробилось и к нам. Кобозев был такой же непечатаемый автор, как я, – но не обидно мне с моими темами, а за что ж ему, естествоиспытателю? Постоянная заглушь, немота, невозможность о своих открытиях сообщать печатно, налагалась безнадёжным гнётом поверх его гнетущих болезней и гнетущего пленного состояния в комнате без воздуха, почти без дневного света, над улицей, грохочущей автомобилями от пяти утра до двух ночи.
И всё ж в последние годы он сумел написать блистательную работу «Исследование в области термодинамики процессов информации и мышления» (1971, издание МГУ) – по недосмотру напечатанную в СССР, по недосмотру не переведенную за границей. В этой книге он ещё раз переформулировал всю кибернетику в понятиях термодинамики и в этих изложениях дал термодинамическое обоснование бытия Бога.
Он сильно заинтересовался мною, прочтя самиздатского «Ивана Денисовича». Мою первую жену, свою бывшую аспирантку, попросил привести меня. С первого разговора мы друг ко другу испытали доверие, и с тех пор постепенно углублялись наши разговоры в те нечастые вечера, когда я приезжал к нему посидеть. Я стал давать ему читать ещё неоткрытые свои рукописи, он прилежный и обдумчивый был читатель. Само собой всплыло, как трудно этому всему обезпечить сохранность, – и он сам предложил устроить хранение, только не подручное, а глубокое. В этом больше всего я и нуждался. Далеко идущее совпадение наших взглядов давало возможность доверить ему решительно любую мою работу. Кобозев верно и твёрдо содержал с 1962 по 1969 год все основные экземпляры всех моих главных рукописей (не у себя, у сестры невестки по брату своему, погибшему в тюрьме; её я в жизни видел единственный раз и даже назвать не вспомню, а благодарен всегда. Приносил же и уносил, подросши, сын Алёша, душевно шаткий молодой человек). Это хранение в то время было самое полнокомплектное – с недоконченным, начатками и набросками, чего я тоже никак не мог держать дома. Оно было как мощный камень подо всей моей деятельностью: уверенность, что всё моё сохранится, что б ни случилось со мной.
В 1969 это хранение я перевёл к Але.
Всякий вечер мой у Кобозева включал касания к самодвижениям его ума, не могущего никогда остановиться. Свежо и независимо взвешивал он проблемы. Пристрастие имел к Достоевскому, к Владимиру Соловьёву. Огромные, непривычные мысли подавал он мне, восполняя разрушенную традицию и мою невежественность. Очень остро воспринимал крушение русского духа в XX столетии. В религии он был – простой православный без мудростей. Любил допытываться от меня вперёд о ключевых идеях моего будущего исторического повествования. Я чаще уклонялся: романист не с идеями идёт к материалу, они получаются в процессе самой лепки. Он настаивал: ну, а всё-таки, как же? Февральская революция – как? Сверженье царя и сам принцип монархии? Заключала ли Февральская в себе неизбежно и Октябрьскую? И почему столь малые отступления в ту войну казались катастрофой, а столь великие в эту – выдержаны? Мне, конечно, предстояло со временем на всё это ответить, но как чувствовал Николай Иванович, что уже не прочтёт, торопился обсудить. Да через Кобозева выдвигались ко мне и вопросы и области, которых я, по своей гонке, всё не успевал охватить.
Наши встречи всегда были вечерами, и не рано, и всегда я должен был торопиться к поздневечернему поезду, никогда не договорить.
Я приглашал его участвовать в «Из-под глыб». Он хотел писать. Но сил уже не нашлось.
Совсем отказывал его позвоночник. Через Ростроповича привлекали мы какого-то самобытного врача из Казахстана, но тщетно. И новейшие иностранные лекарства доставали, а вырвать из болезней не могли. Весь 1973 год Кобозев уже впадал в смерть, был в полубезсознании.
Когда гебисты везли меня из Лефортова на Шереметьевский аэродром – как раз пришлось по 3-й Тверской-Ямской, под его окнами, и я вспомнил о нём в тот самый момент, скосился на его ворота, куда всегда входил в темноте, а то и через проходной двор, всегда надёжно проверяя, что – без хвоста, и часто с рукописями.
А через месяц – он умер.
3. Вениамин Львович и Сусанна Лазаревна Теуши
Меж ними была большая разница лет, но сглаживалась к тому времени, как я их узнал (уже внук был у них, а сын преподавал математику в институте, как и оба родителя). Вениамин Львович, как он рассказывал теперь, бичуя себя, был в молодости яростным «безпартийным коммунистом», в 30-е годы, мол, считал бы за доблесть сообщить в ГПУ о чьей-либо враждебной деятельности (это не значит, что реально так поступил, но передавал этим настроение общее, ком-сознательное), – история повернулась так, что не все теперь способны даже вспомнить, даже сами поверить, не то чтобы мужество иметь назвать прежнее состояние, а он – называл. Сусанна же отцом своим, Лазарем Красносельским, была воспитана в напряжённом иудаизме (в раннесоветские годы уводила подруг из школы на еврейскую Пасху – но это окончилось мягким выговором). Однако поздней всё это замерло в ней, заглохло, подвластно тогдашней идеологии, и не было у неё разнобоя с мужем. Весь круг их был советски-благополучен, двоюродный брат Сусанны Лазаревны – крупный прокурор, сам Вениамин Львович – лауреат сталинской премии (по авиационной промышленности), профессор.
Гроза над ними, как и многими, разразилась на рубеже 50-х годов: начались столичные противоеврейские притеснения. Вениамин Львович должен был на несколько лет уехать преподавать в Рязань, Сусанна сохраняла московскую прописку, но тоже живала в Рязани. Повернулась эпоха – повернулись и Теуши, оба вместе, и впереди многих: позорными стали считать свои прежние сочувствия коммунизму, и всё настойчивей заполняла им грудь и всё глубже устаивалась в них вера-любовь к Израилю. И в разных частных жизненных случаях, в психологических разнобоях супругов это общее страстное чувство прочно скрепляло их и вполне преодолевало ту опасную расщелину, которая наметилась, когда Вениамин Львович, в начале 60-х годов уйдя на пенсию, увлёкся антропософией, совсем как бы удаляющей человека от общей «нормальной» жизни, – а Сусанна оставалась до конца естественная жизнелюбивая мирянка.
В Рязани Теуши познакомились с Н. А. Решетовской и её тогдашним мужем. Дружба их с Н. А. сохранилась и после возврата Теушей в Москву.
В 1960 я впервые ощутил упадок от безвыходности своего литературного подполья: был как заживо закопан, редкие приезжающие в Рязань лагерные друзья – не оценщики того, что у меня написано; жена, упиваясь «Кругом», об «Иване Денисовиче» нашла, что «скучно, однообразно», а Лев Копелев сказал: «типичный соцреализм». Копелев был тогда для меня единственным выходом в литературный мир, но как в 1956 году он забраковал всё моё привезенное из ссылки, так теперь, побывавши в Рязани, отверг и всё дальнейшее, включая «Круг». Я-то уверен был, что это всё не так, но после 12 лет одинокой работы нуждался в проверке ещё на ком-то. Все годы после освобождения из лагеря я находился на советской воле как в чужеземном плену, родные мои были – только зэки, рассыпанные по стране невидимо и неслышимо, а всё остальное было – либо давящая власть, либо подавленная масса, либо советская интеллигенция, весь культурный круг, который-то своей активной ложью и служил коммунистическому угнетению. Такого круга или прослойки, где меня могли бы читать и принять, – я и не воображал. Но, конечно, могли быть счастливые находки, отдельные встречи. Жена предложила попытаться дать почитать знакомым её Теушам. В конце лета 1960 мы съездили на их подмосковную дачу.
Оказалась, действительно, незаурядная чета, очень интересные в беседе, муж – с необычными, острыми, весьма свободными суждениями, и не только политическими, но выходящими в область духовного. Жена – обаятельная, тонкая, вся в душевных переливах. Заметил я, правда, что он – нечёток, сам в поспешности перебивает свою мысль, но в беседе это даже мило бывает, и ещё какая-то примесь бытовой путаницы, – да что мне? ведь решалось только – дать ли почитать. Я – решился. И дал им «Щ-854» (более резкий вариант «Денисовича») – самое безобидное, что у меня тогда было. Однако шаг этот был для меня сотрясательный: я ещё никогда не приоткрывался человеку, которого бы знал так мало и не проверил сердцем. В моей замкнутой, защищённой скорлупе проламывался – моею же волей! – как бы свищ, именно то отверстие, через которое свистит ветер, уносит прочь драгоценную тайну. Я приобретал двух читателей, а мог потерять, а мог потерять – труд всех лагерных, ссыльных и уже «свободных» лет, и голову саму.
Результат от чтения был взрывной. Вениамин Львович от восторга потерял равновесие и покой. Он объявил рассказ не просто художественной удачей, но историческим явлением. И тут же проявил самовольное движение: даже не считая нужным спросить меня, поехал к своему приятелю доценту Каменомостскому, ныне покойному, и ещё к одному доценту, своему старшему антропософскому другу и наставнику Якову Абрамовичу (фамилии не помню, а жил – на улице Шухова), – делиться с ними, читать обоим. (В какое-то раннее время и сыну дал читать.) И все они пришли в восхищение, а В. Л. повторял торжественно: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!» Вслед за тем они с Каменомостским не удержались и вместе приехали в Рязань. Об Якове Абрамовиче мне сказано не было, а вот: прочёл Каменомостский. (И между другими похвалами: тронуты они мягкостью главного героя и автора – к Цезарю Марковичу. Каменомостский сказал странную для меня тогда фразу: что этою чертою повесть в его глазах «реабилитирует русский народ».) И теперь оба хотели прочесть – ещё что-нибудь? что есть у меня ещё?
А меня – как ударила эта неспрошенная утечка! Стеснилось сердце, как от большой беды, как от уже произошедшего провала. Да кто ж ему разрешил! – и так просто улыбается, как ничего не произошло: ведь все только радуются. О, как трудно выходить из подполья!.. Несколько дней я был под этим угнетением. Но исправить уже было нельзя. Пришлось постепенно освоиться с этим проломом, расширением объёма знающих. Утечки действительно не произошло. Постепенно привык.
Утечки не произошло, а появились читатели – умные, искренние, обстоятельные. Рассказ мой сразу оценили как эпоху – для себя, для советской литературы и для страны. Автору, который про себя, одинёшенек, так, собственно, и думал, – как было не разомлеть? Создался маленький мирок, где одна за другой читались и обсуждались мои вещи. Жена Каменомостского оказалась бывшей артисткой Малого театра, кого-то позвала оттуда, у них на квартире я читал «Свечу на ветру», правда с малым успехом. Самое моё решение предложить «Денисовича» в «Новый мир» созрело не только от толчка XXII съезда, но и от бурного успеха этого рассказа годом раньше среди узкого круга теушевских друзей. Этот микроуспех дал мне уверенность в том, как рассказ будет принят не зэками. (Других разделений, более дробных течений в образованном обществе я ещё не предполагал, не задумывался.)
Так и создался единственный тогда близкий мне в Москве кружок читателей. А когда через год я открылся в «Новом мире» и не стал уже безразличным ровным камешком в гальке, одним из миллионов бывших зэков, – я перевёз к Теушам (в проигрывателе) из Рязани своё второе (первое уже было у Кобозева) хранение – набор машинописей и фотоплёнок. (По каждой вещи была фотоплёнка собственного изготовления, готовая к отправке за границу под псевдонимом Степан Хлынов и с подправкой слишком автобиографических мест, по которым могли бы меня раскопать. Однако распахнулась дружба с «Новым миром» и перенаправила все мои планы.)
Стало это всё храниться у Теуша, естественно было и разрешить ему всё подряд читать. Восторг, сходный с «Иваном Денисовичем», вызвали у него «Знают истину танки». По «Пленникам» делал он мне представления и наставления, что из отрицания большевизма ни в коем случае нельзя сочувствовать Белому движению в Гражданской войне: в войне, мол, народ стихийно и единодушно участвовал за красных и не случайно 19-летние мальчишки выдвигались на командиров полков. (Так же считал он колхозное право на землю – решительным достижением в землепользовании. Огромные надежды связывал с югославским вариантом социализма. Это всё оставался в нём залегать груз понятий прожитой жизни.)
Вениамин Львович, недавно перешедший на пенсию, телом побаливал, но интеллектуально был полон сил (известное советское: с пенсии либо умирают, если уже обратились в автоматы работы, или расцветают, если сохранили людское). Главное направление его было отныне – антропософия, он читал книгу за книгой Рудольфа Штейнера, составлял конспекты его и других антропософских рукописей (и очень серьёзно пытался втянуть меня, но меня не повлекло). Антропософия давала ему и высокий общий обзор и допускала частные применения – и вот он, сроду не касавшись литературоведения и глубин русского языка, занялся изучением языка «Ивана Денисовича» – и свежо, чутко к звучанию слов и многослойному значению их. Эту работу он пустил в Самиздат, её охотно читали.
Сам же он почти сразу приступил ко второй статье: «Солженицын и духовная миссия писателя». В ней он взглядывал на сталинскую эпоху в общей духовной картине мира. Только что не называя антропософию прямо («новорожденная духовная наука», «указания из духовной науки»), он чуть приоткрывал себя, излагая её сущностные взгляды. Правда, был политически осторожен, ни разу не употребил слов: «социализм, ленинизм, коммунизм, советская власть». (Впрочем, это, пожалуй, и не осторожность была, а остатки его прежних ортодоксальных убеждений, ибо у него тут же искренно присутствуют: губительность мелкой собственности в сельском хозяйстве, «исторические преступления Церкви», «царские, белогвардейские палачи», культ вождей революции, «из сказанного вовсе не следует, что всё дело революции было ложным или порочным с самого начала… Революция произошла и, следовательно, была необходимым актом истории, деянием высоких духовных сил»…) Защищая мой рассказ от официальных уже тогда нападок, Теуш, правда, находил в Шухове «слабое развитие мышления и личной нравственной свободы», а Тюрина миновал недоброжелательно. Но прочтя к этому времени уже много моего, чего не читал никто, и держа его перед глазами, В. Л. не мог удержаться не намекнуть в своей статье, что в годы подпольного писательства мною написаны «возможно и другие, неизвестные ещё нам» вещи; и уже прямо цитировал в статье куски из моей лагерной поэмы, не напечатанной и по сегодня, никем больше не читанной, и многие цитаты из полученных мною читательских писем, они составили заметную долю статьи, и тем более наведутся глаза ГБ: автор несомненно очень близок к Солженицыну. Однако эти статьи, это направление работы составили теперь для Теуша интерес его жизни – и с каким сердцем надо было запретить? Но и с каким безумием мог я после этого оставлять у него хранение?.. Такого промаха мне нельзя простить. Для хранителя тайных рукописей амплуа публичного их рецензента уж никак не подходит. Добро бы – статья написана и лежит тайно. Но, имея что-либо духовно-важное, В. Л. не мог устаивать против жгучего желания с кем-то поделиться. И эту вторую статью В. Л. стал давать читать – пока, кажется, только «избранным». Но неудержимо-стихийно – она всё равно поплыла, только что – под псевдонимом «Благов».
Бывая в Москве, я теперь всякий раз, и с тяжёлыми сумками продуктов, делал дальний крюк на Мытную к Теушам, где не надо было скрываться, притворяться, а так тепло сердцу, и можно полностью открыто рассказывать о своих событиях и советоваться. Привязался я к ним. Слушатели они были превосходные, особенно Сусанна Лазаревна с её талантом сочувствия и понимания, она была из тех женщин, какой одной довольно присутствовать в компании, чтобы хотелось рассказывать. Так они и стали первыми, кому я разгружал свою душу в Москве, первыми, кому рассказывал все мои перипетии с «Новым миром» и другие. На Теушей как бы переходила традиция моей ссыльной дружбы с Зубовыми, захлёбных разговоров с теми. Настолько Теуши стали нам близки, что в 1964, когда снова кололась наша с женой семейная жизнь, – Теуши были доверенными и моей жены и моими, посредниками и примирителями. (Тогда – трещина склеилась на ещё шесть мучительных лет.)
Но тесноту наших отношений В. Л. понимал и как значительную свободу в распоряжении моими ненапечатанными рукописями – давать их читать по кругу родства и близости, в том числе и своему молодому другу и последователю в антропософии Илье Зильбербергу, о чём я тоже не знал, повторился тот же приём, что и с Каменомостским в начале нашего знакомства. В июне 1964 Вениамин Львович, не предупредив меня, не спросив моего согласия, назначил супругам Зильбербергам приехать знакомиться со мной на квартиру Штейнов, где мы с В. Л. должны были встретиться, – и представил их как своих родственников.
Все те годы – храненья моих рукописей у Теушей и моих подробных рассказов им обо всех делах (изображал я в лицах и свой разговор с Демичевым и над ним смеялся, думаю – как раз отсюда и пошла Демичеву в ЦК магнитная плёнка моего рассказа), – Теуши жили в одной комнате коммунальной квартиры, а за тонкой стеною – какое-то отставное мурло из МВД; уверяли они, что он – полный дурак и взрослая дочь его такая же; вполне возможно, так и было, но всё-таки же МВД! меня-то, зэка, как оставило напряжение? и так начисто! Правда, на микрофонное подслушивание ещё никто тогда не был наструнен в Москве, ещё не было этого понятия «потолки», не опасался никто серьёзно. Но – простой взлом замка и обыск в отсутствие хозяев! – сам не догадается мурло, так надоумят Органы, когда слежка приведёт к этой квартире. Сейчас удивляюсь: до чего же именно с Теушами я потерял своё обычное чувство осторожности, как мог там держать своё сокровище – и дольше трёх лет! И при таком их сомнительном и тесном жилье – да, нагрузил я их нелегко.
Неосторожен был В. Л. и в телефонных разговорах (как, впрочем, и многие мы, пока все ясно не почуяли опасность) – да даже на курорте Друскеники совсем посторонним людям, случайным знакомым, он рассказывал о дружбе со мной – и что-нибудь же об ещё не напечатанных вещах? Какой-то экземпляр его второй статьи к этому времени не только безконтрольно ушёл – но определённо лежал в ЦК (или в ЧК).
Узнав об этом – В. Л. мне сказал тогда же, и я воспринял как сигнал крайней опасности – и в начале июня 1965 забрал от Теуша своё хранение, успел благополучно оттащить проигрыватель к новым друзьям Аничковым (очерк 6). Итак, в очередном переходе по канату, в окружении всех глаз и ушей КГБ – всё кончилось благополучно? – бы кончилось для моих вещей благополучно, если бы при увозе хранения мы бы проверили полки в шкафу В. Л.: не оставлено ли что по недосмотру? Или если В. Л. строго бы выполнял наше с ним условие: мои рукописи, то и дело вынимаемые им из проигрывателя для перечитывания и рецензирования, брать не более как по одной, а использовав – непременно класть назад. Тут и подвела бытовая нечёткость В. Л.: он набрал уже, оказывается, чуть не с десяток моих рукописей, вынул из проигрывателя, ничего не клал назад – и вообще забыл о них. Я унёс проигрыватель, а они остались – криминальнейший «Пир победителей», такие же лагерные стихи, «Республика труда», невосполнимые черновики и другое!
Но и это ещё можно было бы исправить: через несколько дней, собираясь в летнюю поездку, В. Л. обнаружил мои опасные работы. Ещё он мог вызвать меня из Рязани телеграммой. Всё можно было бы исправить, если бы у В. Л. было ясное сознание реальности и понимание всей опасности моего положения. Но, совсем небережно, даже небрежно, он позасовал все мои тайны в пакетик – и, без права на то, без ведома моего, отдал их перележать лето у Зильберберга, с которым связь Теуша была настолько открыта, что с равным успехом можно было хоть и в своей квартире оставить. (По перечню отобранных материалов видно, что помимо того пакета был там и самовольно выписанный В. Л. абзац из «Архипелага»! за 10 лет до его публикации!)
Да что там! Настолько это казалось ему незначительно, что когда в конце лета я был у них и потом, затменно закружась, привёз им же, беднягам, чемодан «Круга первого» из «Нового мира», – В. Л. даже не вспомнил, не сказал мне, что обнаружил эти пьесы и передал их Зильбербергу!
А Зильберберг был в отпуске дольше, чем Теуши, – и гебисты ждали его возврата. Он вернулся – и тут же, вечером 11 сентября, они пришли и к Теушам и к Зильбербергу.
Захват гебистами «Пира» и лагерных стихов нанёс мне самый страшный удар за все теперь уже 25 лет моей литературной конспирации. Были разорваны, истоптаны 18-летние непрерываемые усилия. Но самое разгромное: в какой момент это меня постигло! Весь будущий «Архипелаг» был у меня на руках, ещё только начатый, и все двести с лишком свидетельств бывших зэков, ещё не нашедшие себе места, – и всё это теперь гинет? и не будет оглашено уже никогда никем? и никогда эти загробные голоса не прозвучат??
Тотчас пришлось мне сжигать и хранение, оставшееся в Рязани, а там было и невосполнимое, навсегда теперь утерянное.
Так горько и провально мне стало: по небрежности, по неряшливости В. Л. разорвал многотерпеливую нить, которую я плёл из камерных сумерок, через воронки, пересылки, каторгу, ссылку, тайное сидение в Торфопродукте и Рязани, – разорвал и даже не понял, что сделал, – и предполагал тотчас дальнейшую со мною оживлённую деятельность.
А ГБ изображало так, что искало только «Благова», автора той статьи. Теперь вызывали на допрос и Теуша и Зильберберга. Первые вызовы на Лубянку никому не бывают легки, конечно это было сотрясение для них. Но та статья никак не тянула на срок. А перетягивать шкурку на меня – ещё почему-то не решался Дракон. Ошибся. И моего «Пира» – ГБ как не заметило. Пока. (Через несколько месяцев пустили в ход.) А следствие по статье Благова вскоре кончилось прекращением, дело их закрыли.
Но собственные промахи разрывали меня: как же я мог не спасти дела твёрдо, раньше! Мне стало трудно видеться с В. Л. Отстранился я от Теушей надолго.
Надо было пройти годам, и залечиться ране, исправиться самому делу – не погибнуть, а даже, наоборот, перейти в победу, – чтобы горечь эта отступила, и стало возможным видеться вновь.
С 1970 мы стали встречаться с Теушами снова, хотя без прежнего оживления. Они постарели, болели, вызывали сострадание. Тем не менее Сусанна Лазаревна великодушно не отказалась попытаться помочь и смягчить моей жене в нашем окончательном семейном разрыве, нашла для этого силы сердца. У Вениамина Львовича всё больше было сбоев и забытий. Он спешил кончить свою многолетнюю работу об исторических судьбах еврейства, высокую по взгляду, со многими важными мыслями. Я прочёл её с интересом и с пользой. Не имея каналов, В. Л. просил меня сделать плёнку и отправить её Зильбербергу, к этому времени эмигрировавшему на Запад, – с завещанием: «напечатать без всяких изменений, исправлений, сокращений». Я сделал и послал. Но что-то не было отзыва, подумали – плёнка не дошла (на самом деле дошла), в 1972 я изготовил второй экземпляр её. Отправил. Но Зильберберг не спешит и до сих пор[58].
Отношения наши с Теушами последние годы были добрые, хотя прежняя дружба уже не восстанавливалась.
В мае 1973 Вениамин Львович скончался.
4. Эстонцы
В «Иване Денисовиче» я через своего героя выразил, что не знал среди эстонцев худых людей. Выражение, конечно, усиленное, кто-то же из своих помогал вгонять Эстонию в коммунизм и в нём держит, кто-то и в раннем ЧК был, да были и такие эстонцы, кто помогли поражению белых под Ливнами в 1919, чего туда совались? – но тем не менее таково моё лагерное чувство: что ни видал я эстонцев – всё порядочные, честные, смирные. (Имей Юденич в 1919 смелость сказать им: «вы – независимы!» – они б ему, может, и Петроград освободили?) Чувство родилось из общей нашей вины перед ними, из огляда этих сотен-сотен незнакомых мне, с незнакомым языком, а близкий лишь один стоял светлой точкой во главе этого ряда – лубянский сокамерник мой Арнольд Сузи, с тех пор не виданный, казалось навсегда потерянный (только слух до меня дошёл, что он – инвалид в Спасском отделении Степлага). Потом в Экибастузе промелькнул героический и картинный Георг Тэнно, но он был эстонец петербургский, вполне обрусенный, советский морской офицер. (Об обоих – много в «Архипелаге».)
Когда напечатался в «Новом мире» «Иван Денисович» и я чучелом сидел в гостинице «Москва», в бывшем Охотном ряду, Тэнно же из первых внезапно позвонил и приехал ко мне. В лагере мы не были близко знакомы, а тут, проверенные всем прошедшим, сразу сдружились. Сам атлет и гимнаст, он занимался теперь популяризацией «культуризма» (неуклюжее слово для развития человеческого тела), преподавал, лекции читал. Но и в этом он был прежний: если нельзя освободиться от наших оков, так, по крайней мере, готовить своё тело для будущего рывка. Все близкие друзья его были – только бывшие зэки (это он познакомил меня и с Александром Долганом, для которого сам был образцом лагерного и жизненного поведения). И жена его, Наташа Тэнно, ингерманландка из Петербурга, когда-то льноволосая, хрупкая, тоже была теперь испытанная зэчка, оттянувшая, как и муж, десятку, и с той же философией, что все мы: вечное – это лагерь, тюрьма, борьба, коммунисты-палачи, а жизнь на воле – какой-то странный временный курьёз. (О супругах Тэнно на воле я написал в «Архипелаге», что у них ни на какую мебель сесть нельзя, шатается: «живём от зоны до зоны».) Так сразу сошлись мы духом, не надо никого ни в чём убеждать, и все готовы стать рядом при первой опасности.
Из наводнения писем после «Денисовича» однажды выловил я и драгоценное письмо Арнольда Сузи: вся семья его побывала в сибирской ссылке, лишь вот недавно разрешили им вернуться, и то без городской прописки, где-то на хуторе под Тарту жили они, и жена умирала от рака.
Летом 1963 года мы и увиделись в Тарту – чудесном университетском средневековом городке, с немалым числом латинских надписей, с горой-парком посередине. Так же строг и отчётлив был взгляд Арнольда Юхановича, как когда-то на Лубянке, через такие же строгие роговые очки, но заметно подался он телесной крепостью, да добавилось седины на голове, и усы седые. Жена его уже умерла, сам он приехал на встречу с хутора, сын его Арно перебивался в Тарту, не имея квартиры, а дочь Хели приехала из Таллина, по недосмотру властей как-то прописали её там. Об этих детях, – теперь Арно уже женат, а Хели с маленьким сыном, – я слышал когда-то рассказ в лубянской камере, только старшего брата, Хейно, не хватало: отступил с немцами, а сейчас уже жил в Штатах. И рассеянная непристроенная семья Сузи ещё была из счастливых: иным однодельцам его по бездейственному их делу создать независимую Эстонию – до сих пор, через 20 лет, не разрешали вернуться на родину; да многие сосланные семьи оставались ещё в Сибири. И в этот народ, в эту маленькую страну как искру бросили перевод «Денисовича» – первый в СССР перевод, изданный дешевейшим массовым изданием, помнится такой расчёт: одна книга на 4–5 семей, несравненно гуще, чем по-русски. Её прочли в Эстонии почти все – и окружала меня теперь тут родная атмосфера, сплошная дружественность, какой я никогда не встречал в советском мире, – да слабостью советского духа Эстония и была тогда роднее всего. (В русской части Союза тому духу ещё предстоит выветриваться, выветриваться.) И я почувствовал, что легко и навсегда уехать отсюда не могу.
И уже на следующее лето, в 1964, приобретя «москвича» и набив его до отказу, мы с женой приехали в Эстонию для летней работы. Сошлось так, что новая моя деятельная помощница – Е. Д. Воронянская из Ленинграда, каждое лето проводила тоже в Эстонии, и уже снято у неё было место на хуторе под Выру, в чудесных озёрных местах. Там и проработали мы в три пары рук: на хуторе женщины печатали попеременки вариант «Круга»-87, урезчённый во многих мелких чёрточках; а я жил на сосновой горке поодаль – для работы был врыт стол, для проходки проторилась тропа, от дождя поставлена палатка, а безмолвными перелесками можно пройти к загадочному озеру. Это было первое в моей жизни лето – не дёрганое, не отпускное, не в поспешных разъездах, а – всё распахнутое для работы. И связалось оно с Эстонией, ещё больше я её полюбил. Я готовил текст «Круга», а ещё – раскладывал, растасовывал по кускам и прежний мой малый «Архипелаг», и новые лагерные материалы, показания свидетелей. И здесь, на холмике под Выру, родилась окончательная конструкция большого «Архипелага» и сложился новый для меня метод обработки в стройность хаотически пришедших материалов.
Так хорошо было душе в Эстонии, что мысль искала дальше: где б тут устроить глубоко-тайное место, не съёмное, но у своих, на всякий случай. Разум осторожный и сердце-вещун толкало: надо готовить Укрывище. Служащий человек в Советском Союзе не может уехать ни в какое тайное место – но я-то теперь, писательским билетом освобождённый от школы, могу! И мы поехали навещать друзей, одновременно смотреть места.
Тот хутор, Хаава, под Тарту, где жили Сузи после ссылки, принадлежал вдове учёного-биолога Марте Мартыновне Порт. Женщина эта, широкоплечая, с широким твёрдым лицом, была замечательна твёрдостью и верностью характера. Деятельность покойного мужа её была лояльна, аполитична, такими же росли и преуспевающие сыновья (один – главный архитектор Таллина), – их семья была вполне обласкана при Советах, и материнским чувством и личным самосохранением проще было бы Марте Порт не поддерживать нелегальных. Но она – приютила опальную семью Сузи, приючала других эстонцев, разорённых ссылкой, а теперь без колебаний сразу же предложила мне: приезжать тайно в Хааву и сколько угодно работать здесь. Очень тут было хорошо, четыре высоких просторных комнаты с огромными окнами, старинными печами, запасом дров, представлялось, как это зимой уютно… А летом – и речушка рядом, и лесок небольшой. Я благодарил, а всё – в запас, и готовя – и сам не веря, не предполагая, как скоро это понадобится.
Затем поехали мы в Пярну, там Тэнно с женой гостили у Лембита Аасало – тоже бывшего зэка, молодого друга Тэнно по сибирскому штрафному лагерю Анзёби уже послесталинского времени, куда стягивали самых неисправимых. Лембит получил имя в честь героя эстонского эпоса – и, думаю, он оправдает его. В тот год ему, пожалуй, ещё и 30 лет не было, но он поражал сочетанием лагерной выучки, твёрдого самообладания с отличным пониманием политики, любовью к Эстонии, напором к восстановлению её истории, её натуральной жизни, и выдающейся работоспособностью. Он был почвовед, близок к диплому, после него начинал исторический курс в Тартуском университете, не прекращал работы для заработка; и со всем тем, живя в городе, своими силами поддерживал хозяйство наследного хутора в Раэ, за 80 километров от города: болело его сердце, что умирает хуторская Эстония и молодёжь уходит в города. И во время, «свободное» от всего того, – собирал библиотеку, читал ночами. Наглядно давался ему идеал интеллигента, работающего на земле, он был и телом крепок, и умён, и развит, – и всему тому лучшую закалку дали в лагере, когда схватили его юнцом. Я уверен был, что это будет один из выдающихся граждан будущей свободной Эстонии. Лишь бы, храни его Боже, не пригляделись бы к нему советские власти прежде времени. Дороги на его хутор я жене не показал: не нагружать никого лишнего, кому чего знать не надо, при поездке туда поставил условие ей лежать на заднем сиденьи и дороги не смотреть. В то же лето Лембит приезжал к нам под Выру, сидел за ужином с Воронянской, я и тут представил его под ложным именем.
В то запасное, ещё глубже и скрытней, убежище другой раз повёз я и стол с раскладушкой, да съездили не без приключений. Лембит с женою Эви и с печником-эстонцем должны были ехать на хутор печку перекладывать. Поехали в моей машине, и Тэнно с нами. Весело гнали по шоссе, свернули на слякотную дорогу близ хутора, я не умерил скорости, машина стала вилять, я по непривычке опоздал снять ногу с газа – и понесло машину с обрыва в озерко, и хлопнуться б нам на дно, – да попался под брюхо машины пень срубленного дерева, однако оброщенный молодыми тугими порослями – достаточно, чтоб машину взвесить в объятьях, недостаточно, чтобы совсем перекорёжить ей тягу. Слава Богу, целы! Вытянули нас трактором, надо чинить. На станции обслуживания долговязый эстонец, не по-эстонски небрежно, опустил на наши с Тэнно головы многопудовую металлическую раму эстакады – Георгию чуть плеча не раздробил, а мне добавил шрам на переносицу. Но уж полюбил эстонцев – нельзя и на этого обижаться.
В ту осень свергли Хрущёва, и положение моё обострилось. Ранней весной 1965 мы опять поехали в Эстонию, на хутор Марты, прожили там дней десяток, я прилаживался к месту, – хорошо. И здесь напечатал последнюю редакцию «Танков», и здесь же на всякий случай оставил свою любимую пишущую машинку «Рену» – Рейнметалл. (На ней напечатал несколько раз все свои тайные книги сам, плотнее, чем один интервал, при каждой строчке выключая сцепление, сближая от руки на долю интервала. И сегодня она дослуживает у меня свою старость в изгнании.)
И так прочно создался этот эстонский тыл, что когда 13 сентября 1965 грянула гроза надо мной, узнал я о провале архива у Теуша, а сидел в это время на всех заготовках и рукописях «Архипелага», всё в клочках и фрагментах, написана только «Каторга», – то и мысли не было другой, куда спасать своё сокровище, куда поеду я его дорабатывать, если уцелею, – конечно в Эстонию. Я сидел в Рождестве открыто, ожидая ареста или обыска с часу на час, а в Москве на Большой Пироговке у Нади Левитской вечером, в тёмное время, Тэнно поджидал мою жену, от которой, в лифте, в закрытости, получил – всё то, что было тогда «Архипелаг». (Если б это погибло, думаю – ни за что б я его не написал, не нашёл бы терпения и умения восстанавливать. Потеря такого рода – разрушительна и жжёт. Но за все годы изнурительной борьбы и конспирации – оберёг меня Бог от потерь крупных, целых лет работы.) Вся эта операция была у Тэнно отлично продумана, и на другой день он, чистый, без «хвоста», ехал в Эстонию, а ещё через день всё было спрятано у Лембита на хуторе. А через Хели (успел я их сознакомить) Георгий предупредил, что этой зимой я, может быть, приеду к Марте. И всё было чётко подготовлено и ждало меня.
Прожил я чёрную осень 1965, не арестовали. Вечером 3 декабря, перейдя из «Нового мира» на городскую квартиру Чуковских, я сбрил бороду и с двумя чемоданами спустился в такси, подогнанное Люшей. (Их двор был сильно просматриваем, вероятно уже тогда существовал и оперативный центр ГБ против их парадного, под видом агитпункта, и не помогла бы мне сбривка бороды? – да значит, не следили вплотную. Нерешительность в ту осень ГБ непонятна мне посегодня, разъяснится когда-нибудь.) В таллинском поезде среди эстонцев я старался молчать, с кондуктором употреблял простейшие эстонские выражения. Ещё в лагере говорили мне эстонцы, что я похож на их тип, и в моих поездках по Эстонии замечал я тоже, пригодилось.
В любимый Тарту я приехал в снежно-инеистое утро, когда особенно была изукрашена его университетская старина и особенно казался город – полной заграницею, Европою, ещё потому, что все здесь избегали русской речи и я, с малым самодельным разговорником в руках, никому не навязывал её. Меня, конечно, отличали по акценту, но так необычен русский человек, кто силится знать эстонский, его всегда встречают тепло. В этот день, оставив чемоданы у Арно Сузи, я много ходил по городу, закупая и закупая себе продуктов, недели на четыре, и посетило меня впервые в жизни ощущение безопасной эмиграции: будто совсем я уехал из СССР, из-под треклятой облавы ГБ. Это успокаивающее чувство облегчило начало моей работы.
Молодые-то Сузи удивлялись моему чувству. Они-то знали, что всё здесь просвечено, и такие же стукачи, и даже, особенно заметный среди эстонцев, я мог бы привести слежку за собою в квартиру Арно (слава Богу – не следили, не узнали) – однако он не колебался в гостеприимстве и помощи. Не так-то он был уж и молод – за 35, и уже лысел. Он уже перенёс лет семь тяжелейшей сибирской ссылки, где на нём была бабушка, мать и сестра, потом унижения и ограничения политически неблагонадёжного: трудности образования, прописки, выбора работы, вся жизнь его только и была – выбарахтывание из-под гнёта, полысеешь. Он имел незаурядные способности к экономическим наукам, анализу, мог быть учёным, как наименьшее – бизнесменом и организатором, – а счастлив был стать заместителем какого-то начальника в дурацкой стройконторе на грубой работе – за то, что ему дали квартиру в прозвученном, холодном, плохо построенном многоэтажном доме, три комнатки, из них одна просто конурка. Там жило их четверо (дочь, уже трёхлетняя, и из сочувствия воспитываемая деревенская чужая девочка лет десяти), да ещё и Арнольд Юханович, чередуясь по месяцу – у дочери в Таллине (где задерживаться не разрешал ему паспортный режим) и у сына в Тарту. И в эти две зимы ещё и я – в приезды, в отъезды, в наезды за продуктами, втискивался сюда же, иногда ночевал. Всегда торопился я, всегда закручен работой был Арно – поговорить-то приходилось редко и мало, – а очень проницательно он рассуждал о западном обществе. (Годами позже купил он просторный хутор, бросаемый как все хутора, и вот уж был счастлив!)
На тёмном рассвете следующего дня Арно отвёз меня на такси до Хаавы, он разговаривал с шофёром, я сидел не раскрывши рта. Так началось моё Укрывище, где я проработал две зимы кряду, 1965/66 и 1966/67, действительно скрытый начисто от ГБ и от слухов. Марта Порт сыновьям своим ни в те годы, ни позже не проговаривалась, что я жил на её хуторе.
Обе зимы так сходны были по быту, что иные подробности смешиваются в моей памяти. Первую зиму я пробыл здесь 65 дней, вторую – 81. И за эти два периода стопка заготовок и первых глав «Архипелага» обратилась в готовую машинопись, 70 авторских листов (без 6-й части). Так, как эти 146 дней в Укрывище, я не работал никогда в жизни, это был как бы даже не я, меня несло, моей рукой писало, я был только бойком пружины, сжимавшейся полвека и вот отдающей. Я ничего не читал, изредка листик из далевского блокнота на ночь, и сладчайшей росинкою было каждое это словцо. Западное радио слушал я только одновременно с едою, хозяйством, топкой печи. В семь вечера я уже смаривался, сваливался спать. Во втором часу ночи просыпался, вполне обновлённый, вскакивал и при ярких лампах начинал работу. К позднему утреннему рассвету в десятом часу у меня уже обычно бывал выполнен объём работы полного дня, и я тут же начинал второй объём – и управлялся с ним к 6-часовому обеду. Во вторую зиму я сильно простудился, меня ломило и трясло, а снаружи был тридцатиградусный мороз. Я всё же колол дрова, истапливал печь, часть работы делал стоя, прижимаясь спиной к накалённому зеркалу печи вместо горчичников, часть – лёжа под одеялами, и так написал, при температуре 38°, единственную юмористическую главу («Зэки как нация»). Вторую зиму я в основном уже только печатал, да со многими мелкими переделками, – и успевал по авторскому листу в день!
Такой рыв и такой успех могли совершиться лишь при нестеснённой, безбоязненной душе – нигде в Союзе, где ждал бы я, что придут и накроют мою работу. Здесь первые недели первой зимы была тоже ещё сжатая душа, ещё не опомнился я от провала архива (и три молитвы сложились тогда из тяжкого моего состояния, я их записал). Связи с внешним миром я себе не оставил никакой, что делалось там, может быть уже громят мой дом, – о том я не знал, а радио тогда не сообщало так быстро и подробно о гонениях в СССР. Но то всё, во внешнем мире, и не могло меня касаться: я соединился со своим заветным материалом на отшибе мира, и единственная и последняя жизненная цель была – чтоб из этого соединения родился «Архипелаг», хотя б на том и умер я сам. Хели Сузи, иногда посещавшая меня в то время, сказала, что такое впечатление, будто я никому и ничему в этом мире уже не принадлежу, а отделяюсь и иду, неизвестно куда, совсем один. Как раз после этих слов мне понадобилось совершить черезо всю Эстонию поездку к Лембиту в Пярну – какую-то часть рукописей отдать, а какую-то взять, для надёжности я не держал всего при себе. Эта поездка была – ночным автобусом, несколько часов, почти без остановок, и не зажигался внутренний свет в автобусе, пассажиры все дремали в откидных креслах, никто не разговаривал, никакого радио, автобус нёсся чёрный, как бы пустой, среди пустого ночного пространства, только рычал и фарами вырывал пятна белого снега перед собою. Впечатление и было такое, как увидела Хели: пустой автобус («через Неву, через Нил, через Сену») нёс меня сразу через весь мир, одинокого сквозь черноту, или уносил вовсе из мира, я был ко всему готов, лишь бы успеть кончить «Архипелаг», а воротясь во внешний мир, принять хотя б и казнь. Это были вершинные недели и моей победы и моей отрешённости.
На самом деле – где ж один, когда такие верные мне помогали, меня охраняли?..
Хели вышла замуж в ссылке за сверстника, эстонца. По возвращении он стал известным художником. Её покинул. Сын Юхан остался при ней. Её выручало прекрасное знание немецкого, она преподавала его в таллинской консерватории, жила за городом в продуваемом ветхом доме у родственников, на второй этаж вода таскалась вёдрами со двора, и так же относились помои, печь топилась дровами, – жилось ей очень трудно, но согревало её, что сын рос как можно только мечтать: трудолюбивый, послушный, серьёзный, в школе отличник, рано захваченный национальной и политической идеей, всё время готовый помогать. (Я чуть подтолкнул его в 14 лет к фотокопированию – он тут же помогал мне изготовлять плёнку «Архипелага», а скоро всё делал сам.) И три Хелины подруги – Эло, Эрика и Руть – вместе с нею взялись хранить мои черновики, машинописные отпечатки, материалы, – всё вместе это составило изрядное самостоятельное хранение, которое где-то существует и посегодня.
Отдельно важнейшие вещи хранил Лембит. Во вторую зиму он стал учиться заочно в Тартуском университете; когда приехал на зимнюю сессию – мы встретились в городе в условленном месте, у него в сумке были недостающие части «Архипелага»; я повёл его знакомиться с Сузи-старшим и младшим, и какая же радость и дружественность охватывала душу, как мягкое пламя! Арнольд Юханович обе те зимы кончал свои мемуары по-эстонски: жизнь таллинской интеллектуальной верхушки перед Второй Мировой войной, в войну – между советским и немецким молотами, слабая попытка создать эстонское правительство в конце 1944, – и лагеря, лагеря, лагеря. Кое-что из своих лагерных воспоминаний он передавал и мне в «Архипелаг», по моему вопроснику, где мне материала недоставало, а больше всего помог со страшной главой «Малолетки». Арно и Хели наперебой рассказывали мне о своей сибирской ссылке. Отец и дочь успевали отдельные главы прочесть из-под моей руки. У Хели было развитое чувство искусства, и она делала мне иногда важные замечания. Одно Рождество я встретил вместе со всею их семьёй (у эстонцев только свои собираются к ёлке).
Моя первая зима в Укрывище оборвалась прежде моих намерений, болезненно: недельку мне ещё оставалось там добыть (а неделя, когда разгонишься, это очень много, в другой присест и за месяц того не одолеешь), как смотрю – по глубокому снегу в полуботинках (глубже обуви не было у него, городская жизнь) бредёт бедный 70-летний Арнольд Юханович ко мне. Телеграмма на их тартуский адрес. Из Рязани: «Приезжай немедленно Ада». Ясно, что от жены, но почему – Ада? Такого уговора не было у нас, такое имя никогда не всплывало, могла вообще не подписаться, всё равно ясно. Но в этой «Аде» – был какой-то адский намёк? там творится какой-то адский разгром?.. Что она имела в виду? Что-то случилось опасное и неотложное, несомненно. Безопасный быт, страстная работа – всё бросается в час, сворачивается наспех, уже покоя нет душе, всё равно и не поработаешь, прощайте, рукописи незабвенные, – может быть, из внешнего мира уже к вам не вернуться. Ещё надо их спрятать надёжно: в непредусмотренные сроки, без назначенных встреч и поездок это труднее всего. Значит, пока остаются у Арно, где я мелькал не раз, где квартира на хилом замке. Ночной поезд до Москвы. Оттуда сразу звоню в Рязань, ответ: скорей! скорей! приезжай! Наконец и в Рязани, бритобородый, уже открытый, засеченный: что же??? А – ничего. Ты с осени почти в Рязани не живёшь, я всё время одна. Просто – не могла больше ждать. (А полтора года у нас уже всё – в разломе и в обмороке.) И – надо квартиру в Рязани получать, а горсовет молчит… – А почему «Ада»? – Ну, надо же подписаться как-нибудь, а в Эстонию нерусским именем, пришло в голову – Ада.
С минувшей осени она возненавидела «Архипелаг»: не побоялась бы и печатать его, если вместе со мной, – но если я для него уезжаю и даже писать не могу домой – пропади тот «Архипелаг». (Мне довелось слышать плёнку интервью, которое в 1974, когда «Архипелаг» только что вышел, она дала «Фигаро» в присутствии К. Семёнова, приставленного к ней от АПН готовить книгу против меня. Она тогда заявила: что «Архипелаг» – всего лишь лагерный фольклор, это – ненаучное исследование узкой темы, раздутое на Западе, и что я беру только такие факты, которые подтверждают мою заданную концепцию.)
Следующую зиму в Хааве я жил душевно просторней: уже не гнело меня, что арестуют, что будут искать и громить хранения. Всё более безопасными казались эти уже привычные стены, большие замороженные окна, старинная печь с хитроумным чугунным запором, старинный буфет, групповая картина судовых эстонских рыбаков. Уже без опасения пробегал я и в окрестностях на лыжах: соседи знали, что живёт «профессор из Москвы», нечужой, старается говорить по-эстонски. Лунными вечерами иногда гулял по убитой площадке арестантской ходьбою вперёд-назад, и ослепляла меня радостью уже почти готовая, в здание возвысившаяся книга. В эту зиму я был с бородой, не обривался. Так и не выследили нас, нельзя поставить Госбезопасности высокой оценки. (Зимою на 1975 в Эстонии кого арестовывали, кого трясли – а молодых Сузи и Хелиных подруг не тронули[59].)
Во вторую зиму мысли мои были всё более наступательные. Выгревая больную спину у печки, под Крещение придумал я письмо съезду писателей – тогда это казался смелый, даже громовой шаг. Кончив работу, я поехал в Таллин, в семью Сузи, – переснимать теперь весь «Архипелаг» на плёнку. А. Ю., прощаясь со мной, благословлял на задуманное «письмо». Даже эстонские мои друзья, не говоря о дальних эстонцах, ещё с трудом воспринимали мою мысль, что освобождение всех их может начаться лишь из Москвы, раскачкой из центра. В начале 1967 ещё мало было похоже на то, – но мне это прояснилось тогда, на переходе от 20 лет подпольного писания к открытым столкновениям. Эстонцы затменно считали всех русских угнетателями, мой пример был странным исключением для них тогда.
И ещё раз, последующим летом, мы с женой побывали на автомобиле в моём Укрывище, забрали пишущую машинку мою, простились последний раз, того ещё не зная, с Мартой Мартыновной и с Арнольдом Юхановичем. А Хели ездила с нами посмотреть Ленинград, – самое простое действие, но и в каждом простом действии конспиратор должен предвидеть, какие завязывать узелки, от каких остеречься. Тянуло меня познакомить её с Воронянской – как хорошо, близко живут, будет лишняя цепочка связи. К счастью, однако, не познакомил. Зато Хели (как и Лембит!) не попала в губительный дневник Воронянской, и в пятисуточных допросах в Большом Доме Воронянская не могла бы назвать никого из эстонцев, сама знала (а надеюсь, и укрыла), что «вообще эстонцы» помогали мне (и то лишнее, моя вина), но никого по именам, по местам.
И тою же весной, в том же своём любимом Петербурге при мне заболел Тэнно: похоже было на внезапное отравление, он подозревал – колбасою. Думал вылечиться голодом, и шесть часов обратного поезда ещё весело рассказывал мне многое из своей жизни. (Через несколько дней в том же мае он был самый деятельный разносчик моего «Письма съезду писателей» по многим почтовым ящикам Москвы. Он всё ещё не понимал начинавшейся болезни.) А это был – проявившийся рак, который и съел его в пять месяцев. Герой, борец, атлет, – изо всех, кто назван в этом очерке, он был самый сильный, смелый, даже отчаянный, в расцвете лет и здоровья, – а умер ранее всех. Его погубило, как многих отважных, сильных зэков, – нервное мелкое дёрганье советской воли, он поддался дёрганью этому. Он был из главных героев «Архипелага» и главных ожидателей этой книги – но даже до последней перепечатки не дожил, не то что до сегодняшнего торжества.
Последний раз я был у него 22 сентября 1967 – в час перед тем, как идти мне на бой в секретариат СП. Боже! Веретено осталось от этого богатыря, на веретене избыточно висела, обвисала заветная матросская тельняшка. Тёмно-серо-предсмертно было лицо, съёженное до черепа, и боли докручивали измученное тело. Не сбылся лихой его план прикончить Молотова – серой вошью гулял палач по аллеям Жуковки, и руки Тэнно уже не могли дотянуться до него. Ещё нашлось в моём друге бойцовское мужество оценить бой, предстоящий мне, даже сверкнуть на миг, но не было мужества признать свою болезнь и смерть, и жена мигнула мне включиться в общую ложь, что это временная непроходимость желудка, вот только преодолеть её – и он выздоровеет.
Я думаю, в тот день я бился так хорошо ещё и потому, что пришёл к писательским хрякам от смертной постели зэка.
Годом позже на Рождество я был последний раз в Таллине. С Хели и Лембитом по эстонскому обычаю зажигали мы свечи на могилах – и Арнольда Сузи, и Георгия Тэнно. Они – друг от друга там недалеко, у Пириты.
Ах, эстонцы мои родные! Сколько ж вы сделали для нашего общего дела! Разделил я с вами сердце навек.
О, сколько уже вас ушло по одному, друзья мои зэки, соучастники моего скрытного тайного боя! Не допусти, Господи, подорваться на замедленных минах – ещё оставшимся живым.
Провал «Архипелага» в 1973 в чём-то повторял провал моего первого архива, в 1965. Нет, всё другое было – сила, уверенность, я не замирал, не скрывался, а дёрнул до Парижа взрывной шнур. Но вихри суматохи, внезапно-нужных встреч и предупреждений – походили. Надо было – и эстонцев предупреждать, и что где спрятано ещё – распорядиться тем, и самой судьбою «Архипелага».
На удачу как раз приехала Хели в Москву, на двухмесячные курсы. И с ней и вдовою Тэнно мы встречались трижды – в той самой комнате, где умирал и умер Георгий, и откуда по советскому жилищному рабству не могла уехать вдова, а должна была всё пережить на месте. И уж так переставила ту самую мебель, что прежней смертной картины – не видишь, забываешь её. Измученная, искуренная, постаревшая, она работала на суетной работе в ненавистном АПН и должна была за работу эту держаться до пенсии. – «Ната! печатаю “Архипелаг”, может убрать, что Гера хотел Молотова убить?» Сверкнула непогашенными глазами: «Печатай!»
Но как же встречаться, когда провалился «Архипелаг» и несомненно все глаза и когти московской госбезопасности ощетинились вокруг меня? Открою: в места запретные, куда следа дать нельзя, лучше всего отправляться в пять часов утра (в своём окне не зажегши света). Как бы за твоей квартирой ГБ ни следило, и в одиннадцать вечера, и в час ночи, и в три, – но смаривает их к пяти утра, да никто ж за совесть не работает, в ГБ давно уже не работают за совесть, может электронные глазы и моргают, да некому обработать. В пять утра выходишь на улицу – на квартал от тебя ни назад, ни вперёд никого, ни человека, ни машины. Уж наверняка не следят. В первый троллейбус садишься – к вожатому один или уж с кем-нибудь совсем неподозрительным, и сойдёшь один, легко проверить. Только раскроются первые двери метро – идёт вас несколько человек, все – неподдельные, натуральные, да отделишься от любого легко.
Так я, постукивая каблуками среди утренних уборщиков мусора, проходил ещё пустой огромный их знакомый двор, неслышно без лифта поднимался ступенями – и, не дав позвонить мне в дверь (квартира коммунальная, соседка ни видеть, ни слышать не должна), Ната Тэнно беззвучно уже открывала (по телефону из автомата назначено время первый раз, а потом – «как прошлый», «на полчаса раньше»), а Хели ночевала у неё с вечера и уже ждала.
Первый раз я примчался к ним: там, в Эстонии, всё сжигать, лишь бы спасли себя. Второй раз похоложе: повременить до сигнала. А к третьему окрепчал: не надо жечь, а – переводить на эстонский, скоро будем по рукам пускать.
Всё-таки ступеньки истории – в нашу пользу!
5. Елизавета Денисовна Воронянская
По появлении в печати «Ивана Денисовича» поток писем ко мне был так велик и настойчив, что отдайся ему, начни сплошь отвечать – не останется ни времени, ни своей внутренней линии, и больше нет писателя. Именно за линию держась, я от этой опасности уберёгся. Но старался не утерять всё плодоносное, что несли эти письма – иногда «по левой» из лагеря, иногда на 16 истёртых страницах бледным карандашом. А пробивалась в письмах и другая жилка, в которой я тоже очень нуждался, – жилка безкорыстной готовной помощи. Сразу после хрущёвского «чуда» советским гражданам безопасно было писать мне, сочувствовать, хвалить, благодарить или помощь предлагать, но из сотен поверхностных, случайных, а то и фальшивых писем – узнавались истинные чистотою тона. По таким письмам я выловил нескольких своих будущих Невидимок, среди них и Елизавету Денисовну.
В первом же её письме (а она была блистательная мастерица писать их) проявился размах раскаяния за прошлое – раскаяния души, которая лагерей не отведала. До того прожила она 56-летнюю вполне рядовую советскую жизнь: не участвовала в злодействах, но и не противилась им, голосовала послушно, где это требовалось, иногда, при заострённости насмешливого ума, понимая обман, иногда, по равнодушному плыву общей жизни, не понимая. Никакой собственной политической непримиримости у неё не бывало, волна террора не касалась её прошлой жизни, – но по свойствам характера, схватчивого, как ураган, от XXII съезда и от «Ивана Денисовича» (брата её по отчеству!) понесло её в раскаяние перед народом (да она и сама-то была образованная лишь в первом поколении), в непочтительность к партии и в ненависть к КГБ. Не из тех она была, кто делает эпоху, но – кто делается ею, однако уж делалась доглубока и с большим залётом. Поворот тогда был всего общества – но многие лишь до середины, и с возвратами, и с топтанием, она же от этого направления 1962 года уже не отошла до смерти, уже не знала границ негодования к притеснителям, да и к Основоположникам, просвещаясь в движении, значительно – и от моих книг. В письмах («левых») выражалась она едва ли не резче всех нас, так что и хранить их бывало опасно. (Да в нашем кругу было твёрдо уговорено: все «левые» письма тут же сжигать.) Не ленилась выписывать, выпечатывать, давать друзьям, присылать мне разные коварно-скандальные места из Основоположников. И в этом её упорстве против замявшейся, а потом сталинеющей снова эпохи вёл её больше не интеллект, а чувство. Из любимых её цитат было:
Коль любить, так без рассудку, Коль рубить, так уж сплеча.С такой решительностью она и восхищалась, с такой и отрицалась от восхищения.
Это сильное движение, этот порыв сразу не к помощи даже, а – к служению – выделил первое письмо её ко мне. Я ответил, переписка завязалась. Летом 1963 произошло и знакомство – сразу в широких жестах и бурных тонах. Уже на первую за тем зиму я попросил её просматривать редкие издания 20-х годов, отбирать штрихи эпохи и факты быта для будущего «Р-17». (Я торопился и широко тогда размахнулся на новую книгу, собирал материал на все двадцать Узлов сразу, не представлял, что всей жизни не достанет на этакое.) Она неплохо справилась с этой работой: переворошила множество печатных страниц и наскребла характерного, у неё был и вкус художественный, и особенно развитое чутьё анекдотичного. А на следующее лето на хуторе под Выру она с нами уже перестукивала «Круг». До того она служила заведующей геологической библиотекой на Мойке. Навстречу моим потребностям быстро, легко и хорошо научилась печатать на машинке, чем сроду не занималась раньше. Из первых же её работ для Самиздата были мои «Крохотки», к которым она тут же самовольно прибавила и «Молитву», данную ей лишь для чтения. Через безпечные руки Е. Д. «Молитва» упорхнула в мировую публикацию – и то было первое мне предупреждение, не усвоенное.
Как говорила она, из-за холерического характера несчастно сложилась её жизнь, с любимым человеком не было замужества, и она жила всегда одиноко. Из-за выступающего подбородка, большого острого носа она была и некрасива. Но искристостью беседы, шуток, вспышками юмора и гнева, порывами к движению, к угощениям заслоняла всё это, казалась и моложе своих лет. Больше всего в жизни она любила музыку, умела не пропускать лучших ленинградских концертов, гоняла по Ленинграду, ища по второстепенным экранам фильм, где дирижирует Караян (такие не выставлялись на первый). Не преувеличивала, когда писала: «Музыка и достойные люди – моя жизненная опора. После хорошей музыки ощущаю, что струпья от сердца как будто отваливаются». (Так предвещательно совпало: Е. Д. устроила нам с женой билеты на «Реквием» Моцарта в Капелле, сидела с нами, слушала со слезами. И она же подарила нам пластинки «Реквиема» Верди.) Поклонницей Шостаковича была до самозабвения («если б допустил меня – мыла б ему полы и галоши»), теперь разделила это чувство между ним и мной, но ревниво следила, чтобы первое не было утеснено, и с болью воспринимала новости о жалком общественном поведении своего кумира. («Как Иван Карамазов с чёртом, так я с Шостаковичем – не могу утрястись. Сложно то, что и отдался он, и в то же время единственный, кто в музыке проклял их».) Она неутомимо читала по-английски, хотя не без словаря, и невозмутимо перемежала Агату Кристи с Джойсом. Любила читать мудрецов разных времён и делать афористические выписки для себя. Неутомимо же переписывала и целые абзацы в письма к друзьям: «Объяснять творение мира игрою случая так же наивно, как симфонии Бетховена – случайно очутившимися на бумаге точками». (Это не значило, что она стала верующей.) Восхищалась Набоковым, не уставала защищать его от упрёков. Остроумие цитируемое щедро пересыпалось и её добротным собственным. Пока не потянулась череда болезней – весёлые, даже сверкающие были её письма. «Queen Elizabeth» стали мы звать её в нашем узком кругу, а сокращённо – Q (Кью).
Конечно, в нормальном свободном мире, подбирая себе на службу платных сотрудников по деловому принципу, не остановишься на натуре столь переменчивой, пылкой, гонкой. Но в моём полуподпольи, не на службу беря, а принимая в друзья, в доброхотные энтузиастические помощники, я не избежал глубоко довериться ей. (Да не раскаивался бы посегодня – если б не жуткая её смерть.) При отборе слишком придирчивом надо было бы обречься почти на одиночество.
Жила наша Кью – близ Разъезжей, на Роменской улице, – но в каком доме? Уже лестница, мрачно-серая, облупленная, нечистая, тёмная, додержалась до нас из Петербурга Достоевского. Звонок был – не электрический, не белая кнопка, но в тёмной двери из прорубленного отверстия торчащая петлёй-удавкой грубая толстая проволока, – вы дёргали за неё, и в глубине раздавался угрожающий колокольчик. Отодвигался тяжёлый зубчатый засов. Открывала ли сама Е. Д. (ожидая по времени) или кто из соседей, – ещё и из других дверей непременно высовывались какие-то удлинённые, скривленные малодоброжелательные лица. «Неандертальцы», «троглодиты» – звала Кью своих соседей, а было их четыре разных комнатушки из коридора изломанного, узкого, без окошка, в вечном запахе стоявших там керосинок, дурной кухни и канализации. Вся квартира была как неандертальская пещера. И только закрывши дверь щелевой длинной комнаты Кью с окошком в конце и всякий раз вздрогнув от бокового зеркала, поражающего, как ударом, своим ложным углублением вдвое, можно было радиолой, – Кью держала множество чудесных пластинок, – отглушиться от всех «неандертальцев», слышимых через тонкие перегородки.
И всё равно, измотавшись по прежнему Петрограду, я любил прийти в эту комнатку-щель, утопиться в продавленном старом кресле, слушать лучшую музыку, перекусить, попить чайку, посмотреть приготовленные материалы, позабавиться сменой восхищений и негодований Кью по разным поводам. Мрачность дома, лестницы, квартиры ничего мне не предвещала, да я-то привык ко всяким закуткам, не знаю – предвещала ли Кью.
Кью познакомила меня с И. Н. Медведевой-Томашевской (см. очерк 14), вдовой Б. В. Томашевского, то была её подруга по Институту Истории Искусств. А я знакомил её то с Е. Г. и Е. Ф. Эткиндами (много доброго Екатерина Фёдоровна сделала для Кью – посещала в болезнях, помогала врачами, приючала у себя на даче), то с моей бывшей рязанской ученицей Лизой Шиповальниковой (они очень дружили несколько лет, Лиза при поездках в Москву и Рязань была нам и связной), то с Л. А. Самутиным; с ним установилась у неё прочная дружба, да на беду обоим: в конце концов это знакомство оказалось губительным и для неё и для него. А – всем она была сердечно верна, и мне – больше всех. Пылкая опрометчивость Кью увлекла её (мы никто не знали) с какого-то года писать дневник о встречах, делах, полученных «левых» (и подлежащих сожжению!) письмах, – дневник конспиратора! надо же… И тот же полёт фантастической романтики – быть хранительницей для истории, не то может погибнуть и забыться, – вдохнул в неё потом роковое решение не сжечь свой промежуточный экземпляр «Архипелага», как она обязана была.
В феврале 1967, проездом из Эстонии, я отдал Кью свой густо отпечатанный экземпляр «Архипелага», один из двух, для более просторной перепечатки: открыть возможность ещё править и доделывать текст. И в своей комнатке, затиснутая шкафами и стенами, во враждебной коммунальной квартире, доступная лёгкому схвату при подозрении, – правда, уже в то время на пенсии и потому больше дома, – за обеденным столом, другого не было, Кью благополучно перетюкала все полторы тысячи страниц – да в трёх экземплярах. По такому экземпляру я позже и правил ещё последний раз.
К этой книге от первого же знакомства с ней в те дни (и до смерти) Кью относилась завороженно, с поклонением и ужасом, – как чувствовала свою с ней роковую связь, отличала её ото всех других моих книг. Но именно те превосходные степени, в которых она выражалась об этой книге, не удержали её поделиться новостью о ней и даже её страницами со своими близкими подругами – о, всего только с одной-двумя! По поразительной тесноте всего ли мира или только русского интеллигентского, эта утечка к двум ленинградским женщинам мгновенно стала известна (через Нину Пахтусову) одной из московских, да не сторонней, а очень близкой нашей подруге, замечательной «Царевне» (Наталье Владимировне Кинд). Та – нам, и Кью «застукана» прежде, чем слух и рукопись распространились бы дальше.
Но и этот урок не остерёг меня серьёзно, я ограничился делано-суровыми упрёками: ведь всё кончилось так благополучно, так мило, так комично. В нашем кругу даже не обсуждался вопрос, не устранить ли Кью от работы и всех наших тайн.
При, казалось бы, «широком» (потом всё уже) сочувствии ко мне общества – нас, работающих в самой сердцевине, было всегда менее десятка, в центре координации – Люша Чуковская. А работы было изнурительно много, и всё с прятками: не всегда повези, не везде оставь, не по всякому телефону звони, не под всяким потолком говори, и напечатанное не хранить, и копирку сжигать, а переписка только с оказиями, по почте нельзя. Душевная преданность делу казалась свойством наиважнейшим, что уж придираться к побочным недостаткам.
Весной 1968, когда сильно меня подгонял подступивший на Западе выход моих романов, а последняя правка «Архипелага» кончалась, мы для ускорения решили собраться в Рождестве с тремя машинистками (Люша, Кью и жена Наташа) на двух машинках – и кончить штурмом. Так и сделали: за 35 дней, до первых чисел июня (общего съезда дачников), днём не открывая окна для проветривания сырой комнаты – не разносился бы стук машинок, мы сделали окончательную отпечатку «Архипелага». (И в самый день окончания Н. И. Столярова прилетела нам сказать, что на Западе вышел по-русски «Круг», а мне шепнуть, что плёнку «Архипелага» через неделю, на Троицу, берутся отправить. На высокой незримой колокольне отбивали наши часы.)
После того майского аврала наше сотрудничество с Кью стало убывать – естественно, само по себе: я выпустил все работы, требующие обильной машинописи, срочного размножения, и перешёл на «Красное Колесо». В те годы ослабла и затруднилась связь со всеми ленинградскими. Поселясь у Ростроповича, я в Ленинград ездил мало, коротко, уже не на библиотечное сидение, и не на сплошной обход города, как прежде, а ещё, для лучшего догляда, обежать некоторые петроградские места действия для «Марта» да провести неотложный опрос знающих людей. Кью же продолжала задорно спрашивать ещё и ещё работы. С переходом на пенсию приобретенное умение печатать на машинке помогало ей и подрабатывать. Однако, потеряв подвижность из-за возникшей хромоты, она теперь все 24 часа петербургских тёмных дней была прикована к своей щели в неандертальской квартире, времени у неё было много – и она требовала работы «для души». И много ещё сделала: добавочную перепечатку «Круга»-96, добавочную перепечатку «Августа». Перепечатывала главы из рукописи И. Н. Томашевской «Стремя “Тихого Дона”». Тут родилась у Люши и Кью затея спасти промежуточную перепечатку «Архипелага», для того внести многочисленные исправления из последней редакции, и даже целые главы впечатать. Затея избыточная, уже не хватало и мест хранения, а и – жалко было уничтожать: лишних 3 экземпляра, ещё когда-то пригодятся. Эту работу Кью сделала частично, затем понятно стало, что не удастся, и мы решили, чтобы не оставлять разночтений, экземпляр за экземпляром уничтожить. А все хранители оттягивали и сопротивлялись: один экземпляр был спрятан через Ольгу Александровну Ладыженскую, один зарыт близ дачи Е. Г. Эткинда, а личный экземпляр Кью – на даче Л. А. Самутина под Лугой, и тоже, мол, зарыт. В марте 1972 я был в Ленинграде последний раз, и только о первом экземпляре меня уверили, что уничтожен. А второй и третий были целы, хотя я давно настаивал сжечь, – и в тот момент я своими руками достал бы и сжёг оба, да земля была мёрзлая, надо ждать тепла. У Эткинда, при разумной осмотрительности, есть в характере вспрыги этой дерзости, так он рисковал без надобности лишнюю зиму, но потом, сказал, сжёг. А Кью ещё летом отказывалась, в письмах умоляла меня сохранить, лишь осенью 1972 прислала мне драматическое красочное описание, как при жёлтой и багровой облетающей листве они с Самутиным разожгли костёр и, рыдая (она), сожгли драгоценную машинопись до листочка… (А на самом деле – ничто не сжигалось, обманула меня.) Драматическому описанию Кью нельзя было не поверить. Я написал ей в утешение, что скоро подарю ей настоящий экземпляр. Я так видел и намечал, что «Архипелаг» издадим весной 1975. Но сроки уже сгущались иные.
В письмах последних лет проступали предчувствия Кью, ещё не видимые тогда ни ей, ни нам (теперь-то видны, можно их стянуть вместе): «Молю небеса не завалиться и не заваляться. К другому исходу готовлю себя. Твержу 66-й сонет Шекспира» (Зову я смерть…). «Да, не хочется мне – быть в пасти у гиены». «На днях гуляла в Большой Дом, к счастью, по делу одного из геологов. Уютный дом, милые люди…» (А наверно, это к ней присматривались?)
Именно потому, что последние годы мы с Кью уже не вели серьёзных конспиративных работ и редко встречались, я мало заботился, насколько осторожна она во внешнем поведении. Она же по своей закатистой крайности, из страха – в полную безпечность, посылала по почте Люше Чуковской письма весьма остроумные, но и с намёками, и с загадочными подписями, вроде «ваша Ворожейкина», а следующий раз как-нибудь иначе. Адрес Люши был – всё равно что мой, письма тщательно проверялись, и высунутые ушки не могли не обратить на себя внимания ГБ. После Нобелевской премии появилась возможность помогать друзьям, как-то устроил я и Елизавете Денисовне валютный перевод: из Франции, но от выдуманного лица, никого реального она придумать не могла, – может быть, и этот необычный перевод привлёк к ней подозрение. Был ещё один внешний случай: видимо, доследили, что Лиза Шиповальникова встречается с Кью, и у квартирных соседей Лизы гебисты осведомлялись о Воронянской; потом вся история как будто миновала. Но если б даже не было этих наводок ни одной (сейчас как просто их сопоставить) – ещё могли высветиться старые помощники оттого, что бывшая моя жена Н. А. Решетовская сблизилась с новыми тесными друзьями из АПН, и стал им незаграждённо доступен её архив (и часть моего, которую она отказывалась мне вернуть; вскоре затем и письма мои к ней передала АПН для торговли ими на Западе). Были у неё фотографии Кью, и других, – хорошо, что уж несколько лет не знала Н. А. никого из помощников новых. И с Самутиным (он горячо принял её сторону в нашем разводе) Н. А. встречалась не раз, уже под прямым доглядом гебистов.
ГБ могло нанести удары по разным лицам. Для начала избрана была Кью, как стоящая в стороне, без имени, без защиты, да и по свойствам характера, казалось, обещавшая ошеломиться от внезапного удара и обработки. Но если бы Кью не хранила «уничтоженного» экземпляра и не вела бы дневников – они бы на этом аресте осеклись.
Едва не до 60 лет Е. Д. сохраняла подвижность, безунывность, легкоподъёмность и, как многие люди, почти не знавшие в жизни болезней, предполагала и дальше так жить. Но в 1965 поехала на Кавказское побережье, бодро «скакала» там и вдруг сломала ногу. И жизнь её – пригасла в этом хрусте. С переломом – в Ленинград. Мучительное, небрежное, безчеловечное советское «безплатное» лечение. Полгода в лёжку, потом два года хромоты с постоянной болью, анкилоз деформированного (неправильным лечением) сустава. Потом нога как-то скрепилась, но появились отёки, сердечная аритмия, задыхания. «От всех лечений худею и внутри ощущаю себя чердаком, где все внутренности развешаны бельём на верёвках. Как посмотрюсь в зеркало – хочется надеть паранджу». И всё же в последнее своё лето 1973, со всеми болезнями и невылеченною ногой, она (вместе со своей подругой Ниной Пахтусовой) опять поехала в Крым и, «опухшая, задыхаясь», карабкалась по горным склонам. Она Крым очень любила. И вот как чувствовала, что прощается. В последние недели там вился около них какой-то «Генрих Моисеевич Рудяков, московский поэт из непечатаемых», всё читал ей Гумилёва и себя – и Кью звала поэта приезжать к ней читать «Круг», «Корпус», Авторханова. Нине Пахтусовой поэт казался подозрительным, но Кью горячо доказывала, что нельзя всю жизнь всем не доверять. Теми же средствами собиралась в это лето просвещать и… отставного прокурора, неожиданного «дядю» неожиданной новой квартирной соседки. Такое странное вселение: из этой ужасной гробовой, неустроенной квартиры XIX века «неандертальцам»-рабочим дали лучшую, а сюда охотно вселилась племянница прокурора! (Было ещё предупреждение, по которому мы не приняли мер: весной, ещё до Крыма, приходили к Е. Д. какие-то две девушки, «заказчицы» на частную машинописную работу, – но, по сути, только образец шрифта взяли и исчезли.)
Их обеих с Пахтусовой взяли в Ленинграде на перроне Московского вокзала 4 августа, разъединили, с Пахтусовой поехали домой делать обыск, а у Кью, наверно, уже он сделан был. С этого момента мы ничего не знаем от неё самой, только последнее свидетельство: в пяти днях непрерывных допросов (с 4 по 9 августа, а у Елизаветы Денисовны может быть и дальше и дольше, мы не знаем) Пахтусову столкнули с ней раз в Большом Доме, в уборной, – и та, исхудалая, с воспалёнными губами, блестящими глазами, шепнула: «Не упорствуй, я всё рассказала!»
Нина Пахтусова была очень твёрдый, верный человек, в геологических экспедициях много бродившая близ островов Архипелага. Она и карту его пыталась нам составить, и эта карта начатая тоже попала теперь в ГБ. Пахтусова была так же пристрастно допрошена пять суток, но не сдалась ни в чём. Однако и дневники Е. Д. и хранимые ею письма были взяты именно с обыска в квартире Пахтусовой.
Можно представить, как жутко было Кью на следствии: и потому что – старая, больная, с малыми силами сопротивления; и потому что – понову, на себе самой впервые, а прогнозы, по «Архипелагу», все известны; и – от сознания сделанных ошибок, сама виновата, а люди пострадают, – как это жжёт; и больше всего – что твой собственный дневник лежит на столе следователя, и уже нельзя замкнуться, отказаться, а надо изворачиваться, истолковывать, придумывать, смягчать, – как это жжёт! Вероятно, нельзя было ей уклониться от каких-то показаний на Эткинда, неизбежно – на Люшу Чуковскую; а на Ирину Николаевну Томашевскую, работу об авторстве «Тихого Дона»? Но самое для неё тяжёлое и неизбежное было: выдать «Архипелаг» и указать, что он – у Самутина.
Леонид Александрович Самутин – бывший власовец, антикоммунистический журналист, чудом не расстрелянный в конце войны, отбывший десятку на Воркуте, там же понуженный жить ещё 15 лет, уже в пенсионном возрасте обходным путём утекший в Ленинград, – он был уязвим ещё ж от своего власовского прошлого. Он передавал мне потом объяснение, что не мог гебистам места не показать, – мол, в других местах участка ещё другое хранилось, – можно и не объяснять: ему невозможно было отбиваться.
Но вот интересно: гебисты уже и три недели знали о зарытом «Архипелаге» – а не шли за ним. Не потому же, что боялись – взорвётся? на это ума никогда у них нет. А – почему тогда?[60]
Что было дальше с Е. Д. в августе – достоверно мы не знаем ничего. Все сведения – от подозрительной новой соседки, медсестры, племянницы прокурора. Это – от неё версия, будто Е. Д., отпущенная через пять дней домой, всё время оставалась там, металась по комнате и говорила: «Я – Иуда, скольких невинных предала!» (Конечно, должно было разрушительно проработаться в ней и обернуться: не тот угрозный час страшен, которым пугал её Большой Дом, а вот этот ужас защемлённой одинокой жизни, – а друзья, быть может, погибли, а безценная книга, память миллионов, не выплывет больше.) Потом будто бы с сердечным припадком легла в больницу (с помощью этой же соседки), неделю там лежала, вернулась. И вскоре, видимо в последних числах августа, повесилась в том кривом, тёмном, дурного воздуха коридоре, из Достоевского. (Но та же медсестра, выпив на поминках больше, варьировала: а на теле её были ножевые раны, кровь. Так – не вешаются[61].)
Что Елизавете Денисовне запрещено было пытаться дать знать кому-либо – ясно из общих методов ГБ и из такого же распоряжения Нине Пахтусовой. Но – подчинилась она? Или наоборот: пыталась связаться с нами – и именно за то убита? Страшно представить эту злодейскую сцену убийства в мрачной пещере-квартире.
В том августе несколько раз проходила Нина Пахтусова по Роменской – ни одно окно квартиры не светилось. Осмелилась подняться, дёргала петлю проволоки – звонил страшный колокольчик, а не выходил никто. (А телефона в квартире не было.) Выселили – всех? Ни свидетелей, ни места действия, больше там не жил никто.
А была, оказывается, у Е. Д. в Ленинграде неграмотная родственница Дуся, вроде троюродной сестры, она не знала нас никого, ни мы её. Именно её одну и известили о смерти Е. Д. – но кто известил? не милиция, а госбезопасность. И объяснили: Воронянскую до смерти довела интеллигенция. Да ведь риска нет: неграмотная, сторонняя, никого не знает. Трупа не показали ей, а похороны сказали когда.
А у деревенских людей сохраняются и в больших городах чутьё и глазомер лесные, полевые. Когда-то давно один раз Дуся провожала Е. Д. до дома Самутина, знала, что – близкий друг её, и видела, в какое парадное та вошла. Разыскала она теперь по памяти и дом и парадное, а как дальше? Догадалась: стучать подряд в каждую дверь и спрашивать: вы не знали Елизаветы Денисовны Воронянской? Дверь Самутина оказалась из первых, на первом этаже, и дома были! Так неграмотная женщина перехитрила ГБ и связала первое звено цепочки, которая взорвёт «Архипелаг» на весь мир.
Самутин не знал ничего до последнего дня, он только удивлялся, почему Е. Д., всегда такая дружественная, не звонит, не пишет, не идёт, – должна бы уже из Крыма вернуться. Теперь – внезапная смерть, и вот дата похорон: завтра, 30 августа, труп лежит в Боткинских бараках. А об аресте, о следствии – ничего ведь и Дуся не знает. – Хорошо, буду.
Естественная мысль: известить Эткиндов, о которых он знал из рассказов Е. Д., что они имеют лёгкую связь со мной, а живут – близ Александро-Невской лавры, где и бараки. И в тот же день, днём 29-го, он позвонил Эткиндам:
– Вы знали такую Воронянскую? Её не стало. Это – её знакомый говорит. Похороны – завтра, в 14.30 к моргу. Отчего умерла? Не знаю… Оповестите наших общих знакомых (меня)…
И тотчас – телефон Эткиндов прервался на два часа. Да все концы прослушивались к тому дню, конечно. А – сплошало ГБ оборвать сразу.
Оказался в те дни в Ленинграде Лев Копелев. Эткинды и сказали ему, чтобы мне передал. Копелев не знал, сколь серьёзно эта смерть вплетена во всю нашу конспирацию, и не искал оказии, а просто позвонил Але в Москву: «Скажите Сане, умерла его машинистка Елизавета Денисовна».
Изумиться и вскипеть должно было ГБ: полная тайна, ото всех скрыто, а чёртова интеллигенция уже пронюхала – и через три часа дневным поездом я могу выехать из Москвы, к вечеру быть в Ленинграде. Три недели они знали, у кого лежит «Архипелаг», – и не спешили. Но если я сейчас приеду и заберу его?.. Звонок Копелева шёл дальше по бикфордову шнуру и подгонял события[62].
30-го к 14.30 съехались у Боткинских бараков: Самутин, двое Эткиндов, Зоя – дочь Томашевской, и Зоина подруга Галя, случайная. Ответили им: увезли два часа назад. «Как это может быть?» – «А – была свободная машина».
А где же Дуся? Она, по-деревенски, пришла на всякий случай раньше – и с той машиной похоронной уехала на кладбище.
Догадался Эткинд спросить: а что же в книге записей? причина смерти? Служитель не отказался, вот: «Механическая асфиксия». И объяснил: «Повешение. Самоубийство». – «Не может быть! Вы спутали?..» – «А то сами не знаете! – удивился служитель. – Хороши родственнички!..
Около морга ещё крутился тип, не поговоришь.
Сели впятером в автомобиль Эткиндов, поехали на Южное кладбище – далёкое, загородное, в сторону Пулковских высот, – город мёртвых при столице, у кого нет блата похорониться лучше, сброс перенаселённого города. В машине разговаривали бурно: отчего? что случилось? Вспомнили валютные сертификаты: может быть, неандертальцы придушили? Самутин: «Они выехали, живёт приличная медсестра». Екатерина Фёдоровна, жена Эткинда: «Самоубийство? Не может быть! Я достаточно её знаю». – «Да это политическое убийство!» – вскрикнул кто-то.
Кладбище – удручающее по однообразию. Огромный развороченный пустырь, глина (как это вязнет в дождь!). Ни деревца. Всё разбито на прямоугольники: по 36 рядов и 24 могилы в каждом ряду. Запрещено ставить кресты или ограды. Могилы имеют вид бетонной ванны, в изголовьях – «вёсла» с синими шашечками, на них процарапываются фамилия-имя-отчество покойного, годы рождения и смерти, без дат. «Ванны» засыпают землёй, в них можно посадить цветы. Моторные каталки быстро развозят гробы по проходам, провожающие спешат аллюром. Кладбище – социалистическое. По Фурье?..
Приехавшим указали могилу ещё без холмика, воткнута палка. (И ещё через год её могила оставалась безымянной, ходили Люша и Зоя Томашевская.)
Всё больше складывалось, что дело нечисто. И приехавшие друг друга совсем не знают. Спрашивал Эткинд Самутина осторожно: «А не взяли ли чего у неё?[63]»
Гале – в чужом пиру похмелье. Зато уж – ни в чём не замешана. И по адресу, который Дуся дала Самутину, где она собирает поминки сегодня, – «Галя, может быть, поедете? Узнаете что-нибудь?» Галя поехала, как раз попала. Сидели Дусины простонародные друзья, и – медсестра Лида. И она-то рассказывала свою версию, и оттуда знаем мы её.
Если бы даже самоубийство – то, физически измученная, где ж могла Елизавета Денисовна силы найти на крюк, на верёвку?
А Самутин: сдавши «Архипелаг» – и скрывать? молчать? что должен был чувствовать старый зэк?
Прослушиваются «потолки», слежка за квартирой, слежка за каждым шагом, – уж тут-то ГБ исправит упущенье, дальше – не потечёт!
Но жене на работу – можно идти?.. На работу – разумеется.
А больше – ничего и не надо! – вот закороченья крупных городов: на службе, в Горном институте, только одной женщине, своей сотруднице Аршанской (о которой известно, что муж её дружен с Копелевым, а Копелев – как раз сейчас в Ленинграде, днём рассказывал Эткинд), – только ей, там, в рабочие часы и под рабочей крышей, жена Самутина рассказывает о происшедшем.
Просто?[64]
А Аршанская – просто идёт домой. И рассказывает – мужу.
А муж – и собирался к Копелеву, он едет к нему, уже поздно вечером.
И Копелев в 12-м часу ночи звонит Эткинду ласково: «Фима, а ты не можешь ко мне сейчас приехать?»
Это – 31 августа, вечером, на другой день. Всё заткнуло ГБ – и всё известно!
Разряд ударяет и через телефонную трубку – в такое время в гости не зовут. Эткинд едет. Встреча с Аршанским. Ещё есть ночной поезд в Москву. И совсем безобидно поехать уж ни к чему не причастному хозяину квартиры, Сергею Маслову. «Передайте ему просто: взят Архип!» (Мы, знавшие книгу, иногда звали её так.)
Просто – да не очень. Просыпается потом Эткинд ночью и ударяет его мысль: что ж мы наделали? Маслов не понимает, о чём речь, ещё через несколько уст из «Архип» будет «архив». Безсмыслица, только морока.
1 сентября утром Маслов привозит в Москву свою фразу «Коме» (Вячеславу) Иванову – и тот так и понимает: взят архив. И к концу дня они с Люшей, ещё тяжело больной после автомобильной аварии, довозят фразу до меня в Фирсановку. Я сразу усумнился: архив? Архип? (Да какой там архив у Кью? Но и – Архипа давно нет.)
Мы с Люшей нервничаем и делаем ошибку. Нам хочется, нам надо же знать точно и быстро: что, что именно взяли? И она просит Алёшу Шиповальникова (через сестру он знаком с Самутиным) съездить, повидаться, спросить.
Неправильно. Неправильно, потому что втягиваем мальчика под опасность. И плохо соображаем, какие ж у Самутина остались возможности. Юноша отважно берётся. Едет в осаждённую квартиру. Но даже если ответить ему на бумаге и бумагу сжечь – а его схватят при выходе? И Самутин отвечает под потолками: «Взяли? Круг первый». Под потолком ему и не сказать, правильно.
А 1-го сентября вечером выезжает в Москву Эткинд с уточнением одной буквы. К Люше в Переделкино. А она, всё так же больная, поехала в такси к Москве, черезо всю Москву и на север в Фирсановку, чтоб довезти до меня (вечер 2-го сентября) одну эту букву. Теперь сомнения больше не было: «Архипелаг» схвачен!
3-го днём еду в Москву к Але. При двух наших малышах она ждёт третьего, Стёпу, на самых этих днях. Говорю: «Ведь надо взрывать?» Она безстрашно: «Взрываем!»
4-го утром, из загорода, условным звонком я устраиваю на вечер встречу с корреспондентом Стигом Фредриксоном (очерк 13) – передаю на Запад открытое сообщение о взятии «Архипелага» (и тайный приказ: немедленно печатать!).
А ГБ ведь уверено, что – все дырки закрыло. 5-го утром хлопает их как по лбу известие западного радио.
Тогда велят Самутину дать какое-то мерзкое интервью на Западе. Не находка. (Я его и доселе не читал.)
После моих резких выступлений всегда писала мне Кью: «Зачем устраивать корриду при таком неравенстве? Зачем вы торопите события?»
Но никто не торопил их так, как она. Эта больная, одинокая старая женщина, того не готовя и в ужасе вся, – толкнула грозный валун «Архипелага» покатиться на мир, на нашу страну, на мировой коммунизм[65].
6. Наталья Мильевна Аничкова и Надя Левитская
И так же в письме заявила о себе до того неизвестная мне Наталья Мильевна: что она – бывшая зэчка, и дочь её приёмная, тоже зэчка, благодарят за «Ивана Денисовича» и готовы помогать, чем могут. А для заманки, чтоб я верней отозвался, приправлено было, что Павел Дмитриевич Корин – их сосед, могут познакомить; что они любительницы путешествовать по глухому Северу; и разнимчивые фотографии тех мест.
«Бывший зэк» был для меня открывающий пароль. «Бывшие зэки» была у меня в архиве переписки самая почтенная папка, и уже не одна сотня писем в ней. Какие другие, а этих я не пропускал, почти из каждого что-то выписывал и со многими потом встречался. Как-то поехал и на Большую Пироговку к Аничковым. И обнаружил, что подделки нет, они те самые, за кого себя и выдают: вечные зэчки с душою не замершей; живут как попало, на перекладных; не удивятся, если завтра опять к ним придут; и в ежегодных летних путешествиях, самых отчаянных для 65-летней и совсем нездоровой Мильевны, они забирались в такие дремучие места, куда и не всякий молодой решится. Вот этот дух неприобретательства, весёлой неуверенности в завтрашнем дне и горячая преданность вчерашнему злоключному – и соединили нас в дружбе. Мы не могли не сойтись. Ещё в первую встречу я поопасался слишком открываться, а уж со второй – покатилось. И с первой встречи и до самой разлуки я, кажется, ни разу не оставлял их без поручений по нашему общему делу – и всегда выполняли они как главное и самое радостное в своей жизни.
Этот зэческий дух и лагерное прошлое единили их двоих в семью. В остальном они были совершенно разные: коротенькая, толстая, весёлая, не по возрасту возбуждённая Мильевна, с характером неустойчивым и даже капризным, – и высокая, худая, не по возрасту сдержанная, вечно в работе, чёткая, оглядчивая Надя. Как-то в лагере Мильевна игрою судьбы стала заведующей хлеборезкой – и спасла от крайнего истощения сиротку Надю, подкормила, и душевно подбодрила. И это соединило их навеки, как мать и дочь. Наталья Мильевна была из древнедворянской семьи, дедушка её – видный чин дворцового ведомства, училась она в Таганцевской гимназии, все друзья её детства – петербургская дворянская молодёжь, в революцию рассеянная, расстрелянная, бежавшая. Советское пятидесятилетие продолжало размётывать всех родных её и любимых, близких и дальних, никого не осталось. Надя была из слоя невозвышенного, хотя отец её – Григорий Андреевич Левитский, биолог, ближайший сотрудник Вавилова, погибший от Лысенки. Их семью посадили не как семью, но в четыре приёма, отдельно – отца, мать, затем её саму, затем и брата, и каждого по независимому делу. Родители погибли в лагере, а Мильевна – спасла Надю, и с вечной благодарностью Надя и прилепилась к ней. То и замечательно было во всей их нынешней жизни, этим они напоминали супругов Зубовых и Тэнно, и, наверно, многие зэческие семьи, что вот – выпал неожиданный подарок, незаконный прирезок, привесок к прежним зэческим годам, и только в свете тех лет получал смысл. И каждое 5 марта, день смерти Сталина, этот постоянный высший смысл их жизни стягивался к символу: они убирали свои комнатёнки как музей, расставляли фотографии расстрелянных и погибших в лагерях, сколько достать могли, заводили траурную музыку, – и несколько часов сквозь этот музей шли приглашённые знакомые и бывшие зэки.
На сумятицу военных и революционных лет наложился и весьма когда-то взбалмошный характер Наташи Аничковой, и так вся жизнь её прошла кувырком, не оставив ни семьи, ни специальности. Надя же с детства знала немецкий язык и держалась теперь им в Библиотеке иностранной литературы. (Во время войны, ещё девочкой, она имела лёгкую возможность из Псковщины отступить вместе с немцами, но не отступила, и была наказана лагерем, а, говорит, не пожалела никогда, что осталась на родине.)
Поэтому первейшая и естественная помощь мне от Нади стала – переводы. Множество сделала она мне их – газетных статей, рецензий, потом – и целых книг, которых по недостаче времени я никогда бы по-немецки не одолел. Да как! – хорошо поняв и систему мою и направление интересов, она не переводила всю книгу сплошь, что новый труд для меня составило бы – такой большой объём читать. Она – конспектировала и группировала по нужным темам, с ясными заголовками, на листах определённых размеров. (С особенной благодарностью вспоминаю, как она обработала – часто в электричках да в метро, у самой же тоже времени не было! – книгу генерала Франсуа и воспоминания генерала Гурко, которых на русском не существует.) Она же перевела книгу Земана, о связях Ленина с германским м.и.д.
А у Мильевны был иной талант: иметь множество разнообразных знакомых. Вообще, для конспиратора это не всегда пригожий талант, но у Мильевны оборачивался счастливо: о какой бы новой неожиданной нужде я ни заявлял, она некоторое время думала – и всегда догадывалась, к кому надо обратиться. Срочно понадобилось мне спасать хранилище рукописей от Теуша – я кинулся к «эНэНам» («НН» – соединённо звали мы их так, от первых букв имён), – безтрепетно взяли они к себе. Но у них квартира – двор проходной и под подозрением, ненадёжно, Мильевна думала – придумала знатного геолога Бориса Абрамовича Петрушевского, со свободою заграничных командировок даже, обратилась к нему – и он согласился, и верно держал хранилище года три-четыре, одно время даже с добавлением нескольких «Архипелагов». (По конспирации я его не только не видел, но старался и фамилии не помнить, и не знать, где он живёт. Так никогда и не познакомились. Поклон ему низкий.) Некуда было деть один экземпляр окончательного «Архипелага»? – Мильевна думала, находила, увозила. (Были и промашки. Повезла далеко, с пересадками, пароходами в Весьегонский заповедник – кажется, благородному, надёжному человеку, а он испугался, жена испугалась, – и пришлось Мильевне назад волочить всю тяжесть, проигрыватель, килограммов десять, не в её бы возрасте! Повезли в Ленинград, кажется в хорошие руки отдали (двоюродная сестра), вдруг вызывают: заберите, не хотим такой ужас держать. И снова искать, уж теперь непременно в Ленинграде, – придумала, нашла! До сих пор там закопан один «Архипелаг», а я так и не знаю ни фамилии, ни места, знаю, что «под яблоней»[66].) Машинистку нужно найти – очень хорошую и очень надёжную, самые страшные тексты ей дать (а платить-то нечем, всё на энтузиазме). А ещё хорошо бы – и переплётчика тайного, надёжного: эти пачки листов потом затрёпываются, теряются. Мильевна подумала – и вместе нашла: машинистку, Ольгу Александровну Крыжановскую, – и её я не видел никогда, а сколько она нам сделала, сколько хранила! – поклон ей до земли, а муж её Андрей Иваныч, кадровый военный, инженер-полковник, между сердечными приступами еле держась, – переплетал мне все самиздатские «Архипелаги», всех «Телят» и много «Девяносто шестых», записки благодарственные я ему писал, а руки не успел пожать – он умер.
При таких обширных знакомствах (да при интеллигентской толчее в Иностранной библиотеке) – в Самиздат пускать самое естественное дело. За многие годы что б ни пускал я в Самиздат – эНэНам всегда мы с Люшей Чуковской отсчитывали экземпляры, от одного до пяти. (У Люши с Надей хорошо были поставлены встречи на станциях метро, – и места и минуты известны, и обеим по дороге, с работы, на работу, только бросить по телефону – утром или вечером. Пунктуальностью, ответственностью они сходны были обе, стоили друг друга.) «Читают “Ивана Денисовича”» от начала и до конца всё эНэНы сделали весной 1968 – и напечатали, и распустили по рукам.
Мильевна считала за честь распространять самиздат не по Москве только, а в провинцию побольше. Среди других таких мест был у неё Екатеринбург. Вообще, я сильно промахнулся с «Кругом»-96: считал, что вот-вот будем его распространять, надо заготовить побольше, увлеклись, напечатали четыре «закладки», то есть 20 штук, – а куда девать потом? Несколько раз «Круг» чуть не проваливался из-за этого множества. (В одном хранении лежала неподъёмная стопа этих «96-х», потом все сожгли.) Один экземпляр, не разобравшись, я допустил эНэНов загнать в Екатеринбург. И человек-то этот – Осённов Сергей Иванович, оказался совсем малознакомый. Авантюрная Мильевна познакомилась с ним во время летнего путешествия, и на чём? – сцепились об «Иване Денисовиче», он – бранил. Она его не только переубедила, но записала в друзья и доверенные и стала засылать ему самиздат – да вот и «96-й». Впрочем, Осённов не подвёл, а даже очень оказался твёрд. (В главном корпусе книги этот эпизод был рассказан нарочито искажённо, чтоб на человека не навести. В 1971 в Новочеркасске, проездом, мы с А. А. Угримовым познакомились с ним, опять-таки у знакомых Мильевны.) Опасность на него надвинулась непредсказуемо: его племянник вернулся из армии, где разбалован был службою на радиозаглушке, не то радиоперехвате, и захотел «на гражданке», в Екатеринбурге, устроиться так же. Но тут для этого потребовалось много анкет, и всех родственников указать, потом этих родственников Органы должны были пристально изучить. И при изучении обнаружилось, что на Осённова есть донос, что он давал читать «Раковый корпус». В провинции – это очень опасно, это как бомба! Но гебисты по нетерпению не стали дальше следить (да куда ж дальше?! – «Раковый корпус»!) – а прямо явились, несколько человек! – к нашему хранителю! Сам «96-й» был у Осённова на безлюдной зимою летней дачке, приезжай – бери, что-то было и в квартире, да ещё в эту минуту сидел у него знакомый, только что взявший и в сумку сунувший «Август». Смышлёный знакомый окинул взглядом гостей: «Ну, слушай, я пошёл!» А провинциальные гебисты даже рады уходу свидетеля, не задержали. Больше того – и обыска в комнате не стали устраивать (лапти какие-то), а повезли Осённова к себе в учреждение и только там спросили: «Признавайтесь, есть “Раковый корпус”?» Смекнул наш бедняга, что лучше признать. «Привезите!» Поехал домой – привёз. И вроде отстали от него пока. А может – следят? А что делать с «96-м»? Мильевна от усердия ему велела: хранить как зеницу ока. И решил он – хранить. После вызова в ГБ это было смертельно, а – хранил. Связь же с нами была редкая – в письме много не скажешь, ехать под слежкой нельзя, послать некого, – успели мы только узнать, что – слежка, что приходили, и не можем крикнуть ему – сожги!! И несколько месяцев, до естественной оказии, так и висел «96-й» топором над ним и над нами. Только к весне 1973 Осённов удостоверился в распоряжении и – сжёг.
Одно время Мильевна (давно на пенсии) активно действовала в Обществе охраны русской старины и памятников. Потом увидела, как там в казёнщину упирается, да и по здоровью требовалось больше дома сидеть, а вулканный нрав не давал ей успокоиться, и она то и дело придумывала мне какое-нибудь новое знакомство, новый источник сведений, нового полезного человека – хотя я не искал такого и не спрашивал. И часто убеждала меня, что это – нужно, я знакомился. Сейчас перебираю – целый фейерверк, даже всё вспомнить нельзя. Это она познакомила меня и с Дмитрием Петровичем Витковским, старым «беломорцем». Она – и с зятем Короленко А. В. Храбровицким, любителем архивов, – по своему почину он множество сведений мне перетаскал и нужных и ненужных. (В благодарность мы размякли, дали ему один том «Архипелага» подержать в руках полчаса без выноса – и потёк по Москве слух об «Архипелаге», и даже за границу перекинулся. Сколько усилий было опровергать, сколько опасений!) Тут и след Пальчинского: Мильевна нашла живую свояченицу Петра Акимовича, от неё почерпнул я немало, только так и ввёлся он у меня после «Архипелага» – да в «Август» и «Октябрь». Нужны были семейные достоверные свидетельства о генерале Свечине? – добывала их Мильевна, иногда тратя месяцы переписки, запросов, чьих-то поездок. О городе Тамбове? – раздобывала единственного в Москве геральдиста Ю. Шмарова, из Тамбова родом, живой свидетель всего, рассказывать из собственной жизни неохоч, но уж справки, справки по всей губернии! Нужно мне вместо себя кого-то послать походить по местам восстания и расспрашивать совсем незаметно, аккуратней меня? – находилась в срок Валентина Павловна Холодова, биолог, много ездившая по Средней России, а по моей просьбе ехала в Тамбовскую область. А не хочу ли я живое содействие в Исторической библиотеке? – вот они, сотрудники. А не хочу ли я получить важные секретные донские материалы? Да и к Корину же свела, как обещала, успел я познакомиться с этим замечательным человеком – и своими глазами увидеть этюды к «Руси уходящая». А вот, чего уж совсем не ждал, не спрашивал, не догадывался: нанюхала Мильевна, что в Ленинграде у одной казачки хранится архив Фёдора Крюкова и – им написанная, ещё дореволюционная тетрадочка с первой частью «Тихого Дона»! Для работы мне это не только не нужно, но отвлечение рьяное, – а как отказаться? у кого не запылает кровь на такую приманку?
Заметил я, убедился, и уверенно Мильевне говорил: счастливая у вас рука!
Ну и я, бывало: есть обнадёживающий человек, а времени на него нет, к кому бы прицепить? к эНэНам! Был такой Николай Павлович Иванов из Одессы, сын белогвардейца и внук расстрелянного священника, – сколько ясности в понимании, сколько мук через советские дебри доискаться своих, сколько замыслов, какой замах! – но ничего крупного сделать ему не удалось, и мне мало в чём помог: собирался он накатывать на ротаторе «Архипелаг» – но это оказалось невозможным. А в полезную экспедицию съездил для меня в Тамбовскую область: собрал и архивный материал, и повидался с сестрой тамбовского знаменитого бунтаря Петра Токмакова. Искали эНэНы даже невесту ему, не нашли. (И ото всех связей с нами его едва не запихнули в психушку, уже задерживали его рязанские психиатры.) К эНэНам же подцепил я и Риту Шеффер – тоже разорённая русская судьба, о ней отдельно.
А пока «потолки» у эНэНов не считались опасными, они, конечно, и считывали нам тексты – весь «Архипелаг» считали, и не его одного. В 1966, в 1967 живали они в Рождестве-на-Истье, когда наша дачка пустовала летом: такие близкие люди стали, такая простота этих отношений зэческих, с шуточками и похамливанием, – естественно было звать их в свой любимый угол пожить, а Мильевна из дальнего ярославского заповедника везла мне рассаду черноплодной рябины. Когда Мильевна жила в Рождестве, Надя, дрожа за неё, как редко за какую мать дрожит дочь, после полного рабочего дня в Москве два часа добиралась до Рождества и утром два часа назад, и всегда пешком со станции Башкино. Хорошо она ходила пешком. Исходила мои любимые места едва ль не гуще меня. На этих полянах и опушках вижу её как вписанную. Когда в мае 1968 мы печатали «Архипелаг» в две машинки, Надя приезжала на каждый третий день и забирала напечатанное, от провала. (Все пять экземпляров забранных надо ж было потом куда-то и рассовать!) Она же и спасала рукопись начатого «Архипелага» в сентябре 1965, участвовала в операции Тэнно.
Осенью 1969, едва поселился я во флигеле у Ростроповича, оказалось, что главный дом опустел, некому жить, а сами Ростроповичи уезжали за границу надолго и спешно, искать некогда. И предложили мы им – эНэНов. Стива бросился к Аничковым в своём стиле и темпе, ошеломил, очаровал – и перевёз их в несколько часов. И поселились они так на две зимы: в главном доме они, во флигеле – я, большей частью один, да во дворе чёрный лохматый ньюфаундленд, которого полюбили они страшно, и он их. Оккупировали трое зэков участок в спецзоне, рядом с зампредсовмина!.. Хорошо поживали мы! – я дорожки чистил от снега, за котельной следил, Надя возила всю левую почту в Москву и из Москвы, захаживал я к ним пошутить, да работа гнала. Они же в просторах дома Ростроповичей развернули добрый самиздат – печатанье, сверку. И мне помогали, чем могли, – так хорошо работать, когда листы передавать сподручно, близко, – не привыкли мы так. С эНэНами же и с Люшей, в отсутствие Стивы (он за границею был), мы и «встречали» мою нобелевскую церемонию в чердачной «таверне». Мильевна же присутствовала и когда милиция приходила выселять меня из Жуковки.
Так часто потом уже никогда мы больше не встречались. Гоняя в московском сгущении дел, я забирался к ним редко – но простота между нами до конца осталась зэческая, классическая, сроднённая незабвенными пайкой чёрной, столом невытертым и мискою баланды. Не во всякой семье так просто, как у нас с ними.
Последнюю мою зиму в Москве Мильевна долго болела. Я назначил, что на Рождество приеду, она бодрилась. И в самый назначенный день, как раз ехать к ним, – из Парижа я получил «по левой» два первых экземпляра «Архипелага» – ещё сигнальные, ещё раньше, чем ГБ и ЦК получили, первые в СССР. Я не успел даже книжку дома развернуть, одну оставил Але, другую – схватил и поехал к эНэНам.
Развернул – у них, и это было справедливо. Вместе с ними листали – за тем столом, за которым знакомились 10 лет назад, когда ещё весь, весь путь был впереди. Вместе с ними распахнули и ту страницу, где было шесть фотографий расстрелянных – шесть фотографий, данных Мильевной из их мартовской выставки, и среди них – её любимый когда-то человек…
За эти несколько лет вложилась Мильевна всей своей жизнью в мою работу, и вот фотографиями своих близких – врезалась навсегда в «Архипелаг», во все его изданья, на всех языках.
А уже начался у нас тогда Землетряс. Затем я был выслан. Аля собиралась к отъезду. Все эти полтора месяца бурленья у нас сочувствующих и иностранцев – Надя не приходила, при её безправном рабочем положении был бы ей конец. А один раз, перед самым отъездом нашей семьи, зазвонил телефон. В трубку не назвались, но знакомый голос, плачущий голос сказал:
– Передайте ему, что то были счастливые годы, таких больше не будет.
Прошёл год – и мы узнали о смерти Мильевны. Она уже много лет болела разными болезнями, и тяжело, и в лёжку, и говорил я ей не раз: «Мильевна, надо дожить до “Архипелага”!», «Мильевна, надо дожить до общего торжества!» Всякий раз она поправлялась.
А в январе 1975 у неё стался инфаркт. Врач пришёл, убеждал, что надо ей лечь в больницу. Мильевна, сидя на кровати: «Зачем в больницу? Умирать лучше дома!» И тут же по лицу её прошла зеленовато-голубая тень, она покачнулась и стала падать набок. Врач кинулся делать искусственное дыхание, вызвали реанимацию – а её уже нет.
Узнав о смерти Мильевны, мы написали Наде из Цюриха, пригласили, не хочет ли переехать к нам, разделить нашу жизнь и работу. Ответила Надя: нет, родины никак не бросить.
7. Мира Геннадьевна Петрова
Четыре года деятельно и безценно она сотрудничала со мной, но не в общей нашей маленькой сети, не касаясь конспирации, ни с кем не знакомясь, не пересекаясь, всегда особняком. И всегда ведь смутно предожидаешь такую душу, но именно такая сама не выставится, а ищущие глаза находят не этих.
Были у меня некоторые отношения с ЦГАЛИ (архивом литературы и искусства), они когда-то дали промашку – выдвигали меня на ленинскую премию (уж как их за это причёсывали потом), в тяжкую минуту положил я к ним на хранение «Круг», потом читал у них главы «Корпуса» – и Миральду Козлову, необычайно деятельного агента ЦГАЛИ, просил собрать мне о «Корпусе» отзывы сотрудников, кто захочет написать. Собрала она мне таких до десятка, и среди них пронзил меня один: обо всей судьбе Костоглотова, о его безудачливой любви и что погибает в ней – с таким щемленьем было написано, что если пишущая и не была в том диспансере врачом, так значит, со мной вместе повесть писала, сторонняя не отзовётся так. И в замечаниях было такое литературное проникновение, которое критикам недоступно, только авторам же. Я захотел познакомиться. Оказалось: Петрова уже не служит в ЦГАЛИ; кандидат наук, историк литературы и текстолог, нашла себе более достойную работу в Институте Мировой Литературы, туда перешла. Однако Миральда охотно устроила встречу – у Миры, в Воротниковском переулке.
Я просил Миру высказаться больше: что бы она хотела ещё видеть доработанным и исправленным в «Раковом корпусе» (то была осень 1966, текст ещё можно было менять). И она отважно (вообще была отважная, крайне самостоятельная и даже резкая, при маленьком росте и обычной тихости, если не выведут из себя) выдвинула суждения, замечания, даже и советы. В них поразила меня и литературная несомненность, и та особо женская точка зрения, которой мне не хватало, – на этой повести первой узнал, что не хватало. Её изложение носило даже характер вихря – от кажущейся смены позиции в ходе его: то против недостаточной высоты в изображении женщины, то против недостаточной плотскости. Вот именно такой сочувственницы все годы лагерного, ссыльного и немосковского писания до сих пор не было у меня никогда. Но до тех пор и материал тёк лагерный, в котором разбирался я преотлично, именно теперь менялась тропа моей работы. Я понял, что ещё не раз приду на Воротниковский. Едва ушёл – и заныло ощущение недоконченности разговора, надо опять говорить.
Я приходил потом туда многие десятки раз.
Мира была дочерью старых большевиков – но уж как далека от их линии, тоже знак времени, впрочем теперь частый. Отец её был расстрелян, мать жива, но характера такого несносного, что Мира давно отделилась от неё, хотя и незамужняя. У неё была своя тёмная комната на грохочущей Домниковке, по советским условиям сменить её было невозможно, губить жизнь тоже не хотелось, и она кинула её с рухлядью и библиотекой, а сама частным образом сняла полторы комнаты в актёрском доме, у известной когда-то актрисы Малого театра. Здесь было у неё светло, тихо, тесно и уютно. Уютнее всего – от старинного замысловатого секретера, по легенде – из помещичьего дома на Смоленской дороге, где однажды ночевал Наполеон и за этим, дескать, секретером работал, – а теперь-то наработались рядышком вволю мы – немало было сделано там! Но и до мелочи было продумано у Миры каждое цветовое пятно в комнате – она страстно любила Ван-Гога и ужасалась всякому цветовому несогласию. Предметов поклонения и ещё было несколько у неё – поклонения тем более безоглядного и преданного, чем самостоятельней была она вообще. К таким кумирам относились у неё Томас Манн (позже и Бёлль), Чехов, Цветаева и… Эренбург. Двух последних портреты она держала в остеклённом книжном шкафу. (Я долго высмеивал Эренбурга, что не рыло ему стоять в таком ряду, она подавалась, подавалась, наконец молча убрала его – и тут он вскоре умер. Она содрогнулась суеверно – и вернула его.) В выборе этих кумиров, конечно, сказывался не только собственный вкус, но и – общее направление интеллигентского вкуса последних лет. При личной острой независимости мнений, она плыла в этом общем потоке традиционного демократического интеллигентства или, скорее, позднего кадетизма. Но за гранями перекосов (Чехов – вершина русской литературы, крупней Толстого и Достоевского), она была так талантлива на восприятие литературы, что заменяла мне сразу 10–20 других читателей – безценное качество для подпольного писателя: всякую новую главу, страницу довольно было проверить на ней одной.
Вообще писателю, столь занятому сокрытием, утайкой, подчинённому внешним механическим требованиям конспирации и её жёстких сроков, грозит опасность не соблюсти неторопливого эстетического созерцания пропорций и деталей в сделанном. Именно об этом нередко напоминала мне Мира. Потому и заняла она такое особое положение – в стороне ото всей моей конспирации: она сохраняла мне отдельную заповедную территорию, где был я не конспиратор, а чистый писатель. Потому изо всех моих книг к единственной она не прикоснулась сотрудничеством, – я её не прикоснул, и не просилась она: к «Архипелагу». В том жёстком самодвижении нашей истории и её неленивым рукам было не к чему прикоснуться. И когда все три тома я принёс ей на пять дней прочесть – она, единственно только об этой книге, не сказала мне ни слова. Потому что эта книга сделалась сама – не в мастерских искусства, не вспоминая ни единого завета его, не соотносясь ни с единым правилом.
В остальном – Мира была незаменимым дополнением к моей слишком жестокой работе в те три-четыре года после захвата моего архива. Она была и проверяющий мой собеседник: до неё – ни с кем, а после неё только с женой моей Алей я разговаривал о работе в самом ходе её, а иногда и прежде первого построения. Это – хрупкий разговор, он может разломать весь замысел, если собеседник – не ты же отщепленный, а чужероден. Этот разговор вёлся не в реальном пространстве, а – в эн-мерном литературном, он не подгоняем был временем (как всё в моей жизни подгонялось), ему не требовалось тотчас бумаги и карандаша, записать, это была медленная переставка и проверка основ – методов и конструкций в разных лучах сопоставлений. В таких разговорах выясняются и могут быть избегнуты многолетние ложные пути.
Но не только собеседовать – вечно деятельная, неутомимая Мира была всегда готова к любой долгой, изнурительной и мелочной работе, тесня свою казённую, где, к счастью, не было точных часов отсидки. Она помогла мне сделать многое, что было в разлохмаченном состоянии от моего напряжённого темпа и укрыва. Текстолог, она провела анализ и сравнительную обработку многих моих пройденных редакций – истинных, «смягчённых» (для цензуры), потом переделанных вновь, что где могло потеряться, исказиться, – и так помогла создать окончательные редакции «Денисовича», всех рассказов, – я в то время не собрался бы сам, а она сделала 4/5 работы, предлагая мне только принимать решения. Она перепечатывала и крупные мои книги («Раковый корпус», «Круг»-96), кропотливо считывала, искала опечатки, сравнивала редакции. Изо всех моих близких единственный серьёзный знаток предреволюционной России (по роду службы занималась этим), она быстро находила мне справки, особенно по известным интеллигентам, кадетам, по всеобщей истории, и других родов справки, ибо изрядная часть жизни её просиживалась в Ленинке. А ещё была Мира очень предана театру и художественному чтению, как у многих женщин – не самой делать, а воспринимать, судить, понимать. В её комнате, и на ней себя проверяя, я сделал записи на магнитофон – читал главы из романов. (Уничтожены они на московской таможне при выезде семьи.) Мира живо следила за всем лучшим, что появлялось в нашем театре, в кино, в актёрской работе, – и благодаря ей я тоже несколько лет в курсе был, нисколько времени на то не потеряв, как не мог бы, живя не в Москве. Уж «Нового мира» она была энтузиастка первая, во всех моих конфликтах с Трифонычем – всегда на его стороне, не ведал А. Т. о такой союзнице.
И весь этот её эстетический рай расположен был, игрою случая, в пяти минутах ходьбы от «Нового мира», и чтобы к ней попасть, надо было только прорваться сквозь телефон актёрской семьи. К Мире нёс я свежие впечатления, доработки на бегу, головную боль, усталость и голод. У неё мог я одуматься, помолчать или посоветоваться. При моей безмосковной жизни, напряжённых прокручиваниях через столичные кольца, в сутки попасть в семь мест, – поесть и очнуться порой становилось из первых дел, без того б я иногда и не выдержал своей ноши. Мира же с гордостью и убеждённостью повторяла, кажется, из Цветаевой: что поэт нуждается не только в сочувствии к его стихам, но и в обеде. Сильно переходя эти рамки, она расспрашивала у старой барской кухарки, какие блюда как готовили, и устраивала мне каких-нибудь рябчиков с глинтвейном, «чтоб легче было потом описывать».
Однажды, уже в 1969, возникло подозрение, что на пути к ней я прослежен (шёл с важной ношей из важного места). Мы разработали с Мирой тактику выхода моего через несколько проходных дворов и её слежения за мной, с сигналами. Она с большим увлечением выполнила эту операцию (благополучно), даже очень красиво держалась, как условно поворачиваться, как условно сумочку держать, шло ей, хотя не занималась никогда и не готовилась. Постоянно она отговаривала меня от всяких общественных выступлений, но – заниматься искусством в сердцевине его (впрочем, письмо съезду писателей одобрила, и печатала, и все конверты заклеивались у неё в комнате, и сама она по почтовым ящикам немало разбросала). Тем не менее моё постепенное осознание, что нельзя стремиться и звать к новой революции, – не разделялось ею. В этой маленькой хрупкой женщине, с литературными кумирами умеренности и даже вялокровными, сидел ещё и разинский свист: раздайся завтра он на улицах – и она, пожалуй, поддала бы ему из окна. И сегодня сочувствовала она революции Февральской – и завиден казался ей такой же исход из теперешнего болота. В этом, как и во многом, она выражала осевое настроение нынешней интеллигенции: тряхануть бы этих, как Романовых (но – только не нас…).
Ни к Мире, ни от неё я никогда не звонил по криминальным телефонам. И она сама умела молчать, как немногие женщины. Но, конечно, ГБ не послабило слежку за мной – и конечно это место у них было засечено[67].
А ещё ж была она верная труженица и на работе, многоопытные доктора наук того не делали, сколько взваливали на неё. (Её работа диктовала ей ставить высоко Горького – без того обезсмысливалось всё, что она делала там, в институте. При её художественном вкусе это было нелегко, и состраивала она искусственно, чтоб опереться: то на дореволюционное всеобщее восхищение им, то на замечания любимой Цветаевой, что Горький был достоин Нобелевской премии больше Бунина.) Она вытягивала тогда «Летопись литературных событий». Это окунанье в предреволюционную прессу сделало её последовательной приверженицей кадетов. Уже к «Августу» моему она отнеслась с подозрением. Иные листы её замечаний и оспариваний открыли мне, что такое «неокадетизм», как он силён в сегодняшней интеллигенции, и как ещё скажется в русском развитии, и насколько он чужд мне.
Последнее, что Мира у меня разбирала посвежу, были пробные главы «Августа», даваемые первочитателям осенью 1969, – и с большой неприязнью атаковала семью Томчаков и совсем непонятную ей, чуждую Орю. С осени 1969 мы встречались с ней редко по причинам внутренним. Но ещё и в 70-м она прочла «Август», близкий к готовности, и делала важные замечания. Ей понравился массив военных глав и Самсонов. От этой привычки, обсуждать вместе рукопись, нам было отстать обоим трудно. Следующие два года – ещё меньше, почти не виделись совсем. Лишь в 1973 показалось, что выныривает между нами дружба или возможность снова смотреть рукописи, когда они ещё сыры. И на новую квартиру её, за Преображенской заставой, я приезжал несколько раз с кусками «Октября Шестнадцатого». Но уже прежнего быстрого взаимопонимания и согласного нахождения никак не было – да в этой-то теме и был между нами незатягиваемый раскол. Она ужасалась всему «правому», антикадетскому направлению моих Узлов, с особенным раздражением, задорчивостью как бы личной обиды – против глав религиозных, и всё выдвигала мне в поученье антирелигиозные рассказы В. Шукшина, которого очень почитала, заслуженно. (Шукшина, видно, сильно тревожила, разжигала тема религии, и он в те годы остро стремился оправдаться как бы против неё, а внутренне и уступая, – не подозревал, что это будет – из последнего, написанного им пред внезапной смертью.) Так открывалось, что наше прежнее единство зрения не было единством.
Но и когда стучала Мира гневно по стопкам рукописных глав «Октября Шестнадцатого», последним моим московским и русским летом, а я ничуть согласен не был, – я не возражал запальчиво, но принимал поток этого гнева внимательно и благодарно.
8. Елена Цезаревна Чуковская
Люша Чуковская почти пять лет, с конца 1965, стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной деятельности: эти годы на ней перекрещивались все линии, все связи, вопросы, ответы, передачи – и ещё потом следующие три года до моей высылки немало шло через неё. Когда я в этой книге писал: «мы решили», «мы сделали», «мы недосмотрели, не предполагали», то несколько кряду лет это было – мы с Люшей. Весь близкий и даже не конспиративный круг это знал, и если Люша звонила кому-нибудь, настоятельно неожиданно звала к себе или вдруг без церемоний напрашивалась прийти, то все так и понимали, что подразумеваюсь я, приглашаю или приеду, или действительно Люша, но по моему срочному делу. Она была как бы начальник штаба моего, а верней – весь штаб в одном лице (увы, постепенно это и в ГБ отлично поняли). Ещё оттого особенно, что я никогда не жил в Москве – иногда в Рязани, иногда в Подмосковьи, а дела непрерывно возникали и решаться должны были именно в Москве.
Люша была внучкой Корнея Ивановича Чуковского – одной из пятерых внуков, но – излюбленной, сердечно преданной его работе, и много помогала ему. Она окончила химический факультет, аспирантуру, стала кандидатом наук, затем успешливым научным работником, отличась и там своим исключительным трудолюбием, аккуратностью, чёткостью, любовью иметь в делах порядок и каждое начинание доводить до конца. (Уж так всюду в жизни и всегда: недобросовестные никогда не вклиниваются в работу, с них она соскальзывает естественно, добросовестным – достаётся работа за нескольких, и ещё они сами ищут её повсюду.) И сверх того Люша, душевно не насыщенная своим институтом, уже много лет проводила субботы-воскресенья в Переделкине, когда К. И. оставался без секретарши, и усиленно помогала ему в переписке, в ведении архива, превращая эти уныло-праздничные дни в самые деятельные, и радуя тем трудолюбивого старика (что очень понимаю и разделяю).
Эта помощь прервалась, когда на 33-м году жизни Люша испытала большую утрату, трагический кризис, еле пережила; родные очень тревожились за неё. Осенью 1965, выздоравливая, она вернулась из Крыма, приехала первый раз в Переделкино – тут узнала, что К. И. приютил меня после захвата моего архива, и тоже в полной подавленности. (Это его приючанье поддержало меня в самые опасные и упадочные недели.) Время от времени К. И., опираясь на свой довольно уникальный литературный статут, становился на защиту гонимых или даже арестованных, подписывал ходатайства за них или кому-то звонил наверх, но заступничество носило характер личный и не выливалось в публицистический взрыв. Кроме того, Чуковский никогда не терял чувства литературного наследства и общелитературного масштаба. В моём понуреньи, когда я со дня на день ждал ареста и с ним – конца всей моей работы, он убеждённо возражал мне: «Не понимаю, о чём вам безпокоиться, когда вы уже поставили себя на второе место, после Толстого». Вёл меня к отдалённому помосту на своём участке – и давал идею, как подкинуть туда и спрятать тайные рукописи. Он прочёл мои рассказы, напечатанные в «Новом мире», – и ничего больше никогда, хотя и говорил мне о «втором месте». «Раковый корпус» не дочитал – может быть, по мнительности, боясь болезней, но – «Круг»?.. чтобы мочь сказать, что не знал о крайности моих взглядов? чтобы не растревожиться этим политическим клокоченьем? В один из вечеров – ему и Лидии Корнеевне я прочёл по памяти «Прусские ночи», уже не зная, удастся ли ещё когда найти читателей тому, или даже сохранить рукопись.
Итак, мы познакомились с Люшей в самое тяжкое, шаткое для нас обоих время, когда обоим стоило труда держаться ровно, когда она только опиралась жить, а я залёживал подранком в отведенной мне комнате, по вечерам даже не зажигая лампочки для чтения, не в силах и читать. К. И. осторожным стуком вызвал меня из тёмной комнаты к ужину, я вышел, увидел остро-живую внимательность внучки и сразу ощутил, что встречу помощь. (Потом рассказывала мне она, что ожидала увидеть духовно разваленного человека и, напротив, удивлена была, насколько я не сломлен; видимо, у меня – нулевая точка была завышенная. И ещё потом вспоминала, что знакомство со мной придало её жизни внутреннюю устойчивость, стало менять её мироощущение, так что уже никогда она не опустится в кризис отчаяния.)
При слабом здоровьи, малом аппетите, постоянной неутомимой деятельности – Люша и в доброе-то время жила одним душевным напряжением, а тем более в дурное. Вовсе не маленькая, не невесомая, она тем не менее как бы не подчинялась балансу физических энергий – но тем более нужен был ей духовный двигатель и если не убеждённость, то сознание убеждённости.
В тех самых днях (в той самой столовой Чуковских) дошёл до края и наш разлад с женой, выразившей, что лучше бы меня арестовали, нежели буду я скрываться и тем «добровольно не жить с семьёй». С этого мига я не только не мог полагаться на жену, но, неизбежно сохраняя прежним её участие в том, что она знала, должен был строить новую систему, скрытную от неё, как от недруга.
А Люша, в моей неразрядной тогда опасности, тут же, в короткие недели, стала предлагать один вид помощи за другим. Сперва – свою с Лидией Корнеевной городскую квартиру, не только для остановок, для встреч с людьми, но и для работы (провинциалу, мне очень не хватало в Москве такой точки опоры); быстро вослед – свою помощь секретарскую, организаторскую, машинописную, по встречам с людьми взамен меня, – какую ни понадобится. Для меня это ново, непривычно, разгрузочно было: такая вдруг огромная помощь в моей прямой работе, это облегчило моё уравновешение в те тяжёлые месяцы. Впрочем, скоро я уезжал в эстонское Укрывище – и именно Люша устраивала мой отъезд, с некоторым ошеломлением наблюдала на своей кухне, как я бороду сбриваю, и, единственная в Москве, получила тартуский адрес Сузи, на всякий случай.
А весной 1966, окончив в Рождестве первую часть «Ракового корпуса» и готовясь, как всегда, сам перепечатывать, что, правда, и полезно как очередная, 3-я – 4-я, редакция, – я соблазнился неоднократным настойчивым предложением Люши – печатать вместо меня. Как будто и невозможно было печатать не самому – и вместе с тем в моей стеснённой жизни мне предлагали подарить полных две недели! – это так просторно и много, как не польститься? Поёживаясь, я согласился. А вернулся в майское Рождество – подарочное настроение, две недели взялись ниоткуда! Люша – с захваченностью, с огромной скоростью вела перепечатку, и мне даже в голову не пришло, что это – первый её большой опыт на машинке. (И другого опыта не было – считывания. Так торопились, так, по тактике, скорей надо было в Самиздат, что срывали эти 7 экземпляров с мощнопробивной машинки – и скорей распускали.)
Вот когда я узнал, как быстро книги могут вылетать в Самиздат! – только успевай написать их! Пока Люша выстукивала первую часть – я быстро писал вторую, она подхватисто, огоньком у меня пошла. И узловое литературное положение Чуковских весьма облегчало распространение (мы ещё не знали, никто не знал, – возьмёт ли Самиздат целый роман); и всё это распределение экземпляров, передачу их на следующую перепечатку, потом в срок востребование назад, память, у кого что, – тоже Люша брала на себя, какое облегчение, я по силе и по времени будто удвоился, и за лето, исключительно быстро, кончил вторую часть «Корпуса», и вот уже Люша выстукивала вторую часть, и потекла вторая, захватывая самиздатские поля.
После провала моего в 1965 именно Люша помогла мне изменить всю скорость жизни и перейти в непрерывное наступление. Я ощущал её как своего единопособника во всех практических планах и действиях; мы тщательно обсуждали их (со временем уходя для того из-под потолков в зелень). С самого начала посвящена была Люша в «Архипелаг» и все движенья его, тогда впервые начала наводить справки, выяснения, возилась с проектом карты Архипелага (квалифицированные геологи – Н. Пахтусова, Н. Кинд делали её, уже и во многом составили, уже и перефотографировали, но я отказался: всё же любительская получалась, слишком большие пространства не заполнены). А едва я кончил доработку Первой части и стало что печатать – Люша тут же села за окончательную перепечатку.
Уже достаточно была известна ГБ её соработка со мной, и становилось всё более опасным то свойство их квартиры, что она часто оставалась пуста – когда Лидия Корнеевна была в Переделкине, а Люша на работе. Поэтому Люша не делала моих перепечаток понемногу, а, зная заранее, когда наступят всплески работ, не использовала очередных отпусков, а потом в нужный момент брала их для густой работы. Так она поступила и весной 1968: за апрель в Москве напечатала весь Первый том «Архипелага», на Пасху приехала Кью, мы съехались в Рождестве, Люша за май отпечатала весь Второй том («Паганини-typist» звала её Кью за быстроту) и ещё в Третьем подсобила Кью и моей жене, с которой было у неё довольно недружно, – Люша съёживалась, вбиралась в себя и в работу, из сырой комнаты не вылезала месяц – и гнала.
Из них троих одна Люша только знала, через кого, как и куда пойдёт дальше плёнка, участвовала во всех перипетиях той авантюрной Троицыной отправки «Архипелага». Помню, в уныло ветреный день приехала она из Москвы в Рождество забирать у меня капсулу с плёнкой для Евы (см. очерк 9) – и от ветра ли этого настойчиво-недоброго были предчувствия нелёгкие. А ещё через два дня, под самую Троицу, Люша снова приехала в Рождество внезапно, с сообщением, что передача не прошла гладко, что за мальчиком (Саша Андреев, очерк 9) следили, – то-то наши предчувствия! Если совсем трезво, то приезжать ей за мной не следовало: ещё только в воскресенье должен был лететь Саша, ещё только в понедельник утром капсула. Ещё двое суток я мог быть в Рождестве без риска. Но Люша кинулась – спасти, увезти. Я узнал о слежке – и сразу померк для меня мой любимый прилесный участок и помавающие вершины берёз. Чувство острой опасности мне передалось, я поддался и решил исчезнуть из Рождества, уйти от слежки на эти дни, а при провале – может быть, опять в Укрывище, продлить свою свободу хоть на несколько месяцев, ещё что-то успеть сделать. В полчаса покинуть любимую налаженную дачку и скрыться. Жене я не велел приезжать, где буду, не привести хвоста. По пути в электричке объяснил это место Люше, с вокзала расстались – и облегчена она была, что я поехал – чистый. Но три тягчайших дня пробыл я в заточении. Должна была Люша приехать ко мне с любою вестью, но не ехала: сидела, томилась у себя дома, тщетно ждала новостей. Лишь вечером второго дня, поздно, я уже спал, ворвалась и привезла мне промежуточную радость, что «мальчика» по крайней мере не задержали, выпустили из Союза. Благополучную судьбу груза узнали мы лишь на четвёртый день, всё и все освободились.
Отпала опасность – и тут же я засел за окончательную редакцию «Круга»-96. А Люша, уже отбыв «отпуск» на «Архипелаге», теперь всё лето навёрстывала на службе, да и у деда, естественно ревновавшего ко всем отвлечениям сил её, давно заметив, что помощница она у него – не прежняя. И уже осенью Люша подхватила у меня «96-й» – и закончила перепечатку залпом. И в одну из зимних проходок по переделкинскому лесу предложила план: чтобы «нашим друзьям в Америке» (мы считали тогда Карлайлов друзьями…) не переводить заново весь роман и не выискивать разночтений – перепечатать для них ещё раз всю книгу таким особым способом, чтоб они видели все изменения и переводили только их (это мы назвали «косметический» экземпляр). И эту изнурительную, многотерпную работу Люша выполнила за несколько зимних месяцев – все вечера бежала с работы домой скорей. (Летом 1975, всё оставшееся сжигая, – сожгла и это. Так уходили в прорву целые годы работы.)
Жажде работы у Люши и отдаче её – не было границ. За три года знакомства вот уже пять моих толстых книг перепечатала она. (По-советскому немаловажно: сколько же стоп хорошей однородной бумаги надо было набрать, такая не всегда продавалась. И сколько копирки.) И вместе с моей работой, предприятиями, делила мои манёвры и предосторожности.
С 1966 начались мои открытые общественные шаги – сперва публичные выступления, потом письмо съезду, потом драка с секретарями СП. Ни одного такого шага моего Люша никогда прямо не поддержала, не сказала – да! надо ударить! Но – или покручивала озабоченно-неодобрительно головой или прямо отговаривала, как с выступлением по Жоресу Медведеву. Это каждый раз смущало меня, ведь так мало было осведомлённых, какие удары я готовил, и значит, каждый голос так много весил при совете. И так заморочен я был работой и борьбой, что лишь постепенно понял: Люша не имела в виду общего охвата дел, стратегии, принципов – а просто всякий раз боялась за меня, чтоб я не попался в когти вот именно на этом, очередном, дерзком шаге. Но, не одобряя письмо съезду, – помогала настукать их более сотни, а затем – все «открытые письма», «заявления». Пятьдесят пространных «Изложений» секретариата СП только через неё и шли. Я и забот не знал: она заготовляла всё в нужном количестве, держала на старте до назначенного момента взрыва, затем развозила первые экземпляры по главным исходным точкам (Наде Левитской в Иностранную библиотеку, А. Берзер в «Новый мир», в несколько квартир «Аэропорта», в Переделкино, через кого-нибудь в Ленинград), – а дальше катилось само.
Теперь познакомилась Люша с другими моими сотрудниками и многие встречи с ними, дела и связи тоже естественно взяла на себя. Вскоре её квартира стала центром для моей связи с Ленинградом: Кью, Эткиндами, потом появлявшимися там «инфантами первыми» (группа молодёжи, хотели мне помогать, я уже думал привлечь их к размножению «Архипелага», но не состоялась с ними работа), «инфантами вторыми» (Куклины); вся «левая» почта на Ленинград собиралась у Люши на квартире, и отсюда её брали попутные, и сюда привозили всё из Ленинграда, и приезжал кто. (Лидия Корнеевна была родом из Петербурга, там же родилась и Люша, у них сохранялись живые связи с городом.) Уже появилось несколько человек доверенных, кто знал наши ленинградские адреса и прямо туда относил. И некоторым приезжающим провинциалам, кого не хотелось оттолкнуть, а встретиться самому не складывались обстоятельства, – назначался тоже Люшин адрес, и Люша снабжала их книгами, передавала письма, вела за меня встречи. И в самой Москве, где я тоже бывал редкими налётами, я для упрощения стал передавать ей совсем отдельные области моих знакомств: и вдову Тэнно с приезжающими эстонцами, и семью Кобозевых, и семью Теушей, и даже одно время Зубовым для писем дал её адрес, и ежемесячные переводы моей тёте Ире тоже поручил ей, уж тем более всякие встречи аэропортовские, писательские – тут Люша была в родных струях.
Так много десятков проплыло людей, что не берусь ни в памяти восстановить, ни – загромождать эти страницы. Появился у нас диктофон – открылись новые возможности Люшиной работы: по моим вопросникам опрашивать свидетелей революции (свояченицу Пальчинского, племянницу Гучкова, инженера К. М. Поливанова и других), потом это записанное спечатывать на машинку, а я брал в уже готовых листиках. Люша оказывалась вместо меня центром обильного круга. Сколько всем тем она выиграла мне времени и сил – оценить невозможно. Никогда она не задержала ни одного моего дела, а только ускоряла всё, облегчая моё движение. И как измерить истраченные ею усилия? Плотность растрат превосходила возможности одного человека, для этого нужен был неспадающий подъём духа.
Был при смерти Корней Иваныч, и долг и чувство держали любимую внучку близ постели деда (да вся надежда с архивом его, с посмертным печатаньем только на неё и ложилась), – вдруг возникла дальняя опасность: в Ростове-на-Дону у чужих людей зависла целая перепечатка, комплект «Архипелага», – и Люша сорвалась и помчалась в Ростов спасать. (Везла назад, заложив сумку с «Архипелагом» в ящик под нижней полкой, надёжно, – а верхние полки в купе да достанься двум старушкам, и уж так просились пустить их на нижнюю, – а как оставить на ночь такую бомбу без контроля? – врала старушкам, что сама после операции.)
Да ещё ведь запоминаются больше те усилия, которые дали внешний результат. А сколько бывало усилий безплодных, поисковых! В одно такое ложное направление втравил нас Стива Ростропович. Прикасаясь к моей жизни, он долго недооценивал, насколько тут всё взрывное. Осенью 1968, возвращаясь из Европы, думал – что бы мне подарить к 50-летию? и купил, и безпечно повёз (и без препятствий провёз через границу, его не проверяли тогда!) – крутилку, мы так и не знали ей названия, – делающую с машинописного отпечатка на специальной бумаге много копий. Стива считал, что так открывает мне прекрасную возможность самопечататься в СССР! И мы с Люшей действительно ухватились за эту игрушку, ставили с ней опыты, замышляли, как будем этаким способом делать тираж «Архипелага» 100–200 штук. (Тогда мыслилось, что всё это будем самоиздавать в стране.) Запасались бумагой, заказывали Стиве, что ещё добавочное привезти с Запада, он привозил. Но поняли, этой работы нам не поднять. И потом уже не знали, как с этой крутилкой разделаться, кому б её передать для листовок.
Люша сама искала упущенные мною возможности встреч, связей, помощи, консультаций. Настолько была увлечена моей работой и эхом на неё в обществе, что в 1968 сама придумала, собрала, выпустила самиздатский публицистический сборник «Слово разрушит бетон».
Исходя только из удобства организации, всё переключая и переключая на Люшу, я перевёл на неё и встречи с Ю. А. Стефановым, специалистом по Дону, по старой русской армии, – человеком уже настолько чужим ей и её кругу, что никогда не пересеклись бы их пути, не привелось бы им разговаривать. В напряжении борьбы организация дел настолько ясно вела нас, что я забывал думать об инакости почвы, в которой Люша взросла и из которой вырваться не в состоянии. Донская тема была Люше как бы социально полярна и неинтересна – а стала врываться в нашу жизнь с разных сторон и в разных явлениях: то – через крюковское наследство, то – через исследование И. Н. Томашевской о Шолохове; то появлялся внезапно донской художник и приносил мне в подарок «Донскую волну» – новочеркасский журнал Крюкова в 1918–19 годах, – и опять через Люшу; то несли нам подробные карты Дона со всеми хуторами – и Люша же устраивала копировку; то надо было обрабатывать срочные донские материалы от С. Старикова – и опять же не кто, как Люша спасала. (Всё донское – см. очерк 14.)
Так самоотверженна, действенна и незаменима была Люша, что в начале 1968, всё более подумывая, что меня может не стать внезапно, а как же сделать, чтоб работа моя продолжала и после меня докручиваться и написанное донеслось бы до будущего, – я стал примеряться, не сделать ли Люшу своим литературным наследником, – и мы с ней уже выясняли через знакомых юристов: какие шаги можно сделать даже в советских условиях, при враждебности власти ко мне. Это оказалось совсем не просто, затянулось: по советским законам государство могло «принудительно выкупить» (отобрать) авторское право умершего.
И ни разу за первые четыре года нашей работы между нами не возникло объяснения, – когда всё хорошо, ведь люди не объясняются: как она всю мою работу понимает? – так ли, как я? Зачем она всё это делает? Я понимал по-своему, она по-своему, а работали ладно, дружно, без запинки. Такая была в те годы нечеловеческая сжатость, что кроме прямых дел поговорить ни о чём не оставалось. Однажды по какому-то поводу, в позднем удивлении я спросил её: разве не для дела она всё делает? не для той Большой цели (никогда, впрочем, между нами не названной)? Она откровенно ответила: нет. Просто – для меня, чтобы мне помочь. Но и конечно захватывало её, что книги бороздят умы. Этих мотивировок Люше было годами довольно, чтоб не иметь надобности разглядывать мою дальнюю цель. А я – принял это совсем как новое, и опечалился.
Да не легко даётся человеку понимание обстоятельств общих: участники непрерывно текущего общественного процесса, мы все понимаем его с опозданием. Не только Люша, но и сам я долго не понимал своего истинного положения в обществе. После пятилетнего хрущёвского топтания около сталинского мавзолея – в горле страны сам собою нетерпеливо нарастал крик. Невозможно было столько обминаться. «Страна ждала кого-нибудь…» И тут появился мой «Иван Денисович», сперва в Самиздате. Это было – не то, чего жаждало образованное общество, не тот герой, не та область переживаний. (Кстати, думаю: именно поэтому «Иван Денисович» и не выскочил сразу за границу, чего боялся Твардовский в 1962: он был слишком крестьянским, слишком русским и оттого как бы зашифрован. Западные корреспонденты, может, и читали его в тот год, но не сочли перспективным к западному уху.) Первое время (ещё до публикации в «Новом мире») и была такая инстинктивная переминка в культурном круге: а нет ли тут «антиинтеллигентских тенденций»? Для «культурного круга» дальновиднее было бы этот рассказ не слишком возносить. Но стихия рвала сама. И интеллигенция (в её полном объёме) – более всего и распространила и укрепила моё мужицкое произведение.
Мы – все не видели вперёд и все не понимали. И я долгие годы удивлялся: вот, говорят, у литераторов бывают враги, завистники, – а у меня ни одного врага. (Были, конечно, да вгоряче не замечались.) Так все истосковались ударить государственную власть в морду, что за меня было сплошь всё неказённое, хотя б и чужое, – и несколько лет я шёл по гребню этой волны, преследуемый одним КГБ, но зато поддержанный слитно всем обществом. (В старой России так было не раз, так поддерживали и Толстого, будучи чужды его учению, – лишь бы против государства.) В те несколько лет я не имел случая увидеть, что поддержка меня всем передовым обществом есть явление временное, недоразуменное. В те несколько лет и мне самому и моей ближайшей помощнице не было повода обнаружить разницу наших мировоззрений. Это было то время нерасчленённых понятий, когда даже «Крохотки» мои приветливо встретил «культурный круг». Хотя православием брезговали, однако стало модно признавать иконы как живописные достижения и даже поэзию церковок на пейзаже.
Первый прорезающий вопрос, на котором зинул разрыв наших пониманий, был – власовцы, когда Люша прочла «Пленников». Она испытала чужеродный дух, взволновалась – и не могла понять, откуда такое могло взяться. Назвала это пока: «некоторых мест не могу принять». Этого и надо было ждать. Как можно было без длительных терпеливых объяснений и рассказов передать фронтовой и тюремный опыт страны – ей, столичному подростку советского военного времени? Но, шире, это был и неизбежный раздел общественного настроения: наш «культурный круг» не мог же простить власовцам, что в годы войны с Гитлером можно было думать о чём-то ещё вперёд, например о русском будущем. (Те же власовцы ещё сильней коробили Люшу потом в «Архипелаге», под колёса которого клала она голову свою. Она влекла, несла, выводила в жизнь, любила эту книгу, не разделяя полного заряда её.)
Культурный круг, и принадлежавшие к нему Чуковские хотя уже давно неприязненны стали к современной форме советской власти, но всем своим нутряным сознанием прилегали к безрелигиозной традиции Освободительного Движения, народолюбия Девятнадцатого века (Лидия Корнеевна так и прямо преклонялась перед Герценом), – и поэтому никак не могли своё осуждение нынешнего перенести и на решающий плод Освобожденчества – весь 1917 год и с Октябрём. А тут ещё и всем родом своей столичной жизни в 20-е – 30-е годы образованное общество искренно не заметило русских национальных страданий. Как-то, уже вокруг «Из-под глыб», Лидия Корнеевна недоумела: да когда ж успели возникнуть и даже обостриться ещё и русские обиды? Она пропустила, не заметила. Образованное общество отчётливо знало лишь обиды еврейские, размытей – ещё национальные некоторые.
Да мы с Люшей так всегда были закружены нашими сжигающими конспиративными делами, что я даже не выспрашивал её подробно о моём написанном, о её впечатлениях. И даже не всегда успевал оценить её очень милый удачный юмор в хорошие минуты. И неизменно благородное её достоинство, ненавязчивость воспринимал как сами собой текущие дары. А Люша, вероятно, искала человеческих объяснений, почему я ускользаю, – и находила то ближайшее, что подставляли многие: что я задёрган своей работой и борьбой и оттого у меня атрофированы простейшие человеческие чувства и внимательная доброта к каждому окружающему.
Но то не убыль чувств была, а жесточайший защем долга, задыхательная нехватка времени, иначе бы мне не донести всей ноши. Да всей-то ноши и не видели мои близкие и помощники: сверх борьбы с коммунистическим государством – ещё скалу погребальную над замершим русским духом, – ещё невидимей, чем все мои Невидимки, – надо было приподнять, своротить и под гору скинуть.
Ещё с надеждой приняла Люша стопочку рукописных тетрадок «Августа». Она любила этот момент и эту роль свою – первой переводить на машинку мою работу. Но что это? Глава за главой вываливались из её рук: «Просто непонятно, зачем это всё написано?» (Это – от многих я слышал из культурного круга, даже от Е. Зворыкиной: зачем это всё ворошится, старое, Четырнадцатый год, царское время, – кому это нужно?) Но без колебаний провела операцию с «первочитателями» (надо было рассылать, востребовать, передавать экземпляры, и всё с быстротой и неразглаской) – и восхищение многих стало её с «Августом» примирять. Потом, как бы по инерции и опять своей энергии не щадя, стала Люша комплектовать и сборник самиздатских статей «“Август Четырнадцатого” читают на родине» – отчасти, может быть, в споре со мной, надеясь, что баланс статей подтвердит её взгляд.
Но когда в феврале 1972 я предложил ей печатать Письмо Патриарху – она впервые за всё наше сотрудничество открыто взбунтовалась, отказалась, и в этот момент была сама собой, стряхнула завороженность: на седьмом году нашей работы обнажилось, что думаем мы – по-разному.
И что же – по-разному? Против чего именно взбунтовалась Люша? Что в моём Письме Патриарху так возмутило образованное общество? Разве – его обличительный тон? так к нему привыкли. Обида ли за неприкасаемость Патриарха? О нет. А вот что, наверное: в моём письме говорилось не об отвлечённых вопросах религиозного духа, но православие приглашалось вдвинуться, и со всем своим церковным бытом, – в реальную жизнь. Это уж было чересчур, уж так много православия образованное общество принять не могло. Его единосердечную поддержку, какою я незаслуженно пользовался до сих пор, именно «Август» и «Письмо» раскололи – так что за меня оставалось редкое меньшинство, и предстояло ему плотность обрести ещё в долгом росте поколений и слоёв.
А Люша – мучительно двоилась: не могла она остаться без влияния круга всей своей жизни – и вместе с тем любила она наше совместное рабочее движение и ощущала его добротность. Да и – не во взглядах дело: Люша была из тех преданных и цельных натур, кто не нуждается каждый шаг свой освещать идеологическим фонарём. И после этого бунта с «Письмом» – она снова вернулась, тянуть, где посильно ей. Правда, уже несколько лет, как какие-то части и области нашей совместной работы начинали от неё отходить. Некоторые нововстающие предприятия и действия возникали уже вне её круга и ведения, например подготовка «Из-под глыб». И к делу литературного наследства, не оконченному нами, я более не возвращался.
А разворот «Октября Шестнадцатого» приносил столько новых запросов, каких предвидеть было нельзя, пиша и выпуская «Август». Лишь здесь впервые обнаружилось, что надо исследовать не только Первую Мировую войну, но – общественные течения России с начала века, и обширную персоналию от монархистов до меньшевиков, и государственную систему, и рабочее движение, и даже полный перечень петербургских заводов с нанесением их на карту города. И многие связанные с этим запросы, работы и передачи хлынули опять через Люшу. Иногда я её связывал с теми, кто справки даст, как профессор П. А. Зайончковский, но в большинстве она сама теперь искала пути, выбирала консультантов в зависимости от разнообразных моих вопросов – и даже имён тех консультантов я не знал и не спрашивал (и не знаю, кого благодарить). Тут на помощь был призван абонемент Лидии Корнеевны в Ленинской библиотеке (то есть редкое право брать книги на дом, она ещё была тогда членом Союза писателей) – и, открыто контролю ГБ, брались и брались книги явно для моей работы, да мы по телефону и не скрывали: в Жуковку, в опальный флигель Ростроповича текли и текли они.
Наконец роль Люши в моей борьбе стала уже нестерпимой для КГБ, и языки опасности полыхнули прямо на неё. В конце 1972 «неизвестный» напал на Люшу в пустом парадном (и подстроили же, обычно там сидит стукач-швейцар), повалил на каменный пол и душил. Люша растерялась, не закричала. Потом вырвалась, он убежал. Близкие строили предположения, что, может быть, это патологический тип. Но – весь двор под просмотром ГБ, напротив в двадцати шагах – их контора. Все криминальные знакомые Чуковских и сама Люша изучены, иссмотрены много раз, и время прохода известно. Кажется, было ленивое милицейское разбирательство, – ни к чему.
А 20 июня 1973 – как раз одновременно с атакой анонимных «бандитских» писем на мою семью – на Садовом кольце смежно идущий грузовик вдруг необъяснимо повернул на 90° и ударил по такси, в котором ехала Люша, прямо по правому переднему углу, где она. Удар должен был быть смертельным; спасение её, после долгого лечения, – скорей выпадало из правила. И снова: прямых доказательств, что это покушение, – не было (да в советской стране против КГБ – когда ж они бывают?). Только в многорядном потоке Садового кольца никакой сумасшедший так не поворачивает. Только за такой поворот и без последствий могут дать срок (и Люша пошла на суд наивно защищать шофёра, «чтоб его не посадили», у него двое детей), – а этого странного дорожного бандита суд тут же освободил из-под стражи: он оказался из «специальной воинской части». Только – в следующие недели продолжалась атака на меня, арест Воронянской, взятие «Архипелага». По раскладке того времени это был верно нацеленный удар ГБ.
И как всегда, в этой поездке, в этот момент, Люша не была свободна от криминала: что-то везла с собою, да и ключи от своей квартиры, где многое лежит. Её отвезли к Склифосовскому, по правилу все вещи отобрали, но Люша сотрясённым сознанием догадалась и успела позвонить по телефону Н. И. Столяровой, жившей в двух шагах. Та примчалась, ей не давали, она с лагерной хваткой всё спасла.
Хоть не было доказательств полных, но я склонялся почти к уверенности, что удар нанесен Люше – за меня.
А – не первая это была авария в её жизни: несколько лет назад она разбилась на мотоцикле и заклялась ездить, испытывала страх. Теперь сотрясенье было глубокое, с мозговыми явлениями, проявлялось длительно. В таком состоянии Люша одно время даже по улице не могла пройти. Надо было долго лежать, не читать, не думать. Срочно доставали заграничные лекарства, к счастью открыты были нам эти пути. Люша за собой не всё и замечала: как она возбуждена, не может остановиться в говорении, перепрыгивает с темы на тему. В августе она вернулась с прибалтийского отдыха – и на лесной поляне близ Переделкина я рассказал ей о своём тогдашнем плане атаки, через крупное интервью на Запад. Всегда – сколько было волнения, отговоров, – в этот раз Люша пропустила всё как в равнодушном тумане – и таково тоже было её состояние. Спрашивал я, могу ли объявить в интервью о покушении на неё, – запретила.
Начинавшийся бой и не требовал Люшиного участия. Сидели мы на мирной полянке, я думал: будет выздоравливать спокойно, от меня никакой нагрузки. Но бой-то был встречный! но Кью – терзалась в Большом Доме! мы не знали… Через две недели смерть Кью и гибель «Архипелага» тяжёлым хвостом ударили по Люше, сбив её с выздоровленья, – а могли бы и вовсе нарушить его. Два дня кряду она приезжала ко мне в Фирсановку с известиями о взятии архива, Архипа. Она снова вернулась к сбивчивому возбуждению, какое несло её после аварии. А надо было хладнокровно обдумывать, было что, ведь повисли над бездной дела, оставшиеся хранения, большое у Ламары (очерк 10), и каждый шаг предупреждения к ней мог быть смертелен, а не сделать его – тоже нельзя. Помрачённым сбитым сознанием Люше надо было решать усложнённые задачи, в уязвимом состоянии её как клювом долбила загадка смерти Кью, она хотела связать противоречивое разрозненное (правдоподобно ожидая такого же с собой), в этом защемлении ей нужно было по несколько часов в день встречаться, говорить со мной, с кем же ещё в такие дни! – и надо было! и я – был обязан, да! – но именно в эти дни и именно по той же причине крайней опасности я не имел ни минуты на встречи и на разговоры, а должен был скорее действовать, наносить удары, спасать рукописи. Единственный шаг, который мы с Люшей в эти дни сделали, была посылка к Самутину Алёши Шиповальникова – неверный ход. В эти недели Люша стала жертвой того железного движения, в котором столько лет участвовала сама и в котором одном была победа. Но сегодня ей нужно было протяжённое сочувствие, заботы, подбодрение, – их не хватало, и состояние покинутости обняло её – покинутости в ощеренном мире.
Однако удар никак больше не упал на наш круг (именно – от ярости и успешности боя, в нём – и было спасение всех). И храненья были целы. Постепенно выздоровление Люши снова подвинулось и открыло место заботам об И. Томашевской, тяжело больной в Крыму. А в октябре – вдруг пришло из Гурзуфа известие о смерти Ирины Николаевны (очерк 14). Ещё один удар по невыздоровевшему мозгу, ещё один вихрь забот.
Осенью из Фирсановки я уже уехал, у Ростроповича не жил уже с весны, в Москве с семьей – не допускала жить милиция, – и с ноября Лидия Корнеевна пригласила меня на зиму опять в Переделкино. Но оттого мы не стали с Люшей встречаться чаще. Уже был жестокий и предфинишный ритм, я спешил окончить, что мог, – предисловие к «Стремени Тихого Дона» и, главное, статьи для «Из-под глыб». Вполне понимая, как сложно будет принять, как чужи придутся и матери и дочери Чуковским эти статьи, я решился начать им давать читать. Лидия Корнеевна прочла «Письмо вождям» – и, к моему удивлению, одобрила (для неё всегда высшей меркой было сравнение с Герценом: Герцен тоже писал Александру II письмо), прочла две статьи из «Глыб» – чужевато, но не рассердилась. (Есть у неё расположение к широте взглядов.)
Не то – с Люшей. Это впервые брала она читать моё написанное с неведением и опозданием в несколько месяцев, когда оно уже двинулось (и тем вождям и на Запад). А ещё и три статьи «Из-под глыб» – густо! непереносимо! И вулканически прорвалось в ней – с особенной страстью против православия и патриотизма. Люша читала – и почти бранилась, писала на листках, но, сама себя в нетерпеньи опережая, наговаривала свою сердитость на диктофонную плёнку, чтоб не потерять самых хлёстких выражений, где обронена была так свойственная ей интеллигентская уравновешенность, – а уж с плёнки потом переписывала на листки. Она поносила и разносила меня с такой резкостью, какой не бывало никогда между нами. И всё равно листки получались безпорядочны – и с ними она спешила сама в Переделкино, выговорить это мне. Здесь была и та эмоциональная подстановка, какая бывает в женских спорах: раздражение по одному поводу переносится совсем на другой. Но было и безжалостное обнажение, чего никак же не могла она вдруг принять: что неужели столько лет, что лучшие силы она отдала служению – чему же? Насколько верней, насколько обязанней было ей помогать – деду в его последние годы. А теперь – слепнущей матери, работающей с такими невероятными трудностями.
Снова я вышел в столовую из той комнаты, как 8 лет назад, тогда – знакомиться с Люшей при мягком электрическом свете, теперь – тяжело объясняться при пасмурном январском. Так и не выздоровевшая, бледная, худая, в чём держалась душа? – она с последней страстью вела монолог против моего немыслимо позорного православно-патриотического «из-под глыбного» направления. Сказала: «Я теперь понимаю, что не зря в моих жилах течёт и еврейская кровь». Возражал я – вяло, и – переубедить нельзя, надо было этим заниматься раньше, и – чувства не переубеждаются, да и было всё это – в январе 74-го, не самое подходящее время для ссор. Люша – истощилась в этом монологе, ей нужно было лечь, отдышаться, отдохнуть. Я с болью, с грустью видел, как много упущено на многолетнем пути и как поздно уже исправлять.
Но даже и в те месяцы, и после этого разговора, – она просила работы. События катились уже не в её управлении, а она – просила работы, хотела опять помогать! А у меня что ж было в это время? Я мог только дать ей готовить хронологическую сетку Февральской революции, выбирать из вороха революционных событий – фрагменты, справки о лицах. Не опустила рук, хвала ей! И до самой моей высылки и после неё выстаивала достойно. Вопреки своей среде, воспитанию, сознанию – моё открывающееся – чужое? – несла и несла на себе, держала плечи под моей задачей как завороженная, шла и шла вперёд.
В эти недели – исключена была и Лидия Корнеевна из Союза писателей. (И – хорошо громыхнула им в ответ.)
Затем вскоре меня выслали – и в наш осаждённый развороченный дом, откуда всё управление и эвакуацию перегруженными руками вела Аля, – Люша вновь приходила, каждый вечер после работы, под накалом тех часов сидела за моим столом, разбирала, сортировала по конвертам заготовки, материалы, многие из которых или сама печатала, или знала. Готовила архив к переправке за границу, которая ещё неизвестно было, удастся ли Але.
Первые месяцы после моей высылки были у Чуковских тяжелы. И дочь и мать осыпали почтовыми анонимками – то в стихах, то с матерной бранью, то с сообщением, что «лев убит», то – что «будет убит». Шпики и провокаторы нагло лезли в переделкинскую дачу, по-музейному открытую для всех. Стукач-швейцар в городском парадном останавливал посетителей Чуковских, придираясь, что с ним, швейцаром, не поздоровались вежливо (а задержанному – 75 лет!). По слепоте Лидия Корнеевна могла писать только чёрными фломастерами из-за границы, – на таможне портили их или наполняли розовой жижей, – неисследимые государственные возможности гадить, и так мелко, что даже лень и стыдно протестовать публично.
Под мой день рождения, первый в изгнании, Люша, чтоб согнутой не ходить, послала мне в Цюрих поздравительную телеграмму – врагу народа № 1, и с восхищением! ГБ этого не снесло. Рано утром по телефону – типичный диалог:
– Елена Цезаревна, с вами говорит такой-то из КГБ. Это вас не пугает?
– Нет, почему же?
Оно и правда, не 30-е годы, не леденит, как раньше, уже высмеяно КГБ.
– Вот и хорошо, значит вы у нас сможете быть во вторую половину дня.
– Нет, не смогу.
– А когда вам удобно?
– Мне вообще неудобно к вам приезжать.
– Ну, тогда мы сами к вам заедем.
– Это было бы крайне нежелательно.
– Как же быть?
– Пришлите повестку.
– Ах, так значит, вы признаёте себя виновной и хотите, чтоб на вас завели дело?
Всего фехтования не выдержишь:
– Да нет… Но таков порядок…
– Я с вами вежливо говорю, как с женщиной.
– А с мужчинами – невежливо?
Оттуда всё твёрже:
– Я вам звоню и прошу приехать.
Люша, злясь и тоже взвинчиваясь:
– Я не «скорая помощь», по телефонным звонкам не выезжаю.
– А когда вы будете на работе?
– Не собираюсь вас информировать.
– Ну хорошо, мы вас схватим на улице!
– Буду громко кричать, звать прохожих!
– Но вы же не всегда кричите!
(Намёк на лестничный случай. Вот и подтвердили, что это – они.)
– Но теперь буду кричать обязательно!
– Зря вы так разговариваете. Ведь мы всё время с вами.
– Ну, прямо как господь бог!
– Нет, господь бог – с вашим другом.
– С каким другом? У меня много друзей.
– Которого вы пишете с большой буквы. – (Перехватили левое письмо?..) – Всё же хотелось бы поговорить с вами неофициально.
Обозлилась доверху:
– Запомните, что никаких неофициальных разговоров с вами у меня не будет, только официальные!
И – швырнула трубку!
И – не приходили. И – не тронули.
Твёрдость духа им надо показать! – это Люша усвоила в нашей борьбе. Но легко ли это даётся одинокой женщине, против сытой многорылой длиннорукой машины?
Потом серия звонков изо дня в день:
– Сегодня – ждите бедуинов!
– Верблюды – уже в пути!..
Как будто – всё из Ильфа-Петрова, а – страшновато?
После нескольких покойных месяцев только порадуется: «оставили меня в покое», – тут же – взлом в оставленную на день квартиру, обыск.
И – отомщали гебисты на книгах Чуковского: и «Чукоккалу» его, и даже переиздания его детских книг, и даже книги о нём – всё останавливали мстительно.
Но – хотя прошла самая опасная первая пора, когда человек ещё криминально спаян со своими недавними делами, – ещё всякое может её ждать. Недавно – не удержалась и на институтском собрании стала меня защищать. На некоторых допросах других людей называют её гебисты «начальником контрразведки Солженицына».
На случай ареста она приготовила простейшую линию: ничего не отрицать, не путать, а – да! помогала русской литературе! – и больше разговаривать с вами – не желаю.
После моей высылки она ещё многие годы опекала мою старую безпомощную тётю в Георгиевске. И «по левой» писала, слала мне многое деловое в Цюрих.
Знакомство со мной помогло Люше в ту далёкую осень подняться из душевного упадка. Дало участие в жгучей борьбе. Но оно же – забрало годы её, душу её и проволокло трагической орбитой – полувопреки убежденьям – куда?..[68]
9. Наталья Ивановна Столярова и Александр Александрович Угримов
Когда в 1906 году на Аптекарском острове в Петербурге намечено было революционерами взорвать дачу Столыпина и так убить его вместе с семьёй (и убили три десятка посетителей и три десятка тяжело ранили, с детьми, а Столыпин остался цел), – одна из главных участниц покушения, «дама в экипаже», была 22-летняя эсерка-максималистка Наталья Сергеевна Климова, из видной рязанской семьи. Она была арестована, вместе с другими участниками покушения приговорена к казни. Сама Климова не просила помилования, но это сделал за неё отец, ни много ни мало – член Государственного Совета. По его просьбе император помиловал двух участвовавших женщин – Наталью Климову и Надежду Терентьеву, купеческую дочь. Заменили им на вечную каторгу. (В ожидании казни Наташа Климова написала на волю предсмертное письмо, которое было позже напечатано и вызвало печатный же отзыв С. Л. Франка: оно «показывает нам, что божественная мощь человеческой души способна преодолеть» даже страдания от неотвратимости насильственной смерти, «эти шесть страниц своей нравственной ценностью перевесят всю многотомную современную философию и поэзию трагизма».) Начало срока Климова отбывала в Новинской тюрьме в Москве, там скоро очаровала и духовно подчинила надзирательницу – и с её помощью устроила знаменитый «побег тринадцати» женщин. (В советское время был написан киносценарий об этом побеге, но съёмка запрещена, так как среди беглянок не было ни одной большевички.) На воле уже их ждали. В ночь после побега Климову отвезли в дом либерального адвоката, где она и жила в безопасности месяц, пока жандармы стерегли рязанский дом Климовых и имение. Затем она приняла облик глубокого траура, и адвокат проводил её на поезд, идущий в Сибирь. Она перебралась в Японию, а оттуда поплыла в Лондон – к Савинкову, снова в Боевую Организацию (террористическую). Под Генуей на «даче амазонок» собирались бежавшие из Новинской и другие политкаторжане. Тут она вышла замуж за революционера-эмигранта Ивана Столярова, родила от него двух девочек. В 1917 он уехал вперёд, в петроградское кипенье, оставив жену беременной. Третья девочка вскоре после рождения умерла от испанки, двух старших мать успела выходить, но сама тоже умерла.
Настолько тесно сходилась тогда в Париже вся революционная Россия, что нашёлся из той же Рязани, с той же улицы, из соседнего дома сын рязанского судьи Шиловский, тоже политэмигрант, меньшевик, который удочерил и воспитал девочек (старшая из них – Наташа). Хотя говорят, что две любви не умещаются в сердце, у Наташи уместились и полночувственная любовь ко Франции и пронзительно-преданная к России (не к революции, которой служила мать). В начале 20-х годов, 11-летней девочкой, Наташа ездила в гости к отцу в Петроград (тогда это возможно было, ещё и в Рязани центральный сквер тогда звался именем Климовой – родной дом её неподалёку, у того сквера) – и загадала, что непременно сюда вернётся, – вот когда ей будет 20 лет. Сестра её Катя, оставшаяся во Франции, говорит: Наташа очень повторяла мать – яркостью характера, благородством всеобъёмных намерений, высокими движениями души и вместе – взбросчивостью к действию, дерзостью в совершеньи его. Так и свой замысел – вернуться на родину, она провела неуклонно, при трезвых отговорах и справедливых огорчениях парижского эмигрантского круга: когда не ехал никто, когда это было безумием явным – в декабре 1934, сразу после убийства Кирова! (И – никогда не пожалела, даже в лагерной пропасти, а тем более теперь, уже и свои руки приложив к возрожденью духа страны. Если б, как она, миллионы теснились бы так – в огонь и в опасность, может текла бы наша история побыстрей.)
Отец Наташи уже был и сослан под Бухару в эсеровской куче, и вытащен оттуда Е. П. Пешковой (она и сама была эсерка в прошлом), теперь встретил дочь, – а на расстрел арестован уже после ареста дочери. Наташе дали всё-таки два года если не России, то советской воли, арестовали в 1937 (добровольное возвращение в Союз? конечно шпионка; ну, не шпионка, так контрреволюционная деятельность). В первой же лубянской камере она встретила… товарку своей матери по побегу из Новинской тюрьмы! Прошла жестокий общий путь (и он – не соскользнул с её души, не забылся, горел) – и особенно жёстко достался ей слишком «ранний» возврат на волю, в 1946, когда ещё никто не возвращался, ещё это было непривычно слишком, не готова была советская воля принимать отсидевших зэков. После многих злоключений она в 1953 сумела (и то – ходатайством Эренбурга и других влиятельных лиц) получить право поднадзорного житья в родной Рязани, откуда мать так легко ушла на революцию. Преподавала здесь французский. Годы ушли у неё и на бурную личную жизнь, и наверно, сама она ещё не подозревала, что прикоснётся ко взрывным действиям против советского режима.
Потом облегчалось время – разгибалась и Наталья Ивановна. В 1956 переехала в Москву; дочь Эренбурга (с которой Н. И. училась в одной школе в Париже) уговорила отца взять Н. И. секретарём. К нему как к знаменитости лились письма с просьбами, шли просители, и многие из них были бывшие зэки – так Н. И. пришлась очень к месту. (У Эренбурга и дослужила она до его смерти.)
В Рязани же бывший климовский сквер, в угрожаемой близости от обкома партии, горожанами теперь избегаемый и обкому ненужный, я застал безымянным, никакого следа никакой Климовой. Я узнал всю историю от самой Н. И., когда она объявила мне о нашем двойном землячестве: по Архипелагу и по Рязани.
Это сделала она весной 1962, схитрив (и невинная хитрость, и решительность – всё её): передала мне через Копелева, что нечто важное должна мне сообщить (а просто – хотела познакомиться; он объяснил мне, что – бывшая зэчка). То было время таинственных движений рукописи «Денисовича», уже известно было, что в числе других, имеющих вес, читал Эренбург. (Никому только не известно, как он мог прочесть из первых, когда Твардовский меньше всего с ним собирался делиться. Всё придумала Н. И. Прослышав о повести, она пошла в редакцию «Нового мира» и у Закса просила рукопись от имени Эренбурга. Закс поворчал, но такому имени отказать не решился. Посмотрела – а на первой странице новомирцами написанное: «А. Рязанский» – и ахнула: да не земляк ли?) Тотчас отправилась к другу-фотографу – Вадиму Афанасьеву («Кожаная куртка», муж её двоюродной сестры, он и для нас потом иногда работал, помогал), и отдала переснять мгновенно. И лишь затем отнесла Эренбургу. – Бедный А. Т. не оценивал современных технических средств. И так запорхало по Самиздату, к его недоумению и тревоге, к моей глупой тогда радости, на самом же деле – губительно-опасно для судьбы повести.) Теперь сообщение Н. И., очевидно, с какими-то новостями о движении рукописи, о мнении важных лиц? – и я довольно нехотя позвонил ей по эренбурговскому телефону, как она предложила. Наталья Ивановна тут же настойчиво пригласила меня в квартиру Эренбурга. (Ничего не сказано было прямо, но из её оживления и настояния так можно было заключить, что её патрон сидит там рядом и изнывает?)
Я пришёл. Эренбург (которому повесть, кстати, сильно не понравилась) оказался ни при чём и за границей, но сидели мы в его кабинете. Н. И. сплетала какие-то новости, однако их явно не набиралось, чтоб оправдать мой визит. (А она, наверно, искала, как подбодрить автора?) На кого б другого я б рассердился тут, но на старую зэчку, с сохранённым живым чувством нашего племени и памятью наших островов, не мог. Да и она звала меня не просто подивоваться, но и – проверить, убедиться, насколько устойчиво во мне моё направление, насколько готов я к ближайшим для меня испытаниям, не отманят ли меня в сторону, не засиропят ли. Разговор наш сразу обминул литературные темы, стал по-зэчески прост, и я невольно переступил границы осторожности, обязательные для советского, а тем более литературного, передатчивого мира; коснулись восстаний в каторжных лагерях, услышал от неё: «Так об этом же всём написать надо!» – не смолчал, не плечами пожал, но приоткрыл: «Уже написано!» И в ответ увидел – вспышку радости. Уже на пороге, вполголоса от эренбурговских домашних, напутствовала: не ослабнуть, не свихнуться на предстоящей славе. «Не бойтесь! – заверил я спокойно, – не свихнусь!» (Потом говорила: «Именно отсюда и пошла моя к вам преданность. Да с каким предчувствием? – выйду из квартиры, спущусь на марш – вдруг сильно тянет назад. Что забыла? вернусь – и ваш телефонный звонок. И так – несколько раз».) Уж это-то я знал твёрдо, что славой меня не возьмут, на стену советской литературы всходил напряжённой ногой, как с тяжёлыми носилками раствора, не пролить. А вот сегодня – не пролил? не сказал лишнего? Говорило сердце, что – нет, что наша. Так и оказалось.
С установившимся между нами сочувствием виделись мы мельком раза два, существенного не добавилось, но доверие у меня к ней укрепилось. Странные у неё были сочетания: самых путаных представлений о мировых событиях – и неколебимого отвращения к нашему режиму; крайней женской безпорядочности, нелогичности, в речи, в поступках, – и вдруг стальной прямоты и верности, когда касалось главного Дела, чёткого соображения, безошибочно дерзких решений (это я потом, с годами, всё больше рассматривал). Превосходного воспитания, чутко тактичная, ненавязчивая, лёгкая – и надменно твёрдая перед ГБ (годами позже достались ей опять допросы, на Лубянке, только не нашу главную линию уследили).
Вдруг как-то через годок Н. И. со своими друзьями приехала в свою старую Рязань, заглянули ко мне. И почему-то в этот мимолётный миг, ещё не побуждаемый никакой неотложностью (ещё Хрущёв был у власти, ещё какая-то дряхлая защита у меня, а всё ж не миновать когда-то передавать микрофильмы на Запад), – я толчком так почувствовал, отвёл Н. И. в сторону и спросил: не возьмётся ли она когда-нибудь такую штуку осуществить? И ничуть не поколеблясь, не задумавшись, с безтрепетной своей лёгкостью, сразу ответила: да! только – чтоб не знал никто.
Перворождённое наше доверие сразу сделало скачок вперёд.
Капсула плёнки у меня была уже готова к отправке – да не было срочности; и пути не было, попытки не удавались. Но когда в октябре 1964 свергли Хрущёва! – меня припекло: положение привиделось мне крайне опасным: острые зубы врага должны были быстро, могли и внезапно, лечь на моё горло. (Предусмотрительно приписывал я режиму его прежнюю революционную динамику, как рассчитывался он со многими до меня. Оказалось: динамика настолько потеряна, что для этого прыжка ещё понадобится: до первого обыска – 11 месяцев, до первого решительного удара – 9 лет.) Известие застало меня в Рязани. На другой день я уже был у Н. И. в Москве и спрашивал: можно ли? когда?..
Отличали всегда Наталью Ивановну – быстрота решений и счастливая рука. Неоспоримое лёгкое счастье сопутствовало многим её, даже легкомысленным, начинаниям, какие я тоже наблюдал. (А может быть – не лёгкое счастье, а какая-то непобедимость в поведении, когда она решалась?) Так и тут, сразу подвернулся и случай: сын Леонида Андреева, живущий в Женеве, где и сестра Н. И., они знакомы, как раз гостил в Москве. Н. И. сощурилась и решила: попросит Вадима Леонидовича, уверена – не откажет!
Она назначила мне приехать в Москву снова, к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем. И вечером у себя в комнатушке, в коммунальной квартире, в Мало-Демидовском переулке, дала нам встретиться. В. Л. оказался джентльмен старинной складки, сдержанный, чуть суховатый, отменно благородный человек, – и, собственно, это благородство уже и закрывало ему возможность выбора, возможность отказать в такой просьбе – для русской литературы да и для советских лагерей, где и его родной брат Даниил долго сидел. (Говорила мне потом Наталья Ивановна, что В. Л. считал такое предложение для себя и честью.) И жена Ольга Викторовна, падчерица эсеровского лидера Чернова, была тут же, весьма приятная сочувственная женщина, одобрявшая решение мужа и разделявшая все последствия. И вот они, формально такие же советские кролики, как мы, не защищённые не только дипломатическим иммунитетом, но даже иностранным гражданством (паспорта у них были советские, в послевоенном патриотическом энтузиазме части русской эмиграции В. Л. перешёл в советское гражданство, отчасти чтобы чаще и легче ездить на родину), – они брались увозить взрывную капсулу – всё, написанное мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до «Круга»! Да не знали, не вникли они, что именно там есть, но достаточно вникли, что – взрывчатое. И – везли, такое решение уже состоялось прежде нашей встречи.
Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни! Что грезилось ещё в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным – вот совершилось обыденно тихо, в вежливом негероическом разговоре. Я смотрел на супругов-стариков как на чудо. О самой операции почти даже не говорили. Вынул я из кармана тяжёлую, набитую алюминиевую капсулу, чуть побольше пинг-понговского мяча, – приоткрыл, показал им скрутки – положил на чайный столик, у печенья, у варенья. И Вадим Леонидович переложил в свой карман. Говорили же – о синтаксисе, о месте прилагательного относительно своего существительного, о жанрах, о книге «Детство» самого В. Л., вышедшей в СССР и которую я читал. А Наталья Ивановна подбила меня рассказать о самом поразительном, что я в себе носил, – о лагерных восстаниях. Старики-женевцы слушали, изумлённые.
И неужели вот так просто сбывается – вся полная мечта моей жизни? И я останусь теперь – со свободными руками, осмелевший, независимый? Уже такой остроты, такой опасности – никогда не повторится! Вся остальная жизнь будет уже легче, как бы с горки.
И дар такой принесла мне Наталья Ивановна! – Ева, как я стал её вскоре зашифрованно называть. Случайность и даже лукавство было в нашей первой ненужной встрече у Эренбурга. А через такие неузнаваемые случайности врезалась лучами неизбежность; получить помощь от зэческого континента, и от осколков размётанной эмиграции, и от Рязани, – от России.
31 октября 1964, через 2 недели после воцарения Коллективного Руководства, моя маленькая бомба пересекла границу СССР в московском аэропорту. Она просто лежала в боковом кармане пиджака В. Л., он не знал никаких приёмов, – а таможенник, по паспорту, поинтересовался: вы не сын писателя? И дальше пошёл разговор о писателе, досмотра серьёзного не было. Капсула прошла как бы под сенью Леонида Андреева. (Казалось тогда – благоприятной.) Ева провожала друзей, и те ещё успели дать ей понять об успехе – переговариваясь с одной воздушной галереи на другую.
Когда через год провалился мой архив у Теуша, и следа уже не было прежней лёгкости от отправки, но вся жизнь, казалось, была погребена под навалом чёрных скал, я мрел на даче Чуковского, – вдруг к ужину как ангел светлый (но в тёмном поблескивающем платьи) приехала к Корнею Ивановичу по какому-то делу – Ева! – да только что из Парижа, ещё овеянная тамошней лёгкостью, ещё не адаптированная снова к нашей собачьей хватке. Она не ожидала меня здесь, я не ожидал её! Её приезд был просто сверхчудом (опасаясь дать след, я не мог бы ни позвонить ей, ни приехать, а так нужна была живая ниточка – туда, в свободный мир!). Мы сделали вид, что незнакомы, и Корней Иваныч снова знакомил нас. За ужином Ева слушала, слушала о нагроможденьи здешних преследований, и вырвалось у неё: «Да, в этой стране не соскучишься!» Это – сразу после Парижа (где могла она остаться навсегда), – но вот удивительно: опять без нотки сожаления и о своём нынешнем возврате! Потом надумал К. И. провожать её на станцию, а мне-то надо было говорить с ней в этой вечерней тьме, секретно, – еле убедил я с полдороги К. И. и Люшу вернуться. А мы с Евой брели дальше на станцию, какой-то счастливый дождь на нас лил, мы говорили и уговаривались, как всегда сбивчиво, с ней не сбивчиво нельзя, – и ощущение было просто небесной поддержки, такой всегда лёгкой, улыбчивой, безкорыстной.
Ева стала для меня – вторым воздухом. Только через неё моя подземная работа вдруг освещалась лучиком оттуда – как движутся там наши дела, перевод «Круга» на английский. Довольно было ей дать мне знать, выразить намерение, – мы встречались тотчас. И во всякий приезд в Москву я старался увидеть её. Где только не вели мы с ней наших переговоров: то, встретясь будто бы случайно в книжном магазине в доме Эренбурга, бродили по проходным дворам и скверикам центра (так открыла она мне бахрушинский двор, где, не ведал я, с 70-го года будет жить моя будущая семья и откуда возьмут меня на высылку); то – бульварами; то – во дворе Петровского монастыря; то – приезжала она ко мне на дачу в Рождество, и мы отсаживались ото всех или уходили в лес, разговаривать привольнее. Необходимость стольких встреч, договоров, пере-уговоров и пере-пере-уговоров не столько диктовалась самим делом, сколько объяснялась свойствами нашей (она уже и с Люшей была закорочена) подруги: в живом разбросчивом разговоре, сама же нарушая его систему, она постоянно упускала что-то важное, потом тревожно звонила, что надо встретиться, – и выясняла (и то не окончательно) это упущенное. Я постоянно упрекал её (а она – меня) в неосторожности, в опрометчивости, но вот поразительно: она путала во второстепенностях, а как наступало решительное – действовала чётко, смело, куда все промахи? В самые опасные моменты её охватывало не только безстрашие, но и крайняя «натуральность» поведения, – вероятно, как и у матери её. (А как Ева читала готовый «Архипелаг»! – вот это её стиль: потащила все три тома машинописи на свою службу – на квартиру Эренбурга. А он как раз в эти дни – да умер. Тут начнётся – опись, комиссия? Кинулась уносить, жена Эренбурга задерживает: «Что выносите?» Вскипела: «Да неужели вы меня за столько лет не знаете, можете подозревать?!» Унесла.)
Напряжённый темп дела очень гнал меня всегда, не хватало времени просто с ней поболтать или полюбоваться. Но эманациями ото всех, от многих встреч соединялось: какое прирождённое неусыпное благородство в ней (не допустить движенья на низшем уровне), как она пронизана щедростью, как соединяются в ней – гордость, и ненавязчивость, и совершенная дружеская простота.
Лёгкость руки!.. В мае 1967, разослав 250 экземпляров «Письма съезду писателей», я отсиживался в Переделкине у Чуковского. Вот и 11 дней прошло от письма, уже и съезд кончался, а – нигде на Западе не напечатали, не объявили. Откуда ни возьмись – Ева, на другой даче в гостях, но позвонила и мне, вызвала погулять. И похожего плана у меня не было, во мгновенье у неё родилось: «А у вас есть лишний экземпляр? Давайте, отправлю сегодня!» (Она не без этой мысли и привезла в Переделкино французского искусствоведа Мориса Жардо, а у него хорошие связи с «Монд», и она взяла с него обещание.) И через три дня письмо появилось в «Монд», загромыхало, – и кампания была выиграна! – Произошёл ли казус с телеграммою «Граней», надо было срочно понять, кто такой Виктор Луи, – являлась та же Ева, deus ex machina, и разъясняла: знала его по Карлагу, московский мальчик, предлагавший иностранцам обмен валюты, сомнительное поведение в лагере.
При самом начале не зря попросила Ева: только, чтоб никто не знал. Она определённо и именно имела в виду мою тогдашнюю жену Решетовскую. (Ева видела эту опасность несравненно раньше меня.) Однако весёлые, дружеские, простецкие наши отношения с Евой не могли скрыться от жены. К тому ж наши непрекращаемые, никогда до конца не разъяснённые дела всё влекли нас пошептаться, отделиться, даже когда Ева приезжала просто к нам домой. Этого всего нельзя было ни достичь, ни объяснить иначе, как сказав жене, что мы занимаемся делами слишком серьёзными, теми, то есть – заграничными. И Ева как будто это понимала. Но осенью 1965, когда уже разворачивалось следствие над Синявским, – Ева на скрытой встрече спросила меня: «Но ваша жена ничего не знает?» Да прямо, из моих уст, она не знала ничего, но имела глаза, но – видела. (Можно бы уверенно сказать, что только об участии Андреевых она не знает ничего, но и то: два года спустя у «Царевны» на квартире при семи-восьми собравшихся, средь них и моя жена, была такая встреча: привезенная Евою молодая Ольга Андреева-Карлайл из Соединённых Штатов вышла со мной шептаться на балкон.)
Над Евой уже тогда нависла тень опасности и, мрачна, черна, висит посегодня. Предчувствие не обмануло её за много лет вперёд: в 1973 на Казанском вокзале Н. Решетовская прямо угрозила о Еве, назвала её, и только её одну, как пример, кому КГБ будет мстить за напечатанье «Архипелага». (Именно эта угроза и понудила меня высказаться открыто летом 1974 в интервью CBS.)
Правда, уже два года скоро с того. Перевисевшие тучи не дают грозы. Храни Бог!
В одну из встреч в начале 1966, я только приехал из Укрывища, ещё в движеньи «Архипелага», Ева познакомила меня со своим близким другом Александром Александровичем Угримовым, – отначала же с намерением, что и он будет мне помогать.
Сразу же очень понравился мне этот человек – так и дышало от него несомненной надёжностью и – юмором. Даже мне показалось – постоянно-смешливым настроением, что уж вовсе безценно в конспиративном горении, но это качество я переоценил, наверно – счастливый был период в его тяжёлой, в общем, жизни. Зато ещё многие его качества мне предстояло испытать в будущем, например – тонкий аналитический ум, проницательную осторожность. «Под потолками» не разговоришься (квартиру Евы, теперь в Даевом переулке, я считал весьма ненадёжной, Ева свободно встречалась со многими иностранцами, и перезванивались часто – а в этом-то и была её дерзкая тактика открытости: иностранцы и французские дипломаты знали её, и это укрепляло её против властей), – пошли бродить, выясняя, чем же Александр Александрович может мне помочь. И он предложил мне то, что после провала моего архива было ценней всего: хранение! Хранение – даже многих объёмов и в нескольких местах, по железной системе: не у него самого, а у так называемых «кротов», которых, по его условию, я не буду вовсе знать. (И так он это выдержал, что вот и сегодня почти никого назвать не могу, хотя они передержали мой динамит уже 8 лет.) Я закоротил его с эНэНами – и оттуда он взял моё второе главное хранение, спасённое от Теушей, которое за годы и годы потом удесятерилось в объёме, – ведь мы дальше стали всё на машинках гнать и не считали объёмов – так устроил всё хорошо и просторно А. А.
Отец Александра Александровича А. И. Угримов был помещик, профессор агрономии, президент московского Общества сельского хозяйства, а в 1917 короткое время и – директор департамента земледелия. Мать – из известной еврейской семьи, дочь адвоката Гаркави, но христианка, член Московского Религиозно-философского общества, детей воспитала в православной вере, и наш А. А. (рожд. 1906) мальчиком прислуживал у о. Иосифа Фуделя; укоренённая глубинная церковность, но без фанатизма, осталась в нём на всю жизнь. В 1922 вся семья их с отцом была выслана за границу. В берлинской эмиграции приходилось А. А. работать и шофёром и электротехником, потом переехал во Францию, кончил сельскохозяйственную школу и стал мукомолом. Как и многие в эмиграции, он со страстью относился к политическим течениям. Сперва примкнул к монархистам-легитимистам, потом побывал и «младороссом». Во Вторую Мировую войну активно участвовал во французском Сопротивлении. После войны восстановил своё советское гражданство, мечтал вернуться на родину и поднимать её после военной разрухи. Нам, советским горьким арестантам, непонятен был этот порыв – а им, после четверти столетия в изгнании, – как же хотелось и верилось! – что наступили коренные перемены и хоть в ущербе, но возвращается исконная Россия. А. А. восхищался доблестью Красной Армии и превозносил Сталина за победу над Германией, реванш за 1914–18 годы. (Правда, жена А. А. совсем не разделяла его надежд.) Он вступил в «Союз советских граждан» и вместе с ними всеми был выслан из Франции в конце 1947. А на родине очень вскоре был арестован и он, и жена, и сестра жены, и тёща – по известному «делу Даниила Андреева», только престарелый отец А. А. не был посажен. (Чувство вины, что погубил семью, вверг её в пропасть, всю жизнь потом разрывало его.) А. А. прошёл жестокое следствие в Лефортовской тюрьме, получил многие пункты 58-й статьи, и за связь с мировой буржуазией и по подозрению в том, что заслан в СССР (награды союзников ещё отягчали его дело), – получил, впрочем, «нормальную» десятку, лишь с конфискацией всего имущества. А тут как раз уже создались Особые лагеря, и послали Угримова в Речлаг на Воркуту. Там летом 1953 попал он и в лагерную забастовку. И всё это пережив – он всё-таки не жалел о своём возврате на родину и даже вообразить теперь не мог своей жизни без этих лагерных лет. Правда, говорит: «Россией больше не восхищаюсь, русский народ больше жалею, чем люблю. На будущее страны и всего человечества смотрю крайне пессимистически».
А мне показался вначале таким весельчаком…
Сперва придумали мы с А. А. для прочности хранения, что и мы с ним тоже встречаться не будем, между нами пока тоже будет промежуточное звено. На эту роль согласился Георг Тэнно, но вскоре заболел, выпал. Да «помешала» и тесная дружественность, установившаяся между А. А. и мной: оказалось интересно и просто встречаться, поговорить, посоветоваться. При дружбе его с Евой, потом через нас – с Алей, правила осмотрительности были нами нарушены, мы и вчетвером любили встречаться, и позже А. А. часто заходил к нам в семью. Тут ещё пригодился и легковой автомобиль А. А. (далеко не у всякого есть, а тут – доверенный, свой, секретный), – и ещё в перебросках он много нам помогал. (Сам и предложил, как зашифрованно звать его: «Данила, кучер». Так и привилось – Данила.) Уж этой его машиной мы даже и злоупотребляли: в ней устраивали какую-то совсем ненужную мою встречу с Евиным подопечным итальянским журналистом. Данила уже и просто по быту приезжал в Рождество, давая, быть может, заметить свой номер. (При жене я называл его: «Александр Николаич».) Он же привёз в Рождество Люшу и Кью на печатанье «Архипелага». (А мне в подарок – старинный особый сейфик без ключевой углубины, я тут же его с частью рукописей закопал в землю, не сообразя, что именно так миноискателем легко найдётся, рукописи надо закапывать не в металле.)
Летом 1971 понадобилось мне ехать на юг – одному нельзя, и на моей машине считалось опасно, – взялся везти меня Данила на своей. В Новочеркасске к вечеру пошли у меня крупные волдыри по телу, я думал – солнечный ожог, пройдёт? Ещё прокатили мы с А. А. до Тихорецкой, и ещё немало нам предстояло вместе повидать, побыть – но стало мне так худо, что пришлось возвращаться в Москву. (Выезжали мы конспиративно, ГБ очевидно засекло, что я уехал, но не сам наш выезд, – и не выследило в пути? – Однако смотри Добавление 1992 г.)
А хранение А. А. всё увеличивалось, уже он вёл две системы учёта: одну для Али («почтовые марки»), другую для Люши, не пересечных. Уж ближе к моей высылке условия построжели, мы стали переклоняться как бы к незнакомости.
Объединяю Еву и Данилу здесь в один рассказ, потому что с 1966 все замыслы и действия их в помощь мне были общими. Через них проходило и дальнейшее развитие с посланной плёнкой «Круга» – ведь Вадим Андреев был другом А. А. по эмиграции (и обвинительно входил издали в дело своего брата, то есть следственное дело А. А.). Ева и Данила вместе участвовали в подготовке и устроении моих свиданий то со стариками Андреевыми (те иногда приезжали в отпуск в СССР), то с Ольгой Карлайл, их дочерью, то с Сашей, их сыном. Ева и Данила постоянно были то свидетелями, то советчиками, то передатчиками. Насколько А. А. любил стариков Андреевых, настолько он всегда испытывал антипатию к Ольге Карлайл – но роковым образом не вмешался и не предупредил меня. (Я и сам должен был видеть, да понуждала исключительность встреч, краткость, опасность их и уже сделанный нами выбор Андреевых.)
В первых числах июня 1968 мы в Рождестве допечатывали «Архипелаг», в Париже бурлили революционные студенты, восхищённый их подвигами Саша (Александр Вадимович) Андреев приехал на недельную командировку в Москву с группой ЮНЕСКО. Весело звонил он Еве, что везёт ей подарки, вот расскажет о славных студенческих волнениях, которым москвичи так обывательски не сочувствуют («чего бесятся? пожили б у нас, узнали!»), – а у неё враз составилось, лишая покоя и сна: не судьба ли? не послать ли сейчас с Сашею «Архипелаг» на Запад?
Об этих нескольких грозных днях она тогда же написала короткие заметки, потом сожгла их; в 1974, уже после моей высылки, снова написала, Аля вывезла их, теперь я использую. И вот: и до и после этого Ева много рисковала с моими делами, но по запискам так рисуется, что всех прочих опасностей она не ощутила в меру, была ли внутренне безпечна? Нет, это манера у неё такая безпечная, внешняя. Но «Архипелаг» для неё занимал размеры выше всех наших судеб, размеры самой России. Эта операция далась ей десятидневным сверхнапряжением, не забываемым и сегодня.
Сперва: не дать же «Архипелагу» пропасть. Оставаться ему вечно здесь – погибнуть. Но в Сашиных руках попасть на таможне – ещё большая гибель и книге, и автору, и всем, – сколько имён в «Архипелаге» названо, ещё живых! – и ему самому. И опять – Андреев, допустимо ли его просить? И – согласится ли? Зато – руки чистые: не корыстные люди, с русским подлинным чувством, и не используют во вред. Упустить этот случай – а когда представится сходный потом?.. Эти сомненья Ева разделила с А. А., и, сколько можно понять, он – отговаривал её, напомнил, что занят более важным – постоянным хранением. (И всю историю за 10 лет теперь оглядывая, считаю, что он был прав, очень благоразумный человек.) Однако Ева уже загорелась и остановить её было трудно. Приехали в Рождество, вызвали меня в лес. Из заметок видно, как трудно ей решение давалось, ещё и не далось вполне, – мне же, помню, говорила с такой убеждённостью (всегда победоносная!), что быстро поборола мои сомнения. И правда, такое стечение: в самый день окончания «Архипелага» (и с запасом дней на пересъёмку плёнки), – и в чистые руки! Как отличить свободу нашего решения от Божьего начертания? Решили, без юноши: да! Впрочем, вспоминает Ева, я сказал им: «Действуйте, только если будет 99 % на успех, не иначе». В операции этот процент был, пожалуй, сильно не достигнут.
Саша принял вопрос обречённо-спокойно, он, оказывается, и предчувствовал, что его будут просить. – Тебе не страшно? – Страшно. Но я всё-таки русский. – Через день предложил он такой вариант: киномеханик будет отправлять контейнер с киноматериалами их группы, его и попросить сунуть туда и капсулу с нашей плёнкой, сказать: «Это рукописи моего деда. Вывозить их из Союза официально – слишком хлопотно. Помоги». (Второй раз тень Леонида Андреева сопровождала мой рулон.) Но контейнер ехал даже не опломбированный, не охраняемый дипломатическим статутом. В Троицыну субботу должна была вся группа улететь в Париж. Механик должен был ехать поездом на Духов день; во вторник Саша надеялся встретить его в Париже и вынуть из контейнера сам.
И пожалуй, всё прошло бы спокойно, если бы в четверг вечером Саша со своим московским родственником не пришли бы в гости к А. А., а он после их выхода, со своей тройной осторожностью, наблюл в окно, что были следящие: один пошёл за юношами, другой побежал куда-то. (Я не уверен вполне, перевес осторожности в других случаях приводил А. А. неправильно истолковать, когда слежки не было. Но Ева посегодня настаивает, что слежка подтвердилась – только по поводу, с нами не связанному. Возможно.) В те дни мы все приняли слежку как несомненность, и задало это нам лихорадки на пять дней. Сперва – самим Даниле и Еве: продолжать ли операцию или покинуть? Кто не жил в конспирации, даже не вообразит этого отягощённого, изматывающего состояния, когда, может быть просматриваемый, прослушиваемый, в недостатке времени, при невозможности советоваться, иногда в изнеможении от подступающего провала, ты не можешь освободить свою волю от ответственности и должен принять решение, от которого зависеть будут и многие дорогие тебе люди – и дело. Решили они: «принять бой за родину в этой доступной нам форме, и именно теперь!» После этого Ева дозвонилась до московского родственника Саши, наполнила разговор пустяками и вставила скороговоркой по-французски: «вчера вечером, когда вы возвращались домой, за вами следили». (Уж если вплотную следят – то и эта фраза взята…) Тот (хотя не знал никаких тайн) понял и на ночь увёл Сашу ночевать в глухое место. Потом – размышления Евы с Люшей (пришла к ней брать капсулу). Чем больше раскладывали – тем казалось всё опаснее. И, не выводом из того, а всё своим напором чувства, Ева забрала «бомбу».
На утро субботы под Троицу было у них уговорено так: в метро на «Кировской» на условленном месте Ева встретила Сашу и передала ему – не «бомбу», нет, – пакет игрушек для детей: если заметят и схватят эту передачу, то и – выкусят. Поговорили о вчерашней слежке. Сейчас как будто никого. Условились: во вторник утром, как только вынет капсулу из контейнера, Саша звонит в Женеву Евиной сестре Катерине Ивановне (раненная в Сопротивлении, она стала инвалидом, и почти всегда дома), и та условную фразу передаёт по телефону Еве в Москву. А саму «бомбу» сейчас получит Саша не от неё, а на следующей станции, «Дзержинской», от А. А. … (Всё разыграно не хуже, чем у Климовой-матери.) Но когда А. А. на «Дзержинской» подошёл к Саше сзади и взял за руку – тот слишком вздрогнул. И наш Данила изменил решение: побыть с Сашей дольше, сделать поспокойнее. Он вывел его из метро на тихую улицу к своей машине. (И тут ещё происшествие: какое-то такси стояло впритирку с поднятым капотом; тронулись – и тронулось оно вослед… Вослед?.. Не лишние ли подозрения? Отстало.) Не нарочно, так получилось: делали круг перед Большой Лубянкой, вокруг «бутылки» Дзержинского, – Данила, руки на руле, объяснил Саше, как ему руку протянуть и взять «бомбу» из сумки. Передали «Архипелаг» на Лубянской площади!.. Данила довёз юношу близко к тому, куда нужно.
Итак, хорошо ли, худо, дело было сделано, оставалось ждать. Но тут-то и ослабли уязвленные нервы всех: неразряженные угрозы теперь давили тупо. Плёнка ушла из наших рук – но никуда не дошла, висела без контроля и в опасности. Люша кинулась за мной в Рождество, я уехал в закрытую квартиру «Гадалки» (очерк 10), всегда для меня готовую, ключ у меня. Ева, чтоб не томиться праздничные дни в городе, поехала в Тарусу, где А. А. жил при своём престарелом отце. А Люша звонила, не зная, Еве, а Гадалка из автомата звонила Люше, и отсутствие Евы пугало нас как уже начавшийся провал. (Теперь видно, что вся операция наша была любительская и шатко построена.) И на солнечном тарусском речном берегу солнце было нашим друзьям – чёрным пламенем. Безпомощное бездействие – тяжело. Надумали возвращаться в Москву, по дороге остановились у церкви, шла всенощная под Духов день, А. А. поставил свечи за всех участников, молился. А Ева, хотя и неверующая (но именно в церкви они увидели друг друга первый раз когда-то), впервые стояла в храме не с любопытством, а в горле с комком: Господи, помоги!
В защемлённую минуту кто поймёт нас лучше Бога?
Воротясь в Москву, Ева нашла путь дозвониться до того Сашиного родственника по нейтральному телефону и выяснила, что Саша уехал без задержек. Сперва облегчилось, протянули понедельник.
Но вот уже вторник, середина дня, давно пора быть звонку из Женевы от сестры – а нет его, и нельзя позвонить первой самой: станет невозможен звонок с условным текстом.
Так промучились вторник – и отзыва не было. И похоже было – на разгром: уже читают «Архипелаг» на Лубянке.
Только в среду утром пришло освобождающее известие. (Оказалось: парижская забастовка, полуреволюция – парализовала связь из Парижа, пересеклась враждебно с нашим «Архипелагом»!)
В среду днём, уже не очень скрывая мою укрытую квартиру, они все трое – Ева, Данила и Люша, приехали освобождать меня. Они ликовали. Я сказал полушутя, полусерьёзно: «Ну, авантюристы!» И обидел их. Посоветовались бы со мною на любой стадии этой операции, я б её остановил. А они – с высшим напряжением за 10 дней взяли душевную вершину, – и, конечно, обидно было услышать «авантюристы».
Но много обидней оказалось, что избранные руки, от пары к паре меняясь, смазали всю нашу отправку – и не выручила она нас в грозный момент. Саша Андреев, не имея никакой советской тренировки, вёл себя геройски. Вадим Леонидович дрожал над этой книгой, даже закупил набор шрифтов, чтобы стать самому первым издателем «Архипелага» по-русски. А дальше у Карлайлов влипла наша капсула в сухой расчёт – и многие годы американский текст «Архипелага» не был готов (об этом в другом месте). Стоило нам так торопиться, рисковать и гордиться! – всё равно как и не отправляли. Лежал «Архипелаг» на Западе – и как будто не лежал. Понадобилось делать немецкий перевод, мы направили Бетту (очерк 12) попросить у В. Л. копию русского текста от дочери – он перепугался: разгласится (а он же – с советским паспортом), – и пришлось нам всю отправку «Архипелага» из СССР – повторять, очень тяжело и опасно.
Это движение – взять для нового фотографирования машинопись «Архипелага» – у кого же? у Данилы, – встретило у него сопротивление. Он насторожился и делал нам с Алей представления, что мы не должны обезценивать ни хранения Андреевых, ни всей Троицыной отправки. Он ещё меньше нас понимал, насколько вся та операция, с её жертвами и страхами, уже была Карлайлами сведена к нулю. Если б мы, через его сопротивление, весной 1971 не отправили бы снова «Архипелаг» на Запад, то к моменту провала в 1973 у нас не было бы немецкого и шведского переводов; а русское издание, недоступное западному читателю, прозвучало бы как одиночный пушечный выстрел в ночи.
Такие прения возникали у нас с Данилой по деловым решениям несколько раз, и, как показало дальнейшее, правы были мы, не он, но мотивы его всегда были благородны, и тут весь он, и нельзя это не оценить.
Во всю жизнь было у меня время расспросить шаг за шагом о прожитом – или тех, кого я прямо описывал, или от кого получал свидетельский материал. Но на людей, с которыми я просто жил, на самых близких и тесных, вот этого времени никогда не хватало. Так и с А. А., – человек он был выдающийся, и его внутренняя духовная биография была сложна, интересна, но я не выпытал её. Почти ставши французом, и аристократ по жизненным привычкам, несвязанной естественности, тонко-переборному вкусу, – он умел сохранить и чисто православное мироощущение от детства и остаться напряжённо-русским, только с приверженностью не древней Руси, а петербургскому имперскому периоду, даже с державным отпечатком.
Совмещавший так много разного опыта и оценок, он раскрылся для меня последние годы как тонкий, умный и лицеприятием не отклоняемый рецензент. Как-то так располагалось, что мы с ним будто и не противники были, а вместе с тем почти во всём расходились. Среди моих друзей не было и близко подобного – тем более приходились мне его мнения ценны и неожиданны, – да ведь, по тайне, я мало кому мог доверять читать свои проекты. Дважды он разносил мою нобелевскую лекцию, потом я неузнаваемо переработал, и она много выиграла от того. Настойчиво отговаривал он меня и от некоторых резкостей в «Мире и насилии», верно предупреждая, что я совершу тактическую ошибку: оскорблю и оттолкну весь Запад. (Да, тактически мне и вредно и ненужно было многое в моей публицистике, но – толкало сердце! Не всю жизнь – тактика!..) Критиковал и «Октябрь Шестнадцатого» – но противоречиво, сразу с двух сторон: нельзя плохо выразиться о царе, и нельзя плохо выразиться о кадетах. А они между собой воевали насмерть, вот и выбирай. Почти в те дни я кончал, да не успел показать А. А. «Письмо вождям», очень жаль. Данила прочёл в январе 1974 – когда «Письмо» уже было на Западе и за несколько дней до назначенного печатанья, – пришёл в ужас, предсказывая, что на Западе это будет просто провал, – и был прав! Хотя я тогда был очень в себе уверен, что не могу «провалиться», так прочно стою. В последние же мои недели на родине он прочёл и мои статьи в «Из-под глыб», слал критику и на них, отчасти и немалое одобрение, – и всё подкладывал мне Бердяева, Бердяева, которому он всегда поклонялся, и жаль, что потратил я на того Бердяева, на присланную А. А. книгу, два последних дня в России, совсем без пользы. Да самого А. А. за год перед тем я настойчиво уговаривал участвовать в нашем «Из-под глыб» – но он уверенно отказался. Тоже русская черта: столько думать (с медленной, глубокой вработкой, быстро он никогда не брался), такие особенные мнения иметь – а в законченную статью не отлиться.
Вокруг ли этих рецензий, да вообще во всех разговорах с Евою и Данилой много раз я сталкивался с ними в шутку, а то и серьёзно, в оценке Запада. С Евой это были частые стычки. Высказывался я о Западе, по её мнению, слишком хорошо – она разуверяла меня, бранила Запад, ещё и сегодня с тою страстью, которая когда-то швырнула её покинуть европейское благополучие и добровольно ехать на муки в Россию. Другой раз я почему-нибудь был раздражён на Запад, высказывался слишком резко, – почти с той же горячностью и даже крайностями она кидалась его защищать. И всякий раз главный её тезис был: что я совсем не понимаю Запада и никогда его не пойму. Ева, правда, не отличалась стройностью политических взглядов, но он! Она уехала из Франции уже 30, потом и 40 лет назад, хотя бывала наездами, и в самой Москве вот встречалась теперь со множеством иностранцев, уверена была, что сохраняет живое чувство Европы. А. А. – уже 30 лет как оттуда, но тоже был уверен в безошибочности своих оценок. Я – не был там никогда, но, ежедневно слушая несколько западных передач, не мог не составить тоскливого представления, что Запад падает волею, духом, сознанием – перед большевизмом. Они оба высмеивали мои выводы, не допуская столь разительного изменения Европы. Споры с ними обогащали меня и, теперь вижу, в чём-то подготовили к Западу.
В июле 1973 они приезжали к нам с Алей в Фирсановку (Данила – специально, чтобы прочесть «Мир и насилие», а то уж давно он держался в отдалении). Опасаясь, что на участке разбросаны микрофоны, я повёл их гулять тропинкою через рожь. Это место – такое русское, и разговор там – так и врезался, с Данилою это был наш последний неторопливый. Я рассказал им, что скоро иду в большую атаку. Что принял решение: уже начинать всё подряд, подряд печатать. «Через три года, – заверял я Данилу, – ваше хранение исчерпает себя, всё моё будет уже напечатано, и вы можете переходить на пенсию». Смеялись, 67-летний А. А. корил мне: «Вот этим последним вы меня оскорбили!»
Даже тогда ещё казалось, что под первым и главным ударом – я. Что – с меня начнётся. Развязка уже близка была, а не виделось: что опасность перепрыгнет через меня, а над ними-то, несколькими близкими, и нависнет. Впрочем, с начала 1973, когда моя первая жена стала выходить в публичность, в большую печать, дважды в «Нью-Йорк таймс», враждебно ко мне, – Еве и Даниле стало очень тревожно: ведь их-то обоих она знала, хоть не в подробностях действий.
Верные наши друзья, они все годы до конца вели свою непрерываемую, неоценимую, опасную и безкорыстную работу – в помощь нам. Ева уже давно перестала быть единственной нашей связью с Западом (но то и дело что-нибудь перекидывала с изящной лёгкостью), однако неистощимо находила, в чём ещё может быть полезной, на это у неё острый был взгляд. Вела себя Ева до конца по своей привычке и смелости – нисколько не прячась, не прикрывая дружбы (с Алей она была тесно дружна, несмотря на разницу в возрастах), открыто звоня и приходя хоть в самые тяжёлые осадные моменты. Данила, и по свойствам характера и по необходимой тактике Ответственного Хранителя, вёл себя осторожно, появлялся нечасто, избегал слишком резких моментов, держался в глуши и в тени, имя его не упоминалось по телефону и под потолками, вызовы и встречи происходили – тайно, прикрыто. И вдруг, толчком предчувствия, пришёл в нашу осаждённую обречённую квартиру на Козицком – за 3 часа до моего ареста! Интуиция и дерзость: просто проститься! Я был потрясён, кажется до сих пор чувствую наше прощальное объятие.
Выслали меня, уехала и семья. Самое срочное из архива Аля переправила скрытыми путями на Запад, – а всё остались на родине неподвижные пуды бумаг, и всё ещё ценное многое, и добрая половина всего богатства – у Данилы.
Оттого особенно был тревожен и неясен первый год после высылки: при медленности дотекающего на Запад архива (иное шло по полгода); при медленности человеческого обмысления, не успевающего за внешними событиями; при медленности оборота скрытой почты, когда ещё оказия, когда кто поедет! при медленности конспиративных устроений в самом Союзе, – вот этот год с лишком должен был пройти, пока мы учли всё пришедшее, пока заочно по шифрованным спискам разглядели, что там осталось, и распорядились, что дослать, что уничтожить, что потеряло цену, а что оставить хранить как безопасное.
А кара ГБ могла упасть на наших близких – скорее всего в эти первые месяцы, пока ещё не остыло, пока ещё они оставались реальными соучастниками и можно было надеяться схватить какие-то улики.
А чем я мог их защитить? Только расчётом, что власти боятся меня? (И правда – боялись, мои удары были всегда неожиданны и сильны.) Я делал сложные намекающие заявления в интервью первого года, про себя-то уже тут разглядев и зная, что не бросится Запад спасать моих Невидимок, и нет у меня сил воистину их оборонить.
А вот – Бог помог. Целы[69].
После моей высылки стали нервничать «кроты», пришлось несколько раз перекладывать хранения. Участились в тот год и по всей Москве угрозы вызовов и неожиданных обысков, – но тут, к счастью, подоспела полная ликвидация всех моих хранений. К лету 1975 всё историческое долголетнее хранение у Данилы (три-четыре отдельных места, так и оставшихся мне неизвестными) – всё было уничтожено.
Успели! Опять успели раньше, чем КГБ! Теперь у КГБ могли остаться только подозрения – и никаких доказательств.
В июне 1975 сойдясь втроём с Люшей (заодно – чтоб свидетели были, не как Кью «сжигала»), они поехали в знакомое Рождество-на-Истье – и на том рождественском просторе, в виду сиротливого церковного купола, дожгли эти пуды – кажется, «лишнего», зря истраченного труда, многое – с жалостью.
Но и вся природа на том, всё живущее: что в каждом развитии и в каждом роду должен быть запас, должно быть лишнее, что и гибнет, лишь бы пошёл главный ствол.
А Ева – первая из подозреваемых (да просто засеченная ГБ, облепленная доносами) – не только не замерла, не затихла в тот год, но с прежней самоуверенной отвагой вела свою свободную жизнь внештатной переводчицы, встречалась с иностранцами, а меж ними – с нашими, и, в месяцы перебоев, смены лиц, высылки корреспондентов, нарушенья каналов, – возобновила с новой энергией пересылку нам целых сумок и чемоданчиков из архива. Теперь, весной 1975, это куда пристальней проглядывалось, куда опасней прежнего, и иностранцы робче. А с конца 1974, после выхода «Из-под глыб», открытую почту нам Москва обрубила в оба конца (ни даже открытки ко дню рожденья ребёнка не пропускает), – так Ева взяла на себя и нашу «левую» связь со всеми друзьями.
С осени 1974 в культурном отделе французского посольства появилось новое лицо – корсиканка Эльфрида Филиппи. Я никогда её не видел, Ева так описывает: «Красивая, стройная, когда любит – обаятельная, когда не жалует – ледяная. Мы подружились с первого взгляда, сразу в чём-то синхронны, без слов. Её быстрая решительность, готовность испытать все страхи, опасение подвести кого-нибудь, живой интерес к России… Проносила в опасных местах, обезоруживая улыбкой и грацией. Гениально быстра: топтун не успеет рта разинуть – а уже всё сделано». Так, хотели пакет для меня разделить на три поездки, она взвесила рукой, сказала «беру всё сразу!», очень тем облегчив Еву, Данилу, «кротов». (С ней вместе перебрасывала кое-что и Б. Л., – каждой паре помогавших рук спасибо.)
Этот огромный пакет от Евы и через Эльфриду Степан Татищев (очерк 13) принёс нам в парижскую гостиницу D’Isly на рю Жакоб, на мансарду – и тут произошло совпадение более чем символическое, как умеет ставить только История. Принесший ушёл, на диване грудой ещё лежала неразобранная посылка от Наташи Климовой-младшей, – а по той же узкой чердачной лесенке через две минуты к нам взошёл Аркадий Петрович Столыпин – тот маленький сын Столыпина, едва не убитый во взрыве на Аптекарском острове Наташей Климовой-старшей, – да и пришёл ко мне обсудить эскиз моей главы о Петре Столыпине. С этим милым человеком мы сидели дружески, а рядом лежали пакеты, так же дружески присланные от дочери несостоявшейся его убийцы.
Так за две трети столетия повернулась Россия. Дочь с тем же талантом и порывом, как мать, теперь работала и рисковала в противоположную сторону. (Хотя и не свернув далеко с эсеровского стержня мышления: всё проклиная и Столыпина, и видя в советском строе прямое продолжение царского.) Все силы здоровой России вот уже соединяются, вот уже действуют заодно.
(ДОБАВЛЕНИЕ 1978 года): Осенью 1976 Еву даже выпустили в Швейцарию к сестре. Она никак не могла просить в советском посольстве визу в Штаты: и запрещено менять страну, и ясно будет, что – к нам. Но с нашей помощью (американцы выдали временный вкладыш в паспорт) счастливо приехала к нам в Вермонт, жила у нас весной 1977. Она тяжело переживала, что ею привлечённая Ольга Карлайл – вывихнулась, и книгу враждебную пишет, но и всё уверяла, что ерунда. Читала «Невидимок» – и попросила этот 9-й очерк с собой (оставить копию в Париже – и ещё взять в Москву, прочесть А. А., тогда сжечь).
Объясняя свой переезд в Россию в 1934: «Я – не на муки ехала, что вы, я терпеть их не могу, я ехала на радость. Но перетерпленные муки не притупили моей любви к России, а обострили её».
А сейчас заманная перед ней стояла возможность: остаться на Западе навсегда. Она долго мучилась, долго выбирала. Её решающее письмо передаёт, я думаю, лучше, чем мой пересказ [45].
(ДОБАВЛЕНИЕ 1986 года): В 1981 году Александр Александрович тяжело болел и скончался. (Отец его дожил до 100 лет, казалось, и А. А. будет жить долго. Но нет.) Вот и ещё одного друга не стало. И ещё одного зэка, да с какими крутыми бросками судьбы! А не столь уж и необычными, по нашему жестокому веку.
А Наталья Ивановна никогда не оставляла конспиративных операций, продолжала их даже с отчаянностью. С 1975 и по 1984 на ней держался не только весь наш скрытый почтовый и книжный канал с друзьями в СССР, но и важней: помощь нашего Русского Общественного Фонда в СССР, – и вряд ли без её смелости и находчивости могли бы мы наладить такую полнокровную артерию. (О работе Фонда когда-нибудь кто-нибудь, я надеюсь, напишет подробно.) ГБ изо всех сил следило за ней – и всё никак не поймало.
Н. И. в последние годы болела панкреатитом. В конце августа 1984 она внезапно почувствовала сильные боли, легла в больницу – и через неделю умерла. (Перед смертью успела передать для нас: «Сейчас надо на время замереть!» – видно чувствовала, как грозно сгущалось. Ускользнула из лап – может быть, в последний момент.)
Гебешники в штатском в немалом числе толпились на её похоронах, высматривая. Из них же несколько пришли описывать квартиру под видом «стажёров нотариуса». Двоюродному брату Н. И. на допросе сказали: «Мы всё о ней знаем, давно её пасём, и знаем, где лежала у неё каждая вещь».
Хвастают! Знали, да не всё.
Неуловимая! – ушла от них… И с поздним оскалом лязгали о ней в газетах.
(ДОБАВЛЕНИЕ 1992 года): В апреле 1992 в Москве бюллетень «Совершенно секретно» (№ 4) дал публикацию (повторенную в «Гардиан», 20.4.92, и эхом раскатившуюся на Западе), основанную на добровольном сообщении бывшего ростовского подполковника-чекиста Б. А. Иванова. Он написал свидетельские показания [46]: что в августе 1971 в Новочеркасске агентами КГБ была совершена попытка убить меня (очевидно, уколом яда рицинина – будущий «болгарский зонтик»). Так вот что это было, а не странный «солнечный ожог», как мы с Александром Александровичем тогда думали, да ведь и врачи потом – ни один не смог определить, что за напасть… Теперь и по-новому читается то место в допросе его в КГБ в 1974 (см. [44]), когда гебисты спросили А. А. о нашей совместной поездке на автомобиле, а он с уверенной лёгкостью ответил, что – не состоялась поездка, он только отвёз меня в Москве на вокзал. У чекистов и челюсти, наверно, отвисли от такого наглого отрицания, но – и не могли ж они «поймать» его возражением: «Да мы же за вами по пятам следили в Ростовской области! мы же Солженицына осязали (иглой) в Новочеркасске!»
10. Череда в тени
Когда я писал главный текст этой книги, во многих местах упиралось повествование в кого-то из Невидимок. Я – пометку делал на будущее и – обходил, затирал. Но вот сейчас писал эти девять очерков – и снова повествование задевало ещё новых Невидимок, уже как бы второй череды. И опять я их обходил, теперь уж не для безопасности, а – поворотливей обернуться с сюжетом. Однако эта вторая череда – она ведь тоже поддерживала, укрепляла, несла, да минутами как! В мосту одни ли каменные устои держат? ведь и каждая балка в переплёте. В сети – одни ли узлы? нет, и каждая пронить.
Имя за именем, лицо за лицом припоминая сейчас, думаю со стеснением: а ведь и из них иные приоткрыты сегодня подозрению или доносу, и висит над ними опасность, как надо мной уже нет.
А раньше бы всех вспомнить – Анну Васильевну Исаеву, сотрудницу шарашки Марфино: под страхом кары МГБ и уголовного кодекса она приняла от меня, сохранила 7 лет – и вернула мне в 1956 году мою рукопись «Люби революцию» (без того не собрался б её возобновить) и многочисленные блокнотики далевских выписок, так ценные для меня. Спасибо ей сердечное.
Вот только сейчас поминал: Гадалка. Название шутливое, за то, что любила гадать на картах, сама с собою. Была же Анастасия Ивановна Яковлева – доктор биологических наук, учёный фармацевт, исследовала вредные побочные действия лекарств (и, её послушать, вообще никакими лекарствами лучше не пользоваться, да я так и склонялся всегда). К 60-ти годам она была незамужем, и постоянно окружена группой молодёжи, которой благодетельствовала, одним помогала институт кончить, другим – устроить быт, жильё, работу, и всех окружала атмосферой любви не только к свободе, но и – к России. (Второе было разлито по образованному классу не слишком широко, и здесь каждая встреча – находка.) Из этой атмосферы и родились коллективные письма их кружка ко мне, сразу подписей по 20, это и во взрыве переписки было необычно, привлекло внимание. В 1963, я ещё не был опальным и для них не опасно, я посетил химический их институт на Зубовской площади. С Анастасией Ивановной сохранилась и дальше переписка. Уж не зная, чем и помочь, она предлагала перепечатывать (давал ей пьесы открытые и копировать заготовки «Р-17», чтобы не пропали губительно, она много просидела, много сделала; на Западе на то – ксерокопия, а у нас и мозги так не повёрнуты, у нас – перепечатывай по буковке), предлагала свою квартирку на 13-й Парковой, если нужно когда в тишине поработать. В мою разгромную полосу, в сентябре 1965, я иногда и скрывался у неё, когда надо было уйти от слежки, отдохнуть от опасности, знать, что хоть в эту ночь – наверняка не придут. И снова пригодился остро её приют на Троицу 1968. (По невероятному совпадению в 7-миллионной Москве, с семьюстами квадратных километров жилья, мой укрыв в ту ночь пришёлся – в 50 метрах, через дом, от Саши Андреева, ночевавшего у своих родственников после того, как положил плёнку в контейнер, а утром улетавшего в Париж. Если б за ним действительно следили – как раз бы я мог прийти под тех шпиков!) Тогда-то, в самозаточении, в томлении, я и попросил её: «Анастасия Ивановна, погадайте, чем дело кончится». Она и гадала на кухне втихомолку, но мне (то ли карта худо падала): «Такому человеку, как вы, гаданья не нужны». И правда. (И думаю: никому не нужны. Есть в этом нечистота жизни. Не дано нам знать будущего – так не дано, лишь одни предчувствия посылаются нам.) В мои тревожные у неё остановки не вобрала моя голова, а рассказывала она, как стала одинокой. Следующие годы, уже уйдя на пенсию, она всё продолжала вдохновлять свой кружок молодёжи, – как такие люди дороги для роста поколений. Но стала опасаться болезней старости – и поехала кончать жизнь в инвалидный дом на Клязьму.
Вот Иван Дмитриевич Рожанский. Он был фронтовой друг Льва Копелева, и через того мы познакомились, а оказывается, можно было – и через Еву. Он раньше легко ездил за границу, в 1964 ожидалось, что поедет снова. Заранее принял он у меня мою капсулу с плёнками, держал – и безусловно бы повёз, рискуя головой, – да накануне отъезда был вызван в ЦК и лишён командировки (не из-за меня). Больше было бы грозных последствий, если бы политическое недоверие ему выразили во время таможенного осмотра. (Ту капсулу я и перенёс Еве.) Потом копировал он мне магнитные ленты, которые доверить слушать некому было больше. Что-то важное коротко хранилось у него и в мои разгромные дни сентября 1965, ибо помню: как раз от квартиры Гадалки я звонил ему из автомата, себя не называя, и рано чуть свет поехал к нему на переговоры, пока был уверен, что не тяну за собой хвоста. И. Д. был сын известного физика, и сам физик, но втравлен в казённо-представительную жизнь, от которой любил отдыхать в окружении своей библиотеки. Он был добрый, широко образованный, несколько флегматичный в беседе, как бы предпочитая больше думать, чем говорить. Особенно любил античную философию, выпустил книгу об Анаксагоре. «Царевичем» закодировали мы его (хоть по Ивану, хоть и по Дмитрию).
Тогда, в производной, «Царевной» же стала зваться его тогдашняя жена Наталья Владимировна Кинд. Но позже и манерой её держаться, этакая русская стать, ясный месяц во лбу, и чем-то внутренним весьма оправдалась случайная конспиративная кличка. Она была душевно очень богата, с развитым умом, талантливый геолог, доктор наук, с большой душевной устойчивостью – завидно переносила невзгоды. Но разве все эти качества и чувства было время оценить, их излученье принять в нашей борьбе и гонке? Для нас важно было: тверда, верна, и квартира её – чистая, живёт обособленно от московского кишенья. А значит – у неё можно встречи устраивать с иностранцами (русскими – то со стариками Андреевыми, с которыми она была дружна ещё по жизни в Женеве, при командировках мужа, то со злополучной Карлайл, то с посланным ею Степаном Татищевым). Ещё и с Евой Царевна была очень дружна, что уж и вовсе замыкало наш круг, упрощало общения.
От Царевны – не было у меня закрытых книг, конечно она была из первочитателей машинописного «Августа», ещё раньше – она из немногих читала рано «Архипелаг», ещё пока он не кончен был, помогала нам сделать карту Архипелага, через геологическую цепочку с Пахтусовой поймала утечку тайны от Кью – и уже после смерти Кью по этой же цепочке добыла от Пахтусовой нам рассказ о ходе гибельных событий. Последние наши тёмно-грозные месяцы на родине Царевна нередко бывала у нас с Алей, всё более становясь родной, успела прийти и когда повестка прокуратуры уже лежала у нас, и много раз была у Али после моей высылки. Нависал, кажется, полный разгром – а я к ней приходил обсуждать сырые главы «Октября», это звучало тогда академично. Доканчивая подготовку «Из-под глыб», друзья мои в Союзе, а я на Западе, – мы с Шафаревичем обменивались рукописями через неё, они жили рядом. Так Царевна вместе с Евой включилась в основной канал. К тому времени, когда эти очерки опубликуются, уже не все соотечественники наши будут понимать, какая решимость требовалась – включиться в «канал»[70].
Отчасти через Царевну, потом и через Люшу поддерживали мы связь с Михаилом Константиновичем Поливановым – одним из авторов «Из-под глыб», математиком, чистой душой, тонко думающим человеком, но только с редкими друзьями и в редких местах имеющим право на наслаждение свободного разговора, как все мы там, принудительно калечно согнутые извне. Сам М. К. был верующий, но так уважал чужую свободу, что детей своих не крестил в малолетстве – а дал им вырасти и выбрать (все крестились). Многие годы он хранил и «Архипелаг» и «Круг»-96, самые опасные мои вещи, – то у себя дома (и чего только не случалось: держал под ванной – листы промокли, надо по всей квартире разложить сушить, от форточек всё вихрится; вдруг пришли с обыском к отдельно жившей тёще – уноси всё в гараж, даже в машине с собой вози); то – у своего отца, без его ведома. Позже мы освободили его от этих хранений, но много запрещённой литературы протекало через его руки, он сам питался и питал читателей[71].
Расширяя конспиративную сеть, каждый, естественно, действует по линии близкого знакомства и дружбы. Так, другом юности Люши по переделкинским дачам был Николай Вениаминович Каверин (сын писателя), закодированный нами как «Вел» за пристрастие к велосипеду. В Переделкине по воскресеньям им с Люшей и встречаться было легко, без контроля. Коля вырос в поколении уже не расслабленном, но понимающем, что только своими руками и добьёшься свободы. Он и лично был твёрд, точен в поведении, надёжен в осуществлении. Отца он в свои такие дела, по-моему, не посвящал, но был вокруг него какой-то свой кружок молодых, почему мы и отдали им копировальную «крутилку» Ростроповича. (Она оказалась отличной в работе, и они с сожалением уничтожили её в опасную минуту.) Коля помогал Люше перепрятывать, передерживать некоторые мои плёнки и рукописи[72]. Он был «стартом» для многих моих самиздатских выпусков. В январе 1974, в темноте, приходил он ко мне в Переделкине, я передал ему – заблаговременно, на один из стартов в день моего ареста – «Жить не по лжи». Он дышал отважной готовностью помогать в чём угодно и не глядя на опасности.
Необходимость заставляла Люшу иметь ещё и своё особое постоянное хранение, отдельное от системы Данилы. Осенью, я думаю, 1968 я и предложил ей таких хранителей – сотрудников Института Русского Языка на Волхонке. Одного из них, Леонида Петровича Крысина, Люша и без того хорошо знала по его посещениям К. И. Чуковского. Другая же была – очень милая Ламара Андреевна Капанадзе. Я всего-то и видел её раза три в жизни, два раза – по их институтской затее позвать меня якобы для образцовой фонетической записи на магнитофон, на самом деле – познакомиться со мной и получить рукописи для размножения. (И ещё успели они мне помочь в розысках по кубанскому и донскому диалектам.) В третий раз я позвал их обоих (на тот же родной и роковой Страстной бульвар, всё на ту ж любимую «новомирскую» аллейку его у расширения) – и сразу предложил им хранение страшнейших моих вещей, и в большом объёме. И не ошибся, раскаиваться не пришлось! Они взяли, не дрогнув, и хранили отлично. Лёня – относил от Люши и приносил к ней, это было естественно, ибо он продолжал работу над наследием К. И., – Ламару же, именно по законам конспирации, я, к сожалению, и не видел больше никогда – ни познакомиться ближе, ни поговорить; да и Люша очень редко. Кажется, место хранения у Ламары менялось – сперва у родственников, невинных стариков, потом почему-то пришлось взять к себе во 2-й Троицкий переулок – по сарказму судьбы это была бывшая когда-то квартира Берии, теперь обращённая в коммунальную! Конечно, само по себе такое хранение было ненадёжно: Ламара жила одна, значит, уходя, оставляла хранение в коммуналке! Но, не встречаясь с нами и ничем другим недозволенным не занимаясь, она не должна была и привлечь внимание. Впрочем, летом 1973, когда всё трещало у нас, пришла и отсюда тревожная весть: какой-то соседский гость дважды подглядывал в замочную скважину Ламары, застигнут был так. Могло быть это и внимание к молодой привлекательной женщине, могли быть и щупальца ГБ. Тут Люша была больна после аварии, тут «Архипелаг» провалился, не доходили силы решать с Ламарой. Наконец, осенью, едва собрались мы выкачивать от неё наш архив – тут от сердечного приступа надолго свалился Лёня Крысин, и опять остановилось дело, зависло. В ту осень было ощущение, как сон кошмарный, когда надо сделать защитное движение руки, а всё парализовано. Глубже в осень – дело поправилось, архив мы оттуда весь забрали благополучно.
Ещё совпадение: в том же самом 2-м Троицком переулке, дом о дом с Ламариным храненьем (!) в январе 1972, в рождественский сочельник, в квартире Н. Н. Вильмонта, известного переводчика и литературоведа, закончилась успехом наша с Анной Самойловной Берзер гонка по следам убежавшего «Телёнка», через утечку доскакавшего сюда. С А. С. Берзер удивительно ровные, неизменные дружеские отношения сохранялись у нас много лет – от первого знакомства в редакции «Нового мира», ещё в старом помещении, от первых её тайных сообщений мне о ходе «Денисовича» по кругам ЦК, – ещё рассказывалось это в прежней квартире её в Кречетниковском переулке, будущем Новом Арбате, – и через слом старого переулка, когда сестёр Берзер закинули в хлипкий новый дом на окраину, и через сломы редакций, когда уже и из нового «Нового мира» принуждена была Анна Самойловна уйти на пенсию.
Она была моя ровесница и в МИФЛИ училась, как раз когда я там был заочник, от этого ещё – общий взгляд и воспоминания нашего поколения. Самый образ мысли её и восприятия был мне близок, не расходились заметно наши реакции. И в высшей степени она была скромна, тактична, незанозиста, несамолюбива и с сердцем добрым, – да все авторы «Нового мира» любили её, не я один. И хотя она не проходила тренировок, но без трепета всегда была готова любую тайную вещь брать, прятать, нести, передавать – и временами мы пользовались её помощью. Был даже проект, что сплошную перепечатку «Архипелага» Люша будет вести у неё на квартире – нырнет к ней, скроется, как уехала куда-то. Но отказались: дом их пропускал все звуки, а окружение всё – враждебное. Любым тайным замыслом можно было с А. С. поделиться и быть уверенным, что она не расскажет ни подруге, ни сестре. Просто надобности не сложилось открыть ей больше. Она же многое нам узнавала, рассказывала, предупреждала, вот – и утечку «Телёнка» открыла мгновенно. Когда в Рязани исключили меня из СП и не отозвался московский телефон Али – вторым был новомирский Анны Самойловны, и так попорхала весточка!
Их комната в «Новом мире», отдел прозы, – всегда была свободным литературным клубом, все приходили туда поболтать, посмеяться, пожаловаться. Там уже и после разгрома редакции всё так же сидели А. Берзер и Инна Борисова, продолжая, сколько и в чём могли, прежние традиции. Свободно к ним могла ходить и Люша – и так уже в «коммунистически исправленном» «Новом мире» происходили передачи моих рукописей, распространение моих самиздатских выступлений, а Инна, под внешним обликом просто хорошенькой женщины – твёрдая, самообладательная, наблюдательная и хорошо понимающая, что к чему, – в своей одинокой квартире на Аэропортовской тоже годами хранила «Круг»-96 и ещё что-то. Привозили нам с Запада русское издание «Круга», мы ещё не знали пиратского имени Флегон, думали, что это – издание Андреевых, и Инна неделями отдавала свои вечера считыванию и корректуре – ужасающее множество искажений![73]
Писатель Борис Можаев – мой близкий, тесный друг, первейший знаток русской деревни и природы, однако по-крестьянски же чрезвычайно осмотрительный, вовсе не был склонен нырять в конспирации. Отверг и моё предложение участвовать в самиздатском журнале. Он выражал собой вечное ровное струение (или зелёный рост) народной жизни. Наше тёплое общение с ним происходило, как если бы наша страна была свободна и два писателя, общаясь, могли позволить себе роскошь ограничиться одной открытой литературой. Но и он: в июне 1965 помог мне в тайном сборе материалов по Тамбовскому восстанию, прикрыл своей нарочитой корреспондентской командировкой мою неоглашённую поездку туда. (Как в 1972 другую поездку в Тамбовскую же область прикрыл мне своим родством – сам из Иноковки Кирсановского уезда, старый друг по тюрьме Иван Емельянович Брыксин.) А потом лорд Бетелл (Британия) втянул Бориса через словацкого журналиста Личко – в их авантюру, в тайные контакты, которые могли обернуться Можаеву и сроком. Борис вёл себя достойно, твёрдо и нисколько не забоялся, как если б ко всему этому привык.
Все 60-е годы поле сочувствия к моей деятельности и отвращения к правительству были так определённо выражены в обществе, что можно было и ещё смежных, соседствующих встречных людей просить о серьёзной помощи – и не было бы отказа, ни «продажи». Затягивались в помощь нам и самые осторожные и побочные.
В том поле общественного сочувствия сколько безымянных доброжелателей передавали мне содержание партийных клевет с закрытых трибун, где они бывали слушателями. Обычно не знал я их имён и не спрашивал – но как помогали они мне отбиваться! каким оружием вооружали! С самых неожиданных сторон прибывала ко мне подмога.
В том поле сочувствия и Мстиславу Ростроповичу пришла идея поселить меня на своей даче – и так он и Галина Вишневская протянули мне самый щедрый и спасительный дар, какой я когда-нибудь получал. Но никто не предположил бы и не поверил, что в 1970 Николай Анисимович Щёлоков (парадоксально, но решаюсь и его имя набрать утолщёнными буквами) – министр внутренних дел СССР и приятель Брежнева! – тоже тайно помог мне, и существенно! Как же это могло случиться? А жена Щёлокова Светлана была с детства дружественно связана с Ростроповичем: её отец буквально с вокзальной площади взял и надолго приютил у себя бездомного Леопольда Ростроповича, привезшего в Москву пристроить талантливого сына… И вот как-то теперь сказал Стива Щёлокову, что мне нужна подробная топографическая карта Восточной Пруссии (я собрал такую во время войны, но при аресте она погибла), – и министр прислал мне из штаба МВД – обширную, по всему району самсоновских действий, уже аккуратно склеенную. Она была у меня почти год (я уж думал – насовсем) и на добрую ступень подняла мою работу над «Августом»: совсем другое ощущение, когда по-военному прочитываешь и видишь каждые 100 метров местности – как будто своими ногами исходишь. (А места те – под Польшей теперь, и какая мне туда поездка?..) И, говорил Стива: Щёлоков сам просил, чтоб меня в Москве прописали, да – отказали ему выше. Когда ожидалась моя поездка в Стокгольм – он быстро прислал жену забрать карту, чтобы не было улики. Но, рассказывал потом Стива: радовался, что я не поехал, мол, «правильно! назад бы не пустили!» – и входил в ЦК с предложением начать меня печатать. За это – чуть поста не лишился.
В поле сочувствия (не только мне, но всему Движению) могли существовать такие старушки, как Надежда Васильевна Бухарина, в разное время много помогшая просто в быту, в хозяйстве – то Р. Медведеву, то мне, то Сахарову, то Шафаревичу, всем заметным «инакомыслящим», – отрывая силы от собственных детей и внуков. (Говорила: «Я до смерти должна отслуживать, что в лагере не сидела».) То и дело она пекла специальные питательные сухарики для лагерных посылок, встречалась с жёнами зэков, помогала им, раздавала подарки и книжки на несколько провинциальных городов. К тому времени типичная добрая бабушка, она без колебания принимала что-нибудь опасное в хозяйственную сумку и тащила, куда нужно. У неё всегда наготове были две машинистки – безкорыстно размножать любую самиздатскую вещь. Так три старушки составляли «батальон Самиздата»[74].
Что ж говорить о бывших зэках? Кто из них не движим был – помочь? Вильгельмина Славуцкая, долголетняя коминтерновка, отсидевшая затем 10 лет, добывала мне сведения о Козьме Гвоздеве, знакомила с детьми Александра Шляпникова, и так я черпал уникальный материал; устраивала мне тайное свидание с Бёллем – для передачи ему текстов на Запад. После моего ареста и высылки – помогла Але переправить собранные мною книги по русской революции, запрещённые к вывозу[75].
Другая коминтерновка, разведчица, латышка Ольга Зведре (а ещё раньше коренная чекистка, лично знавшая всю головку ЧК), тоже отсидевшая десятку, – снабжала меня неоценимыми показаниями.
В рязанское время я сознакомился с двумя старыми сестрами, одна – Анна Михайловна Гарасёва, в 20-е годы сидела как анархистка, другую, Татьяну Михайловну, на десятку сажали в 30-е, уже как советскую обывательницу. Собирали они мне материал для «Архипелага» и сам «Архипелаг» хранили частями в своём покосившемся провинциальном домишке XIX века, и плёнки, и другие рукописи. («Веселей стало жить, смысл появился!») Так как были у них печи, то забирали они с нашей квартиры все бумаги, конверты, которые нельзя было просто выкинуть, но обязательно сжечь. Ранним утром после исключения меня из СП, когда гебистская машина дежурила у ворот, пришла Анна Михайловна и в хозяйственной сумке унесла экземпляр «Изложения» – спасти, если на мою квартиру налетят.
Ещё была у меня в Рязани верная, твёрдая душа Наталья Евгеньевна Радугина, она связана была с Гарасёвыми, участвовала в общей сети, надёжно помогала. Предлагала и хранить, но ничего существенного дать ей не пришлось. А связь её с нами была открытая – и к ней ГБ нагрянуло с обыском в день моего ареста. Переворошили, ограбили, а криминал – выкуси, не нашли.
В 1964, когда я никак ещё не был опален, открыто работал в Военно-историческом архиве, – в книге посетителей увидел мою подпись Юрий Александрович Стефанов, подошёл благодарить меня за «Ивана Денисовича» и предложить свою помощь по архивам. Родом из Новочеркасска, ранним мальчиком (но с необычайной наблюдательностью и памятью) свидетель революционных тамошних событий (на таких неуничтоженных безобидных и прометается Железная Метла), в своё время отсидевший свою десятку (да и матушка его покойная тоже), – он и в 70 лет был ещё крепок, с тыквенной лысой головой, здоровенный казачище, а работоспособности необычайной: ведущий инженер-нефтяник, талантливый, ценимый и неутомимый на работе, – он только по вечерам да по воскресеньям разворачивался со своей страстью: общей историей Дона, казачества, а уж по смежности – и русской императорской армии. Естественно, и взгляды у него были коренные казацкие, антибольшевицкие (хотя он упорно скрывал их за безстрастностью исследователя). Архивные навыки – где, что и как искать, у него были высочайшие. Несчитано много помог он мне за годы своими развёрнутыми справками – об отдельных частях и личностях старой русской армии, и особенно о казачестве. (Общая черта в СССР: все помощники, все сотрудники где-то служат, всю богатырскую работу ворошат в досужное время и совсем безплатно.) Позже, когда стал я получать книги из-за границы, – очень порадовал «Донца» (как стали звать мы его) «белыми» изданиями о казачестве. Закоротил я его через Люшу, но много тревог он ей доставлял своей неспособностью кратко, намёками говорить по телефону, – раскрывал много лишнего, себе ж в опасность. А когда навалилось на нас ещё и крюковское наследство (см. очерк 14-й) – Ю. А. стал главным обработчиком этой всей горы, да много взял и для своих задач.
В Ленинской библиотеке Люша сознакомилась с дружественным мне библиографом Галиной Андреевной Главатских, та стремительно и виртуозно выставляла по Люшиным (моим) запросам не рекомендательные списки, а живые десятки, если не сотни, книг – с отмеченными местами. Из конспирации я никогда не повидал Г. А. и поблагодарил-то за помощь, может быть, одной запиской, – и только от Люши знаю, что было ей тогда примерно 37 лет, что она историк, «скромная, тонкая, усталая». И – религиозная. Такие книги Люша с избытком таскала из библиотеки, и доставляла мне за город, и снова оттаскивала в библиотеку.
Ещё и в спецхране Ленинки, то есть уже в самом преграждённом, закрытом месте, была сочувствующая нам Вера Семёновна Гречанинова. Иногда она добывала редчайшие материалы. Но – проследили, или сама, может быть, кому-то доверилась, а – убрали её из спецхрана. И её подруга Анна Александровна Саакянц, цветаеведка, тоже порядочно газетных материалов в спецхране переворошила по моему заказу.
С годами архивы один за другим отказывали мне в доступе и справках. (В Военно-историческом в 1972, после появления «Августа», даже следствие было: кто смел мне выдать в 1964 материалы Первой Мировой войны!) А нужные мне материалы, справки, ответы на вопросы всё равно притекали безперебойно. То – от Александра Вениаминовича Храбровицкого, литературоведа, шопенгауэровца, зятя Короленко, большого доки по архивам. То – от Вячеслава Петровича Нечаева. То – от профессора-историка Петра Андреевича Зайончковского. То от Владислава Михайловича Глинки, петроградца. То – от Евгении Константиновны Игошиной (пенсионерка Гослитиздата, взяла от меня разработать тему «Голод 1921-го»; она была сестрой той машинистки, Ольги Константиновны, от Мильевны; годами сёстры жили в одной Москве как чужие, а из-за моих книг снова сошлись). То бывали – и совсем чужие люди, вполне официальные, и старики (не всех я знаю, Люша без меня работала с ними), – такая сложная эпоха, интеллигенция и сама запуталась – за кого она, что думает и что она сама.
Ещё был юный хрупкий умница Габриэль Суперфин[76], сверхталантливый на архивные поиски. Он сам прибрёл, назвался на помощь мне и помог – по Гучкову (главы 39 и 66 «Марта»), и кое-что общее по предреволюционной России. Не многое успел, но в момент его ареста в 1973 я в интервью «Монд» нарочно выделил его участие в моей работе – чтобы дать большую мировую огласку и тем защитить.
Даже в Таврический дворец – посмотреть зал заседаний Думы и места февральского бурления – категорически отказано было мне пройти. И если всё-таки попал я туда весной 1972, – русский писатель в русское памятное место при «русских» вождях! – то только риском и находчивостью двух евреев – Ефима Эткинда и Давида Петровича Прицкера. Прицкер был лектором той «областной партийной школы», которая оккупировала и закупорила Таврический дворец, стал дворец как бы секретным. Однократная помощь в не самом главном, однако ж и очень подпечливом случае (с тех пор и в Петрограде я больше не был, вот и выслали), – как не помянуть добром этого безкорыстного помощника? Прицкер встретил меня на пороге дворца, провёл мимо военного контроля, и побрели мы наслаждаться Купольным залом, потом Екатерининским в лучах заката (я ещё, не торопясь, промеривал его шагами, записывал, какие стены, люстры, колонны), потом пошли в думский зал заседаний, не торопясь разглагольствовали там (я пришёл-то знаючи, кто из депутатов где сидел), взошёл я на родзянковский помост, оттуда оглядывал, – вдруг прибежал военный охранник: «Давид Петрович, эта часть дворца сейчас закрывается, надо прекратить!» Не дошли до Полуциркульного зала, ах жалость! Очень удивился Прицкер, но подчинился. Попросил я: нельзя ли теперь пойти в крыло, где был Совет Рабочих Депутатов. Только мы туда сунулись – прибежал другой охранник, отозвал Прицкера, – и смущённый мой лектор объявил мне, что надо вообще уйти. Горим! Уношу ноги! Главное, чтобы караул на выходе не спросил моих документов, а вослед они ничего не докажут. У самого контроля – не тороплюсь, низко кланяюсь лектору, глубоко благодарю, медленно ухожу. Не окликнули. И во дворе не догнали. И до угла не последили за мной, не пошли. Угадали, не угадали? Тогда отчего такая сумятица в запрете? (Через день Прицкер встретился с Эткиндом единственный раз, тайно, в саду Лавры и предупредил: «Считаем: я – не знал, кого водил. Ты мне сказал – доцент из Сибири».)[77]
Сам Ефим Григорьевич Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет. (Директор института Боборыкин перед исключением Эткинда предупредил его в закрытом кабинете: «Обвинение против вас – дружба с Солженицыным. Откровенно скажу: я вам завидую».) Всё началось с письма ко мне его милейшей жены, Екатерины Фёдоровны Зворыкиной, – в письмах её всегда было много юмора, весело читать. В Ленинграде познакомились. Е. Г. – многознающий, острый. То – вместе в театр, то – к ним на дачу, то – в автомобильное путешествие вместе (Кёнигсберг, Прибалтика), то – находит новых и новых людей в Ленинграде, кто может мне помочь справкой, советом, делом. Всегда приятно было к ним прийти, собирали и компанию интересную. Не было никакой необходимости и плана привлекать его к конспирации, это знакомство, эта линия отлично шла и просто так. Но такова была захватывающая сила вихря вокруг нашей борьбы, что никто вблизи не мог сохраниться просто так. Естественно: прочесть «новенькое», а для того надо – взять и держать его, а там – и передержать и перепрятать. Весь открытый уклад жизни Эткиндов, долгий благополучный быт в интеллигентской научной и литературной среде – совсем не располагал их к риску, к конспирации. Но – и вся эпоха толкала туда, и то, что в иной обстановке затягивалось бы забытьём, в эти годы проступало напоминающе: и его отец и её отец – погибли в заключении.
И вот на каком-то году знакомства получили они от меня на чтение «Архипелаг». Сперва – очень перепугались, это уж казалось – черезкрайне, разрушалась всякая обыденная нормальная жизнь. Взволнованные, они оба приезжали в Москву отговаривать меня давать этой книге какой-нибудь ход. Эткинды были естественны в том, что – не прятали боязни, но перебарывали и перешагивали эту боязнь. Так, отправляясь за границу в начале 1967, Е. Г. решился взять от меня уже готовое письмо писательскому съезду (за 2 месяца до самого съезда) и с большими предосторожностями – передал (этот экземпляр достиг потом Би-би-си, с него и читали, громыхали). Познакомил я их с Люшей – установилась между ними оказийно-курьерская связь, и потекли, потекли из Москвы в Ленинград то новинки Самиздата, а то и секретные разные бумаги. Даже, одно время, один экземпляр «Архипелага» был у Эткиндов близ дачи зарыт. И так помалу, помалу докатилось – что Эткинд оказался близ самого пламени и мирового взрыва «Архипелага», на самом краю воронки, искал внешнего равновесия, и не удержался. И изо всех действующих лиц этой книги только он ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание – и вытолкнут за границу[78].
А со Львом Копелевым развитие было такое: из нашей зэческой компании он раньше и ближе всего стал к столичным литературным кругам, к иностранцам. С Н. И. Зубовым (который тоже знал Льва, по лагерю) мы в ссылке обсуждали: вот эту нашу книгу с фотоплёнками легче всего может отправить Лев. Приехавши в Москву в 1956, я в туристах иностранных и в возможности прорваться к посольству разуверился быстро. А на Льва была надежда огромная, я ему читал, читал написанное в лагерях, в ссылке, и с надеждой смотрел: что согласится отправить? Но – не хвалил он моих стихов и пьес. А особенно в том 1956 году – ведь начиналось «выздоровление» коммунистической системы! – никак не хотел он повредить ей, дав оружие «мировой реакции».
Обещал: разве вот полякам дать мою «Республику труда» – у них в те месяцы как будто бурно развивалась свобода, а главное, что – социалистическая. Но – и полякам не передал, так мои вещи и замерли. Да не придавал он и значения моим провинциальным опусам, ведь он встречался с передовыми советскими и передовыми западными писателями. С тех пор махнул и я на эту затею. Но после того как осенью 1960 я приобык к первому кругу читателей – не зэков (Теуши, Каменомостские), я в мае 1961 привёз облегчённый «Щ-854» и Копелевым в Москву. Хотя Лев счёл это «производственной повестью», но всё же тут новинка-перчинка явно чувствовалась, и они с Раей Орловой стали уговаривать меня разрешить им понемногу «давать читать», это было в их амплуа. Я сперва твёрдо отказывался, но потом поддался, они выдавили из меня некий дозволенный список читателей: Рожанские, Осповаты, Кома Иванов. И тем же летом и осенью стали давать, и списка не соблюдая. А в ноябре 1961, после XXII съезда, сговорились мы, что Копелевы передадут рассказ в «Новый мир». Отнесла Рая Орлова. (По её версии – прямо и со значением передала А. Берзер, а по версии А. Берзер: ничего не объяснила существенного, положила на стол как некую незначащую текучку, – стыдясь?) Но уж раз отдали в «Новый мир», то теперь идея Копелевых была: «под это» можно широко распространять (то есть валя вину за распространение на журнал), а в публикацию они вовсе не верили. Я всё же немного надеялся. Однако совершилось удачно печатание – я опять приступил ко Льву: не отправим ли (кое-что другое)? Иностранцев мелькало в их квартире много, но – нет, не взялся. Уже всякую надежду я потерял – вдруг в 1964 велел Лев готовиться передать Рожанскому. Рожанский не обманул, взял, – так тут лопнула его поездка. А уж я – с Евой познакомился, и дальше обходился без Копелевых. Только в момент провала архива, осенью 1965, остро меня засосало: отправить на Запад «Танки» и «Прусские ночи», спасти. А Ева в этот момент – во Франции была. Я – опять ко Льву. Он – взялся, и на этот раз действительно отправил – с Бёллем. Уж как я радовался, как благодарен был!
Да не тут-то было! Одного не знал: за пару недель передержки у него Лев дал читать «Прусские ночи» свояченице Люсе, та – подруге, там – перепечатали, и эта утечка через несколько лет смертельно мне угрозит: дойдёт до ГБ и будет использована ими против меня через «Штерн». Не собрался я тогда с духом упрекнуть Льва серьёзно, да не сформировалось в нём сознание никакой вины. Такой у него характер: для долгого серьёзного боя у него стянутости нет. Комично, но ничто моё с ним не прошло без провала. Уж пустяковину, письмо в «Унита», взялся передать с Витторио Страда – и та на таможне завалилась. И когда после моей высылки Аля осталась на взрывном архиве, в заботе, как отправлять на Запад, – обращалась и ко Льву, он не помог. (Да и слава Богу, опять бы что не то.)
В августе 1973, когда «диссидентство» стало раскалываться на направления, качнулся Лев к своим прежним марксистским симпатиям («в которой посудине дёготь бывал – ту огнём не выжжешь»), к поддержке Роя Медведева. А у нас с ним произошёл полуразрыв, после моей статьи «Мир и насилие», когда он обвинил меня в «москвоцентризме» (вижу угнетение в СССР, не вижу в Чили и т. д.). Последняя встреча наша была: в декабре 1973 в Переделкине на даче Чуковских, где я сидел загнанный, замученный, а он привёз знакомиться, не спрося меня, не предупредив, – американского издателя Проффера с женой. Нашёл меня в глубине лесного участка: пойдём! Я возмутился: зачем мне эти американцы, не хочу никого видеть. Оба тёмные и молчаливые, на том мы со Львом и расстались. После же моей высылки узнал он «Письмо вождям», затем «Из-под глыб», – и стал яростным вечным врагом этой программы, да и меня самого. Написал он клокочущий ответ на «Письмо», почти длинней самого «Письма» (дурной знак для критики), у него всегда так многословно, – я уж и дочитать не мог, да не предполагал там ценных мыслей. Потом писали мне из Москвы, что он всюду резко меня «поносит», не может остановиться, даже и при Люше и Л. К. Чуковских, моих друзьях, – а что же с чужими?
И всё же я продолжал любить Льва, не забывая его большую, лохматую фигуру и прямодушные движения его сердца: он был ко всем щедр и, когда не во гневе, добр[79].
А ещё была немалая помощь от Володи Гершуни, зэка с юности, моего знакомца по Экибастузу. С большим энтузиазмом таскал он мне редкие старые книги для «Архипелага», и по истории революции. Это он и принёс мне «Беломорско-Балтийский канал», единственную советскую книгу с фотографиями чекистов. Он же свёл меня с М. П. Якубовичем. Гершуни принадлежат и два термина, употреблённых мной в «Архипелаге»: «истребительно-трудовые лагеря», и «комически погибшие» – о коммунистических ортодоксах.
А каждое знакомство тянет новое, круги расширяются. Гершуни же познакомил меня с другим благожелательным кружком, подобно кружку молодёжи вокруг А. И. Яковлевой, подписывавшему коллективные письма мне, – вокруг Елены Всеволодовны Вертоградской. Все они работали в каком-то библиотечном партийном фонде, да где? на площади Дзержинского, прямо против Большой Лубянки! И что за фонд! из каких-то полузапретных, но всё ещё не уничтоженных книг, так что была у них возможность списывать якобы уничтоженные, а на самом деле не уничтожать, – мне, например, давать. По заглоту времени, по преизбытку дел неразумно мало я этим воспользовался (накоплять ли книги впрок, когда вот – петля на шее и не знаешь, одну прочтёшь ли?), но всё же брал кое-что. И один раз настояли они – посетить их прямо там, в фонде, походить вдоль полок. Как следует не познакомились, не разгляделись, а – друзья. Сияли все, а – неосторожность? Не знаю, как им обошлось, стукач присутствовал – и неприятность им была. Потом – замирала наша с ними связь. Не думал, что этот кружок мне ещё пригодится. А за 10 дней до высылки, именно по сторонности этой группы, предложил я им устроить отдельное хранение крюковского архива. Приняли!
А Неонила Георгиевна Снесарёва – несчастная, одинокая, полуслепая и нищая женщина, неудачливая переводчица с английского, оттеснённая бойкими «трестами» их (то есть замкнутыми коллективами переводчиков), – много лет порывалась помогать мне, в чём могла, счастье видела в том, чтобы скудный досуг обратить на помощь мне. (Она родом была из Воронежа, дочь священника, расстрелянного ЧК в сентябре 1919, при подходе белых, потом всю жизнь должна была скрывать это – и так смогла окончить переводческое отделение Литературного института; мать её отбыла 5 лет на Соловках в начале 30-х годов, а после войны снова в лагере, обе бездомны и разорены всю жизнь.) Снесарёва делала для меня сравнительный анализ двух английских переводов «Круга» (и достаточно набрала материала доказать их непригодность). Переводила книгу Георгия Каткова о Февральской революции. Звалась она среди нас «Одуванчик». Благодаря своим телефонным промахам (обладала опасным свойством некстати и неумело говорить лишнее по телефону и под потолками), она была на присмотре у ГБ, и, наверно, большую добычу думали там взять: уже после моей высылки сделали обыск-налёт на её квартиру, в её отсутствие, но, кроме моих фотографий, ничего не нашли и оставили глумливую записку. (Настолько уже не считали её за человека, что даже не скрывались, что они – из ГБ.) А после нашего отъезда Алик Гинзбург сумел привлечь Н. Г. к Русскому Общественному Фонду, распределять помощь зэкам и для связи. Она самоотверженно и безстрашно работала, он хвалил её в письмах к нам в Швейцарию.
И ещё были люди – слишком далеко живущие, чтобы на помощь их призвать, чтобы найти доброе применение их силам. Такова была в Ленинграде «Натаня» (Наталья Алексеевна Кручинина, врач), – не было бы задачи, какой она не приняла бы (но лишь немного поработали с ней в деле с крюковским архивом и «Тихим Доном»).
И так же застряла в далёком Ростове-на-Дону, покорёжившим и мою всю юность, моя соученица по университету, старше меня, Маргарита Николаевна Шеффер. Я приехал туда году в 1963 – и она, с лицом своим суровым, тёмным, как сеченным из камня и угля, сказала страстно: «Саня! Дай мне любую работу – для революции! Я задыхаюсь в этом болоте!» Я мог только ответить: «Переезжай в Москву. Здесь – ты ничему помогать не сможешь». Несколькими годами позже всё ж начала она мне печатать на дурной машинке, с отвратительной копиркой и сперва со многими ошибками. Перепечатала она «Круг», а затем и – полный «Архипелаг», и никуда эти перепечатки не пригодились, втуне лежали, недавно сожжены. (А работа-то – делалась, а голова – клалась…) Только пережили мы на этом ещё одну авантюру – годовую задержку комплекта у случайных людей в Ростове, в сарае, – как не пропало? как не открылось? Новые тревоги, новые поездки… В 1970 Рите удалось наконец переехать под Москву, тут она закоротилась на Люшу, на эНэНов (и – рабочая связь, и из чёрного одиночества есть к кому приехать душу отвести). Тоже с оплошностями, но втянулась и Рита в стиль потаённости. И сегодня – она единственная доверенная машинистка сборника «Из-под глыб», вытянула его для всесоюзного Самиздата и мировой известности.
И вот насчитали мы только в этом очерке – близ сорока человек. И по всем предыдущим очеркам наберётся, ещё и с неназванными, до сорока, да впереди ещё больше пятнадцати, да иностранцев двадцать, так это уже больше ста! – и всё ж это Невидимки!
И – чего б ты добился без них?
Живёшь – забываешь им счёт, сейчас удивляешься перечню.
А ещё ведь был и следующий ряд, ещё большая череда – кто протягивал честные руки помощи, не раз показывал решимость и риск, – да уж нам не нужно было, не помещалось.
Или кто принёс одноразово помощь – из неизвестности и оставшись неизвестным. Например, те двое парней в радиокомитете на Новокузнецкой – с отчаянной смелостью из портфеля гебиста, вышедшего из комнаты, вынули и переписали оперативную инструкцию по слежке, которую я затем мог процитировать в интервью (Дополнение Третье).
Или вот: Игорь Хохлушкин. Сперва он (научный работник, физик) боролся в Новосибирске, ещё оттуда голос подавал, потом его выжили благополучные учёные-образованцы. Как-то сумел «зацепиться» за Москву, но уже без настоящей работы, сперва переплётчиком, потом столяром, зато мог разрешить себе быть вольномыслящим. Но даже и этот источник заработка обратил в общественную пользу: многое самиздатское переплетал безплатно. А когда пришёл в Советский Союз «Архипелаг», – но слишком мало и только для столиц, – Александр Гинзбург, легендарный руководитель нашего Фонда, кажется абсолютно невмещаемого в советские условия, вёл не только никогда не бывалую помощь семьям заключённых и самим заключённым, – он между делом придумал наладить печатанье «Архипелага» в Грузии, нелегально ксерокопировать там с «Имки». И возвращалось в Москву в листах, а дальше Хохлушкин в своей столярной мастерской в музее наладил резать и переплетать, вполне как книжечки, – невероятное издание, смертельно опасное для своих издателей. (Их продукция кроме бледности печати отличалась ценой: заграничные издания по 300 рублей книжка, а наши – по 20, себестоимость.)
Чувство было необычайное: здесь, за границей, получить от Евы такую книгу из России! Пишет Игорь: «С радостью посылаю Вам в подарок здешнее издание Книги. (Тираж – 1500, первый завод – 200 экз.) Верю, что Бог не попустит пресечь это дело. Издание – не только и не столько для московских снобов, а для провинции. Охвачены города: Якутск, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск, Саратов, Краснодар, Тверь и более мелкие…»
Так – кладут головы русские мальчики, чтобы шагал «Архипелаг» в недра России. Нельзя представить их всех – без слёз…
А не к Невидимкам ли причесть и тех непрозвучавших и несломленных героев, кто, будучи знаком со мною в прошлом, устоял через всё давление и не подал на меня клеветы? Отец Виктор Шиповальников отказался выступить против меня в «Журнале Московской Патриархии», как от него требовали, – и за то попал в гонения, и вся семья его, – а не дрогнул![80]
11. Новая сеть
Летом 1968 настаивала Ева: «Вы тратите силы, где могли бы не тратить. У вас не хватает молодых энергичных помощников. Давайте я вас познакомлю?» Я согласился. Ева назначила прямо на квартиру к Светловым, на Васильевской улице. А я даже из Рождества, поблизости, никогда не ездил в Москву только из-за одного дела, всегда нагораживал их вплотную. Так и тут, приноровил к тому же вечеру, когда уговорились встретиться-знакомиться с Сахаровым, для чего назначили мне квартиру академика Фейнберга на Зоологической, в том же районе, удобно совпало. (В тот год Сахарова ещё сохраняли засекреченным. Чтоб наша встреча с ним осталась неизвестной, уговорились, что я приду на квартиру раньше него, – за ним могли официально следовать наблюдающие, – а уйду позже.) За два часа до встречи с Сахаровым я приехал знакомиться с Наташей Светловой.
Это было через неделю после оккупации Чехословакии и через три дня после демонстрации семерых на Красной площади. У себя в Рождестве я слышал всё по радио, но живых подробностей московской демонстрации не знал. И теперь молодая собранная женщина с темнокрылым надвигом волос над ореховыми глазами, крайне естественная в одежде и в манере держаться, рассказывала мне, как демонстрация прошла и даже как готовилась. Откуда же знала она? Оказалось: тесна с ними, с Движением, и двое участников – её друзья. (Так только малого не хватило – ей тоже пойти на ту площадь в тот день? Того малого, узналось потом: к тому ли она росла? В иные миги жизни посылаются нам перекрестки, и между решеньями почти просвета нет. Вот уже сегодня подходило ей решение иное.)
Её общественная горячность очень понравилась мне, характер это был мой. Так надо её к работе! В этот ли раз или в следующий я и предложил ей для начала: печатать мой «Круг»-96. Наташа взялась охотно. (Хотя – кончала математическую аспирантуру, вела практикум со студентами, времени льготного было у неё – два вечерних часа, когда шестилетний сын уже спать ляжет. Но напечатала за четыре месяца, да без единой опечатки и с большим вкусом внешнего расположения, за чем мы и не следили никогда.) Ещё в следующий раз задавала мне по готовому уже тексту такие придирчиво-точные вопросы, каких я сам себе не поставил. И по подробностям партийной истории поправила меня, где я не ожидал от неё знаний, тоже мне это очень подходило в цвет. Оказалось: ещё старшеклассницей она сама для себя пытливо раскапывала реальную историю большевицкой партии. (Это было поколение, сотрясённое ниспровержением Сталина в свой как раз последний школьный год. А один дед Наташи, Фердинанд Светлов, был даже – видный большевицкий публицист, после его ареста в 1937 осталась коммунистическая библиотека, запретные протоколы съездов и всякая коммунистическая труха, однако разительно противоречащая «Краткому курсу». Отсюда-то и пошли её раскопки. Резкая переполюсовка поколений была знаменательным признаком и ходом русской истории в 50-х годах.)
А – если хранение? Да, конечно, берётся устроить.
Сказать «деловая» – мало: в работе была у неё мужская готовность, точность, лаконичность. В соображении действий, тактики – стремительность, как я называл – электроническая, она по темпу сразу разделила моё тогда стремительное же поведение. Но и в понятиях, как они проступали первые, – такая близость к моим, как я только мечтал и не встретил друга-мужчину. А ещё открывалась в ней душевная прирождённость к русским корням, русской сути, и незаурядная любовная внимательность к русскому языку. И такая бьющая жизненность, – потянуло меня видеть её часто.
Была она залита и наполнена русской поэзией, множество стихов наизусть, и сама же «издавала»: печатала, переплетала, всё ещё запрещённых. Но больше того: у неё оказалась тонкая способность к редакторству, к художественной отделке, это я постепенно радостно открывал. И встречу на четвёртую-пятую я, в благодарности и доверии, положил ей руки на плечи, обе на оба, как другу кладут. И вдруг от этого движения перекружилась вся наша жизнь, стала она Алей, моей второй женой, через два года был у нас первый сын.
Эта близость досконального понимания – по лицам, событиям и предметам нашей истории, ещё в 1968 не так проникающе соединяла нас, и без того уже прочно соединённых, как позже, когда в советском обществе начался всеобщий раскол и разночувствие – а мы с ней удивительно вместе, и чем дальше – то ещё вместей.
А соработа продолжалась своим чередом и тоже всё лучше и глубже. Аля настояла сделать и успела провести в уже оконченном «Архипелаге» большую работу по проверке и правке цитат, особенно ленинских, которые я впопыхах работы брал из разных изданий, а верней – вторично перехватывал из коммунистических книг, сам не имея времени на библиотечную проверку, получался ералаш. (Подпольный писатель, считал я себя несколько свободным от обычных библиотечных требований, – зря и ошибочно.) Потом составила каркасы событий в моих Межузельях (я не занимался ими, потому что они не охватывались Узлами, а знать-то, видеть их косым зрением надо). Обрабатывала воспоминания Шляпникова, затем делала мне выписки по Ленину: то из отдельных произведений, то – собирала и классифицировала: черты его наружности, речи, манеру держаться.
Она влилась и помогала мне сразу на нескольких уровнях, в советах, обдуманьях шагов, через три года уже и во внутреннем вынашивании «Октября». Прежде – во всех определяющих, стратегических решениях я был одинок, теперь я приобрёл ещё один проверяющий взгляд, оспорщицу – но и постоянную советчицу, в моём же негнущемся духе и тоне. Очень это было радостно и дружно. Моей работе и моей борьбе Аля быстро отдалась – вся.
А сколько лет я изнывал утомлённым мозгом от этих вечных добавочных соображений: у кого какую рукопись взять, кому отвозить на сбереженье; в каком порядке перемещаться, чтобы меньше угрозы; откуда звонить, чтоб не открыть связи; какие хранения ликвидировать из-за опасности, какие новые открывать. На эту умственную перегрузку уходили уже прямые силы, нужные для писания, и одна такая дённая забота пригнетала, как действительная физическая ноша, давила настроение: доколе же мне это всё (и всё тяжче) волочить?..
Тут как раз вскоре отказало кобозевское хранение (сестра его невестки, у которой всё это хранилось годами, должна была квартиру менять, старый дом разбивали), – и вот надо было всё дочиста забирать. А хранение это было главное: и самое давнее (уже лет восемь), и потому самое представительное, полное, экземпляры первые главные; и самое доверенное. И по всем пунктам именно Але и подходило это хранение. По всем пунктам, ибо я уже понял, что именно её хочу сделать своей литературной наследницей. Наконец с освобождённой душой я мог передать всё Але. Порукой было и глубинное неразличие убеждений и двадцатилетнее различие возрастов.
Аля безколебно взялась устроить мне подручное хранение всех вещей – на своё полное знание, то есть голову мне совсем освободив: у кого лежит, как взять, как снова положить, моё дело оставалось – только приносить к ней избыточное, только заказывать ей нужное. Устроил я встречу её с сыном Кобозева, студентом, съездили они с пустыми рюкзаками в то хранение, какого на месте я никогда не видел. – Перевезя, Аля прежде всего прочла и вникла во всё, что у меня было написано, до каждой бумажки, и всё это теперь держала в памяти и в подробном знании. Затем – всё это классифицировала, систематизировала (одновременно прося, уже и на случай внезапной смерти моей, если руки больше не дойдут, – собственноручных моих надписей и разъяснений на первых листах). Так сошлись там: окончательные рукописи, и текущие, и над какими работа оборвалась.
Однако взятое хранение не могло долго задерживаться у неё на квартире: именно потому, что я, уже по сердечному тяготению, часто к ней приезжал, должен был эту свободу иметь, – потому-то храниться должно было ещё у кого-то дальше, где я никогда не бывал и чьих имён нарочно знать не хотел, не спрашивал у неё. (Каждому лучше знать лишь только необходимое, чтобы ни в бреду, ни под гипнозом, ни отравленный, ни в минуту упадка не мог бы ничего лишнего сказать.)
Аля быстро взялась – а ещё ведь не знала, у кого будет хранить. Ещё надо было самой смекнуть – и спросить согласия тех людей. Сообразила Аля верно: система хранения должна так вписаться в жизнь, чтобы почти не изменить ни знакомств, ни встреч, ни передвижений. Значит: брать у неё должны были люди, которые и прежде к ней ходили, и впредь будут ходить, и естественно объяснить их приходы. Такой человек был наглядный, ближний – её бывший муж, отец мальчика, давно оставшегося с матерью и навещаемого отцом. (Так и позже эпизодами возникало у неё: то одну зиму перехранить экземпляр «Архипелага» у своей родственницы Леоноры Островской, – она художница была, и «по-домашнему» приготовила эскиз обложки к «Августу», с чем и вышел он потом в Париже. Другой раз в тяжёлые дни в осаде придумала отсылать из дома опасные листки со старушкой Надеждой Васильевной Бухариной, которая часто забегала помочь, посидеть с детьми, и всегда с какой-нибудь хозяйственной сумкой.)
И Андрей Николаевич Тюрин, в то время ещё моложе тридцати (уже доктор физико-математических наук, талантливый, весьма успешливый математик), без колебания же согласился. Он убеждённо шёл к духовному и религиозному освобождению (через души перестраивает Бог наши несчастливые и безрассудные общества); и личная мужественная прямота; и, счастливым образом, никогда не испорченные, и даже высоко сохранённые личные отношения с Алей. Согласился – и потом 5–6 лет «заведывал» хранением, – всегда отзывно, без ропота, быстро и с чёткостью, свойственной математикам. Его хранение было и самым крупным среди всех моих остальных, и единственным, безперебойно действующим (хранения у Данилиных кротов были почти замершие, принимали и отдавали с раскачкой, с запретными перерывами).
Но и Андрей, раз он часто приходил к Але, не должен был хранить у себя, а – где-то ещё дальше. (Если число прямых касаний – n, то число вторичных, непрямых – n2, и их никогда не обшарить.) И Андрей тоже нашёл самое простое решение – хранить у своей родной сестры Галины Тюриной. Яркий алгебраист была и сестра, кандидат наук, преподавала в Университете. Она совсем была далека от бунтарских кругов и интересов, увлекалась математикой, байдарочными походами и горными лыжами. И – прямодушна, сдержанна и надёжна, как и брат. И она – тоже согласилась! знак времени! (Вероятно, прямого подполья, революционного, – не приняла бы. Но таким особым клином заклинился я в советское общество, что помогать мне держаться казалось – тогда! – задачею всех образованных. Шалопутный Хрущёв никогда и до смерти не понял, что он вклинил, – досталось выкорчёвывать наследникам его.) Стала всё держать где-то на антресолях, где байдарка и горные лыжи.
Вся система, уже без единой прямой встречи Али и Гали, действовала гладко благодаря методу, предложенному А. А. Угримовым (чтоб избежать нечёткого названия и вызова пакетов): покупался парный набор самых разнообразных пёстрых марок, на каждый пакет хранения клеилась одна из них, а другая такая же хранилась у Али как бы в филателистическом альбоме, при каждом кармашке – номер, а где-то отдельно – зашифрованный перечень рукописей. По моему заказу рукописи – Аля устанавливала марку, давала её Андрею, он предъявлял её Гале, та легко, безошибочно доставала нужный конверт. (Для более глубоких хранений такая же система марок была у Али с самим Александром Александровичем.) Столь наглядная система была вполне безопасна и вполне надёжна. Взамен взятого пакета тоже оставалась марка – свидетельством, что он взят. Эта же система удобна, если надо какую-то бумажку доложить в какой-то пакет: в сопровождение к бумажке посылалась марка. За 3–5 дней от моего заказа вся система срабатывала – и доставалось любое.
В ноябре 1969, когда меня в Рязани исключили из Союза писателей и я, обожжённый, помчался звонить в Москву – первый номер я набрал Алин, да её не оказалось дома. (В последний раз она платила дань своему юному обычаю, полетела с друзьями на Кавказ, покататься на лыжах.) И через несколько дней, приехав из Рязани уже навсегда, я сразу же из «Нового мира» пошёл к ней, хотя и вёл за собою трёх топтунов. Она уже вернулась. «Читала?» (то есть в газете, про моё исключение). – «Читала». – «И что по-твоему?» – проверял я, себя и её. – «Надо вдарить!» – не сомневалась она. – «А вот!» – достал я уже готовый свой ответ.
Порывы к бою у нас всегда сходились.
Но хотя ясно видели мы с 8-го этажа, что топтуны стоят у дома (в этот момент забегала и Ева, подтвердила), – я почему-то не взял с собою в Жуковку, а оставил у Али привезенные мною ленинские главы разных Узлов – в расчёте, что это дальше нормально переправится на хранение. А через день утром ко мне в Жуковку приехал Люшин двоюродный брат с просьбой от Люши абсолютно срочно приехать. Что ещё могло случиться? Укололо меня: провал! после моего ухода пришли к Але с обыском! Да как же мог я опять, так неосмотрительно, сам всё провалить??.. Криминальнее ленинских глав, да ещё XIV Узла, уже советского времени, глава с Дзержинским, – вряд что могло и быть, только «Архипелаг». Молодой человек не был посвящён ни во что, но я спросил его всё же по дороге: «А что случилось, не знаете?» – «Точно не знаю, но – большое несчастье», – ответил он. Так!!! Не было сомнений! Я корчился и сжигался в его автомобиле, пока он тянулся узким Рублёвским шоссе, двигался в отвратительной многорядной тесноте Минского, – как я не сжёгся совсем? За полчаса повторились со мною уплотнённо все муки 1965 года, провала архива, уничтожающие муки от своих ошибок, разбивающих всю позицию.
А оказалось: какая-то статья в «Литгазете», на которую, по мнению Люши и новомирского круга, надо немедленно отвечать… Мелочь какая!
Но всю силу мозжащего удара я испытал напоминательно вновь. И: какое же благодеяние, когда всё заляжет глубоко, далеко, надёжно!
Однако и полного года не полежало всё так, как было устроено, – Галя Тюрина в июле 1970 повела по Северу на байдарках компанию приятелей и, проводя в одиночку лодку через порог, утонула, – самая умелая, самая ловкая из них, – а безпомощная городская компания, не отыскав её труп, вернулась в Москву. Ей было 32 года – и смерть сотрясла близких, муж полупомешался на время, Андрей полетел на поиски тела; Аля, прикованная к месту беременностью, сутками созванивала по Москве поисковую экспедицию и оборудование её, – благородные помощники находились. (А на месте гибели, при равнодушном отказе всех властей, Андрей нашёл тело, ниже по реке, с помощью лётчика, нарушившего служебный запрет. Привезли и похоронили в Москве.) Аля созванивала экспедицию, а сверх боли и жалости пронизывал страх, что дома у покойницы родные откроют, о чём никто из них не знал, и Андрея не было – послать спасать хранение. По незнанию, неподготовленности, по убитости несчастьем – всё может случиться. И А. А. Угримов с Димой Борисовым повезли жену Андрея Соню Тюрину вытаскивать из дома погибшей рюкзаки с рукописями (27 килограммов) так, чтоб ничего не поняла череда сочувствующих посетителей дома. (Муж покойной узнал, что что-то хранилось, и удручился, что жена жила с какой-то тайной от него.)
И некоторые недели эти рюкзаки лежали у Андрея. И во всём этом общем горе надо было думать: куда ж их дальше?
Круг близких показывал сам. Круг близких был – круг математиков: вместе они ходили в альпийские походы (и обмораживались и пальцы на ногах теряли вместе), вместе гуляли воскресеньями по Подмосковью, продувая свежестью перенапряжённые математикой головы, обсуждая вне микрофонов социальные вопросы. (Аля, когда-то из этой же компании, давно уже с ними не ходила, отяжелев моими задачами, а Андрей на таких прогулках дожигал для неё всякие сбросы и отходы тайных перепечаток: невозможность сжигать бумагу в городской квартире – одно из опасных затруднений современной конспирации.) Теперь брался быть хранителем Сергей Петрович Дёмушкин – столь-столь осмотрительный, несмотря на свои 35 лет; поставил условием: даже самых близких и лучших не посвящать и не вмешивать.
Нового хранителя за его осторожность и глубокую скрытность мы с Алей между собою звали «Барсуком». Сергей Петрович тоже был математик, из Стекловского института. Он был очень серьёзный, спокойный, сдержанный человек, – тихий, и с тихим голосом, а убежденьями – твёрдыми. Родился Дёмушкин в деревне, всех образований достиг своими личными усилиями. Он жил не выдаваясь, незаметно, но был из первых в Москве, кто тихо, безшумно стал жертвовать средства на помощь зэкам и их семьям – и уже никогда не прекращал. В зрелые годы вдруг стал играть на рояле. После болезни похрамывал, но всё равно ходил с друзьями в горы и на лыжах. В его хранении тоже был переполох: он держал не у себя, а у брата, без ведома его жены, – вдруг брат стал с женою жить плохо – и решил С. П. из предосторожности всё уносить. Куда? Нашёл ещё новое хранение (не знаю его и теперь) – и там дохранил до моей высылки, а потом поставлял часть за частью – всё на вывоз. (Позже его изгнали из института, но – не за меня.)
Андрей же Тюрин слишком не скрывал свои политические антипатии, а тут ещё такая явная близость к нашей семье. После моей высылки он не только, пользуясь правами родства, ежедневно приходил охранять квартиру, чтобы не врывались безчинно, но и, в самые опасные недели острой слежки, носил тайные материалы в больших объёмах, да ещё стеснённый строгим расписанием: именно в дни, когда ждались к Але иностранные корреспонденты, которые возьмут дальше, – чтобы на нашей квартире тоже не залёживалось[81].
И ещё следующий год они досылали на Запад, исправляли недоделанное, недовзятое. И жгли остатки.
Теперь, когда я это пишу, летом 1975, хранение их – исчерпалось благополучно.
И ещё от одной обязанности освободила меня Аля – от фотографирования моих готовых текстов, чтобы перевести их в плёнки для отправки за границу. Много лет это ремесло несравненно выручало меня, делало мою конспиративность совершенно самообезпеченной – но, впрочем, и тогда объём работы уже тяготил меня, отнимал слишком много времени – и я передавал навыки своей первой жене (и, надо сказать, весь «Архипелаг» в 1968 она сняла отлично). А теперь объёмы всё увеличивались, главное же: весной 1971 мы решили всё заново от начала до конца переснять и отправить в Цюрих моему адвокату, чтобы всё написанное и главные архивы иметь в сосредоточенном виде и собственном распоряжении – комплект «Сейф». (Пришлось дублировать и «Архипелаг»: первый отправленный стал нам недоступен, мы не могли использовать его для европейских переводов.) Это была огромная работа.
И Аля предложила, что её сделает их общий друг Валерий, физик из МГУ.
Валерия Николаевича Курдюмова я уже видел раз в компании с Андреем – и был поражён непроходящей тонкой меланхоличностью его взгляда, губ и щемящим пессимизмом предожиданий. Он был недалеко за тридцать, а сокрушён и печален печалью всеведающей безвыходной старости.
Его отец был зэком на Беломоре, потом на Москва-Волжском канале. Родители ничего не скрывали от детей, Валерик, ровесник пресловутого 1937-го, вырос всепонимающим и безнадёжным скептиком. Он был хороший радиомастер, даже во времена сильного глушения достаточно слушал западное радио, следил за политикой в полноте и разветвлениях, суждения его были зрелы, точны. Он был уверен, что наши никогда ни в чём не смягчатся, не уступят, не переменятся (прогноз весьма трезвый) – и в конце концов проглотят лопоухий Запад. Хуже того: считал Валерий, что и всякое шевеление, внутреннее или внешнее, не то что там борьба, против коммунизма – совершенно безнадёжно. Так и всю мою борьбу он оценивал как явление уникальное, чудо, но которое ничего не сдвинет, а самого меня если не посадят, то убьют; и даже печатание моих книг на Западе он считал – только приближением моего конца.
Но в чём, напротив, он был деятельно и даже ревностно убеждён: в необходимости спасать всё написанное, все документы, каждое слово. Сам для себя, своими руками, он создал редкое в Москве полное собрание фото-самиздата, в самодельных переплётах, целую библиотеку, и широко давал всем читать – и самое опасное, вроде Авторханова. Охотно взялся делать фотокопии и для меня. Аля боялась отпускать на его квартиру тома моих вещей – он притащил всё оборудование к ней и переснимал и проявлял и сушил у неё, суток трое подряд. Так изготовлен был новый комплект фотоплёнки «Архипелага», с которого и сделаны позже все мировые переводы, кроме англо-американского, и половина всего комплекта «Сейф». Позже Аля стала давать Валерию фотографировать для сохранности (если пропадёт единственная рукопись) также промежуточные мои редакции и романные заготовки, всё в том виде, на чём работа останавливалась или вынужденно прерывалась. (Это постадийное дублирование ещё было огромным обременением нашей конспирации.)
В августе 1973, идя в решительный бой, я спешил для верности передать на Запад фотоплёнку «Октября Шестнадцатого» в том виде, как было к тому времени написано. Передать Валерию рукопись я ездил сам, назначили встречу в молочном магазине в доме, где он жил, на одной из Песчаных улиц. Из магазина я пошёл за ним в отдалении, прошли в междомовый скверик, только там поздоровались. Всё было ярким днём, скамейки не нашли, ходили. Я уже в голове имел подённый план своей поступенчатой атаки и, зная, с какой страстью Валерий ненавидит их, решил порадовать и подбодрить его, рассказал ему немного вперёд – что будет и как. Он – улыбался. Но, ещё с первой улыбки в молочном магазине, какой-то безрадостной, потерянной, сожалительной: он радовался моим близким ударам и ярости их – и не мог радоваться, а только печалился, что они – опять устоят, а мы – опять погибнем.
Осенью 1973 наблюдение за нами было такое пристальное, так сильно усложнилась связь со всеми, кого мы берегли, а превращение рукописей в плёнку требовало иногда мгновенного исполнения. И я – снова вернулся на самообезпечение: снова купил растерянное за годы оборудование, начали сами снимать в московской квартире на Козицком, с вечно закрытыми шторами. (Саша Горлов своими изумительными руками специально поработал, чтобы советский неудобный репродукционный штатив пригнать к нашим целям.) Вдруг как-то, в эти грозные недели, Валерий зашёл к Але сам без предупреждения и без вызова – пренебрег той несомненной кагебешной съёмкой, которая устроена была из дома против нашего парадного. Какая-то работа была на очереди, он взял её, через два дня вернул косвенным путём, а ещё спустя несколько дней я обнаружил, что не хватает важного куска – и значит, он где-то обронен? потерян? захвачен? Это выяснилось близ полуночи, а на другой день, кажется, надо было и отправлять. Мы с Алей вышли «прогуляться» и из уличного автомата уже в первом часу ночи позвонили ему. (Трудность была, кажется, ещё в том, что жена Валерия не допускала никаких незнакомых женских голосов, надо было себя назвать.) Он смутился. После паузы, после поисков добродушно рассмеялся в трубку: «Да, завалился кусок в ящике стола». Слава Богу! Сам опять принёс на другой день. А дни-то были – последние, самые грозные.
И все эти появления Валерия у нас не прошли безследно, – это как частый неосторожный проход у работающего рентгена – понёс лучевую болезнь, не сразу почувствуешь. После нашей высылки, как мы узнали по левой почте от друзей, его стали дёргать. Сперва его вызвал «директор по режиму» (такой был в их режимном Радиотехническом институте), грозил уволить. Потом, в сентябре 1974, потянули на Лубянку, допытывались, в чём состояла связь; отлично знали о нашей встрече в молочном магазине, даже фильм предлагали показать. Валерий признал факт помощи, но что именно снимал – отказался назвать. Его пугали: «Вы замечаете, у нас здесь очень тихо, но это не значит, что здесь не стреляют». Но на том как будто и обошлось пока.
Вижу его печально безнадёжную улыбку. Как предчувствовал он всегда безнадёжность всякого им сопротивления! Предчувствие, подобное такому же у Кью.
И только Бога благодарить, что вот за полтора года после моей высылки так ещё мало они растрясли и расправились с нашими, так много мы успели уничтожить улик, так многие утвердились теперь безопаснее. Не знаю: на чём продержался весь круг помощников наших ближних самые опасные месяцы? На одних молитвах. А дальше: прошлое – всё более становится прошлым, теряет связь с практическими ходами борьбы. Новые раздражители, мои европейские и американские выступления, переносят бой на другие поля, а прежние уже не прокапываются так рьяно.
Мы с Алей, едва только сошлись в работе, сразу почувствовали необходимость в новом, своём и постоянном, канале на Запад. У Евы канал не был постоянен, всё на импровизации. А в 1968, после того как отправили «Архипелаг», она отказалась отправлять (ощущая чужое) фотоплёнку с книги Дмитрия Панина, предназначенной им для Папы Римского (чтоб одним ударом «переубедить и повернуть» весь Запад и весь мир…). Сам я тоже в эту книгу не верил, но по старой зэковской дружбе считал своим долгом в отправке помочь. А тут подоспело знакомство с обаятельным отцом Александром Менем. Я знал, что у него есть связь с Западом, и спросил его, не посодействует ли. Он готовно и очень уверенно сказал: «Да, конечно, пока мой канал не засорился». (Позавидовал я – у человека свой канал! Нам бы!..) И он – взял. И – выполнил.
Лишь более тесное знакомство открыло нам, как работали шестерёнки той передачи. Отец Александр был духовным руководителем тогда ещё небольшого ищущего направления в подсоветском православии, вёл неофициальные семинары и направлял группу молодёжи. (Из этих усилий родилась сплотка статей в «Вестнике РСХД» № 97 и ещё доследки потом.) Главный же организатор у него был Евгений Барабанов – всегда богатый проектами организаций и реорганизаций. (Самый удавшийся из них – влитие Самиздата в парижский «Вестник».) Мы познакомились («закоротились») непосредственно с ним у о. Александра Меня, уговорились о передачах каналом – и дальше, для большей безопасности канала и всей их группы, не только я сам почти никогда не встречался с ним, всего три раза в четыре года, но мало встречалась и Аля: надо было опять найти множитель, затрудняющий поиск, – ещё одно промежуточное лицо, чьи встречи и с Алей и с Барабановым были бы естественны.
На эту роль она избрала одного из своих друзей, и крёстного отца своего старшего сына, Диму Борисова. Это был милый, застенчивый молодой человек с вьющимися чёрными волосами, в очках, тонкий любитель поэзии, знаток русских песен и сам с хорошим голосом. Не хватало ему как будто последовательной воли к работе и организованности. Когда мы с ним познакомились, Дима был аспирант в Институте истории, с темой диссертации (конечно, замаскированной социологическими формулировками) – по истории русской Церкви XIV века. Чудом было, что его в эту аспирантуру приняли, чудом было, что такая тема могла удержаться и диссертация – быть защищена (в конце это чудо развалится). Рожденьем он был – из семьи крупного советского чиновника, но отринул путь и убеждения отца, тот был испуган и в смятении от развития сына. Дима Борисов – человек большой и всё растущей эрудиции, его статья в «Из-под глыб» (как и «Молва и споры» в самиздатском сборнике «“Август Четырнадцатого” читают на родине») – только начало его возможного пути. Конечно, не конспиративными передачами ему надо бы заниматься (и не изнывать бы от безработицы, от безденежья), – но так обезкровлена Русь за 60 лет, стольких потеряли мы, что некому заняться даже этими прятками по тёмным закоулкам. Вообще мягкий, задумчивый, созерцательный, Дима Борисов в первых же испытаниях с КГБ (вызовы на допрос весной 1973, потом дни моей последней травли, разгрома, полтора месяца Алиных сборов, спасения архива вослед мне, угрозы ему в 1974 после нашего отъезда) проявил такую твёрдость и даже такой неожиданный обратный напор, что вот до сегодня не решатся хватать его или толкать дальше.
Дима Борисов стал тесным другом нашей семьи, шафером на нашем венчаньи, крёстным отцом моего Степана, Аля – крёстная одной его дочери, я – другой.
Цепочка Дима Борисов – Женя Барабанов – и дальше кто-то во французском посольстве, кого мы не знали и условно называли «Вася» (с опозданием приоткрыл мне Барабанов, что «Вася» – это она, и притом монахиня), – действовала безотказно три года, начиная с машинописи «Августа» в «Имку» в 1971. Это была наша главная безперебойная связь с Западом, и она никогда не была выслежена КГБ, и ничего не знали другие в посольстве. (В сентябре 1973, попав под слежкой в опасность и тогда уж делая, в нашей квартире, дерзкое открытое признание иностранному корреспонденту о своих отправках на Запад, Женя разогнался упомянуть и мои рукописи, казалось – уже нечего терять. Но я удержал его: запас шею не трёт, успеется. И, думаю, неплохо сделал: после моей высылки ему бы припомнили. А так – уцелел.)
Все подробности об этой легендарной «Васе» мы стали узнавать только уже на Западе, а весной 1975 в Париже познакомились и с нею самой. Католичка, монахиня – это оказалось верно, но – я воображал её хрупким ангелом – вошла в наш гостиничный номер этакая русская провинциальная добрая толстуха, без сомнения превосходная хозяйка (легче всего представить её, как она угощает соленьями-печеньями многочисленных гостей), с русским выговором, не только полностью сохранённым, как уже мало сбереглось в эмиграции, но – аппетитнейшим, но сочным, как уже и в Советском Союзе подавили, не умеют говорить так.
Она всегда и мечтала – жить в России.
Анастасия Борисовна Дурова родилась в 1908. Гражданская война раскидала их семью, Ася с мамой жили около Джубги на Чёрном море, отец был в неизвестности, потом в случайной газете при белых прочли его имя на крупном посту в Архангельском правительстве. После разгрома Архангельска отец уехал в Париж и оттуда выхлопотал своим выездную визу – в конце 1919, чуть раньше кошмарной новороссийской эвакуации. В Париже вместе с несколькими другими офицерами отец открыл русскую гимназию. (Ведь возврат так близок! – вечная аберрация эмиграции, а детей надо же не упустить воспитать русскими. Гимназия просуществовала до 1962 г.) С тем Ася и выросла, всё рвясь в Россию, хотя бабушка из Ленинграда предупреждала её окольными весточками: «Не мечтай о России: её попрали люди и покинул Бог».) А после гимназии Ася поступила в католический колледж, перешла в католичество. Прежнее стремление в ней не погасло, но так преломилось теперь у неё, чтобы католичеством спасать Россию. Она выдержала экзамен и на преподавание русского языка. Нахлын 2-й эмиграции после войны – живая волна России, а затем добровольные возвраты части 1-й эмиграции в СССР сделали стремление её ещё более нестерпимым.
В 1959 году она поехала в Советский Союз туристкой – и стала ногами на лужскую землю, где родилась. В 1962 поехала переводчицей на французскую выставку в Сокольниках. А весной 1964 ехал в СССР новый посол Бодэ. Он незадолго овдовел, и теперь нужно было ему управительницу, кто бы вела его дом в Москве, и не имела бы семьи, и не имела бы родственников в СССР (посол не должен испытывать ни влияний, ни нареканий), но безупречно знала бы и французский и русский язык, и была бы отличная хозяйка, – состав требований почти несовместный, но Ася Дурова как раз и подошла. Бойкая, смелая, быстро-расчётливая и вместе с тем сердечная, широкий охват, какой бывает у русачек и украинок, – она свободно освоилась и в советской обстановке, сочетала твёрдость и лад с советской администрацией, советскими рабочими, в хозяйственном снабжении, – и так оказалась к месту, что и следующие послы охотно оставляли её. Так легко и свободно вошла она в советские условия, что без волнений отбила когти КГБ («не хотите ли встретиться в гостинице “Европейская”?.. не хотите ли поехать на дачу на Финский залив?..»). Так легко и свободно, что ввязалась в знакомства с нарождающимися диссидентами (тогда ещё не называли их так, и даже не выделяли), ходила к иным домой (к Барабанову – в 1966, сознакомясь через французскую студентку Жаклин Грюнвальд, и на свадьбу к нему, и крестила его детей), а дальше больше, русские инакомыслящие всегда хотят передавать – она и передавала (и от Синявского с Даниэлем тоже, вместе с Элен Замойской); и та же Грюнвальд и Аня Кишилова, другая студентка из Парижа, связали её с Никитой Струве (очерк 12) в «Имке».
То, что была Ася Дурова – особенное сочетание хозяйственности, находчивости, сметки, смелости и обезоруживающей доброты-простоты, позволило ей годами вести напряжённый, может быть главный, нелегальный канал из России на Запад, даже не имея дипломатического иммунитета, – такое вести, на что не отваживались защищённые (но служебно-карьерные) дипломаты. Она обычно и посылала – не через дипломатов, а так, с разными случайными людьми, то – со знакомыми по старой парижской жизни, по колледжам, чаще и не говоря, что повезут криминал. «Второстепенное всегда берут легче…» «Какое-то чутьё», с кем можно, с кем нельзя, – никогда не подводило. Так, через несколько звеньев, были подключены к ней и мы – с осени 1968, с первой передачи плёнки Дмитрия Панина. В феврале 1971 она согласилась взять «Август» в виде рукописи – а ведь никакого плана не было, никакой решённой возможности. Но ехал в Париж случайный французский полицейский – и хозяйственная Ася, вечно и занятая цветами, пирогами, тортами, чем же другим? – попросила его о такой любезности: отвезти большую коробку конфет для больной монахини. Галантный полицейский и взял безо всякого сомнения, повёз без всякого душевного стеснения. Так выехал «Август».
А в мае 1971 ещё с какой-то случайной пассажиркой (но знавшей, что везёт серьёзное) Ася отослала и главный мой груз, всё моё освобождение – набор плёнок «Сейф». На аэродроме в Орли ту пассажирку встретил Никита Струве с семьёй, они пошли в кафе на семейное чаепитие и поставили на полу рядом сумки, чтобы потом «перепутать» их, взять чужую. (Дети нервничали: какая-то дама поблизости очень уж пристально следила за всеми ними.)
Да что!.. – Ася же придумала и осуществила совсем невероятное: в сентябре 1970 встречу в Варшаве – Жени Барабанова (советская «делегация декоративного искусства») и Никиты Струве (парижский турист). Варшавской встречей этой был преобразован «Вестник» на большой объём и широкую программу, включающую авторов из Союза. (По сути, включение такое уже и шло, и встреча не особенно была нужна, больше риску, – но замысел! Для того потребовались ещё хитрые условные звонки в Париж, в Варшаву, которые Ася осуществила с лёгкостью.)
Она сейчас вспоминает всё нисколько не с гордостью, очень просто, как об удавшемся пироге, но уже на прошлой неделе доеденном.
Не первый раз видим, как Россия втягивает в себя отторженных своих детей. Окончив работу в московском французском посольстве, Ася Дурова нигде на Западе уже не могла жить спокойно – и снова приезжала в Москву, теперь уже просто жить в посольстве, подолгу, при младшей там её сестре и племянницах.
12. Опорный треугольник
Но при всей дерзкой громкости моих открытых ударов – настоящей-то опорной силы у меня против власти не было никакой. В любую ночь, а хоть и день, гебисты могли прийти и ко мне и к нескольким близким моим одновременно, и сразу – не всё, так многое из того, что я годами писал, накапливал, строил, – отмели бы в своё логово. С 20-х годов и по 70-е – уж у многих, у многих моих предшественников и старших братьев, имянных и безымянных, – вот так отметали нацело, в глухоту, в Пасть, навсегда. Я уже писал, что целая национальная литература погибла на Архипелаге, – так не только в грудях и головах, а и прежде того на арестных обысках. А я, уже нося в себе весь лагерный опыт, – не смел допустить такой уязвимости. И потаёнки мои московские через Невидимок – тоже ещё не были прочность. Надо – чтоб и рукописи мои все хранились на Западе, и была бы там опора, способная безотказно и точно дать ход моим книгам, если мы тут с Алей погибнем.
А для всего этого, очевидно, нужно было: во-первых, иметь на Западе постоянного русского издателя (и постоянную связь с ним!). Затем – официального представителя (адвоката?), который мог бы юридически отражать всякие гебистские подвохи, вроде того что Советы сами торгуют на Западе уворованными рукописями запрещённых в Союзе авторов, как уже не раз продемонстрировал тот же Виктор Луи (и – постоянную связь с этим адвокатом). Но ещё важней: и какое-то очень доверенное посвящённое лицо, хорошо понимающее меня и советские условия, однако живущее вне досягаемости лап ЧКГБ – и так могущее умело управлять всем вывезенным на Запад. То есть – три точки. И чтоб они все были между собою связаны. Конструкция жёсткого треугольника.
Издатель выяснился однозначно: Никита Алексеевич Струве. (Издательство «Имка» в Париже и её аппарат как-то туманились, были неясны за его спиной.) Впрочем, и сам Струве оставался для меня ещё полным незнакомцем. Двусторонняя связь с ним наладилась через Барабанова-Дурову, и через Барабанова я получил первые представления об этом внуке знаменитого деда, исторического Петра Бернгардовича, и племяннике известного литературоведа Глеба Петровича, по книге которого я как-то складывал первое впечатление о составе и объёме эмигрантской литературы. Связь Барабанова с Н. Струве была уже дальняя, года с 1966. В нелегальных «левых» письмах, какие Н. Струве писал ему, были такие признания: «мы (то есть эмигранты, а особенно потомки эмигрантов) – безплотные русские», «Россия (для нас) почти не факт, а идея… и потому ещё больше, чем во времена Тютчева, приходится в Россию верить против фактов и очевидностей. Верим, что на России лежит печать богоизбранности – единственная большая и живая православная страна, в Православии же полнота истины и жизни… Связь России и Православия для нас – одна из высших богочеловеческих ценностей». (Представить себе в целом мироощущение русского эмигранта ещё с юности был для меня острый интерес. Но не додумывался я тогда до таких житейских подробностей: «Делаем нечеловеческие усилия, чтобы наших детей, вопреки логике и пользе, сохранить русскими, обрекая их на нравственные страдания, так как это чудовищное воспитание отрывает их от среды, в которой они живут». Это – мне предстояло понять ещё через дюжину лет, уже самому за границей, с моими сыновьями.) Позже Никита напишет в Москву и мне: «Быть эмигрантом – труднейшее из искусств».
И вот этому человеку, с его заветной надеждой и духовной опорой на может быть несуществующую Россию («теперь трудно представить, как мы были отрезаны до 60-х годов»), в наступившие годы предстояло совершить немало духовных усилий – создать для той России вовсе несуществующий в ней религиозно-литературный журнал, который в Москве будут жадно ждать, широко читать, и он будет помогать оформиться разрозненным русским интеллектуальным силам. Издание такого журнала для страны, в которой не живёшь и с которой нет открытой почты для получения рукописей и мнений и для рассылки тиража, – задача весьма необычная, смелая, трудная. Но Н. А. Струве она удалась; он сумел с 1969 преобразовать прежний эмигрантский тоненький «Вестник РСХД (Русского Студенческого Христианского Движения)» в крепнущий от номера к номеру духовный мост между эмиграцией и метрополией.
А ещё раньше, наверно осенью 1967, под потолками городской квартиры Чуковских, где мы тогда ещё не привыкли опасаться подслушивания, меня познакомили Копелевы с Лизой Маркштейн, о которой слышал я давно: родом из Австрии; дочь ни много ни мало вождя австрийской компартии Копленига, она всю юность и молодость провела в СССР, потом уехала в Австрию, но часто наезжала (визы давали ей легко), – и так соединила в себе нутряное знание двух языков, двух культур (это очень пригодится ей потом в переводе «Архипелага»), двух строев жизни – западного и советского, объёмно видя оба; к тому же – схватчивого ума, с нетерпеливым, горячим сердцем, прямодушная, Лиза судьбой своей уже и предназначалась сыграть какую-то особую роль между этими двумя мирами. Познакомились мы с ней с большой симпатией: у неё прямой чёткий взгляд, ясные неуклончивые суждения, деловитость. Но ничто практическое в тот раз между нами не возникло.
Несколькими месяцами позже Лиза увезла от Люши на Запад мои небольшие исправления к «Раковому корпусу»: вписала обрывки строк своим почерком в свои конспекты по русскому синтаксису. (Исправления эти достигли издательств; позже ещё сыграли внезапно и свою судебную роль как доказательство, где же подлинный текст, – там, где авторские поправки, – в тяжбах издательств о «Раковом корпусе»: делая шаг в одном из миров, так трудно сметать все последствия его в другом. Позже Лиза вынуждена была и выступить свидетельницей на суде между издательствами, но свидетельницей анонимной – иначе грозило разоблачение её связи с нами.)
В мае 1968, когда мы напряжённо печатали «Архипелаг» в Рождестве, передали мне достигшее по левой из Парижа письмо Лизы к её подруге в Москве Нае Мировой (Лазаревой): о том, что Лиза без боли видеть не может, как тут проходимцы или самозванцы распоряжаются моими безправными книгами, – и она готова бы безкорыстно защищать мои интересы, если б я доверенность ей дал.
Медленно, но мысль эта прорастала. Той осенью Лиза дерзко приехала на мою дачку в Рождестве, а я – жёг осенние листья. Сели у костра – невероятно! – вот тут мы недавно кончали «Архипелаг», и вот человек из-за границы, искренний и умный доброжелатель, который готов всё двигать! Ещё потом через год взялся я рассказывать Але о некоей такой замечательной Лизе – Аля же, оказалось, знает её уже несколько лет, – теснота мира? узость Москвы? – как-то познакомили её с Лизой, приехавшей из Австрии расспрашивать об инакомыслии в Москве и чем ему помочь. (В умах и сердцах мир от октябрьского переворота уже повернулся на 180 градусов, – но когда ж этот поворот осуществится в предметной жизни?!..)
Так мы уже стягивались завязать узелок. В один из следующих мирных приездов в Москву переговоры с Лизой о возможной деятельности её в Европе вела вместо меня Аля – неприметные прогулки двух женщин по хорошо им известному Пречистенскому бульвару, со всей тренировкой оглядываться и приглядываться, весь разговор по-русски, встречным уха не режет, – легко.
В сентябре 1969 встретились со мной у Али на Васильевской улице, Лиза привезла немецкий юридический типографский текст доверенности и советовала мне взять адвоката на Западе, а именно: она может порекомендовать хорошего адвоката в Швейцарии – доктора Фрица Хееба, на которого и выписать бы мне основную доверенность на ведение моих дел. Никакого соревновательного имени ни в какой другой стране мы не знали и рады были этой Лизиной рекомендации, подарку с неба: иметь своего адвоката на Западе? – сильный, для властей совсем неожиданный ход, – но вместе с тем как будто ж и законом не запрещённый? Мы с Алей согласились сразу, постеснялись даже расспрашивать что-либо о том Хеебе.
В начале 1970 Лиза снова приехала, привезла окончательную и всеохватывающую форму доверенности на Хееба, которую я опять-таки подписал, да второпях, тем направив и решив судьбу своих книг за границей, как я думал – наилучшим образом. Лизу тогда ещё не обыскивали на таможне, но всё же доверенность эту, для надёжности, Катя Светлова, Алина мать, мастерски вклеила в крышку картонной конфетной коробки.
Лиза (от Элизабетт названная нами «Беттой»), Фриц Хееб («Юра» – от юриста) и Никита Струве (Никита – Николай – «Коля») составили тот самый желаемый заграничный треугольник. В эти три точки и направлялись теперь все мои нелегальные письма и от них троих получались. (Бетта в Вене получала от Хееба из Цюриха ксерокопию моего письма к нему или прямо от нас «левое» письмо для Хееба – и переводила ему, когда письменно, а что можно – по телефону.)
С Хеебом, для отвода глаз, я вёл ещё и поверхностную легальную переписку, наполовину пустую (обычно с уведомлением, и письма доходили, ГБ не пресекало – чтоб услеживать?), он мне – по-немецки, я ему по-русски. Эту открытую переписку я использовал иногда и чтоб отвести гебистам глаза от моих истинных намерений или предупредить, за что буду очень резко биться, иногда и поиздёвываясь над ними: когда они не доставили мне от Хееба пачку газетных западных рецензий на «Август» – писал Хеебу: не стал сердиться, это сделано в заботе обо мне: от разносных рецензий у меня бы опустились руки, от хвалебных вскружилась бы голова, в обоих случаях замедлилась бы моя работа, я не успел бы напечатать новой книги до вступления СССР в конвенцию, и тогда б она надолго задержалась. А когда советские власти учиняли вопиющие нарушения в моём разводном процессе – я тоже сообщал их Хеебу как советский парадокс, и уж эти письма власти пресекали, боясь разгласки.
Но вот Бетту стали подозревать, не впускать в СССР. Последний раз я видел её осенью 1970, Аля – ещё через год (и используя посредство Димы Борисова), – на том Лизины приезды кончились и наши открытые обсуждения прервались. Все советы, опросы, планы, предположения и решения унырнули в подпольную переписку. В крайних срочных случаях Бетта умудрялась открытыми письмами или звонками к Лазаревым что-то передать или осведомиться иносказательно.
Вся та переписка – с нашей стороны, разумеется, тут же сжигалась. Но вся она сохранилась у Лизы и Никиты, теперь те письма передо мной. Оживляется в памяти обстановка, уже и забываемая.
С осени 1970, как только я кончил «Август», я решаюсь пересылать его к Струве в «Имку» и печатать там под своим именем открыто – но скрытно до последней минуты появления. Ранней весной 1971 он отвечает мне, что набор уже идёт, негласный, а корректуру держат они сами с женой. (Это и у них первый такой опыт прямой работы с автором из России. Перед тем, добыв текст булгаковского «Собачьего сердца», восхищаясь им и желая непременно печатать, – издательство прослышало, что вдова Булгакова грозит подать в суд, – и долго не решались.) Мы ещё подсылаем им – то карту, то эскиз обложки, то послесловие – моё обращение к эмигрантам о присылке материалов. По недоговорённости, грубая ошибка вышла у нас с курсивами: мы выделяли их в машинописи большими буквами (по типографской неопытности) – «Имка» так и напечатала большими, получилась претензия экспрессивности, и эта досадная ошибка ещё перейдёт в иностранные издания. В Москве мы начали считывать пришедшую книгу – нашли в ней ещё изрядно опечаток, – но и во втором издании они не успевают быть исправлены. И я Никите пишу об этом в сильно заминчивом тоне: «нет ощущения идеального издания».
Канал Дуровой работал в то время отлично, и весной 1971 я уже посылаю через Никиту важные пакеты для Хееба (второй вывоз «Архипелага»): «Это – более, чем личная судьба, отнеситесь с величайшей осторожностью и осмотрительностью». Учу его советской конспирации: поезжайте к Хеебу лично и не один, а в сопровождении, так чтобы вещи не оставались ни на минуту без глаза, и до опубликования «Августа», а то за вами может возникнуть надзор. И: если у вас в издательстве появятся новые сотрудники после издания «Августа» – не доверяйте им, как бы естественно они ни появились. Такие предупреждения воспринимаются на Западе, конечно, смехотворно – ибо кто ж испытал там воистину когти КГБ?
О Хеебе Никита отзывается мне после встречи: «Он на меня произвёл хорошее впечатление, хотя несколько ошеломлён сложностью ситуации». Ещё не зная крайне деликатную манеру Никиты выражаться, я не придаю значения второй половине фразы и воспринимаю в целом как одобрение Хеебу. (А на самом деле Никита хотел выразить мне, что Хееб, кажется, мало годен.)
Канал работает отлично – и мой аппетит расширяется. Прошу пересылать мне воспоминания эмигрантов о революции, если будут приходить. (И Никита шлёт мне ценнейшие воспоминания В. Ф. Клементьева[82].) Заказываю книгу воспоминаний Гурко по-немецки – и получаю её, затем и книги Мельгунова, ещё и других. (Желанные книги приходят, зовут! – не вмещаясь в мой стиснутый накалённый объём жизни.) Через Никиту же посылаю в марте 1972 для Зильберберга на фотоплёнке работу Теуша о судьбах еврейского народа. (Зильберберг молчит, не подтверждает долго, Теуш безпокоится, и мы посылаем тем же путём ещё второй скруток плёнки.) Шлём для печатания в «Имке» «“Август Четырнадцатого” читают на родине», «Письмо Патриарху». («Вестник» отражает сильное волнение православных кругов эмиграции вокруг письма.) Шлю, для новой встречи Никиты с Хеебом, заветный набор моих плёнок «Сейф». Шлю подлинный текст «Ракового корпуса». (Ещё и не охватываю, что именно «Имка», Никита с группой французских переводчиков тремя годами раньше самодеятельно издали «Корпус» по-французски со случайного самиздатского текста, в котором мои своеобычные слова были «подправлены» на «более грамотные».) А то предупреждаю: задумывается серия брошюр «Современная русская мысль» (зарождение «Из-под глыб») – тоже будем печатать! (Не раз пишу об этом, но серия никак не собирается, нет времени на организацию её.) И ещё настаиваю на особенностях своих грамматических правил. И даже вот уже до какой мысли дохожу – в иностранных изданиях «Красного Колеса» надо производить сокращения: всех российских подробностей им не объять. (Верная мысль, так и не воплощённая.)
Идёт со Струве и спор. Сборник статей в «Вестнике» № 97 вызывает возмущение у меня, затем и статья «Телегина» в № 103 – оскорбительная к русскому, а редакция никак не комментирует и не отстраняется. Ошибка зрения из Парижа: они не видят, как в Самиздате безответственно и несамоконтрольно пыхнуло против России. Не понимают опасности зреющего раскола. Горячо пытаюсь объяснить это Никите, посылаю ему, не для публикации, лишь для него самого, вариант своей ответной статьи. Но он отвечает благодушно: «Мне многое в этих статьях было не по душе, но я в них видел первую попытку на хорошем уровне что-то осмыслить в происшедшем. Зачарованность Западом у них от молодости и неопытности. Не жалею, что дал им высказаться».
В погоняемых гнётом «левых» письмах успеваем мы, однако, иногда обменяться и не о деле: вот я горько отзываюсь на бунинские «Тёмные аллеи» – и он душевно это приветствует. Вот он сообщает мне об анекдотической статье эмигрантского писателя Н. Ульянова в «Новом русском слове», что никакого Солженицына вообще нет и не было, это выдумка и коллективное сочинение КГБ, не может один автор так основательно разбираться и в точных науках, и в медицине, и в военном деле, и в политике и в истории, – и Струве шлёт в эту газету свой горячий ответ. А вот – я делюсь с ним своим восхищением проповедями некоего «отца Александра» по радио «Свобода», – а это оказывается отец Александр Шмеман. Струве посылает ему копию моего восхищённого письма (а дальше почему-то попадает в ту же газету и безтактно печатается там).
Но наша переписка с Никитой ещё вполне спокойна. Не такой вихрь был в напряжённой переписке с Беттой. Я гоню, гоню, гоню ей на папиросной бумаге, мелким почерком. При всей моей жажде тихо писать Узлы я слишком разогнан в действие предыдущей борьбой. Фильм «Знают истину танки»! – он мне кажется таким страшным ударом по коммунизму, я вижу лагерное восстание на всех мировых экранах! и с начала 1971 прошу наших начать переговоры с кинорежиссёрами, готовить съёмку, ведь это долгое дело. Найти режиссёра, который: не побоялся бы выявить всю политическую силу фильма! и не был бы чужд русской теме и русскому типажу! и не сбивался бы на голливудскую дешёвку… (Да где это всё такое найдёшь? Переговоры и начинаются, но малоуспешны за все три года, – на эту побочную добавочную деятельность, естественно, не хватает у Бетты сил, а Хееб и вовсе не понимает дела, да режиссёры всё не находятся, или, левые, боятся связаться с противокоммунистическим фильмом, боятся левого освистания.) Бетта встречно спрашивает: в Германии хотят делать телепостановку по «Раковому корпусу», разрешать ли? – Да! – Она же предлагает: готовить телепостановку по «Августу». А что ж, хорошо бы. (Не состоялось.)
Потом остываю и прошу Бетту не торопить переговоры о постановке «Танков»: «Оставить 1972 год спокойным. Хочу писать “Октябрь”, начинать “Март”». В 1972: «Давно не испытанная лёгкость и свобода. Работать и 72-й и 73-й, не шевелясь… Заниматься романом, романом и пренебрегать общественными акциями», – писательское брало верх, это здоровая черта. А там ведь пока – у Карлайлов в Америке, думали мы, деятельно переводится «Архипелаг» ещё с 1968; с лета 1971 повторные плёнки «Архипелага» у Хееба, с февраля 1972 начинает и Бетта немецкий перевод. И пусть, пусть переводы тихо подрывают заколдованную гору Дракона! – а я пока попишу вольно.
А вот ещё новое: в безсонные ночи ловлю по «Свободе» в 2 часа 30 минут передачи по истории революции 1917 года, слушаю жадно, но всё с помехами, сделана как бы огромная работа за меня – сбор материалов, интервью, целый коллектив неожиданных помощников! – а как бы это мне использовать понадёжней? Пишу Бетте: будем называть эту затею «Два-тридцать», не начнём ли попытки связаться через кого-нибудь? получать эти материалы да пересылать их мне? – Кроме того: а нельзя ли выписывать для «Марта» отзывы европейской прессы на Февральскую революцию? уже тогда такие газетные главы рисуются мне. И Бетта же берётся (будет искать её муж).
Теперь, когда опорный треугольник создан и все мои плёнки в Цюрихе (я долго безпокоюсь: не держите в конторе, будет налёт, положите в банковский сейф, в подвал! – наконец доходит и подтверждение: да, именно так и лежат!), – теперь только правильно разработать защитную операцию с Завещанием. В феврале 1972 Генрих Бёлль – спасибо ему навек, оттого и появилась у меня тогда лёгкость, – у нас на московской квартире своею подписью заверил каждый лист моего завещания и сам же увёз его с собой в кармане, – а он отлично знаком с Лизой, и вот завещание уже у наших! (И куда же запишем Г. Бёлля, если не в Невидимки? Ещё ж и в 1965 году, в самое острое для меня время, он увёз из Москвы мой сценарий и «Дороженьку», и годы потом хранил у себя, передал Лизе. И как же поворачиваются судьбы людей: вслед за тем положение Бёлля в Западной Германии настолько уязвится, ведь он о юных террористах – будущих Баадер-Майнхоф – написал: «молодые идеалисты, доведенные до отчаяния», что ему на свободном Западе понадобится моя защита из пленённого СССР! – и через Лизу я шлю ему письмо благодарности, не частного назначения.)
А это – не просто завещание, это безценное укрепление моей обороны, – оттого-то с весны 1972 такая и лёгкость: теперь только троньте меня! – и я знаю, что это опубликуется, и без меня и без Али, и вослед посыпятся, посыпятся вам на голову мои книги! Теперь в тайных письмах остаётся согласовать, какими условными фразами в открытых письмах к Хеебу или какою фразою нашего внезапного телефонного звонка в Цюрих – взрыв приводится в действие, весь или по частям. (Такие условные фразы и кодированные имена отрабатываем и для других разных случаев, они тоже плодятся. А тем временем и детали завещания во мне не лежат на месте: проект огромной Троицкой церкви на пустом звенигородском поле уже кажется чрезмерно замахнутым, не лучше ли поскромней: восстановить Пантелеймоновскую церковь в Кисловодске, где меня крестили; да церковь на георгиевском кладбище, где мой отец лежит под стадионом; да – не осталось уже там площадки, пристроить малую часовенку у бывшей снесенной Казанской церкви в Ростове, где я одичалым мальчишкой гонял в футбол в ограде, – в искупление моей тогдашней неосмысленности. И исправления в завещание, и добавка новых намечаемых к публикации произведений – нежданно спасённый «Пир победителей», сокращение сборника лагерных стихов, уже и «Телёнок» до «Нобелианы» и наросший «Дневник Р-17» – всё! всё! всё к публикации! Эту последовательность я подробно программирую Бетте.)
А тут – нависает вступление СССР в конвенцию авторских прав. (Ещё недавно я сам вгонял их туда, с опозданием мы все поняли, что нас и на этом объегорят, Аля написала и послала анонимно в «Монд» – «Нож в спину русскому слову», те напечатали в марте 1973, модно.) А тем временем Никита никак не успевает опубликовать истинные, не искажённые для советской цензуры тексты «Ивана Денисовича» и «Матрёны», – и я тороплю, тороплю его: успеть до дня конвенции (1.6.73), ибо уж на этом-то не стоит ввязываться в «конвенционный бой».
И хотя же я – с жизненным опытом и отлично знаю, что со своим уставом в чужой монастырь не лезут, – я гоню из письма в письмо, всё больше зажигаясь проектом: как резко удешевить предстоящее издание «Архипелага»? что за ужас: на Западе книга – 10 долларов, – в переводе на рубли по реальному курсу 40–50 рублей за том! – да разве можно это допустить? том «Архипелага» должен продаваться в 3 раза дешевле, в 5 раз дешевле! чтобы читали все! – лишь бы он грянул, лишь бы ударил по советскому чудовищу! чтобы на Западе его прочли десятки миллионов, а ничего больше мне от него не надо! «Для меня здесь большой моральный смысл, этим материалом не торгуют, это кровь на жертвеннике, она должна восходить к небу. Хочется внести в книжный издательский мир благородный взгляд, призвать к издательской совести». Пусть будет оплачен на нормальном уровне труд переводчиков, наборщиков, издательских служащих – а все потери распределить между издательством и автором, пропорционально получаемым долям. «Многие отшатнутся от такой сделки – туда им и дорога. Но на всяком языке найдётся хоть одно достойное издательство – и мы его потом вознаградим другими книгами». Бетта достаточно понимает наш бойцовский дух в СССР и нисколько не возражает. А Хееб возражает, потом составляет и шлёт мне туманный реферат на эту тему.
Тем временем не радуют уже совершившиеся и вот притекшие к нам издания. Что наделал Люхтерханд с немецким «Августом»! Даже с титульного листа потеряны: «Узел I» и ограничительные даты его. А уж какие грубые ошибки в киноэкранах, совсем не понят принцип записи. И смазано расположение пословиц. И даже на карте Восточной Пруссии – в германском издании! – некоторые пункты отброшены на 80 километров в сторону! Насколько же ленивы, неряшливы, невнимательны, что ж они делают? в какую ж безчувственную мясорубку уходит наша здешняя работа. Как – не допустить подобного в других изданиях? И кто ж это будет успевать досматривать? – на всё одна Бетта не разорвётся. Нет сил у нас, нет сил!
А сколько забот с иностранными переводами! На Западе – не так, как в Советском Союзе, лучшие писательские силы отнюдь не хлынули в перевод, западные переводчики если хорошо переводят, то из охоты, а вознаграждение за художественный перевод недостаточно. Пишу Бетте: «Да лучше не иметь никакого перевода, чем неудачный, однобокий, формальный!» Очень проучили нас с английским переводом «Августа»: Гленни для Бодли Хэда сделал совсем плохой перевод[83], «Август» был принят в Англии вовсе кисло, если не разносно. Гленни низко оправдывался, что «Август» написан «так плохо», приходилось местами «исправлять фразы», а представитель издательства: «Если будем переводить “Август” буквально – нас поднимут на смех». Вдруг проблеснул, попался мне на глаза перевод «Озера Сегден» в Intellectual Digest, апрель 1971. Я прочёл – и даже задрожал: да это выше всякого перевода! да это как я сам написал по-английски каждую фразу! Как передана вся ритмика, дыхание и голос! полёт и жизнь фразы! Вот это и надо: переводчик как любимый соавтор! Фамилии переводчика я в копии не обнаружил. Срочно поручил Хеебу: искать! искать этого золотого переводчика! (И он искал – почти три года! И в 1973 в Нью-Йорке ещё выяснял, где же, наконец, он. И ответил мне: нету, уехал в Австралию, и связи нет. А это был – Гарри Виллетс в Оксфорде, никуда и не думал уезжать, и мы потеряли три года его возможной драгоценной работы! Приехал я на Запад и нашёл его.)
Тем ответственней нарастал перевод «Архипелага». Насколько он несерьёзно поставлен в компании Карлайлов – я ещё не представлял. А немецкий делала сама Бетта и, писала, «прилепилась душой». И хорошее знание советского мира ещё тоже очень помогало ей. А поиск французского переводчика шёл трудно: ведь высокая степень секретности, кому доверишь?
А я рвался: надо же и испанского переводчика искать! – ведь это вся Южная Америка! Решили: для «Архипелага», по тайне, порядок должен быть такой: сперва искать переводчиков для издательств, самим оплачивать перевод, а уже потом, при содействии и согласии переводчика, искать издательство.
И сколько неожиданных напастей налетало на нас с разных сторон, не успеешь отбиться от одной – валит другая. То отрывок из «Прусских ночей» вдруг появился в «Цайт», которую мы считали дружественной, – гасить через Хееба! То опаснейшая публикация Патриции Блейк в «Тайме», сколько страху нам нагнала: что на Западе некая группа работает над переводом «Архипелага» – кто? над каким экземпляром? откуда эти сведения? И не узнаешь, и давить – нечего, а название книги – уже уплыло! Всё это грозит переломать план моей будущей большой атаки, обнажает бока раньше времени. То сама же Бетта сообщает мне слух, что в «Индексе» у Скэммела печатаются отрывки из «Дороженьки», как будто притекшие через Зильберберга, – и меня пронзает, что это – кем-то украденные отрывки (и как же они велики?)! да ни у кого в руках поэма и не была, только у Теуша. Тревога – остановить! – и сколько об этом обоюдной нервной переписки. Тут следом тряска с биографией Файфера, ведь биограф – это как бы, получается, сыщик-волонтёр, он, может быть, вынюхал и сейчас напечатает такое, что я таил, таил от ГБ. Что делать? Останавливать юридически? – не имеем прав. Но какое-то охлаждающее заявление от Хееба? Пишу ему легально: «Прошу сделать заявление против самовольных биографов. Считаю беззастенчивым и безнравственным составлять биографию писателя при его жизни, но без его согласия. Такие действия ничем не отличаются от сыска, полицейского или частного». (Хееб по левой отвечает мне: против Бурга-Файфера ничего нельзя сделать юридически, если только не затронут мою честь; а если они оба нагородят лжи, но сами не зная, что это ложь, – тоже ни за что не отвечают.) – А тут по Москве слух, что Наталья Решетовская в сотрудничестве с агентами АПН готовит не то свои мемуары, не то мою биографию же – и будет обильно цитировать мои письма, спешит, не дождясь моей смерти. (И действительно: передала АПН мои письма к ней, начиная с фронтовых лет, продавать и печатать. Уже в июне 1974, сразу вслед моей высылке, итальянский «Темпо» печатал «Любовные письма Солженицына», предлагали их и в «Нью-Йорк таймс», затем в Женеве агент Ален Даво торговал ими.)
А ещё ж такой проект: ведь теперь имеем за границей нобелевские деньги, как же не помочь нашим безкорыстным помощникам? все безденежны, все нуждаются, а «валютные» деньги и несравненная ценность, по-советски. Отчего нам теперь не составить список – № 1, № 2, № 3… всего двадцать нумеров, так и будем в письмах звать нумера, по-замятински, и о них – отдельные нервные абзацы наших тайных писем, все эти годы. Посылается Бетте список: кто какой номер, адреса. Некоторым – мало опасно; а иные настолько скрыты, что даже в одном письме сразу их имена и адрес писать невозможно, а пишем клочками в два-три приёма: улица без номера дома, он потом отдельно, разорвать фамилию с именем-отчеством, вписать как-нибудь понесуразней и без ясной связи к чему. А другая задача – из какой страны будет перевод? от кого? У кого-то есть знаменитый друг за границей, у другого – реальная родственница, шлём от них, а остальным надо – совсем от придуманных лиц, и тут у ГБ могут возникнуть подозрения (и иногда возникают, опасные). Или: вдруг пришёл быстро перевод № 11, а № 11 не успел подготовиться, как ответить: «от кого ждёте»? Острая опасность! – из-за одного такого случая надо гнать срочный тайный запрос (а для каждой записочки отдельная тайная встреча, передача). Очень нервно, в каждом письме много о нумерах, немало и неурядиц, из-за недоразумений просто измотались, – а каково Бетте это всё распутывать и передавать Хеебу уже в цельном ясном виде, для исполнения?
Лидия Корнеевна Чуковская слепнет, нужен оптический прибор; мы не знаем точно какой, и никто не знает, он должен сочетать большой диаметр для охвата целой страницы и значительное увеличение, 5–7 раз (в обычных лупах либо сильное увеличение и крохотный диаметр, либо наоборот), и ещё подсветку. Как узнать тип? где заказать? вероятно, в Голландии, они же мастера? а посылать – будем от Бёлля, просим, нагружаем его. Но долго, долго идёт переписка между Москвой – Веной – Цюрихом – Кёльном и ещё какими-то неизвестными местами, и вот присылают, – а не то! Значит – переделать, а Лидия Корнеевна между тем катастрофически слепнет, а её глаза – из самых дорогих, мы гоним, торопим с новыми требованиями. Наконец присылают хороший прибор, спасение! – так без единой запасной лампы, а они уникальны, значит теперь отдельный заказ ламп.
Но как ни измотно, а заказы постепенно выполняются, до № 20 переводы получены, и у нас с Алей новое расширение: а как бы помогать таким же образом зэкам (рождение будущего Русского Общественного Фонда)? Снова та же процедура, вводим номера с 21-го по 40-й, а от кого слать им? – и новые розыски кипят.
Между тем советские власти, недовольные какой-то из австрийских статей Бетты, – окончательно перестают пускать её в Союз, советский консул в Вене в начале 1973 откровенно ей говорит: «Зачем вам ездить в страну, которая вам так не нравится? Не даём визы – и долго не дадим». А встретиться поговорить – насколько бы проще, сколькое бы распуталось сразу! Итак, весь прыгающий каскад вопросов, предположений и решений – только через «левые» письма, а они идут лишь с оказиями. Вот уже написанное наше письмо протомилось без оказии два месяца, а за это время все оценки и решения изменились, пиши новое.
Я уж забываю, в чём и повторяюсь, писали прошлый раз или нет, ведь копий держать близко нельзя, пишу повторно, а что меняю под сбивом обстоятельств и ещё новейших новостей, иногда меняю решение в одном и том же письме, – чёткая Бетта выбирает из этих круговертных писем указания, просьбы, поправки – и, заведя картотеку по темам, распределяет по карточкам, так видней. А ведь мы многое шлём и в плёнках, а в них то сменится экспозиция, то собьётся чёткость, ведь всё это делается в напряжённом подпольи, приходится иногда и быстро свёртывать установку, – мы шлём уже поправки на плёнках, а в Цюрихе ещё и главная плёнка не переведена на бумагу.
Бетте все наши каскады надо методически переработать и осуществить контакты с разными точками Европы, вот уже целые недели уходят у неё на писание писем и телефонные звонки (пишет: «как я ненавижу телефон!» – и как я её понимаю!), – а ведь главная-то работа её с февраля 1972 – сплошной перевод Первого тома «Архипелага», и затаённый, не с кем посоветоваться, кроме меня же и в тех же письмах, – пишет: «Трудно не столько от работы, сколько от ответственности». «Архипелагу» и всей нашей скрытой работе она безоглядно отдала душу, как на Западе не принято ни с какой работой: «Я живу двойной жизнью. Душа, мысли – у вас. Иногда иду по улице и вдруг: где я?» Путается свободная Вена и угнетённая Москва. Поток неизменного тепла и веры в моё дело изливается в её деловых письмах к нам. Отвечаю: «Читали Ваши письма и удивлялись, насколько ни время, ни расстояние не чуждит нас: ощущение, что мы всё время думаем и чувствуем вместе, и Ваши решения почти на 100 % такие, как если бы мы решали вместе… Ваша духовная организация столь сходна с моей и Алиной». По какому-то возникшему частному недоразумению она звонила к Лазаревым, что-то кодируя. Отвечаю ей: «Я думаю, мы Вас и Вы нас любим выше всяких возможных разногласий. Все эти годы так согревает и даёт такую уверенность и простоту – то, что Вы есть. Всегда верю в Вас и потому спокоен…»
Конечно, из разных миров нельзя сойтись уж так безоглядно, иногда просверкивают щели. Кто-то мне передал, что Бетта «огорчена моим августовским интервью с “Монд”… там много путаницы», и в «Мире и насилии». Так как именно по этому поводу я уже слышал горячие возражения и в Москве, и, держа в голове уже выстрояемый «Из-под глыб», я в письме к Бетте пишу: «…Думаю, что в ближайшее время… западной демократической и социалистической общественности предстоит узнать сотрясательные истины, когда из России ложными идолами будут объявлены самые святые многовековые божества… И я пылаю надеждой, что Вы будете из первых европейцев, способных это принять сочувственно и с пониманием». Через месяц от Бетты, что она расстроена: «Саднит душу, что про меня Вам неправильно передали. Всё не только одобряю, но считаю великим делом, расхождения только в мелочах».
А это были уже дни – перед самым провалом «Архипелага». И откуда во мне было такое ясное предчувствие? 22 августа 1973 пишу Бетте: «Это будет особенно трудная осень. Может быть, уже и некогда говорить. Вы, может быть, заметили ускорение и сгущение событий у нас со многим. Это какой-то ход звёзд или, по-нашему, Божья воля. Я вступаю в бой гораздо раньше, чем думал, многое к этому вынуждает, сомнения нет. Ничего нельзя предсказать, но ясно, что [готовность «Архипелага»] понадобится раньше, чем предполагалось. При худом повороте дел Вам придётся принимать решения без нас обоих».
О провале «Архипелага» через две недели Бетта услышала от телеграфных агентств и пишет нам: «Теперь темп жизни стал в нашей семье: “всё для фронта, всё для победы!” Выдержать бы, не портя качество» (перевода).
А я опоминаюсь: «Сколько ж это лет откладывалось, Боже мой! Дальше – уже было нельзя, как я этого сам не понял раньше!» Но вместе – и облегчение: теперь можем весь «Архипелаг» держать дома, терять нечего, и насколько облегчились справки по тексту! и можно приходящим давать читать. А с другой стороны – боюсь, что и квартира Бетты в Вене становится уязвимой для налёта, шлю ей предупреждения.
Эти осенние месяцы 1973 (в октябре они все трое съезжаются в Цюрих на совещание, мы не знаем) наша подпольная связь пульсирует ещё судорожней. Досылаю Бетте напутствие к «Архипелагу»: «Со стеснением в сердце я годами воздерживался от печатания этой уже готовой книги: долг перед ещё живыми перевешивал долг перед умершими…» А – как теперь ускорить печатание? И Никите: пусть «Архипелаг» выглядит кустарно – и будет подешевле, не такая книга, чтоб на ней деньги собирать. (Изнурённый дырами нищего издательства, Никита взмаливается: русское издание никак нельзя дешевле. Я соглашаюсь.) Никита обещает издать Первый том рекордно быстро, в три месяца. Пишет: наборщик «Архипелага» со слезами сказал: когда я умру – положите эту книгу в мой гроб. Я гоню дальше: а как бы Второй том за Первым сразу вослед, через месяц нельзя? Нет, никак нельзя… Да может быть, разрывать и тома (они не существенны), – печатать отдельно Часть 1-ю, 2-ю, 3-ю – как бы тетрадями, лишь бы скорей? И предпримите меры безопасности против прямого налёта на типографию! КГБ ни перед чем не остановится! – Бетте: после того как появится русский Первый том – вся надежда на быстрейшее появление немецкого, если задерживается – может быть, вырывать отдельные главы и печатать в журналах?.. «Скорей, чтобы знали все! – и тогда пройдёт жжение». В эту осень мы с растравой узнаём, что Карлайлы подвели: американский перевод не готов и за пять лет; только сейчас, в конце октября, сдан, да и то сырым, «над ним ещё надо работать». Однако нагоняет шведский перевод Ханса Бьёркегрена – поможет он! А – как меры безопасности? Из трёх уже типографий секрет может утечь. Скорее печатать! – мне скорей нужна безповоротность, разрыв, чтобы ГБ и не пыталось из меня ничего вынудить. И такой (дикий) контррасчёт: а вдруг ГБ кинется раньше меня напечатать захваченный «Архипелаг», но ослабленный (ведь было ж так с Аллилуевой) – так мы докажем, что экземпляр ворованный, неполный, – и шлю Бетте перечень доказательств. – Или наоборот: Советы попробуют запретить «Архипелаг» на Западе? По требованию Хееба шлю ему «по левой» ещё новое «Подтверждение полномочий» – специально на случай «Архипелага»: что он полномочен на все публикации этой книги – и при этом свободен от личных платёжных обязательств (он опасался подобного оборота дел). Да, и вот же что, сразу не сообразишь: теперь – ленинскую главу из «Августа» уже можно не прятать, нельзя ли успеть ее вставить в какое-то издание? И теперь, когда отменили радиоглушение в СССР, – едва появится «Архипелаг» – разрешить читать его сразу по всем станциям! (Какой я разгонистый! – ни «Голос Америки», ни Би-би-си не пошевельнутся, чтобы не портить дипломатических отношений с СССР…) А «Жить не по лжи» предполагаю публиковать в феврале. (И точно угадал!)
Шлём в Цюрих плёнку «Октября» – на том, на чём он остановлен, может быть никогда уже не доканчивать. Пересылаем уже частями и статьи «Из-под глыб».
Но ещё же срочней! – в середине декабря посылаю Никите «Письмо вождям», – оно должно быть напечатано через 25 дней после Первого тома «Архипелага»! И скорей переводить!
За «Письмо вождям» неведомая мне типография «Имки» принялась тут же. А когда «Архипелаг» ударяет 28 декабря – вдруг просвечивает мне, что «Письмо вождям» надо задержать от печати! Я увидел теперь: «Письмо» зазвучит сейчас не как в сентябре, когда я его отдал в ЦК: сегодня можно будет заподозрить во мне тон уступчивости? В гуле раската «Архипелага» – момент для «Письма» неудачный, нет. Нет! («Чугунная голова, не высыпаюсь!»)
В начале января 1974 пишем Никите и Бетте: задержать «Письмо» на неопределённый срок, никакого распространения, ни даже по переводчикам, остановить и все переводы!
Но – опоздало то письмо, и ничего б мы не удержали, – в «Имке» у Никиты уже был готов тираж, и готовый французский перевод на входе в типографию, – задержали мы каким-то условным косвенным телефонным звонком. Задержали! не утекло! (Попадание!? или промах!? – всё зависело от побочных случайностей, и не оценивалось мной во всём объёме серьёзности, голова и тело становились полунечувствительны. Не задержи мы «Письма» – кончилось бы со мной скорее тюрьмой, а не высылкой за границу: никто б меня на Западе тогда не отстаивал.)
И ещё ж эта добавочная вся дерготня падала и падала на Бетту! – в недели, когда она сдала в издательство Первый том «Архипелага» и начинала переводить Второй. Сколько же ей надо и терпения и поворотливости ума! В конце января, последнее её письмо, уже не достигшее меня в СССР: «К необыкновенному подъёму добавляется страшная усталость и вечное ноющее чувство, что что-то не успевается. Просыпаюсь от постоянных теперь кошмаров: что-то важное забыла сделать! даже вскакиваю иногда… Очень рада, что “Письмо вождям” отложено: это страшно запутало бы здешних людей и даже повредило бы пониманию “Архипелага”. Чтоб понять “Письмо” – надо знать Россию…»
И справедливая гордость у неё: «С “Архипелагом” удалось выдержать тайну до конца». Но уже она и измотана: часть перевода Второго и Третьего томов будет делить с напарником, теперь не нужна прежняя тайна. Перевод Бетты хвалят – Бёлль, «Цайт», «Шпигель».
…«Но и сосущая тоска и страх за Вас…»
А я ей, в разминувшемся письме:
«Есть ли у меня ощущение, что мы с Вами никогда больше не увидимся? Отчётливо: нет! Уверен в живой, интересной, неторопливой встрече. Как? Загадка. Много чудес и неожиданностей нас ещё ждёт… Пусть новый год будет годом наших побед!.. Не хочется прощаться, но на всякий, на всякий случай…»
И Аля на последнем письме, размашисто: «12 февраля. Сегодня Саню увели в 5 часов, 8 человек. В 10 вечера мне позвонили, что он арестован. Продолжайте, не снижая темпа! Пусть все вещи, одна за другой, выходят в свет. Это – главное».
Уже в первый день мой у Бёлля приехали и Лиза и Хееб – внушительный, важный, высокий, дымил трубкой. Звонил из Парижа и Никита Алексеевич, предлагал приехать туда же, но всё сразу в груди не помещалось, я пригласил его ехать в Цюрих. С ним встретились уже в доме у Хееба – сразу очень тепло: был он и единственный русский из всех, плотно окружавших меня, и такой сразу близкий, понятный, чего бы ни коснулись, – хотя он всю жизнь эмигрант, а я всю жизнь советский.
И вот весь Опорный Треугольник – собрался в одной комнате, и разговариваем свободно, вместо зашифрованных писем, – кто б это мог недавно предвидеть! Дом – весь окружён, охвачен слежкой – но корреспондентской, не чекистской.
Этот Опорный Треугольник сделал для меня ещё больше, чем он реально успел переработать: он создал ту уверенность во мне, ту невидимую за спиной стену, на которую опершись, я мог стоять против Дракона, ничуть не колеблясь, ни на миг не сожалея, готовый на всё до любого конца.
И ещё два-три дня Никита Алексеевич прожил в Цюрихе, сопровождал меня всюду, когда я по цюрихским улицам не ходил, а бегал, а за нами – целая свора телевизионщиков и журналистов: и в подвалы цюрихского кантонального банка (там в сейфе хранились все наши плёнки, «Жить не по лжи» я тут же выдал Н. А. для печати, уже порадовавшись, что Аля не дрогнула опубликовать это обращение в Москве; журналисты вокруг банка заключили и передали, что я пошёл считать свои капиталы). Очень просто, легко оказалось с Н. А. объясняться, русскими делами он был заинтересован глубочайше, пристально. Отсюда и начались наши годы и годы совместной издательской работы и дружбы.
13. Иностранцы
В главном тексте «Телёнка» я заявил, что всё на Запад передавал всегда самолично. Я написал так, чтобы прикрыть – Еву, Диму Борисова и Женю Барабанова.
На самом же деле: до 1968 никто, кроме Евы, с Западом меня не связывал, – она определяла возможности и случаи, а я такой заботы совсем не знал. Затем работал канал Барабанова-Дуровой, и снова мы были обеспечены по посылке рукописей, по обмену письмами с нашими союзниками – Никитой Струве и Беттой. Стал разгораться аппетит, что и книги хотим получать с Запада, – и тут выискала Ева Акселя и Жаклин Краузе; он был американский коммерсант, который мог получать неконтролируемую объёмную почту, – и они охотно помогали многим, в том числе и нам. И долгое время тем более казалось: вполне достаточно. Потребности связи прямо с иностранными корреспондентами, как уже появлялось у многих москвичей, у меня всё ещё не возникало: я много лет от того удерживался и не предполагал до такой необходимости дойти.
Жорес Медведев, не раз предлагавший конспиративные услуги (но я из осторожности всегда их отводил), осенью 1970 склонял меня на встречу с норвежцем Пером Хегге, тогда меня искавшим, – но и тоже было мне ни к чему. А тут – дали Нобелевскую, и Хегге, где-то выведав телефонный номер Ростроповича, застиг меня своим звонком, и я невольно ответил на его вопросы. И когда нобелевская история потянула следующие шаги, нелегальную передачу писем в Скандинавию, – естественно и повело продолжать с Хегге. Одну встречу устроил нам Ж. Медведев и с нами прошагал несколько тёмных кварталов, следующий раз в толчее у Ленинской библиотеки мы встретились уже с Хегге вдвоём, опять пошли по тёмным кварталам, и в каком-то неведомом проходном дворе близ Волхонки я совал ему свои нобелевские материалы, это не очень быстро и ловко получилось, а когда мы после этого вышли на другую улицу, то увидели: ярко светится вывеска отделения милиции: двор этот был – милицейский…
Вскоре затем Пера Хегге выслали из СССР. Жорес перестроил свою связь на Роберта Кайзера («Вашингтон пост») и Хедрика Смита («Нью-Йорк таймс»). И опять предлагал мне – и опять мне было ни к чему.
Прошёл ещё год – мы с Алей, как редкость, выбрались в Консерваторию. В антракте ко мне подошёл настойчивый и несколько грубоватый Улле Стенхольм – опять скандинав, но теперь от шведского радио, и просил интервью. Я отказал. (С ним ещё хлопоты в будущем: придёт на квартиру к Але: какие будут поручения, он едет в Цюрих брать интервью у Хееба. Да никаких! – но теперь срочно надо сообщать через Бетту, чтобы Хееб не поверил, будто он от нас.)
В тот вечер многие просили у меня автографы, не пришлось оглянуться безпрепятственно, не пришлось нам заметить на себе пристальных, вдумчивых глаз ещё одного молодого шведа, который, однако, не подошёл в тот раз.
А пришёл позже. Застал дома Алю – сразу понравился – своей чистотой, прямотой, даже как будто корреспондентской неопытностью, всё это открыто выражалось его молодым голубоглазым, хотя и строгим лицом. Где-то навидавшись старого крестьянского порядка, внезапно, – Аля даже не заметила, и такого порядка не было у нас в квартире, – вытянул ноги из ботинок и пошёл в комнату в одних носках, – движение и побуждение, невозможные для тёртого корреспондента! (Много позже узнали мы, что он – сын пастора из южной Швеции.)
Он пришёл даже без намерения просить интервью, а просто, может быть, – в чём-то помочь?..
Записались его координаты, завязался узелок. Стиг Фредриксон, телеграфные агентства всех скандинавских стран (наследник Хегге).
Тут (весной 1972, когда меня сильно придушивали) задумал я давать большое, вообще первое своё, интервью, но его надо было предложить очень громким газетам – и мы выбрали (правильно) две ведущих американских и пригласили корреспондентов (косвенно, через Ж. Медведева) на определённый день. Пришли X. Смит и Р. Кайзер – с магнитофоном и заготовленными (поразительными по мелкоте) вопросами. А у меня-то всё содержание было тоже подготовлено (в нём только для меня и смысл!) – да в письменном виде. Ничего не ведая о западных корреспондентах и газетах, я считал, что они довольны будут и в такой форме взять, разве не сенсация? Оказывается – нет, они – оскорблены и унижены были таким предложением (и, как потом я западные газеты понял, иначе они и не могли отозваться). Самое большее, на что – из уважения ко мне и страсти к сенсации – они соглашались, это – взять не дословно, но большую часть моего содержания, всё это переделав в свою «стори», то есть порядок, стиль и акценты доверивши лишь своему перу, – и за то приняв на магнитофон ещё и ответы на их стандартный набор вопросов (о Евтушенко и др. …).
Всё-таки жалко было эти две громкие газеты упускать. Я согласился, сам решив – мой полный текст отдать Стигу, чтоб он на следующий день передал его своим скандинавским агентствам. Я ещё не понимал, что «на другой день» это вообще не новости, грош им цена, хоть и с дополнениями, никто их не возьмёт. А мне казалось: истинный авторский текст – как же может не интересовать? А Стиг? – Стиг определённо верил, что от него примут.
Так и сделали. Две громкие американские газеты искромсали мой замысел в вермишель, приправили важное чепуховыми наблюдениями и рассуждениями, – а в Скандинавии не появилось ни строчки моей, всё впустую, хотя Стиг всё от слова до слова отстукал на телетайпе.
Тут через неделю сорвалась нобелевская церемония в Москве, и надо было сделать короткое заявление – и непременно в Скандинавию же. Решили, естественно, – через Стига, нравился он нам – и честен безусловно и к душе прилегал.
В этот раз – прекрасно и быстро всё получилось. Значит, в первом случае действительно отказались агентства.
А между всем этим придумали мы со Стигом встречу вне дома – в подземном переходе Белорусского вокзала, откуда и куда всегда лежал мой путь с ростроповичской дачи.
В конце апреля встретились (у меня в кармане – плёнка нобелевской речи, которую не сумели иначе отправить, да и опять же – в Швецию надо). Я стоял в незаметном месте, он – с женой Ингрид проследовал под руку, я, выждав, – за ними, а Аля – из другого места, ещё выждав, проверяя, не следят ли. Всё оказалось благополучно, и потом, нагнав их, мы вчетвером пошли не спеша по Ленинградскому проспекту. (Никогда ничем не ёкал этот мне проспект, сколько я вдоль него ни мотался, а теперь при каждом воспоминании: последняя улица, по которой везли меня на высылку из России.) В разговоре я предложил ему, он согласился, и в тёмном дворе я передал ему плёнку. По народной примете, беременная баба при деле – к удаче. А тут – две было беременных, наши обе жены, и он увозил свою в Швецию на роды. (Рассказывал Стиг: эту плёнку он вставил в маленький транзисторный приёмник, так и увёз и передал в Шведскую Академию. Нам показалось – остроумно, напоминало это и мои многолетние прежние захоронки.)
Вернулся он, рассказал об успехе. Мы ещё встретились с ним раза два до лета. Так легко достигнутый и такой честный контакт ценно было сохранить. Постепенно, уже только вдвоём с ним, мы отработали технику встречи: по каким ступенькам идём, на каком расстоянии я, куда сворачиваем потом, где я нагоняю. В середине лета Стиг вдруг не пришёл, мы удивлялись. Потом другой скандинавский корреспондент забросил нам трогательное его письмо на непритязательном русском: возвращаясь автомобилем из Финляндии и торопясь именно к вечеру нашей встречи, он попал в автомобильную катастрофу. «Но в ту минуту Бог был со мной – и я надеюсь вылечиться даже без последствий».
Этот несчастно-счастливый случай уже окончательно нас соединил.
И всю осень 1972, зиму на 1973 продолжались наши встречи, всегда в темноте, в тёмных переулках и дворах близ Белорусского вокзала. (Час встречи был постоянный, а следующую дату, и ещё резервную, мы всегда назначали, расставаясь.) И как-то теперь прояснилось, что это совершенно необходимо, без этого даже жить мне нельзя, – как же это я 9 лет жил без прямых личных встреч с западным человеком?! Появилась маневренность, которой прежде не было, быстрота передачи, и всякий раз было и что передать и что получить (так пошли теперь все мои левые письма к Струве, Бетте и адвокату, вся жила главных связей). И небольшие скрутки плёнок, новые варианты, новое написанное. А Стиг дальше передавал через дипломатическую почту, но не свою шведскую, которая была, по-арестантски и по-советски выражаясь, сучья, – а через норвежскую. Там, сколько я помню, все годы, разные годы, служили исключительно благородные люди, помогали не нам одним, и никто никогда не провалился, никто никого не выдал. (Никого не знаю и сегодня, чтобы назвать, – но кланяюсь тем людям!) Мы назвали этот канал – ВСП – Великий Северный Путь.
В этих прогулках внезапно возникла идея: Хансу Бьёркегрену – шведскому писателю и замечательному переводчику (своими отличными переводами «Круга» и «Корпуса» к 1970 он во многом подготовил для меня Нобелевскую премию), начать немедленно шведский перевод «Архипелага», взявши текст – у кого же? Да у Хееба. Так наши связи замыкались и на Западе. Бьёркегрен дал свой адрес для писем с Запада ко мне. (А дальше – опять по ВСП.)
В своё время большевикам не приходилось пользоваться для связи помощью иностранных корреспондентов, и в голову бы такое не пришло, да и корреспонденты бы вряд ли взяли: лишь сами большевики создали такой строй, при котором сердечные иностранцы не могут не принять на себя запретной миссии тайных передатчиков. Так же – и дипломаты: с тех пор как советские дипломаты за границей почти все сплошь – правительственные шпионы, а западные посольства в Москве и лояльны и беспомощны, – у отдельных служащих посольств и дипломатов не могут не шевельнуться справедливые сердца: помочь нам, беднягам. Ниже будут ещё удивительные тому примеры.
Одновременно с «Великим Северным Путём» сам собою, – нет, Божьим соизволением, – напросился, открылся второй путь. Давно перед тем, в декабре 1967, рвалась в Москву на переговоры со мной Ольга Карлайл, ей визы не дали – и тогда она попросила съездить в Москву туристом (а между тем – встретиться со мной) Степана Николаевича Татищева, молодого парижского славяноведа, тоже из второго поколения первой эмиграции. Татищева пустили беспрепятственно, в Москве он сразу позвонил Еве – кого не знала она из русских парижан? – и Ева привела его на встречу со мной к Царевне, по пути, на улицах, в магазинах, уча его, как вести себя в ожидании слежки, и проверяя, насколько он храбр. (Оценила, что: побаивается, но – пересиливает.) Сам предмет переговоров (вопросы наизусть, ответы на память) тогда казался важен, потом ничего важного из них не последовало, но знакомство – состоялось; и нескольким близким друзьям, в тот вечер собравшимся у Царевны, Татищев понравился: был мил и остёр в разговоре, не напряжён от конспиративности, рассказывал забавно о левом перекосе парижского студенчества и всей интеллигенции. Выяснилось, что с Никитой Струве он преподаёт в одном университете. Мы разрешили ему приоткрыться и объясниться с Никитой.
И ещё второй раз он потом приезжал туристом, мы виделись снова у Евы, опять без большого дела, но всё более осваиваясь. Рождалось полное доверие. (Однажды Степан был поражён – гулял по Москве и увидел перекресток с надписями: Ул. Шухова – Ул. Татищева. Счёл за знак…)
И вдруг весной 1971 та же Ева принесла поразительную новость: Степан Татищев назначается в Москву французским культурным атташе – на целые три года! Невероятная удача, какими мы не были избалованы. (Потом рассказал Степан Николаевич: к нему, как к славяноведу, позвонили из м.и.д. за советом, кого бы назначить на новые три года в Россию, – а он, без оглядки тянясь на родину, нестеснительно рекомендовал сам себя! – и кандидатура была принята.) На три года – достоверный, надёжный, постоянно действующий дипломатический канал, – не ждали мы! (Но Ася Дурова не захотела быть с ним откровенной, и каждый продолжал своё по себе, в одиночку, тайком ото всех в посольстве.)
Не совсем надежды наши оправдались, Татищев (для маскировки назвали мы его «Эмиль», а для русского звучания «Милька»), кажется, наделал вначале опрометчивых шагов, из-за которых должен был потом долгое время осторожничать. Впрочем, стиль – это человек, у Татищева был свой стиль, не вполне отвечавший нашим ожиданиям; как он сам уверял – в его кажущейся лёгкости и заключалась его настороженная бдительность (Ева, в высшей степени именно такая, со стороны находила «Мильку» беззрассудно-неосторожным, и всё его поправляла и поучала). И правда, никогда он не попался и без провала выслужил весь срок. Не раз ослаблялась с ним наша связь, далеко не всегда, не сразу и не в нужном объёме мы могли с ним передать, – но порою он нас очень выручал, особенно передачей письма, распоряжения, известия – и всегда прямо к Струве, без околичностей в нужные руки! Однажды очень выручил, отвезя большой список нумеров – кому и от чьего имени переводить из-за границы деньги в помощь. Два независимых канала очень удобны: каждый заполняет промежутки другого.
Татищев окончил свой срок, уже когда я был на Западе. Но следующий после него французский культурный атташе в Москве, Ив Аман, француз, глубоко верующий и преданный русской культуре, до уровня готовности на риск и жертвы, – очень много помог нам[84].
По возвращении в Париж Татищев оказался нам полезен ещё больше прежнего: через других лиц французского посольства он сохранил прямые связи с Евой – и та ещё весь 1975 год продолжала нам досылать на Запад большие объёмы моего ещё оставшегося архива, – так методически дочищались все хранения А. А. Угримова, остальное они там по нашим пометкам сжигали. (Старые Алины списки хранений, цифровой код пересекали границу туда и сюда.)[85]
Весной 1973, когда я уже начал сборы к отъезду от Ростроповича, расставался навсегда и с Белорусским вокзалом, я предложил Стигу перенести наши встречи на Киевский вокзал – направление к Рождеству, последнему моему, уже лишь частичному, убежищу. Поездки в Рождество были дальние, с грузом, не так регулируемые по расписанию, – и весной я предложил Стигу утренний час. Он смело согласился, и раза два мы так встречались – при ярком свете летнего утра, на кишащем вокзале, затем на окраинной улице в зелёной беседке рабочего квартала у метро «Студенческая» – доступные фотографированию, разглядыванию, лёгкой слежке, – но и друг друга мы давно уже не видели при дневном свете! (Впервые и он меня сфотографировал – не по-корреспондентски, для себя.) Очень у него было благородное, умное, честное лицо, всегда худое и бледноватое – по-скандинавски ли.
В ту весну возникла у него идея: поехать познакомиться с моим адвокатом. Я одобрил. (Он очень потом уважительно отзывался о солидности и уме Хееба – и это углубило мои ошибки.) А взамен себя на лето, «если что случится», предложил Фрэнка Крепо из Ассошиэйтед Пресс. И – случилось, и – понадобилось в конце августа, но только к тому числу сам Стиг уже вернулся из отпуска и пришёл ко мне на свидание – на скамейку у «Студенческой», вечером, в рябчатый фонарный полусвет под деревом.
Это было – августа 19-го или 20-го, я пришёл к Стигу на свидание с планом целой серии ударов моей задуманной контратаки. Я так понимал, что это – последнее и высшее, что мне дадут сделать, и я предлагал теперь Стигу выйти из его тайной роли – опасной и ничего не прибавляющей к его имени, предлагал теперь ему самому открыто брать у меня интервью. (Я всё ещё не усвоил, что для моих интервью глухой скандинавский угол был худший путь.)
Мне казалось: он охотно возьмётся, это укрепит его, создаст ему славу. А он, в полутьме под вечерним деревом, чуть подумал – и отказался.
Это удивило меня. Но вероятно, благоразумно? – Стигу ещё можно было оставаться в Москве полтора и даже два с половиной года.
Благоразумно, рутинным западным размышлением. Но совсем не благоразумно, но отчаянно смело, он этим самым постом и даже всем званием журналиста рисковал в каждую встречу со мной. И идя на свидание с запретным в кармане (однажды и был задержан дружинниками, но не посмели его обыскать), и возвращаясь с другим запретным. Ведомый чувством, он рисковал гораздо большим и совершенно безкорыстно, чем когда рассудочно умеривал себя привычными западными доводами.
Наши славные западные друзья! – как много сошлось противоречивого в их положении и в их решениях.
Стиг так вошёл в наше конспиративное напряжение, что по поводу опасности разгласки сказал один раз: «Да мне лично всё равно. Я просто думаю – я больше смогу вам помочь, если не пойдёт слуха».
А от интервью – отказался. Потому что оно лежало не в полосе безмерной опасности, где вели его чувства (и прелестную жену его Ингрид – тоже), а – в полосе обыденности, где полагается рассуждать логично, как все, и не делать глупостей.
Итак, на интервью он прислал Фрэнка Крепо (очень милого, честного, хорошего) и, по моему настоянию, корреспондента «Монд», весьма самоуверенного, чужого. (Я ещё очень не разбирался тогда в оглядчивости и двуликости этих газет. Всех их мы с Востока считаем гораздо свободолюбивей, чем они есть. Под потолками мы с корреспондентами не разговаривали лишнего, я записку написал, что хотел бы в «Монд» напечатать серию статей о советской жизни. Я думал – они схватятся, а «Монд» даже с негодованием отказалась: зачем им статьи от меня, если у них свой корреспондент в Москве?..)
Ожидая плотного боя, мы со Стигом договорились на сентябрь 1973 встречаться каждые десять дней. Даты были намечены заранее, но плотность понадобилась ещё больше. Я узнал о провале «Архипелага» – и надо было мгновенно передать об этом на Запад и слать распоряжение о наборе. Для таких экстренных случаев также у нас было разработано: позвонить Стигу рано утром до прихода его советской секретарши. Голоса, и Алин и мой, он узнавал тотчас, и всегда это значило: сегодня вечером надо встретиться (час и место известны). Но что же при этом сказать, ведь телефоны подслушиваются? Стиг хорошо придумал: «ошибочный» звонок: «Скажите, это химчистка?», «Скажите, это бюро заказов гастронома?.. Как? это не бюро заказов? Простите, пожалуйста!» Достаточно, чтобы голос узнать. Но довольно телефону испортиться, или быть долго заняту, или не быть Стигу дома…?
4 сентября всё было удачно – и такой «ошибочный» звонок из пригородной тесноты Ленинградского вокзала и сама встреча. Вечером с тройной осторожностью я долго путал: с дачи уходил другими переулками, в метро делал пересадки на быстро пустеющих станциях, как «Красносельская», там перрон остаётся совсем чист и полная гарантия, что ты оторвался.
Однако, когда Стиг подходил ко мне в нашем укромном месте у «Студенческой» – мне показалось: мелькнула фигура, проверила, что мы встретились, и спряталась за дом. Я сказал Стигу. Он рассмеялся: «Да. Это – Удгорд», – норвежский журналист, его друг, которому одному он рассказывал о наших встречах.
Удгорду очень хотелось тоже встречаться, но этика не позволяла перебивать друга, и он даже не подошёл познакомиться.
В этот вечер 4 сентября я что-то много передал: и известие об «Архипелаге», и «Письмо вождям», и много распоряжений на Запад, и плёнку свою какую-то. Помню: как гора свалилась, вечером у нас с Алей был праздник: всё рушилось, а мы вот – выстаивали. (И она – последние дни вытягивала, донашивала Степана, по сгущению событий, какое любит судьба, – через четыре дня он и родился.)
В ту страшную последнюю осень мы со Стигом встречались, однако, вполне благополучно. В зажатом моём положении эти встречи были незаменимой отдушиной. Один раз для передачи дополнительного письма, внезапно возникшей надобности, договорились, чтоб не мелькать ему: пусть Ингрид прогуляется по Нарышкинскому бульвару, а Аля навстречу с Ермошкой. Был и я. Женщины наклонились к ребёнку, тогда не видно издали движенья рук, Аля передала письмо, Ингрид – шведскую свечу нам на Рождество.
И они уехали на Рождество в Швецию, а тут разразился «Архипелаг», вся буря, – и как же долго было ждать возврата Стига! Необходимость связи, вопросов, посылки исправлений возникали чуть не каждые три дня. Правда, в эти лихие дни много корреспондентов захаживали к нам домой, одни – поживиться новостью или фотографией, другие – нам помочь (Джон Шоу, Фрэнк Крепо).
Для западного корреспондента жизнь в Москве по многим причинам – весьма высокий, льготный, важный пост – и для карьеры, и с хорошими условиями (до безплатной няньки к детям, советскому правительству расходов не жалко, оно правильно рассчитывает: хорошо обезпеченные журналисты будут держаться за место, корреспондировать не резко). Но в людях западного воспитания, когда они соприкасались с нашим движением, я замечал удивительную перемену: отход от привычного счёта копеек и жертвование своей головой.
Это не укоренелое свойство западных людей – быть в каждом шаге расчётливым до мелочей и чем любезней внешне, тем безжалостней по сути, но это – влияния Поля, куда попадает человек. А в России давно существовало (несмотря на советское угнетение) Поле щедрости, жертвенности – и оно передаётся иным западным людям, внедряется в них, – может быть, не на век, но пока они среди нас. И всё же: одного западного воспитания и живя в одинаковых условиях – очень по-разному проявлялись «инкоры» в те дни.
Последний раз наша тайная встреча со Стигом была 14 января 1974, в самый день, когда «Правда» начала против меня крупную атаку прессы. Уже проглядывала среди других и такая возможность: что не арестуют меня, а вышлют на Запад. В этом случае думал, что останусь в Норвегии. А Стига хотелось сохранить себе, такого славного друга. И я сказал ему: если будет так, а он пострадает за связь со мной, – чтоб он не боялся высылки из СССР, слома корреспондентской карьеры, – будет в Норвегии у меня секретарём и общей связью с окружающим миром.
И в нём тоже это уже созрело, ему нравилось.
В подворотне, где никто не видел нас, мы обнялись на прощанье.
А следующая встреча была назначена на 14 февраля. (Двумя сутками позже моего ареста…)
Но и Стиг и с ним Нильс Мортен Удгорд заходили к Але в январские дни, это выглядело тогда естественно, а помощь и дружба были остро нужны. Это было уже начало того роенья инкоров в нашей квартире, которое вспыхнуло после ареста и дало Але возможности спасти всю мою живую работу, всё написанное, недописанное, оборванное – и всё в одном экземпляре, и копировать уже некогда. (ГБ, я думаю, не представляло, сколько у меня уже наготовлено – по «Колесу», по Ленину, по большевикам, по всей революции, и насколько для меня невосстановимо, если б я это всё потерял, – я думаю, они б тогда отначала, от моего ареста загребли бы.) Как только меня увели, Але надо было – убрать это всё скорей с квартиры, сперва – хоть куда-нибудь, потом – на возможный старт отправки за границу, и уносить бы это всё – безопасней иностранцам? Корреспондентов и лился непрерывный, многолюдный поток, он давал прикрытие, но у них не было обычая носить что-либо в руках по Москве – они чаще всего приходили с пустыми руками, а значит, и выйти нельзя вдруг с сумкой, значит только – рассовывая пакеты по карманам? да чтоб не слишком «утолщиться»? При всех, со всеми сразу – Аля не говорила и не передавала ничего: присутствие чужих мешало сговариваться со своими. А уединялась с посвящёнными в маленькой комнате, там объяснялись записками (и голосом же нельзя! да мало того: пока пишешь записку – надо голосом молоть что-нибудь пустое), там и передавали пакеты.
И Нильсу Удгорду, совсем недавнему знакомцу, но с таким благородством, крупному, с чертами прямыми, спокойными, с такой уверенностью движений, и среди всех корреспондентов самому образованному (учёный историк, он отличался ото всех), – ему первому в день моей высылки Аля открыла задачу: «Есть большой объёмный архив, и его необходимо вывезти. Можете?» (А он уже был «с прошлым», его уже поносила «Комсомольская правда», значит – на заметке.) Обдумав, на следующий день он попросил у Али письменную доверенность для возможных переговоров:
«Прошу считать г. Нильса Удгорда моим полномочным представителем для сношений с ……. Прошу Вашей помощи вывезти архив Солженицына».
А дальше он и поступил крупно, подходя к делу с масштабом историка, а не корреспондента.
К сожалению, этой замечательной операции, спасшей мои главные рукописи и обезпечившей мне многолетнее продолжение работы над «Красным Колесом», и сегодня ещё нельзя рассказать.
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…Что Удгорд не вполне понимал – это как теперь уместиться в те два разрешённые ему чемодана? Уже ясно становилось, что архива – больше. (Ещё казалось: и спешить надо в часах и днях; что мою семью могут тотчас вышвырнуть из Союза.)
По счастливому совпадению, воротясь с концерта домой, он застал там своего приятеля Вильяма Одома, 40-летнего помощника американского военного атташе, перед тем – преподавателя русской истории в Вест Пойнте, тоже доктора исторических наук. Сейчас он принёс Нильсу только что вышедшую брошюру АПН против «Архипелага» и меня.
Под потолками говорить нельзя, и, имея в виду многое ещё оставшееся, Нильс написал Вильяму:
«Большая проблема – архив Солженицына».
Вильям Одом был уже достаточно омокнут в историю этого века и нашей страны. На корейской войне он не был только потому, что в тот самый год вступил в академию Вест Пойнт. После неё изучал советскую историю в Колумбийском университете, сам писал исследования о Свердлове, об Осоавиахиме, послужил в американской миссии при советских войсках, и 2 года во Вьетнаме, и вот уже 2 года в Москве, и кончал свой срок здесь.
Он согласился по сути сразу: только бы не знал никто, в том числе и сам Солженицын. Ему предстояло паковать, отсылать свой личный багаж (как дипломатический) в Соединённые Штаты – вот туда он и вложит архив. Это освобождало его от необходимости обращаться к кому-либо из чиновников и, может быть, чей-то отказ получить. Но всё же своему начальнику и другу, военному атташе контр-адмиралу Майо он рассказал о замысле.
…Но не так благоприятно всё это представлялось в осаждённой нашей квартире. Смятенье было и в бумагах, смятенье и в предположениях: чего ждать? Что нет обыска дома – это стало ясно за сутки-другие. Но – будут ли хватать выносящих? кого? с какого момента?
Когда меня взяли – не только на моём столе разбросана была конспиративная переписка с Западом, но и на Алином лежала – шифровка, содержащая всю систему хранения: у кого где что! А ещё ведь Але надо было разобраться во всём хранимом (дотянуть руки, куда они годами у нас не дотягивались), выстроить новую систему и о каждой вещи решить: что – непременно надо отправить за границу мне вослед; что – желательно; что – следует оставить храниться в СССР до востребования; что – хранить, но никогда не востребуем; что – уничтожить.
Однако прежде того, пока ожидали обыска в доме, – первым толчком стали срочно уносить – к кому-нибудь! на другие квартиры!
Ещё в вечер моего ареста Стиг на себе (на свиданьях со мной он привык использовать поместительные карманы) унёс заготовки статей «Из-под глыб» и письма на Запад. А потом со своими, советскими, отправляла Аля к друзьям на разные квартиры. Друзья вываливались сразу шумной кучей (у наших соседей Пастернаков поверх бумаг торчали перья лука, вилок капусты) и потом друг друга провожали, куда надо. Дима Борисов, Андрей Тюрин и Александр Гинзбург – новая фигура для нашего хранения, но не для русского подполья, – больше всех и толковее всех помогали в эти дни. Гинзбург уносил и концентрировал те рукописи, которые должны были остаться в СССР.
Дальше Аля отправляла уже не только мои рукописи, заготовки, но – редкие книги, важные газеты 1917 года. (Существовало советское таможенное правило, что запрещён вывоз книг издания до 1945 года – то есть как могущих быть «не того» направления, а мои-то книги, о революции, все и были «не того», и даже хуже, еле спасённые от сожжения.) И ещё несколько человек (Вильгельмина Германовна Славуцкая, Александр Сергеевич Бутурлин) должны были уносить книги – самое объёмное, хоть уже малоопасное. В. Славуцкая сама придумала путь переправки книг, и сама же всё устроила, это уж сверх ожиданий, замечательно.
Представилось, что корреспондентам прямо от нас носить опасно, а безопаснее будет взять с каких-то других квартир… Эти адреса сообщали Стигу и Нильсу – для инкоров, хозяев предупреждали, когда примерно ждать, а чтоб не ошибиться в пришедшем, у него в корреспондентской книжке будет стоять условный знак карандашом.
Так разбрызгался мой архив (как лужа, ударенная сапогом) по разным дальним местам Москвы, и даже окраинным, на Рублёвское шоссе и в Медведково.
Через несколько дней поняли неверность, стали стягивать всё опять назад к нам. Хотя и проще было из разных мест хранения сразу перекидывать на отправку, но так – почти не пришлось, а рискнула Аля всё пропустить опять через угрожаемую квартиру, внести и вынести, а здесь пересмотреть, иногда по листику, группируя в новые конверты. (Эту работу могла делать только Аля сама, да приходила вечерами и очень много сделала Люша.)
В Медведково ездил забирать сам Удгорд. Он сделает пересадку в пути, вторым такси подъедет не до искомого дома, лишь до соседнего, – и отпустит такси. (Всё – чтоб не дать следов.) Но вот – нагрузил все карманы обширной «репортёрской» куртки, взял две тяжёлые пластмассовые сумки, вышел: а где ж в глухом месте брать обратное такси? Три часа дня, светло. Проезжают в такси военные, полковник (а может – гебисты? ещё успей разобраться), прилично одетый Удгорд «голосует», его подбирают, – но в дороге же разговор, и что он иностранец – понятно. (Проще было б автобусом?)
Сколько риска, совсем необычного для корреспондентов в Москве! А ещё всякий день им надо полно нагрузно работать (таясь от приставленной советской секретарши), передавать сообщения в свои агентства, в свои газеты.
Очень по-разному в эти дни разделились корреспонденты. Для каждого это был – выбор совести, испытание, а славы – никакой, по работе не только никакого успеха, похвалы, продвижения, но угроза – всё погубить, все годы карьеры, все годы усилий: ведь газета присылала его совсем не для конспирации. (А Фрэнка Крепо после известных интервью со мной и разумно подозревая опасность, Ассошиэйтед Пресс специально строго предупредила: в отношениях с Солженицыным не превышать дозволенного. А он – то и дело брал, то бумаги, то плёнки, – и с большим выражением на лице запрятывал: лицо его при этом передавало и как пальцы там где-то передвигаются в глубине, и как он судьбой своей играет, впрочем – с готовностью. Корреспондент «Фигаро» Ляконтр, увозя от Али среди ночи моё «Заявление на случай ареста», положил его внутрь носка, на подошву, в ботинок.) И тут корреспондентам европейских, более понимающих, органов было легче. Например, Удгорд уверен был, что в случае провала его шеф поймёт и оправдает его действие. (Но и «таскал» же он несравненно с другими, загружая и боковые, и нагрудные, и заспинные карманы своей «репортёрки», и перед выходом, большерослый, внимательно оглядывал себя в высоком зеркале, не вытарчивает ли где.) А у американцев понятие карьеры особенно напряжённое: провал не получит морального понимания ни у начальства, ни у коллег, а только насмешку над неудачником. И понятно было, что иные отказались. Но три славных молодца – американцы Стив Броунинг, Роджер Леддингтон, Джим Пайперт, таскали безперебойно. И трое надёжных англичан: Джулиан Нанди, Боб Эванс и Ричард Уоллес. А чемоданы (будущие) велики, а карманы корреспондентские – малы. И приходилось некоторым ходить за взрывчаткой и нести её – каждый день! (Думаю, что ГБ, довольное моей высылкой, спокойно смотрело на роение корреспондентов и не хватало никого потому, что не хотело побочного скандала, – да не представляло же значение и объём увозимого.)
Пусть эти поздние-поздние строчки будут слабым воздаянием благодарности тем корреспондентам. Без этих нескольких западных людей затормозилась бы моя работа на годы.
А несли больше всего – к Стигу, склад собирался у него. (Оттого сам он ходил в это время редко.) Несли к Стигу – так все же и знали! Чем больше инкоров знало, тем величей была опасность разглашения. А вот – не разгласили! Ни тогда, ни потом.
22-го февраля стало известно, что я из Швейцарии поехал в Норвегию. И естественно, удержаться было нельзя Стигу не поехать туда же, не встретиться со мной впервые после высылки, не обменяться планами, вопросами, ходом дел.
Тут – Аля допустила опасную ошибку, – и едва не крахнула вся отработанная операция: она послала со Стигом мне письмо. (Да ведь всё так удавалось, при самом большом нашем нахальстве, так долго удавалось, и именно со Стигом! – само толкало продолжать.) И всё равно: главный рассказ о ходе дел Стиг передаст устно. Всего-то написать ей было, кроме личного: объяснить, что она не поедет, пока не успеет всего спасти и спрятать (чтоб я по телефону не торопил её ехать); и что перед отъездом ей неизбежно сделать публичное заявление. Уж это – проще всего было устно и передать. Но – ошибка, кто не делает их при разорванной голове, при сдавленной груди?
В последние часы перед отъездом Стиг зашёл к нам, а вскоре ехал на аэродром. Маленький комочек письма он спрятал «испытанным» образом – в такой же или в тот же транзисторный приёмник, как уже вывозил два года назад нобелевскую лекцию. А «таможенник» без колебаний взял и открыл именно этот приёмник сразу – и забрал письмо. (Совпадение? Привычное место прятки? Или когда-нибудь где-нибудь Стиг шепнул под потолком?) Стиг залился краской и тревогой – унизительно, как мальчишка! и – на чём? и – после скольких труднейших операций… (А дома-то, а на московской квартире его лежит весь склад для отправки! – а если теперь туда?..) Но гебист что-то высказал издевательское, письмо отобрал, а ехать дальше – не мешал. И Стиг улетел с тяжелейшим сердцем.
Он успел – шепнуть, соотечественнику из аэрокомпании. И тот поехал к Ингрид, рассказать. Ингрид заметалась – как спасать дело? А в гостях у неё в это время сидел …… дипломат. Она решилась просить его взять на время опасный груз. Не очень охотно, но он увёз часть в своём автомобиле. (А проглядыватели-то – видели, как грузится?!) Другую часть стал перетаскивать неутомимый Нильс – частью к себе, частью – в …… посольство.
Сколько лишних движений, сколько опасных перемещений, сколько прыжков по Москве! Как разрубленное тело иных животных ещё в отдельных кусках своих шевелится, вздрагивает, вспластывается, ещё хочет жить – так дёргался, хотел жить мой архив!
(Весть о провале Стига домчалась и ко мне в Норвегию в домик художника Вейдемана – с Джоном Шоу из «Тайма», почему-то раньше самого Стига и в страшной форме: у Стига на аэродроме отобрали плёнки с моими рукописями! Это мне правдоподобно показалось, – плёнки были у него, и тогда какой удар и какая опасность для него! Но часом позже приехал и сам Стиг. Узналось, что отобрано – письмо, но – неизвестно, насколько серьёзного содержания. А главное – стеснилось сердце за него, и появилась вина перед ним, вина, которой прежде не было за все годы наших ловких операций. Не было уверенности даже, пустят ли его сейчас в Москву назад.)
Нет! ГБ как задремало: удар не последовал, и Стига допустили назад безпрепятственно. Не додумались они до всех связей? сочли передачу письма случайной одноразовой услугой одного из многих толпившихся у нас корреспондентов? Или просто опасались расширять скандал вокруг меня?
А сопоставить многие случаи из этой книги, так: в деле со мной как заморачивало их, не хватало им рассудка и смелости на простейшее, на прямейшее!
Вернулся Стиг – и собрал назад свою часть моего архива. Опять он сидел на динамите. Но тут уже вступил действовать Нильс…
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…И сколько ни втянулось в эту операцию союзников – ведь западных людей, ведь непривычных, да ещё специалистов по сбору сенсаций, – ни один никогда не проговорился!!!
Решили мы с Алей по телефону: чтоб они летели в Цюрих не «Аэрофлотом», а швейцарской авиалинией: её самолёты садились на малом Шереметьеве-2, где швейцарский чиновник обещал и не допустить никакой советской проверки багажа, сразу его перенять. Но что придумали гебисты? – за несколько часов до прилёта швейцарского самолёта распорядились: именно его, в этот раз, один раз – посадить на Шереметьеве-1. И – уплыли наши все чемоданы через большой конвейер – на гебистскую проверку. Долго держали. (Не знаю, что перефотографировали, но магнитные ленты все стёрли.)
Я знал, что Аля всё отправила подспудно, с собою ничего серьёзного не везёт. Но почему-то, или именно поэтому, безсознательным толчком, или созоровать: когда семья прилетела с 10 чемоданами, с сумками и корзинами, – я при всех корреспондентах бросился к багажу и сам припёр два тяжёлых чемодана с теми третьестепенными бумагами, которые Аля везла. Внешне выглядело: архив приехал легально. (А для чекистов: ничего другого главного я не ждал, кроме того, что вы сфотографировали в Шереметьеве, изучайте!)
…Лишь в апреле 1974 к нам в Цюрих заехала, по дороге в отпуск, в Италию, молодая немецкая чета с маленькой дочерью, и отец выгрузил из машины (однако и тут остерегаясь фотографа) – заветные два чемодана и сумку. И так он был осмотрителен, что при сыне адвоката Хееба не назвал себя, а молча протянул мне удостоверение личности.
Мы смотрели на них как на родную семью. Аля с радостной дрожью рук проверяла номера прибывших пакетов. Всё главное, всё безценное – вот оно! пришло! спасено!!
Ещё потом – много книг, нужных для работы, перевезёт Марио Корти, сотрудник итальянского посольства в Москве, очень сочувствующий подавляемому русскому христианству. Спасибо! вот и они опять на моих полках.
А то, что с Одомом, – дольше шло. Багаж-то его пришёл в Штаты пароходом, но сам он ещё несколько месяцев провёл в Европе. Пришли те сокровища к нам в Цюрих только в сентябре 1974.
А в конце июля были в гостях у нас Нильс с Ангеликой, и он привёз с собою ещё одну, несрочную часть архива, но тоже почти чемодан. Новая радость! Уже и цюрихским стенам мы не слишком доверяли, ничего не стоило и тут приставить снаружи присоску подслушивать, – поехали с Удгордом в горы, в уединённый дом в Штерненберге, и тут Нильс впервые рассказал обо всех тайнах и движениях, со всеми именами. Какое чувство свободы и торжества владело нами: о таких тайнах говорить звучно – и как о прошлом! Уж тут-то, уверены мы были, – не услышит никто.
Удгорд взял у меня литературное интервью для «Афтенпостен», взял сигнальный экземпляр «Стремени “Тихого Дона”» и повёз в СССР. Всё это сильно не понравилось советским властям. Накоплялось у них и против него и против Стига давно и всё больше, – а неопределённо. Пошёл последний год пребывания их обоих в Москве – весной 1975 атаковала их «Литературная газета»: «Чёрное досье г. Удгорда», – но проявили, что не знали истинно того досье, а вздорно вменяли им – контрабанду произведений живописи. И Удгорд и Стиг стойко оборонялись, делали решительные заявления. Норвежские газеты и Союз журналистов поддержали Удгорда, протестовали в советское посольство, требовали от своего министерства иностранных дел – защиты журналиста от травли. Была и Стигу защита в Швеции. Устояли оба[86].
В первые наши месяцы в Цюрихе – не раз навещали нас новые друзья-корреспонденты, с иными я знакомился впервые, они были у нас дорогими гостями, а возвращаясь в Москву – везли наши письма друзьям, а вскоре и первую помощь в Россию от нашего Фонда. Стив Броунинг приезжал к нам в ноябре на пресс-конференцию «Из-под глыб». С Вильямом Одомом я познакомился уже в Америке, ещё годом позже, – в большой тайне и с преогромной благодарностью.
Только тут, на Западе, поживя и наблюдя строй здешних настроений, я мог по-настоящему оценить героизм этих западных людей – именно героизм. Потому что мы все уже брели, облитые тяжкими (и радиоактивными) ливнями, мы если рисковали – то только на лишние вёдра того же ливня, а западные – выскакивали под эту мокрую бурю в своих сухеньких костюмчиках, из уюта, и в случае провала – всему их обществу, кругу их и друзьям весь выскок этот должен был показаться просто глупостью, недомыслием. Они переступали гораздо больший моральный порог, – и я не могу без восхищения смотреть на них, вспоминать их.
14. Стремя «Тихого Дона»
В невыносимой плотности нашего движения, под гнётом потаённости и опасностей, когда большинство участников ещё и работало на казённой службе, когда не яблоку, но подсолнечному семячку некуда было упасть, найти себе свободную выщербинку, – кажется, уже ничто постороннее не могло отвлечь наши силы и интерес. А нашлось такое. И нашлись для него и силы и время.
Это было – авторство «Тихого Дона». Усумниться в нём вслух – десятилетиями была верная Пятьдесят Восьмая статья. После смерти Горького Шолохов числился Первым Писателем СССР, мало что член ЦК ВКП(б) – но живой образ ЦК, он как Голос Партии и Народа выступал на съездах партии и на Верховных Советах.
Элементы этой нашей новой работы сходились, сползались с разных сторон – непредумышленно, незаказанно, несвязанно. А попадя к нам, в межэлектродное узкое пространство – воспламенились.
Сама-то загадка – у нас на Юге кому не была известна? кого не занозила? В детстве я много слышал о том разговоров, все уверены были, что – не Шолохов писал. Методически никто не работал над тем. Но до всех в разное время доходили разного объёма слухи.
Меня особенно задел из поздних: летом 1965 передали мне рассказ Петрова-Бирюка за ресторанным столом ЦДЛ: что году в 1932, когда он был председателем писательской ассоциации Азово-Черноморского края, к нему явился какой-то человек и заявил, что имеет полные доказательства: Шолохов не писал «Тихого Дона». Петров-Бирюк удивился: какое ж доказательство может быть таким неопровержимым? Незнакомец положил черновики «Тихого Дона», – которых Шолохов никогда не имел и не предъявлял, а вот они – лежали, и от другого почерка! Петров-Бирюк, что б он о Шолохове ни думал (а – боялся, тогда уже – его боялись), – позвонил в отдел агитации крайкома партии. Там сказали: а пришли-ка к нам этого человека, с его бумагами.
И – тот человек и те черновики исчезли навсегда.
И самый этот эпизод, даже через 30 лет, и незадолго до своей смерти, Бирюк лишь отпьяну открыл собутыльнику, и то озираясь.
Больно было: ещё эта чисто гулаговская гибель смелого человека наложилась на столь подозреваемый плагиат? А уж за несчастного заклятого истинного автора как обидно: как все обстоятельства в заговоре замкнулись против него на полвека! Хотелось той мести за них обоих, которая называется возмездием, которая есть историческая справедливость. Но кто найдёт на неё сил!
Я не знал, что тем же летом 1965 в застоявшееся это болото ещё бросили смелый булыжник один: в моём далёком Ростове-на-Дону напечатана статья Моложавенко о Ф. Д. Крюкове.
А Дон был не только детским моим воспоминанием, но и непременной темой будущего романа. Через «Донца» (Ю. А. Стефанова) он лился густо мне под мельничное колесо, Ю. А. всё нёс и нёс, всё исписывал, исписывал для меня простыни листов своим раскорячистым крупным почерком. Он же первый и рассказал мне о статье Моложавенко и немного рассказал о Крюкове – я о нём в жизни не слышал раньше.
А совсем в другом объёме жизни, самом незначительном, где распечатываются бандероли с подарочными книгами, пришла работа о Грибоедове с надписью от автора Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. «Горе от ума» я очень любил, и исследование это оказалось интересным.
И ещё по другой линии, в перебросчивых и напористых рассказах и письмах Кью, тоже стала Ирина Николаевна выплывать: то как её подруга студенческих лет, то как и нынешняя ленинградская подруга (месяца на четыре зимних она приезжала в Ленинград, остальные в Крыму), и всегда – как женщина блистательного и жёсткого ума, и литературовед даровитый, в цвет своему умершему знаменитому мужу, с которым вместе готовила академическое издание Пушкина.
Знакомство наше произошло, вероятно, в зиму на 1967, И. Н. было уже под 65. Я собирал материалы для «Архипелага», Ирина же Николаевна была свидетельница высылки татар из Крыма. И у неё в кабинете странноватого писательского дома в Чебоксарском переулке (близ Спаса на Крови) мы просидели часа три, в кабинете со множеством книг – не по стенам только, но серединными полками, как в библиотеке. Один вид корешков показывал тут устойчивую давнюю культуру. Я записывал о Крыме 1944 года, потом неожиданно – о раскулачивании в 1930, затем и деревенские новгородские истории 20-х годов (оказалось, девушкой из самого образованного круга И. Н. вышла замуж за простого новгородского мужика Медведева и хорошо-хорошо жила с ним, так что даже за вторым прославленным мужем не хотела упустить фамилии первого); затем – поразительные, но вовсе не чернящие сведения об аракчеевских поселениях (в каких местах и живала она). Проявился и суровый характер И. Н. Прозвучала и тоска по гражданской прямоте, которой лишено было всё её поколение. Потом знакомился я с её дочерью-архитектором, и чего только мало было за весь визит – это литературных разговоров, и уж совсем ни слова о Шолохове, ни о донской теме.
Ум И. Н. действительно лился в речи, выступал из постаревших резковатых черт темноватого лица, – ум строгий, мужской. Она радушно меня принимала, и звала вот в этом ленинградском кабинете без неё работать, и в Гурзуф приезжать к ней работать (Крым она очень любила, написала и книгу о нём – «Таврида»); радушно, – а расположение не устанавливалось легко. Она была – твёрдый, властный человек, и это оттесняло остальное.
Прошёл год – прислала мне славную фотографию своей гурзуфской дачи на горе, и кипарисы вокруг. Фотография эта меня долго манила: кусочек свободного ласкового края, как я никогда не успеваю жить, – и там меня ждут, и там можно бы начать моё Повествование, к которому я продирался, продирался годами, вот-вот уже начну. Начинать – для этого и хорошо обновить все условия?
И в марте 1969 я поехал к И. Н. начинать «Красное Колесо». Это – ошибка была: начинать, да ещё чрезмерно трудное, неподъёмное, надо именно на старом привычном месте, чтобы никакие трудности не добавились, кроме самой работы, – а я понадеялся, наоборот, в новых условиях на новое настроение. Привыкнуть я там не мог, ничего не сделал, в три дня и уехал. Ещё стеснительно было для таких усидевшихся по своим берлогам своенравных медведей, как мы с И. Н., оказаться под одной крышей: она пыталась быть хозяйкой, я – через силу принимать гостеприимство, уставали мы быстро оба. Из работы не вышло ничего, из купаний ничего, холодно и далеко ходить, из блаженного отрешения ничего, и Крыма я смотреть не хотел ни минуты, рвался к работе, скорей и уехать. А всё событие истинное случилось на ходу: встретились меж комнат на веранде и стоя поговорили несколько минут, но – о «Тихом Доне». Не я ей – она мне сказала о статье Моложавенко и какой на неё ответ грозный был из Москвы. И, конечно, мы оба нисколько не сомневались, что не Шолохов написал «Тихий Дон». А я сказал – не ей первой, и не первый раз – то, что иногда говорил в литературных компаниях, надеясь кого-то надоумить, увлечь: доказать юридически, может быть, уже никому не удастся – поздно, потеряно, тем более открыть подлинного автора. Но что не Шолохов писал «Тихий Дон» – доступно доказать основательному литературоведу, и не очень много положив труда: только сравнить стиль, язык, все художественные приёмы «Тихого Дона» и «Поднятой целины». (Что и «Поднятую» писал, может быть, не он? – этого уж я досягнуть не мог!) Сказал – не призвал, не настаивал (хотя надежда промелькнула), сказал – как не раз говорил (и всегда безполезно: всем литературоведам нужно кормиться, а за такую работу не только не заплатят, а ещё голову оттяпают). Мелькучий такой, без развития был разговор, не в начале и не в конце моего трёхдневного житья.
Вскоре затем (не льщу себя, что – вследствие, потому что и в первых её словах уже была задетость этой литературной тайной, а просто – доработалось к тому её настроение) – решила И. Н. переступить через каторжную свою подчинённость второстепенным работам для заработка (не столько для себя, сколько для детей, уже взрослых), – и вскоре затем дала знать через Кью, что решила приступить к работе о «Тихом Доне». Спрашивала первое издание романа, его трудно найти, и кое-что по истории казачества, – ведь она нисколько не была знакома с донской темой, должна была теперь прочесть много книг, материалов по истории и Дона, и Гражданской войны, и донские диалекты, – но ей самой из библиотек спрашивать было ничего нельзя – обнаружение! С первого шага требовалась опять чёртова конспирация. А часть книг – вообще из-за границы, из наших каналов.
И работа началась. И кого ж было просить снабжать теперь «Даму» (раз конспирация, так и кличка, ведь ни в письмах, ни по телефону между собой нельзя называть её имя) всеми справками и книгами, если не Люшу Чуковскую опять? Ведь Люша всякий новый груз принимала, – и теперь вот ещё одна ноша поверх, увесистая.
Казачья тема была Люше совсем чужда, но и для этой чуждой темы она бралась теперь делать всю внешнюю организацию, так же незаменимую Ирине Николаевне, как и мне, из-за невылазного образа нашей жизни. Навалилось так, что и для «Дамы» Люша выполняла теперь – то в Ленинград, то в Крым, не близко – всю снабдительную и информационную работу. Правда, это оказалось смягчено принадлежностью И. Н. к тому же литературному московско-ленинградскому кругу, где Люша выросла, да больше: И. Н. хорошо помнила её покойного отца и саму её девочкой, это сразу создало между ними сердечные отношения. Взялась Люша – с прилежностью, с находчивостью, с успехом. Без неё книга «Стремя» не появилась бы и такая, как вышла.
И тут же произошло скрытное чудо. Надо было начаться первому движению, надо было первому человеку решиться идти на Шолохова – и уже двигались и другие элементы на взрывное соединение. Подмога подоспела к нам через Мильевну с её вечно лёгкой рукой. Дочь подруги её детства, Наташа Кручинина («Натаня» назвали мы её, многовато становилось среди нас Наташ), ленинградский терапевт, оказалась в доверии у своей пациентки Марии Акимовны Асеевой. И та открыла ей, что давно в преследовании от шолоховской банды, которая хочет у неё вырвать заветную тетрадочку; первые главы «Тихого Дона», написанные ещё в начале 1917 года в Петербурге. Да откуда же?? кто?? А – Фёдор Дмитриевич Крюков, известный (?? – не нам) донской писатель. Он жил на квартире её отца горняка Асеева в Петербурге, там оставил свои рукописи, архив, когда весной 1917 уезжал на Дон – временно, на короткие недели. Но никогда уже не вернулся, по развороту событий. Сходство тетрадки с появившимся в 20-е годы «Тихим Доном» обнаружил отец: «Но если я скажу – меня повесят». Теперь М. А. так доверилась Натане, что обещала ей по наследству передать эту тетрадку – но не сейчас, а когда умирать будет.
Это был конец 1969 года. Новость поразила наш узкий круг. Что делать? Оставаться безучастными? невозможно; ждать годы? – безумно – уж и так больше сорока лет висело это злодейство, да может, и допугают Асееву и вырвут тетрадку? И – так ли? Своими глазами бы убедиться! И – что там ещё за архив? И – от чьего имени просить? Называть ли меня? – облегчит это или отяжелит?
Самое правильное было бы – ехать просто мне. Но у меня – разгар работы над «Августом», качается на весах – сумею ли писать историю или не сумею? оторваться невозможно. Да я и навести могу за собою слежку. (Как раз были месяцы после исключения из СП и когда мне уезжать из страны намекали.)
Тогда надо было бы догадаться – послать человека донского (и был у нас Донец! – но он был крупен, заметен, говорлив, неосторожен, посылать его было никак). Вызвалась ехать Люша. Это была – ошибка. Но мы и Акимовну саму ещё не представляли. Надеялась Люша, что марка Чуковских вызовет и достаточно доверия и недостаточно испуга. Может быть. (Как выяснилось, моей фамилии Акимовна почти и не знала в тот год, лишь позже прочла кое-что.)
Люша вернулась и безуспешно и безрадостно: женщина, де, – капризная, сложная, договориться с ней вряд ли возможно, хотя открытую часть крюковского архива готова была бы, кажется, передать на разборку, 50 лет это почти не разбиралось, её тяготит. Решили мы снарядить вторую экспедицию: Диму Борисова. Вот с него-то, наверно, и надо было начинать. Он был хотя не донец, но сразу вызвал доверие Акимовны, даже пели они вместе русские песни, и склонил он её – архив передать нам. Но само взятие – не одна минута, набиралось три здоровенных рюкзака, понадобилась ещё третья экспедиция – Дима вместе с Андреем Тюриным. Привезли – не в собственность, а на разборку – весь оставшийся от Крюкова архив. А тетрадочку, мол, – потом… Мы уж и не настаивали, мы и так получали богатство большое. Это был – и главный и, вероятно, единственный архив Крюкова. Позже того следовали у автора – три смятенных года и смерть в отступлении белых.
Имея большой опыт содержания архива своего деда, Люша предполагала, что и этому архиву даст лад. Но – лишь самая внешняя классификация оказалась ей под силу. Это был архив – совсем непохожий, непривычная литературная общественность и непривычные темы в нём: и имена, и места, и обстоятельства все неясные, да ещё и при почерке не самом лёгком.
Но тут-то и вступил в работу – Донец! Уж он-то – как ждал всю жизнь этого архива, как жил для него. Накинулся. Как всегда, не зная досуга и воскресений и себя не помня, – он за год сделал работу троих, до подробностей (ещё многое выписывая себе), и представил нам полный обзор структуры и состава. (Всё это требовало многих встреч и передач. Архив был сперва у Гали Тюриной, потом частью перевозился к Люше, помалу относился к Донцу и обратно, частью отступил потом к Ламаре (на бывшую «бериевскую» квартиру), – ведь мы и тут должны были скрываться по первому классу, и открытой конторы не было у нас никогда.)
По мере того как материалы открывались – всё, что могло пригодиться Даме, надо было предлагать Даме (а она больше была в Крыму, не в Ленинграде, а наши материалы не для почты). А что-то надо было и мне – как собственно донская тема и свидетельство очевидца незаурядного. (А я – и принять уже не мог. Я так был полон напитанным, что потерял способность абсорбции. И интересно было в Крюкова вникнуть, и уже не помещалось никуда. Люше пришла счастливая мысль, сразу мною принятая: Крюкова – автор ли он «Тихого Дона», не автор, – взять к себе персонажем в роман – так он ярок, интересен, столько о нём доподлинного материала. Какой прототип приносит с собой столько написанного?! Я – взял, и правда: для сколького ещё место нашлось! И как потяжливо: в донскую тему войти не собственной неопытностью, но – через исстрадавшегося дончака.)
Ирина Николаевна получала свежие донские материалы – и гипотеза у неё вырабатывалась. В зимний приезд, наверное в начале 1971, она привезла с собой три странички (напечатанные как «Предполагаемый план книги»), где содержались все главные гипотезы: и что Шолохов не просто взял чужое, но – испортил: переставил, изрезал, скрыл; и что истинный автор – Крюков.
Да, в этом романе – и нет единой конструкции, соразмерных пропорций, это сразу видно. Вполне можно поверить, что управлялся не один хозяин.
У И. Н. даже и по главам намечалось отслоение текста истинного автора. И даже взята была задача: кончить работу воссозданием изначального текста романа!
Могучая была хватка! Исследовательница уже вначале захватывала шире, чем ждали мы. Да только здоровья, возраста и времени досужного не оставалось у неё: опять надо было зарабатывать и зарабатывать. А мы – сами сидели без советских денег, от валютных же переводов от подставных лиц с Запада И. Н. отказалась, и мы не сумели в 1972–73 годах освободить её от материальных забот. А то бы, может быть, далеко шагнула бы её книга.
Поначалу вывод, что автор «Тихого Дона» – мягкий Крюков, разочаровывал. Ожидалась какая-та скальная трагическая фигура. Но исследовательница была уверена. И я, постепенно знакомясь со всем, что Крюков напечатал и что заготовил, стал соглашаться. Места отдельные рассыпаны у Крюкова во многих рассказах почти гениальные. Только разводнены пустоватыми, а то и слащавыми соединениями. (Но слащавость в пейзажах и в самом «Тихом Доне» осталась.) Когда ж я некоторые лучшие крюковские места стянул в главу «Из записок Фёдора Ковынёва» – получилось ослепительно, глаз не выдерживает.
Я стал допускать, что в вихревые горькие годы казачества (а свои – последние годы) писатель мог сгуститься, огоркнуть, подняться выше себя прежнего.
А может быть, это – и не он, а ещё не известный нам.
Из разработанного архива, по желанью Марьи Акимовны, наименее ценную часть мы сдали (подставив бойкую Мильевну) в Ленинскую библиотеку и полученные 500 рублей переслали Акимовне. Эта сдача была промах наш: и – мало нам дали, неловко перед Акимовной, и – раскрыли мы след, что где-то около нас занимаются Крюковым. Но: давили нас объёмы и вес, держать-то было трудно, негде.
В июне 1971 я был в Ленинграде и пришёл к М. А. Встреча у нас была хорошая. Акимовна оказалась женщиной твёрдой, по-настоящему несгибчивой перед большевиками, не простившей им ничего, и ни болезни, ни семейные беды (бросал её муж) не ослабили её волю. Она действительно хотела правды о Доне и правды о Крюкове. Пили у неё донское вино, ели донской обед, – мне казалось, она и в мою надёжность поверила. А я – поверил в её тетрадку, что есть она. Только оставалось – привезти её из-за города, из Царского Села, «от той старухи, которая держит» (потому что к самой М. А., как слушка когда-то не удержала, являются, де, от Шолохова то с угрозами, то с подкупом). Обещала – достать к моему отъезду.
Однако не достала. («Старуха не даёт».) Пожалел я. И опять засомневался: может, нет тетрадки? Но зачем тогда так морочить? Не похоже.
Ещё одной женщине, Фаине Терентьевой, знакомой по амбулатории, – не равноопаслива была М. А. в доверенностях! – она даже рассказала, как уже хотела мне отдать тетрадочку, да побоялась: ведь я – под ударом, ведь за мной следят, отнимут тетрадку. Роковая ошибка! – хотя и взвесить ей трудно: где опасней? где безопасней, правда? Роковая, потому что мы бы дали фотокопии в публикацию вместе с образцами крюковского почерка и, если бы наброски реально походили б на начало «Тихого Дона», – Шолохов был бы срезан начисто, и Крюков восстановлен твёрдо. А теперь М. А. осталась зажата со своей тетрадкой и рада б её кому протянуть, – поздно: понимая вес доказательства, могучее Учреждение сменило соседей М. А. по коммунальной квартире (точно как с Кью!), поселило своих, и теперь, по сути, Акимовна – в тюрьме, каждый шаг её под контролем. – Это закончание истории я узнал от Фаины Терентьевой в июле 1975 года в Торонто, куда она эмигрировала и написала мне: давала мне М. А. тетрадку, я побоялась взять, как теперь вызволить?..
Никак. Только если М. А. не сойдёт с ума в осаде, сумеет выстоять ещё годы и годы[87].
Ну что ж, не получили тетрадки – ждали самого исследования. Однако оно шло медленно: завалена была И. Н. скучной утомительной, но кормящей договорной работой. При проезде Москвы она видалась со мной и с Люшей, давала мне читать наброски глав, Люша или Кью в Ленинграде перепечатывали их с трудного почерка, со множества вставок, – чужому ведь и дать нельзя.
Последний раз мы виделись с И. Н. в марте 1972 – в Ленинграде, снова в том кабинете, где познакомились и где она предлагала мне работать. (Теперь так сгустились времена – отяготительно было, что я в дверях натолкнулся на какую-то писательскую соседку, могла узнать, могло поплыть – что мы связаны. Плохо.) Болезнь резче проступила в чертах И. Н., но держалась она несокрушимо, крепко, по-мужски, как всегда. Сама начала такой монолог: что она будет отвечать, если вот придут и найдут, чем она занимается. (Я-то и забыл о такой проблеме, все черты давно переступив, а ведь каждому достаётся когда-то первую переступить – и как трудно.) Готовилась она теперь отвечать – непреклонно и в себе уверенно. Не подписывала она петиций, ни с кем не встречалась, – в одинокой замкнутости проходила свой путь к подвигу.
Незадолго до всей развязки всё та же Мильевна подбросила нам ещё поленца в огонь. Настояла, чтоб я встретился у неё со старым казаком, хоть и большевиком, но также и бывшим зэком, – он хочет мне дать важные материалы о Филиппе Миронове, командарме 2-й Конной, у кого был комиссаром полка. Я пришёл. Оказалось, недоразумение: С. П. Стариков собрал (в доверии у властей, из закрытых архивов) много вопиющих материалов – не только о своём любимом Миронове, кого загубил Троцкий, но и об истреблении казачества большевиками в Гражданскую войну. Хотел же он увековечить Миронова отдельной книгой, да написать её сам не мог. И вот теперь предлагал мне без смеха: работать у него «негром»: обработать материалы, написать книгу, он её подпишет, издаст, а из гонорара со мной расплатится. Я сказал: отдайте мне материал – и Миронов войдёт в общую картину эпохи, всё постепенно. Нет. Так бы недоразумением и кончилось. Но, уже расставаясь, поговорили о смежном, и оказалось: Миронов – одностаничник и лучший друг Крюкова в юности, и сам Стариков из той же станицы Усть-Медведицкой, и не только не сомневается, что Шолохов украл «Тихий Дон» у Крюкова (Шолохова в 15 лет он видел в Вёшенской совсем тупым, неразвитым мальчишкой), но даже больше знает: кто «дописывал» «Тихий Дон» и писал «Поднятую целину», – опять-таки не Шолохов, но тесть его Пётр Громославский, в прошлом станичный атаман (а ещё перед тем, кажется, дьякон, снявший сан), но ещё и литератор; он был у белых, оттого всю жизнь потом затаясь; он был близок к Крюкову, отступал вместе с ним на Кубань, там и похоронил его, завладел рукописью, её-то, мол, и дал Мишке в приданое вместе со своей перестаркой-дочерью Марией (жениху было, говорил, 19 лет, невесте – 25). А после смерти Громославского уже никак не писал и Шолохов[88].
Переговоры мои со Стариковым вспыхнули ещё раз в последние месяцы, в грозную для нас осень 1973. Сообщила Мильевна: Стариков умирает, хочет мне всё отдать, просит приехать скорей. Я приехал. Нет, от сердечного припадка оправясь, он не слишком готовился к смерти, но возобновил со мной те же занудные переговоры. Я – о своём: дайте мне использовать мироновские материалы в большой эпопее. Он, уже предупреждён и насторожён: вы, говорят, советскую историю извращаете. (Это – Рой Медведев и его коммунистическая компания: ведь старик-то в прошлом большевик! Почти тут же вослед он отдаст все материалы Рою, так и возникнет книга того о Доне, о котором Рой за прежнюю жизнь, может быть, и пяти минут не думал.) Всё же согласился Стариков дать мне кое-что на короткое время взаймы. Куй железо, пока горячо! Надо – хватать, а кому брать? Много ли рук у нас? Аля – с тремя младенцами на руках. Всё та же Люша опять, едва оправясь, не до конца, от своего сотрясенья при автомобильной аварии. Она поехала к Старикову, с важным видом отбирала материалы, не давая ясно понять, что нас интересует, он ей дал на короткий срок, потом позвонил, ещё укоротил, – пришлось сперва на диктофон, двойная работа, – уж Люша гнала, гнала, выпечатывала (ксерокопия ведь у нас недоступна!). Материал был действительно сногсшибательный. Но и Стариков на пятки наседал: спохватился и требовал – вернуть, вернуть! (А когда уже выслали меня – приходил к Але и настаивал взятые выписки тоже ему вернуть: откроются на границе, а кто брал из тайных архивов? – Стариков.) В общем, на историю поработал Сергей Павлович, молодец!
В ту осень сгрудилось всё: провал «Архипелага» – и встречный бой – и смерть Кью – и тревога, что Кью могла открыть всю линию «Тихого Дона» (Ирину Николаевну она видела в Гурзуфе, последняя из нас, – да ведь как! таскала к И. Н. и того «поэта Рудякова», прилипшего к ней в Крыму, и это могло стать роковой наводкой).
Ирина Николаевна, тем летом только что прошедшая своё 70-летие вместе с дочерью и сыном, в начале сентября после их отъезда одна в Гурзуфе – услышала по западному радио о провале «Архипелага» и смерти Е. Д., и стался у неё инфаркт. (Мы не знали.) Но, при железном её характере, вывод она сделала: не прятать рукописей и не прекращать работу, но напротив: собрать силы и доканчивать! С несравненной волей своей именно сейчас, когда она лежала пластом, когда для неё был труд – протянуть руку за книгой, – теперь-то она и работала, и навёрстывала в тайном труде. На сентябрь звала к себе в гости Люшу – значит, усиленно помогать. Но Люша едва держалась на ногах сама после аварии. Так ещё и эта катастрофа помешала окончанию «Стремени».
Именно и опасаясь, что Кью на допросах рассказала о работе И. Н. и ту захватят над рукописями, Люша теперь попросила Екатерину Васильевну Заболоцкую, 60-летнюю вдову поэта, которая хорошо знала И. Н., – ехать к ней, помочь, увезти бумаги из дому. Е. В., покинув четырёх внуков, с решимостью тотчас полетела в Крым. Она и застала Ирину Николаевну после инфаркта, но не прекращающую работу, – и осталась при ней, ухаживать. И прожила там месяц, пока нужды внуков не вызвали её вернуться в Москву. Она привезла долю работы И. Н.
Дочь И. Н. из Ленинграда наняла в Гурзуфе к матери приходящую медсестру. Был, разумеется, и постоянный врач. И. Н. по телефону тревожилась, цела ли её ленинградская квартира (…нет ли обыска?).
И тут – известие о смерти Ирины Николаевны. Е. В. Заболоцкая сама предложила: снова лететь в Гурзуф, спасать остатки рукописей, которые она просила врача взять к себе в случае смерти И. Н. В той тревожной обстановке, для безопасности, надо было ехать вдвоём. С кем же? Спутницей для Заболоцкой взялась быть всегда подвижная Н. И. Столярова. (Предстояла неизбежная ночёвка в Симферополе, а в такое время невозможно было им регистрироваться в гостинице, да в гостиницах и мест нет, вот ещё постоянное осложнение конспирации под коммунизмом. Я вспомнил дом в Симферополе, где мы с Николаем Ивановичем когда-то жгли «Круг первый», написал записку наудачу. Переночевать пустили, хотя изумились, строго записали их фамилии, потом говорили Николаю Ивановичу; но так и не узнали Зубовы – кто ездил, зачем; хлестнул к ним от меня 20-летний дальний хвост тайных затей, когда-то начинаемых сообща.) А съездили – зря: врач ничего им не передал, а неясно говорил, что был поджог сарая близ дачи И. Н., и вообще, есть вещи, о которых он не может рассказать. Обстоятельства смерти И. Н. остались загадочны для нас. Так и не уверены мы, что имеем все написанные фрагменты её работы.
Итак, что получили прежде – только то и пошло в пополнение книги. Совсем немного. За два года мало исполнилось из первоначального чёткого смелого плана И. Н. Если бы Люша была здорова и поехала бы в сентябре – может быть, успели бы ещё главы две вытянуть из неразборных черновиков. Нет, заколдован был клад «Тихого Дона»[89].
Так налегла на нас – трудным долгом – вся эта боковая донская линия, что и последние месяцы, сами перед петлёй, мы всё дотягивали и дотягивали её. То привезли к нам из Риги хорошие фотокопии всего первейшего издания «Тихого Дона», которое в последующие годы полномочные редакторы сильно исчеркали, в 10 перьев (даже, говорят, и Сталин правил сам; на издании 1948 г. замечание: «под наблюдением редактора Чурова Г. С.»; говорят, будто это и есть Сталин). То – дорабатывал я своё предисловие к «Стремени», уж в самые последние дни перед высылкой, в Переделкине. То – компановал страничку публикации из разных обрывчатых записей И. Н. (Из Дона и из «Дамы» составил я для исследователя эту букву Д* – Ирина Николаевна выбирала псевдоним из моего списка донских фамилий, но так и не выбрала.)[90]
Настойчивое чувство вошло в мою душу, что надо полностью отделить архив Крюкова, для сохранности его, и всё, что касается «Тихого Дона», – ото всего моего имущества. И за 10 дней до высылки – пожалуй, последний визит, какой я сделал на родине, – была поездка к Елене Всеволодовне Вертоградской, за Крестьянскую заставу, где собрала она несколько молодых, и надо было решить, кто возьмёт архив «Тихого Дона». Взялись Георгий Павлович и Тоня Гикало. И сразу вослед, за несколько дней, Саша Горлов, к тому времени уже изгнанный со всех работ, перебросил им архив Крюкова. Как раз успели! Арестованный, я знал, что этот архив – спасён.
В Москве у Ильи Обыденного служили панихиду по Ирине Николаевне. Мне – никак нельзя было появиться, Люша же с Зоей Томашевской открыто как бы дружила – и пошла. Но раньше того, от последней поездки к И. Н., передала она такую мечту: хотела И. Н., чтобы когда-нибудь кто-нибудь отслужил по ней панихиду в женевской церкви Воздвижения, где когда-то её крестили. Да кому ж поручить? Кто это когда попадёт в Женеву? А сам же я – и попал, вскоре…
Мы с Алей приехали в Женеву в октябре 1974, – правда, в вечер буднего дня, не должно было службы быть ни в этот день, ни в следующий, никакого праздника. Но пошли под дождём наудачу – к дверям прикоснуться. А за дверьми-то – поют. Мы вошли. Оказалось: завтра – отдание Воздвижения, именно здесь отмечается в связи с престолом!
Наутро после обедни архиепископ Антоний Женевский служил панихиду по нашей просьбе. Я написал: Ирина, Фёдор…
Каменная, приглядная, лепая церковь. Осеннее солнце просветило в окнах. Относило ладанный дым. Маленький хор пел так уверенно, так ретиво, это «со святыми упокой» – душу рвало из груди, я слёз не мог удержать. Повторялись, повторялись имена их соединённо – возносил о них архиепископ, возносил хор. Сплелись их судьбы – злосчастного донского автора и его петербургской заступницы – над убийствами, над обманами, над всем угнетением нашего века.
Пошли им, Господи, рассудливой правды. Отвали давящий камень от их сердец.
1974–1975
Цюрих
Приложения
[1]
15 ноября 1966
Многоуважаемый С. Комото!
Я очень тронут Вашим любезным предложением обратиться в новогодних номерах к японским читателям. Все три издания «Одного дня Ивана Денисовича» на японском языке у меня есть. Не имея возможности оценить переводы, я восхищён внешним видом изданий.
До сих пор я отказывался давать какие-либо интервью или обращения к читателям газет. Однако с недавнего времени я пересмотрел это решение. Вы – первый, кому я это интервью даю.
Отвечаю на Ваши вопросы.
1. (Как я расцениваю отзывы читателей и критиков на мои произведения.)
Лавина читательских писем после первого опубликования моих произведений была для меня пока одним из самых трогательных и сильных переживаний всей моей жизни. Много лет я занимался литературной работой, не имея совсем никаких читателей, даже измеряемых одним десятком. Тем более ярким было это живое ощущение читающей страны.
2. (Что бы я мог сказать о «Раковом корпусе».)
«Раковый корпус» – это повесть объёмом в 25 печатных листов, состоит из двух частей. Часть 1-ю я закончил весной 1966, но ещё не сумел найти для неё издателя. Часть 2-ю надеюсь закончить вскоре. Действие повести происходит в 1955, в онкологической клинике крупного южного советского города. Я сам лежал там, будучи при смерти, и использую свои личные впечатления. Впрочем, повесть – не только о больнице, потому что при художественном подходе всякое частное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, «связкой плоскостей»: множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в избранной точке.
3. (Мои творческие планы.)
Отвечать на такой вопрос имеет смысл писателю, который уже напечатал и представил на сцене свои предыдущие произведения. Со мной не так. До сих пор не напечатаны мой большой роман («В круге первом»), некоторые мелкие рассказы, не поставлены мои пьесы («Олень и шалашовка», «Свет, который в тебе»). При таких обстоятельствах как-то нет желания говорить о «творческих планах», они не имеют реального значения.
Наиболее влекущая меня литературная форма – «полифонический» роман (без главного героя, где самым важным персонажем является тот, кого в данной главе «застигло» повествование) и с точными приметами времени и места действия.
4. (Моё отношение к Японии, японскому народу, его культуре.)
Я стремлюсь всегда писать плотно, то есть вместить густо в малый объём. Как мне со стороны и издали кажется, эта черта является одной из важных в японском национальном характере, – само географическое положение воспитало её в японцах. Это даёт мне ощущение «родственности» с японским характером, хотя никаким специальным изучением японской культуры это у меня никогда не сопровождалось. (Исключение представляет философия Ямага Соко, с которой даже поверхностное знакомство произвело на меня неизгладимое впечатление.) Большую часть жизни то лишённый свободы, то занятый математикой и физикой, которые одни давали мне средства к существованию, я остаток времени отдавал собственному литературному труду и поэтому оказался мало осведомлен о событиях современной мировой культуры, мало знаю современных зарубежных авторов, художников, театр и кино. Это относится и к Японии. Мне удалось побывать только на одном японском спектакле (театра кабуки) и повидать только три японских фильма. Из них сильное впечатление оставил «Голый остров».
Я глубоко уважаю незаурядное трудолюбие и талантливость японского народа, проявляемые им в постоянно нелёгких природных условиях.
5. (Как я смотрю на обязанности писателя в деле защиты мира.)
Я понимаю этот вопрос более широко. Борьба за мир есть только часть из обязанностей писателя перед обществом. Никак не менее важна и борьба за социальную справедливость и упрочение духовных ценностей в своих современниках. Именно с отстаивания нравственных ценностей в душе каждого только и может начинаться плодотворное отстаивание мира.
Воспитанный в традициях русской литературы, я не могу себе представить своего литературного труда без этих целей.
Желаю японским читателям счастливого Нового года!
А. Солженицын
[2]
ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(вместо вступления)
В президиум Съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов
16 мая 1967
Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить:
I. то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.
Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.
За нашими писателями не предполагается, не признаётся права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, – запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.
Отличные рукописи молодых авторов, ещё никому не известных имён, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется в свет в искажённом виде.
А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина и Ремизова. Тут есть разрешающий момент – смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер – и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях.
Воистину сбываются пушкинские слова:
Они любить умеют только мёртвых!Но позднее издание книг и «разрешение» имён не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несёт наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов – Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности и на особые свойства Сталина, – однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях «пропустят – не пропустят», «об этом можно – об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь – косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи её идут не в чтение, а в утильсырьё.
Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого и в начале нынешнего века, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бедней, площе и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если б её не ограничивали и не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми нестеснёнными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом – всё мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем идёт, приобрело бы новую устойчивость, взошло бы даже на новую художественную ступень.
Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой – явной или скрытой – цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист.
II. …обязанности Союза по отношению к своим членам.
Эти обязанности не сформулированы чётко в уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за треть столетия плачевно выявилось, что ни «других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.
Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того – личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Андрей Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, – но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключённых из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чьё преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артём Весёлый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было более шестисот – ни в чём не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот ещё длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтётся нашими глазами: в нём записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времён Ягоды-Ежова-Берии-Абакумова.
Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять со старыми руководствами ответственность за прошлое.
Я предлагаю чётко сформулировать в пункте 22-м устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, – с тем чтобы невозможно стало повторение беззаконий.
Если Съезд не пройдёт равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:
1. Мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его редакционное движение. Напротив, ещё при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Добиться публичного чтения, открытого обсуждения романа, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах. Мой роман показывают литературным чиновникам, от большинства же писателей прячут.
2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда обречённые на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей никто не выступил против репрессий), давно покинутая, эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.
3. Уже три года как ведётся против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награждённого боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник, или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведётся на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимающими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление ССП РСФСР и в печать: Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Напротив, в последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, использует искажённые материалы конфискованного архива, – я же лишён возможности на неё ответить.
4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнута в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Простором» и «Звездой»).
5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.
6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», «Как жаль», серия крохотных) не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.
7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельною книгою ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, «Библиотека Огонька») и таким образом недоступны для широкого читателя.
8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочесть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).
Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана.
При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав – возьмётся или не возьмётся IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.
Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но может быть, многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни?
Это ещё ни разу не украсило нашей истории.
А. Солженицын
[3]
В Секретариат Правления Союза писателей СССР
Всем секретарям Правления
12 сентября 1967
Моё письмо IV съезду Союза писателей, хотя и поддержанное более чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразные, по-видимому централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но всё это – ложь, как вы знаете.
Секретари Правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 заявили, что Правление считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах агитаторов обо мне распространяется новый фантастический вздор – вроде того, что я бежал в Арабскую республику, не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорей). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобождён оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования.)
Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос», по крайней мере, о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о её печатании. В этом странном равновесии – без прямого запрета и без прямого дозволения – моя повесть существует уже более года, с лета 1966. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения.
Думает ли Секретариат, что от такой безконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать и не надо уже будет голосовать о включении или невключении её в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить её печатать, если мы хотим её появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не сможем остановить её неконтролируемого появления на Западе.
После многомесячной безсмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдёт, то по явной вине (а может быть, и по тайному желанию?) Секретариата Правления СП СССР.
Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно!
Солженицын
[4]
ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
22 сентября 1967
Присутствовало около 30 секретарей СП и т. Мелентьев из отдела культуры ЦК. Председательствовал К. А. Федин. Заседание по разбору писем писателя Солженицына началось в 13 часов, окончилось после 18 часов.
Федин: Второе письмо Солженицына меня покоробило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца – совсем небольшой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной. Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком браться за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжается линия первого, но там более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печатании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его тон в непозволительную сторону. Читая письмо, ощущаешь его как оплеуху, – мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов, своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашёл я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что надо говорить в общем по письмам.
Солженицын просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:
«Мне стало известно, что для суждения о повести “Раковый корпус” секретарям Правления предложено было читать пьесу “Пир победителей”, от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры, кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза писателей Солженицыным, а безфамильным арестантом Щ-232 в те далёкие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой пьесе отпечаталась безвыходность лагеря тех лет, где сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор её есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести “Раковый корпус”.
Кроме того, недостойно писательской этики – обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры таким способом.
Разбор же моего романа “В круге первом” есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести “Раковый корпус”».
Корнейчук: У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от неё не отмежуется? Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать ещё до съезда?
Федин предлагает Солженицыну ответить.
Солженицын отклоняет: он – не школьник вскакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.
Федин говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.
Баруздин: Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы «Пир победителей», но нам волей-неволей приходится говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу съезду, упоминать её?
Салынский: Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъял эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?
Федин предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.
Солженицын повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.
Федин, поддержанный другими: Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.
Ропот голосов: Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.
Солженицын: Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио до съезда: его стали передавать уже после закрытия съезда, и то не сразу. Здесь употребляют слово «заграница», и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть, это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет – узнавать её. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с её общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь – земля отечества, только её боль я слышу, только о ней пишу.
Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута в письме съезду? – это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал. Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим ещё человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не моё нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Всё это – ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже не выставлялось. Хранение моё было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушиванием в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия – она единым толчком обнаруживается в разных местах страны: лектор Потёмкин только что изложил её многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП – московским писателям. Причём от себя он добавил и своё измышление: что всё это я будто бы признал на прошлой встрече в Секретариате. А об этом у нас и разговора не было. Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии.
Вопрос: Отвергнута ли редакцией «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?
Абдумомунов: Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?
Твардовский: Вообще, решение печатать или не печатать ту или иную вещь – в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.
Воронков: Солженицын ни одного раза не обращался непосредственно в Секретариат Союза писателей СССР. После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы – поговорить и помочь. Но после того как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует…
Твардовский: Ну точно как Союз писателей!
Воронков: …это желание отпало. А тут вот появилось второе письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», дававшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот – я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи – ваши и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы естественно сами запросили – почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления, – так и печатайте сами, при чём тут Секретариат?
Твардовский: А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали – и всё равно не напечатали.
Воронков: Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?
Мусрепов: И у меня вопрос: как это он пишет в письме: более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?
Шарипов: И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?
Федин предлагает Солженицыну ответить на заданные вопросы.
Солженицын: Да то ли ещё обо мне говорили! Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, он бы тогда же приговорил меня к расстрелу!.. Здесь моё второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или её на Западе напечатают. Но этот ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня безпокоит распространение повести в сотнях – цифра эта на глазок, я её не подсчитывал – в сотнях машинописных экземпляров.
Голос: Как это получилось?
Солженицын: А вот такое странное свойство обнаружилось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать – за счёт своего досуга или своих средств перепечатывают и дают читать дальше. Первую часть повести ещё год назад перечитала московская секция прозы, удивляюсь, почему тут т. Воронков сказал – не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетелись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказики и там уже напечатаны. Вот чтобы такая утечка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал своё настоятельное письмо Секретариату. Я не меньше могу удивляться, как мог Секретариат нисколько не реагировать на моё письмо съезду – ещё прежде Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Товарищ Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клевещут на меня.
Твардовский: Не все безучастны.
Солженицын: А редакторы газет, тоже братья, не помещают моих опровержений. Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: её не пропускали в лагеря, изымали обысками и сажали за неё в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили «Один день Ивана Денисовича» и обещали, что «это не повторится». Но за последнее время книгу стали тайно изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать её мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплёте, или на руках, или доступа нет к тем полкам, и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма:
«В районной библиотеке мне по секрету (я – активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь «Один день» в журнале-газете, другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: «Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в особый отдел, то опасно её кому-нибудь дарить».
Не скажу, что книга изъята изо всех библиотек, кое-где ещё есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в рязанской областной читальне: им отнекивались разными способами, да так и не дали.
Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте, но когда столкнёшься с клеветою сам, да ещё с невиданной новой формой её – клеветою с трибуны, то диву даёшься. Безпрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например в Болшеве, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же всё записывается в блокноты и разносится дальше с коэффициентом сто. И это рядом со столицей! Есть и другой вариант. В Соликамске (п/я 389) майор Шестаков объявил, что я бежал по туристской путёвке в Англию. Говорит заместитель по политчасти – кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально запрещено писать! Ну, тут он хоть близок к истине.
Ещё так обо мне заявляют с трибун: «его освободили досрочно, а зря». Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату…
Твардовский: И там боевая характеристика офицера Солженицына.
Солженицын: А вот «досрочно» – это очень смачно употреблено! Сверх восьмилетнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем без приговора получил вечную ссылку, с этой вечной обречённостью просидел три года в ссылке, только благодаря XX съезду освобождён, – и это называется «досрочно»! Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949–53 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз – значит, освобождён «досрочно»… Ведь срок – вечность, и что раньше – то всё досрочно.
Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комичных, обвинений было такое: «Солженицын материально поддерживает капиталистический мир тем, что не берёт гонорара» какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно «Ивана Денисовича», другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал, – почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. «Международная книга»? Иностранная Комиссия СП? – сообщите: вот, мол, твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берёт гонорары с Запада – тот продался капиталистам, кто не берёт – тот их материально поддерживает. А третий выход? – на небо лети. Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы Всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли её дальше. Например, её повторил 16 июля этого года лектор А. А. Фрейфельд в свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! – умудрился, не выходя из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки, – материально укрепить мировой капитализм. (Действительно, история для цирка.) Вот такую чушь обо мне безпрепятственно рассказывает всяк кому не лень.
12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование – тихое, мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время – и вдруг слухи по всей Москве, всё рассказывается не так, как было, всё вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто были, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что тут говорится, но где гарантия, что и после сегодняшнего секретариата опять всё не вывернут наизнанку? И если уж «братья по перу и труду», так первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.
Я – один, клевещут обо мне – сотни. Я конечно не успею никогда оборониться и вперёд не знаю – от чего. Ещё меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костёр Джордано Бруно, не удивлюсь.
Салынский: Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать – это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель невольно поддаётся раковой боязни, и без этого распространённой в нашем веке. Это надо как-то убрать. Ещё надо убрать фельетонную хлёсткость. Ещё огорчает, что почти все судьбы персонажей в той или иной форме связаны с лагерем или лагерной жизнью. Ну, пусть Костоглотов, пусть Русанов, – но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату? В самом конце мы узнаём, что он – не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжёлого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал безнравственный социализм – это было бы ужасно. Если бы он проповедовал национал-социализм или национальный социализм по-китайски – это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии. Сам я думаю – социализм определяется экономическими законами. Но спорить – можно, зачем же не печатать повести? (Далее призывает Секретариат решительно выступить с опровержением клеветы против Солженицына.)
Симонов: Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» – я за публикацию. Мне не всё нравится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть, что-то из делаемых замечаний автору надо и принять. А всё принять конечно невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить, – и вот там-то, в предисловии, будет хороший повод рассказать его биографию – и так клевета отпадёт сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем мы – а не он сам. «Пира победителей» я не читал, и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.
Твардовский: Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, непринятую форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин не печатать «Ракового корпуса», конечно с известными доработками. Мы хотели только получить одобрение Секретариата или хотя бы – что Секретариат не возражает. (Просит Воронкова достать уже прежде подготовленный, ещё в июне, проект коммюнике Секретариата.)
Воронков не спешит достать коммюнике. Тем временем –
Голоса: Да ведь ещё не решили! Есть и против!
Федин: Нет, это неверно. Секретариат не должен ничего печатать и опровергать. Неужели мы в чём-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?
Твардовский (быстро, выразительно): Я?? – нет.
Федин: Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи – недостаточный повод. Другое дело, если Солженицын сам найдёт повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах чего мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ – вот мы его и напечатаем, поможем вам. Именно с этого должно начаться ваше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли – сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопись – три месяца? четыре? Разве это страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях.
(Одобрение среди членов Секретариата.)
Корнейчук: Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тяжёлого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответа. Отдаёте ли вы себе отчёт: идёт колоссальная мировая битва, и в очень тяжёлых условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем своё правительство, свою партию, свой народ. Вы тут иронически высказались о заграничных поездках как о приятных прогулках, а мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измотанные, изнурённые, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других людей в лагерях кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря – и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления – только прокурорские. «Пир победителей» – это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ её читает! Вы сидели там когда? Не в 37-м году! А в 37-м нам приходилось переживать!! – но ничто не остановило нас! Правильно сказал вам Константин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие и, несмотря на все наши мирные усилия, Соединённые Штаты могут его применить? Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?
Солженицын: Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы он был исключён из рассмотрения!
Сурков: На чужой роток не накинешь платок.
Кожевников: Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз о серьёзности отношения Секретариата к письму. Если бы мы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острей и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что это за антисоветские рукописи. И потратили много времени на их чтение. По-видимому, документально доказана военная судьба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» ещё не совпал с моим восприятием этой пьесы. Может быть, потому, что в «Круге первом» и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрёниного двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение от обилия натурализма, от нагнетения всевозможных ужасов, но всё-таки главный план его – не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы вымогаете публикацию своей недоработанной повести. Достойно ли такое вымогательство писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.
Солженицын: Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную безсмыслицу обсуждать произведение, написанное двадцать лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, – часть ораторов сосредотачивается именно на этом произведении. Это гораздо безсмысленнее, чем, например, на 1-м съезде писателей поносить бы Максима Горького за «Несвоевременные мысли» или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь были опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что такого не было и не будет, и в истории русской литературы такого не было. Вот именно!
Озеров: Письмо съезду оказалось политически страшным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти при условии исправления рукописи и дискуссии по проведенным исправлениям. Тут предстоит ещё очень серьёзная работа. Повесть разнослойна по качеству, есть в ней и удачи и неудачи. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить, философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.
Сурков: Я тоже читал «Пир победителей». Её настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же. Кто изо всех персонажей вошёл в мир героя? Только этот странный Шулубин, так же похожий на коммуниста, как я на… Шулубин, с его безконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьёва, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражаетесь, вышку, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта – не физиологическая, это – политическая повесть, и упирается всё в вопросы концепции. И потом этот идол на Театральной площади, – хотя памятник Марксу ещё не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть поднята против нас и будет посильнее мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы упредить появление повести на Западе, но – трудно. Вот я был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать «Реквием», походил он несколько недель – и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и настолько искушён, что его никакая книжка не уведёт от коммунизма, а всё-таки произведения Солженицына для нас опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын – с живым, боевым, идейным темпераментом, это – идейный человек. Мы – первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамён! «Нравственный социализм» – это довольно обывательский социализм, старый, примитивный, и (в сторону Салынского) не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.
Салынский: Да я его не защищаю вовсе.
Рюриков: Солженицын пострадал от тех, кто его оклеветал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет. Солженицыну если отказываться – то и от «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатова – честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя – в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский испрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза писателей разрешения – печатать или не печатать. (Просит Солженицына отнестись с доверием к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу».)
Баруздин: Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матрёнин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показаны Сталин, Абакумов и Поскрёбышев. «Раковый корпус» же – антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому надо было идти пути». Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на съезде? Сколько съезд получил писем?
Воронков: Около пятисот.
Баруздин: Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? Не согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш Секретариат должен чаще превращаться в творческий орган и охотно давать советы редакторам.
Абдумомунов: Это очень хорошо, что Солженицын нашёл мужество отказаться от «Пира победителей». Найдёт он мужество подумать, как выполнить предложение Константина Александровича. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» – ещё будет больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что это значит – «насыпал табаку в глаза макаке-резус – просто так»? Как это – просто так? Это – против всего нашего строя высказывание. В повести есть Русановы, есть великомученики от лагеря – и только? А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так безпросветно. Много длиннот, повторов, натуралистических сцен – всё это надо убрать.
Абашидзе: Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создалось такого впечатления, чтоб этот роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может быть, самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность впасть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник – как ребёнок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил Константин Александрович, пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть, сперва по внутреннему употреблению.
Бровка: В Белоруссии много людей, тоже сидевших, – например, Сергей Гроховский, тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не советская власть виноваты в беззакониях. Записки Светланы Сталиной – это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеётся. А тут перед нами – общепризнанный талант, вот в чём опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете её радости. «Раковый корпус» – слишком мрачно, печатать нельзя. (Как и все предыдущие и последующие ораторы, поддерживает предложение Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма.)
Яшен: (Ругает «Пир победителей».) Автор – не измучен несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть в рядах Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить исключить его из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию времени лучше. Вот, например, молодой Икрамов. В «Раковом корпусе» – конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет кроме Гитлера – «ещё других». Кого это? – непонятно. Берия? Или сегодняшних замечательных руководителей? Надо же ясно сказать. (Всё же оратор поддерживает мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором. И после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу.)
Кербабаев: Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все – бывшие заключённые, всё – мрачно, ни одного тёплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлагает герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девяносто девять плачут, один смеётся», – это как понять? это – про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только чёрное? А почему я не пишу чёрное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если бы он отказался от «Ракового корпуса», вот тогда я б обнял его как брата.
Шарипов: А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него всё советское представлено отрицательно и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные земли и идёт от успеха к успеху.
Новиченко: Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать всё печатать. Это что ж тогда – и «Пир победителей» печатать? По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я – не ребёнок, мне тоже придётся умирать, и может быть, в таких же мучениях, как герои Солженицына. И здесь-то важнее всего: какова твоя совесть? каковы твои моральные резервы? И если бы роман ограничивался этим, я бы считал нужным печатать. Но – низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь – карикатурная сцена с дочкой Русанова. Идейно-политический смысл нравственного социализма – это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина – «Во всех стихиях человек тиран, предатель или узник», – это оскорбительная теория. Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов – отвратный тип, правдиво изображён. Но недопустимо, что он становится из типа – носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведен до определённой кондиции – он не станет романом соцреализма. Но будет явлением, талантливым произведением. Прочёл я и «Пир победителей» – и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.
Марков: Состоялось ценное обсуждение. Я только что приехал из Сибири, пять раз выступал перед массовой аудиторией. Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Только в одном месте подали записку – я прошу извинения, но именно так было написано: «а когда этот Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» Мы ждём от Солженицына совершенно чёткого ответа на буржуазную клевету, ждём выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю, как и Сурков. Вещь стоит всё-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических заходов. «Кто-то сделал» – беззвестные адреса. При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребуется очень серьёзная работа. А сегодня пускать в набор конечно нельзя. Что же дальше? Конструктивно: А. И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника, – а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. Всё же я продолжаю считать его нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А. И., оказались по вашей вине, а не по чьей другой. Предложения об исключении из Союза? – при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.
Солженицын: Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов, я могу упрекнуть вас всех в том, что вы – не сторонники теории развития, если серьёзно предполагаете, что за двадцать лет и при полной смене всех обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьёзную вещь: Корнейчук, Баруздин и ещё кто-то высказались так, что «народ читает» «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каждое слово моё будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдёт широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся ответственность за это ляжет на ту организацию, которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы для «издания» при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрерывно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, её возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок, – я предупреждал! и сейчас предупреждаю!
Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что рак и раковый корпус – не медицинский предмет, а некий символ. Отвечу: подручный же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и умирание. Слишком густой замес для символа, слишком много медицинских подробностей для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам – они признавали её с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно рак, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть, вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймёт, какой это «символ».
Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот: это преодоление смерти жизнью, прошлого – будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы скрывать от него правду, смягчать её, а говорить истинно то, как оно есть, как ждёт его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:
Не люби поноровщика, люби спорщика. Не тот доброхот, у кого на устах мёд.Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта, к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяжённого человечества, которые зародились в незапамятной глубине тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.
Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно, и отсюда родились извращённые представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеётся» – это ходовая лагерная пословица; к тому типу, который лезет без очереди, Костоглотов подходит с этой пословицей, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это – про весь Советский Союз. Или – макака-резус, она два раза там встречается, и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим в глаза табаку просто так, подразумевается конкретно Сталин. А что мне возражают? – что не «просто так»? Но если не «просто так» – так значит, это было закономерно, необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение даёт такой промах, вы не поняли этой сцены? Шулубин приводит учение Бэкона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» – и Костоглотов пытается это себе представить: рынок, а посреди возвышается сизый идол; Шулубин говорит «идолы театра» – и Костоглотов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, – так значит, на театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идёт о Москве и о памятнике Марксу, ещё не поставленном?..
Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам – и он оказался за границей. А «Раковый корпус» (1-я часть) ходит уже больше года. Вот это-то меня и безпокоит, вот потому я и тороплю Секретариат.
Ещё тут был мне совет товарища Рюрикова: отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого – руку на сердце положа – никогда не откажусь.
Рюриков: Я не сказал – отказаться от русского реализма, а от истолкования этой роли на Западе, как они делают.
Солженицын: Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну конечно же, я его приветствую. Именно публичности я и добиваюсь всё время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса». Решено было секцией прозы – послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились мне-то дать, автору. И сегодняшняя стенограмма – я надеюсь, Константин Александрович, получить её?
Спросил К. А.: «в интересах чего печатать ваши протесты?» По-моему, ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К. А., что развязать ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот – и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу писателей. Мою каждую строчку вычеркивают, а у Союза в руках вся печать. Я всё равно не понимаю и не вижу, почему моё письмо не было зачтено на съезде. Теперь К. А. предлагает бороться не против причин, а против следствия – против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я напечатал опровержение – а чего именно? Не могу я вообще выступать по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моём есть общая и частная часть. Должен ли я отказаться от общей части? Так я и сейчас всё так же думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо – о чём?
Голоса: О цензуре.
Солженицын: Ничего вы тогда не поняли, если – о цензуре. Это письмо – о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила своё положение. Говорят нам с Запада: умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовывать – такие, чтобы там глаза зажмурили, как от яркого света, – и тогда притихнет «новый роман», и тогда окоснеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранён, не исправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это вы расчистите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: опубликуйте, во-первых, моё письмо, затем – коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите, что из восьми пунктов исправляется, – вот тогда и я смогу выступить, охотно. Моё сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хоть я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано безо всяких условий, – а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?
Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается и вспыхивает всё новая против меня клевета. Опровергать её можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляли меня в сталинских лагерях.
Федин: Нет, очерёдность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний вашему таланту и стилю, вы найдёте форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы – такая реплика не имеет твёрдого основания.
Твардовский: А само письмо будет при этом опубликовано?
Федин: Нет, письмо надо было публиковать тогда, вовремя. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?
Солженицын: Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?
Федин: Это потом уже посмотрим.
Солженицын: Ну, я уже ответил, и всё, надеюсь, застенографировано точно.
Сурков: Вы должны сказать, отмежёвываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции, которую вам приписывают на Западе?
Солженицын: Алексей Александрович, ну уши вянут такое слышать – и от вас: художник слова – и лидер политической оппозиции? Как это вяжется?
Несколько коротких выступлений, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым.
Голоса: Он подумает!..
Солженицын ещё раз говорит, что такое выступление ему первому невозможно, отечественный читатель так и не будет знать, о чём речь.
(Запись велась в ходе заседания А. Солженицыным.)
[5]
Союз Писателей СССР
Правление
№ 3142
Товарищу А. И. Солженицыну
25 ноября 1967
Уважаемый Александр Исаевич!
В ходе заседания Секретариата Правления Союза Писателей СССР 22 сентября с. г., на котором обсуждались Ваши письма, наряду с резкой критикой Вашего поступка товарищами высказывалась доброжелательная мысль о том, что Вам необходимо иметь достаточную по времени возможность тщательно обдумать всё, о чём говорилось на Секретариате, и уже затем выступить публично и определить Ваше отношение к антисоветской кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой вокруг Вашего имени и Ваших писем. Прошло два месяца.
Секретариату хотелось бы знать, к какому решению Вы пришли.
С уважением
К. Воронков
По поручению Секретариата
Секретарь Правления
Союза Писателей СССР
[6]
В Секретариат Союза Писателей СССР
1 декабря 1967
Из Вашего № 3142 от 25.11.67 я не могу понять:
1) Намеревается ли Секретариат защитить меня от непрерывной трёхлетней (мягко было бы назвать её «недружественной») клеветы у меня на родине? (Новые факты: 5.10.67 в Ленинграде в Доме Прессы при многолюдном стечении слушателей главный редактор «Правды» Зимянин повторил надоевшую ложь, что я был в плену, а также нащупывал избитый приём против неугодных – объявить меня шизофреником, а лагерное прошлое – навязчивой идеей. Лекторы МГК выдвинули новые лживые версии о том, будто я «сколачивал в армии» то ли «пораженческую», то ли «террористическую» организацию. Непонятно, почему не увидела этого в деле Военная Коллегия Верхсуда.)
2) Какие меры принял Секретариат, чтобы отменить незаконный запрет моих печатных произведений в библиотечном пользовании и цензурное распоряжение изымать мою фамилию из упоминания в критических статьях? (В «Вопросах литературы» так поступили даже… в переводе японской статьи. В Пермском университете подвергнута санкциям группа студентов, пытавшихся обсуждать мои печатные произведения в своём научном сборнике.)
3) Хочет ли Секретариат предотвратить безконтрольное появление «Ракового корпуса» за границей или он остаётся равнодушен к этой опасности? Делаются ли какие-нибудь шаги для печатания отрывков из повести в «Литературной газете», а всей повести – в «Новом мире»?
4) Нет ли у Секретариата намерения ходатайствовать перед правительством о присоединении нашей страны к международной конвенции об авторском праве? Тем самым наши авторы получили бы надёжное средство защиты своих произведений от незаконных зарубежных изданий и безстыдной коммерческой гонки переводов.
5) За прошедшие полгода от моего письма Съезду прекращено ли наконец распространение незаконного «издания» отрывков из моего архива и уничтожено ли это «издание»?
6) Какие меры принял Секретариат к возвращению мне изъятого архива и романа «В круге первом», кроме публичных заверений, что они уже якобы возвращены (секретарь Озеров, например)?
7) Принято или отвергнуто Секретариатом предложение К. М. Симонова издать сборник моих рассказов?
8) Почему я до сих пор не получил стенограммы заседания Секретариата 22 сентября для её изучения?
Я был бы очень признателен за разъяснение этих вопросов.
Солженицын
[7]
Члену Союза Писателей СССР
6 апреля 1968
Скоро год, как я послал своё безотзывное письмо Съезду писателей. С тех пор ещё дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничто не изменилось и по сегодня: мой архив мне не возвращён, книги не издаются, имя под запретом. Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в «Новом мире» «Ракового корпуса», но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы обсудить 2-ю часть повести.
Упущен год, неизбежное произошло: на днях главы из «Ракового корпуса» напечатаны в литературном приложении к «Таймс». Теперь не исключены и другие публикации – быть может, с неточных и неокончательных редакций повести. Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилегающих писем и высказываний – чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.
Прилагаемое изложение заседания Секретариата 22.9.67, записанное лично мною, разумеется не полно, но совершенно достоверно и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.
Солженицын
Приложения:
1. Моё письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67
2. Изложение заседания в Секретариате 22.9.67
3. Письмо К. Воронкова 25.11.67
4. Моё письмо в Секретариат 1.12.67
[8]
В Секретариат СП СССР
Копии:
Журнал «Новый мир»
«Литературная газета»
Членам СП
18 апреля 1968
В редакции «Нового мира» меня познакомили с телеграммой:
«НМ0177 Франкфурт-на-Майне Ч2 9 16.20
Твардовскому Новый мир
Ставим вас в известность, что Комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на запад еще один экземпляр «Ракового корпуса», чтобы этим заблокировать его публикацию в «Новом мире». Поэтому мы решили это произведение публиковать сразу.
Редакция журнала «Грани».
Я хотел бы протестовать против публикации как в «Гранях», так и осуществляемой В. Луи, но мутный характер телеграммы требует прежде всего выяснить:
1) действительно ли она подана редакцией журнала «Грани» или подставным лицом (это можно установить через международный телеграф, запросом московского телеграфа во Франкфурт-на-Майне)?
2) кто такой Виктор Луи, что за личность, чей он подданный? Действительно ли он вывез из Советского Союза экземпляр «Ракового корпуса», кому передал, где грозит публикация ещё? И какое отношение имеет к этому Комитет Госбезопасности?
Если Секретариат СП заинтересован в выяснении истины и остановке грозящих публикаций «Ракового корпуса» на русском языке за границей – я думаю, он может быстро получить ответы на эти вопросы.
Этот эпизод заставляет задуматься о странных и тёмных путях, какими могут попадать на Запад рукописи советских писателей. Он есть крайнее напоминание нам, что нельзя доводить литературу до такого положения, когда литературные произведения становятся выгодным товаром для любого дельца, имеющего проездную визу. Произведения наших авторов должны допускаться к печатанию на своей родине, а не отдаваться в добычу зарубежным издательствам.
Солженицын
[9]
В редакции:
«Монд»
«Унита»
«Литгазеты»
25 апреля 1968
Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей повести «Раковый корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту повесть.
Заявляю, что никто из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать её. Поэтому ничью состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю издательских прав; всякое искажение текста (неизбежное при безконтрольном размножении и распространении рукописи) наносит мне ущерб; всякую самовольную экранизацию и инсценировку решительно порицаю и запрещаю.
Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен «Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждёт и «Раковый корпус». Но кроме денег существует литература.
Солженицын
[10]
В редакцию «Литературной газеты»
Копия: журнал «Новый мир»
Я знаю, что Ваша газета не напечатает единой моей строки, не придав ей исказительного или порочного смысла. Но у меня нет другого выхода ответить моим многочисленным поздравителям иначе как посредством Вас:
«Читателей и писателей, приславших поздравления и пожелания к моему 50-летию, я с волнением благодарю. Я обещаю им никогда не изменить истине. Моя единственная мечта – оказаться достойным надежд читающей России.
А. Солженицын
Рязань, 12 декабря 1968»
[11]
В Президиум Московской городской коллегии адвокатов
В редакцию газеты «Известия»
от писателя Солженицына А. И.
г. Рязань, проезд Яблочкова 1, кв. 11
ЗАЯВЛЕНИЕ
7 мая 1969
Прошу Вашей помощи в защите моего имени от позорящих его действий Шалагина Александра Фёдоровича (Москва, ул. Д. Бедного 17, корпус 1, кв. 246) и в пресечении этих действий.
В течение уже многих месяцев он посещает ресторан «Славянский базар», где выдаёт себя за «писателя Солженицына», раздаёт от моего имени автографы, ведёт себя с вызывающей развязностью, делает дорогие подарки незнакомым женщинам (формально же – пенсионер, живущий на небольшую пенсию), заказывает музыку с громогласными пояснениями, что он «исстрадался в лагере» и теперь нуждается в весельи (с 1963 по 1965 г. действительно отбывал срок по ст. 154 УК).
Открытый наглый – от моего имени – поиск женщин составляет главный стержень его действий. Так, он звонил на «Мосфильм» с просьбой подыскать ему для совместных поездок по Союзу молодую машинистку-секретаря, и когда одна из девушек направилась по этому вызову, он напрямик предложил ей сожительство. Звонил он и Драновской Дине Исаевне, режиссёру театрального коллектива дворца культуры им. Горького, читал от моего имени «лагерные стихи» и просил «подобрать ему молодых артисток с хорошими внешними данными» якобы для выступлений с чтением его произведений. […] В меньших подробностях известны и другие подобные случаи.
Солженицын
[12]
ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ РЯЗАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4 ноября 1969
Заседание длилось с 15 ч. до 16 ч. 30 м. Присутствовали из семи членов рязанской писательской организации – шестеро (секретарь рязанского отделения Эрнст Сафонов лёг на операцию); секретарь СП РСФСР – Франц Таурин; секретарь по агитации и пропаганде рязанского обкома КПСС – А. С. Кожевников; редактор издательства Поварёнкин и ещё три товарища из областных организаций.
Данная запись в ходе заседания велась Солженицыным.
На повестке дня – один объявленный вопрос: информация секретаря СП РСФСР Таурина о решении Секретариата СП РСФСР «О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей».
Сама информация не занимает много времени. Ф. Таурин прочитывает решение Секретариата СП РСФСР, вызванное побегом Анатолия Кузнецова за границу, с указанием новых мер по усилению контроля за писателями, выезжающими за границу, а также мер идейного воспитания писателей. Сообщает, что подобные заседания уже проведены во многих областных писательских организациях и прошли на высоком уровне, особенно – в московской писательской организации, где были выдвинуты обвинения против Лидии Чуковской, Льва Копелева, Булата Окуджавы, а также и против члена рязанской организации СП – Солженицына.
Начинаются прения (регламент 10 мин.).
Василий Матушкин (член СП, Рязань; после нескольких общих фраз о состоянии рязанской организации): Не могу не сказать об отношении т. Солженицына к литературе и к нашей писательской организации. Тут есть и моя ответственность: я когда-то давал ему рекомендацию при поступлении в Союз писателей. Таким образом, критикуя сегодня его, я критикую и сам себя. Когда появился «Иван Денисович» – не всё в нём сразу принималось, многое в нём не нравилось. Но после рецензий Симонова и Твардовского мы не могли спорить. Всё же у нас были надежды, что Солженицын станет украшением нашей писательской организации. Эти надежды не сбылись. Взять его отношение к нашей писательской организации. За все эти годы – никакого участия. На перевыборных собраниях он, правда, бывал, но не выступал. Помощь молодым писателям – одна из важнейших наших обязанностей по уставу, он её не оказывал, не участвовал в обсуждениях произведений начинающих авторов. Работы – никакой у него не было. Возникает мнение и боль, что он высокомерно относится к нашей писательской организации и к нашим небольшим достижениям в литературе. Скажу честно и откровенно, что всё его последнее творчество (правда, мы его не знаем, не читали, нас на обсуждение не приглашали) идёт вразрез с тем, что пишем мы, остальные. Для нас существует Родина-мать, и нет ничего дороже. А творчество Солженицына публикуется за рубежом, и всё это потом выливается на нашу родину. Когда нашу мать поливают грязью, используя его произведения, и Александру Исаевичу дают указания, как надо ответить, и даже печаталась статья в «Литературной газете», а он не реагировал, считая себя умнее.
С. Х. Баранов (председательствующий, член СП, Рязань): Ваш регламент кончился, десять минут.
Матушкин просит ещё.
Солженицын: Дать, сколько товарищ просит.
Продляют.
Матушкин: Союз писателей есть организация совершенно добровольная. Есть люди, которые печатаются, а в Союзе не состоят. В уставе Союза прямо говорится: Союз объединяет единомышленников, кто строит коммунизм, отдаёт этому всё творчество, кто следует социалистическому реализму. А Солженицыну тогда не место в писательской организации, пусть творит отдельно. Как ни горько, но я должен сказать: у нас с вами, Александр Исаевич, пути разные, и нам придётся расстаться с вами.
Николай Родин (член СП, г. Касимов): Василий Семёнович сказал так, что и добавить нечего. Если взять устав Союза и сравнить с ним гражданскую деятельность Александра Исаевича, то увидим большие расхождения. Мне после Василия Семёновича и добавить нечего. Он не выполнял устава, не считался с нашим Союзом. Бывает так, что некому отдать на рецензию рукопись начинающего писателя, а Солженицын не рецензировал. У меня к нему большие претензии.
Сергей Баранов: Это очень серьёзный вопрос, и своевременно его поднимает правление Союза писателей. Мы в Союзе должны хорошо знать душу друг друга и помогать друг другу. Но что будет, если мы разбежимся по углам, кто же будет воспитывать молодёжь? Кто же будет руководить литературными кружками, которых у нас много на производстве и в учебных заведениях. Правильно Василий Семёныч затронул вопрос об А. И. Творчества его мы не знаем, мы его творчества не знаем. Вокруг его произведений вначале была большая шумиха. А я лично в «Иване Денисовиче» всегда видел сплошные чёрные краски. Или «Матрёнин двор» – да где он видел такую одинокую женщину с тараканами и кошкой, и чтоб никто не помогал, – где такую Матрёну найти? Я всё же надеялся, что Александр Исаевич напишет вещи, нужные народу. Но где он свои вещи печатает, о чём они? Мы не знаем. Надо повысить мнение к себе и друг к другу. Солженицын оторвался от организации, и нам, очевидно, придётся с ним расстаться.
Солженицын просит разрешения задать один общий вопрос выступавшим товарищам, председательствующий отказывает.
Евгений Маркин (член СП, Рязань): Мне труднее всего говорить, труднее всех. Глядя правде в глаза – речь идёт о пребывании Александра Исаевича в нашей организации. Я не был ещё членом Союза в то время, когда вы его принимали. Я нахожусь в угнетённом состоянии вот почему: небывалое колебание маятника из одной амплитуды в другую. Я работал сотрудником «Литературы и жизнь» в то время, когда раздавались Солженицыну небывалые похвалы. С тех пор наоборот: ни о ком я не слышал таких резких мнений, как о Солженицыне. Такие крайности потом сказываются на совести людей, принимающих решение. Вспомним, как поносили Есенина, а потом стали превозносить, а кое-кто теперь опять хотел бы утопить. Вспомним резкие суждения после 1946 года. Разобраться мне в этом сейчас труднее всех. Если Солженицына сейчас исключат, потом примут, опять исключат, опять примут – я не хочу в этом участвовать. Где тогда найдут себе второй аппендикс те, кто ушли от обсуждения сегодня? А у нас в организации есть большие язвы: членам Союза не дают квартир. Нашей рязанской писательской организацией два года командовал проходимец Иван Абрамов, который даже не был членом Союза, он вешал на нас политические ярлыки. А с Анатолием Кузнецовым я вместе учился в Литинституте, интуиция нас не обманывает, мы его не любили за то, что ханжа. На мой взгляд, статьи устава можно толковать двойственно, это палка о двух концах. Но, конечно, хочется спросить Александра Исаевича, почему он не принимал участия в общественной жизни. Почему по поводу той шумихи, что подняла вокруг его имени иностранная пресса, он не выступил в нашей печати, не рассказал об этом нам? Почему Александр Исаевич не постарался правильно разъяснить и популяризировать свою позицию? Его новых произведений я не читал. Моё мнение о пребывании А. И. в Союзе писателей: к рязанской писательской организации он не принадлежал. Я полностью согласен с большинством писательской организации.
Николай Левченко (член СП, Рязань): В основном предыдущими товарищами вопрос освещён. Мне бы хотелось поставить себя на место Александра Исаевича и представить, как бы я себя вёл. Если бы моё творчество поставили на вооружение за границей – что бы я делал? Я бы пришёл к товарищам посоветоваться. Он сам себя изолировал. Я присоединяюсь к большинству.
Поварёнкин: На протяжении многих лет А. И. был в отрыве от Союза писателей. Не приезжал на перевыборные собрания, а присылал телеграммы: «я присоединяюсь к большинству», – разве это принципиальная позиция? А Горький говорил, что Союз писателей – это коллективный орган, это – общественная организация. А. И., видимо, вступил в Союз с другими целями, чтобы иметь писательский билет. Идейные качества его произведений не помогают нам строить коммунистическое общество. Он чернит наше светлое будущее. У него самого нутро чёрное. Показать такого безкрылого человека, как Иван Денисович, мог только наш идейный противник. Он сам поставил себя вне писательской организации.
Солженицын снова просит разрешения задать вопрос. Ему предлагают вместо этого выступать. После колебаний разрешают вопрос.
Солженицын просит членов СП, упрекавших его в отказе рецензировать рукописи, в отказе выступать перед литературной молодёжью, назвать хотя бы один такой случай.
Выступавшие молчат.
Матушкин: Член Союза писателей должен активно работать по уставу, а не ожидать приглашения.
Солженицын: Я сожалею, что наше совещание не стенографируется, не ведётся тщательных записей. А между тем оно может представить интерес не только завтра, и даже позже чем через неделю. Впрочем, на Секретариате СП РСФСР работало три стенографистки, но Секретариат, объявляя мои записи тенденциозными, так и не смог или не решился представить стенограмму того совещания.
Прежде всего я хочу снять камень с сердца товарища Матушкина. Василий Семёныч, напомню вам, что вы никогда не давали мне никакой рекомендации, вы как тогдашний секретарь рязанского отделения принесли мне только пустые бланки анкет. В тот период непомерного захваливания Секретариат РСФСР так торопился меня принять, что не дал собрать рекомендаций, не дал принять на первичной рязанской организации, а принял сам и послал мне поздравительную телеграмму.
Обвинения, которые мне здесь предъявили, разделяются на две совсем разные группы. Первая касается рязанской организации СП, вторая – всей моей литературной судьбы. По поводу первой группы скажу, что нет ни одного обоснованного обвинения. Вот отсутствует здесь наш секретарь т. Сафонов. А я о каждом своём общественном шаге, о каждом своём письме, Съезду или в Секретариат, ставил его в известность в тот же день и всегда просил ознакомить с этими материалами всех членов рязанского СП, а также нашу литературную молодёжь. А он вам их не показывал? По своему ли нежеланию? Или потому, что ему запретил присутствующий здесь товарищ Кожевников? Я не только не избегал творческого контакта с рязанским СП, но я просил Сафонова и настаивал, чтобы мой «Раковый корпус», обсуждённый в московской писательской организации, был бы непременно обсуждён и в рязанской, у меня есть копия письма об этом. Но и «Раковый корпус» по какой-то причине был полностью утаён от членов рязанского СП. Также я всегда выражал готовность к публичным выступлениям – но меня никогда не допускали до них, видимо чего-то опасаясь. Что касается моего якобы высокомерия, то это смешно, никто из вас такого случая не вспомнит, ни фразы такой, ни выражения лица, напротив, я крайне просто и по-товарищески чувствовал себя со всеми вами. Вот что я не всегда присутствовал на перевыборах – это правда, но причиной то, что я большую часть времени не живу в Рязани, живу под Москвой, вне города. Когда только что был напечатан «Иван Денисович», меня усиленно звали переезжать в Москву, но я боялся там рассредоточиться и отказался. Когда же через несколько лет я попросил разрешения переехать – мне было отказано. Я обращался в московскую организацию с просьбой взять меня там на учёт, но секретарь её В. Н. Ильин ответил, что это невозможно, что я должен состоять в той организации, где прописан по паспорту, а не важно, где я фактически живу. Из-за этого мне и трудно было иногда приезжать на перевыборы.
Что же касается обвинений общего характера, то я продолжаю не понимать, какого такого «ответа» от меня ждут, на что «ответа»? На ту ли пресловутую статью в «Литературной газете», где мне был противопоставлен Анатолий Кузнецов и сказано было, что надо отвечать Западу так, как он, а не так, как я? На ту анонимную статью мне нечего отвечать. Там поставлена под сомнение правильность моей реабилитации – хитрой уклончивой фразой «отбывал наказание», – отбывал наказание, и всё, понимайте, что отбывал за дело. Там высказана ложь о моих романах, будто бы «Круг первый» является «злостной клеветой на наш общественный строй», – но кто это доказал, показал, проиллюстрировал? Романы никому не известны, и о них можно говорить всё что угодно. И много ещё мелких искажений в статье, искажён весь смысл моего письма Съезду. Наконец, опять обсасывается надоевшая история с «Пиром победителей» – уместно, кстати, задуматься: откуда редакция «Литературной газеты» имеет сведения об этой пьесе, откуда получила её для чтения, если единственный её экземпляр взят из письменного стола госбезопасностью?
Вообще с моими вещами делается так: если я какую-нибудь вещь сам отрицаю, не хочу, чтоб она существовала, как «Пир победителей», – то о ней стараются говорить и «разъяснять» как можно больше. Если же я настаиваю на публикации моих вещей, как «Ракового корпуса» или «Круга», то их скрывают и замалчивают.
Должен ли я «отвечать» Секретариату? Но я уже отвечал ему на все заданные мне вопросы, а вот Секретариат не ответил мне ни на один. На моё письмо Съезду со всей его общей и личной частью я не получил никакого ответа по существу. Оно было признано малозначительным рядом с другими делами Съезда, его положили под сукно и, я начинаю думать, нарочно выжидали, пока оно две недели широко циркулировало, – а когда напечатали его на Западе, в этом нашли удобный предлог не публиковать его у нас.
Такой же точно приём был применён по отношению к «Раковому корпусу». Ещё в сентябре 1967 я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности, что «Корпус» появится за границей из-за его широкой циркуляции у нас. Я торопил дать разрешение печатать его у нас, в «Новом мире». Но Секретариат – ждал. Когда весной 1968 стали появляться признаки, что вот-вот его напечатают на Западе, я обратился с письмами: в «Литературную газету», в «Монд» и в «Унита», где запрещал печатать «Раковый корпус» и лишал всяких прав западных издателей. И что же? Письмо в «Монд», посланное по почте заказным, не было пропущено. Письмо в «Унита», посланное с известным публицистом-коммунистом Витторио Страда, было отобрано у него на таможне – и мне пришлось горячо убеждать таможенников, что в интересах нашей литературы необходимо, чтоб это письмо появилось в «Унита». Через несколько дней после этого разговора, уже в начале июня, оно таки появилось в «Унита» – а «Литературная газета» всё выжидала! Чего она ждала? Почему она скрывала моё письмо в течение девяти недель – от 21 апреля до 26 июня? Она ждала, чтобы «Раковый корпус» появился на Западе! И когда в июне он появился в ужасном русском издании Мондадори – только тогда «Литгазета» напечатала мой протест, окружив его своей многословной статьёй без подписи, где я обвинялся, что недостаточно энергично протестую против напечатания «Корпуса», недостаточно резко. А зачем же «Литгазета» держала протест девять недель? Расчёт ясен: пусть «Корпус» появится на Западе, и тогда можно будет его проклясть и не допустить до советского читателя. А ведь напечатанный вовремя, протест мог остановить публикацию «Корпуса» на Западе. Вот, например, два американских издательства, «Даттон» и «Прегер», когда только слухи дошли до них, что я протестую против напечатания «Корпуса», в мае 1968, отказались от своего намерения печатать книгу. А что было бы, если б «Литгазета» напечатала мой протест тотчас?
Председательствующий Баранов: Ваше время истекло, десять минут.
Солженицын: Какой может быть тут регламент? Это вопрос жизни.
Баранов: Но мы не можем вам больше дать, регламент.
Солженицын настаивает. Голоса – разные.
Баранов: Сколько вам ещё надо?
Солженицын: Мне много надо сказать. Но по крайней мере дайте ещё десять минут.
Матушкин: Дать ему три минуты.
Посовещавшись, дают ещё десять.
Солженицын (ещё убыстряя и без того быструю речь): Я обращался в Министерство связи, прося прекратить почтовый разбой в отношении моей переписки – недоставку или задержку писем, телеграмм, бандеролей, особенно зарубежных, например, когда я отвечал на поздравления к моему пятидесятилетию. Но что говорить, если Секретариат СП СССР сам поддерживает этот почтовый разбой? Ведь Секретариат не переслал мне ни одного письма, ни одной телеграммы из той кипы, которую получил на моё имя к моему пятидесятилетию. Так и держит беззвучно.
Переписка моя вся перлюстрируется, но мало того: результаты этой незаконной почтовой цензуры используются с циничной открытостью. Так, секретарь фрунзенского райкома партии г. Москвы вызвал руководителя Института Русского Языка Академии Наук и запретил запись моего голоса на магнитофон в этом институте – узнал же он об этом из цензурного почтового извлечения, поданного ему.
Теперь об обвинении в так называемом «очернении действительности». Скажите: когда и где, в какой теории познания отражение предмета считается важней самого предмета? Разве что в фантомных философиях, но не в материалистической же диалектике. Получается так: не важно, что мы делаем, а важно, что об этом скажут. И чтобы ничего худого не говорили – будем обо всём происходящем молчать, молчать. Но это – не выход. Не тогда надо мерзостей стыдиться, когда о них говорят, а когда делают. Сказал поэт Некрасов:
Кто живёт без печали и гнева, Тот не любит отчизну свою.А тот, кто всё время радостно-лазурен, тот, напротив, к своей родине равнодушен.
Тут говорят о маятнике. Да, конечно, огромное качание маятника, но не со мной только одним, а во всей нашей жизни: хотят закрыть, забыть сталинские преступления, не вспоминать о них. «А надо ли вспоминать прошлое?» – спросил Льва Толстого его биограф Бирюков. И Толстой ответил, цитирую по бирюковской «Биографии Л. Н. Толстого», том 3–4, стр. 48 (читает поспешно):
«Если у меня была лихая болезнь и я излечился и стал чистым от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. А мы больны и всё так же больны. Болезнь изменила форму, но болезнь всё та же, только её иначе зовут… Болезнь, которою мы больны, есть убийство людей… Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо – и наше новое теперешнее насилие откроется».
Нет! Замолчать преступления Сталина не удастся безконечно, идти против правды не удастся безконечно. Это преступления – над миллионами, и они требуют раскрытия. А хорошо б и задуматься: какое моральное влияние на молодёжь имеет укрытие этих преступлений? Это – развращение новых миллионов. Молодёжь растёт не глупая, она прекрасно понимает: вот были миллионные преступления, и о них молчат, всё шито-крыто. Так что ж и каждого из нас удерживает принять участие в несправедливостях? Тоже будет шито-крыто.
Мне остаётся сказать, что я не отказываюсь ни от одного слова, ни от одной буквы моего письма Съезду писателей. Я могу закончить теми же словами, как и то письмо (читает):
«Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы – ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть», – смерть! а не только исключение из Союза. «Но может быть, многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни? Это ещё ни разу не украсило нашей истории».
Что ж, голосуйте, за вами большинство. Но помните: история литературы ещё будет интересоваться нашим сегодняшним заседанием.
Матушкин: У меня вопрос к Солженицыну. Чем вы объясните, что вас так охотно печатают на Западе?
Солженицын: А чем вы объясните, что меня так упорно не хотят печатать на родине?
Матушкин: Нет, вы мне ответьте, вопрос к вам.
Солженицын: Я уже отвечал и отвечал. У меня вопросов больше, и поставлены они раньше, пусть Секретариат ответит на мои.
Кожевников (останавливая Матушкина): Ладно, не надо. Товарищи, я не хочу вмешиваться в ваше собрание и в ваше решение, вы совершенно независимы. Но я хотел возразить против (голос с металлом) того политического резонанса, который Солженицын хочет навязать нам. Мы берём один вопрос, а он берёт другой. В его распоряжении все газеты, чтобы ответить загранице, а он ими не пользуется. Он не желает ответить нашим врагам. Он не желает дать отповедь загранице и, не ссылаясь на Некрасова и Толстого, а своими словами – ответить нашим врагам. Съезд отверг ваше письмо как ненужное, как идейно неправильное. Вы в том письме отрицаете руководящую роль Партии, а мы на этом стоим, на руководящей роли Партии! И я думаю, что правильно здесь говорили ваши бывшие товарищи по перу. Мы не можем мириться! Мы должны идти все в ногу, спаянно, стройно, все заодно – но не под кнутом каким-то, а по своему сознанию!
Франц Таурин: Теперь этим делом придётся заниматься Секретариату РСФСР. Это правильно, что главная суть не в рецензировании рукописей, не в ведении литературных кружков. Главное, что вы, т. Солженицын, не дали отпора использованию вашего имени на Западе. Это можно отчасти объяснить и несправедливостями, допущенными к вам, накопившимися обидами. Но иногда надо поставить судьбу Родины выше своей собственной судьбы. Поймите, никто не хочет поставить вас на колени. Это заседание – попытка помочь вам распрямиться от всего, что на вас навешали с Запада. Там изображается так, что вы, с присущим вам талантом, выступаете против своей родины. Может быть, в этой борьбе допускаются и передержки, но я знаком со стенограммами заседания Секретариата. Секретари, а особенно товарищ Федин, просто по-стариковски просили вас: уступите, дайте публичный отпор западной шумихе. В этом двойной вред: чернят нас как страну и вырывают у нас талантливого писателя. Любое решение, которое сегодня будет принято, будет обсуждено в Секретариате РСФСР.
Левченко (встаёт читать отпечатанный заранее на машинке проект решения; читает):
«…Пункт 2-й. Собрание считает, что поведение Солженицына носит антиобщественный характер, в корне противоречащий целям и задачам Союза писателей СССР. За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам Союза писателей СССР, за грубое нарушение основных положений устава СП СССР исключить литератора Солженицына из членов Союза писателей СССР.
Просим Секретариат утвердить это решение».
Маркин: Хотелось бы знать мнение нашего секретаря т. Сафонова. Он – информирован или нет?
Баранов: Он болен. Собрание наше правомочно.
Голосуют. За резолюцию – пятеро, против – один (я).
[13]
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СЕКРЕТАРИАТУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
Безстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырёх часов – добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что решение предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придётся и мне выделить десять минут? Я вынужден заменить их этим письмом.
Протрите циферблаты! – ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси! – вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это – не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.
Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредёте в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держать и не пущать!».
Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие – а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы вместе взятые. А готовятся на неё административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу её читают? Раз инстанции решили тебя не печатать – задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!
Подгоняют под исключение Льва Копелева – фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, – теперь же виноватого в том, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил тайну кабинета. А зачем ведёте вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всём знать и судить открыто?
«Враги услышат» – вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги», – удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что б вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей безплодной атмосферой стала ненависть, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества – и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики – и все мы превратимся в тонущее человечество, – и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю – когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.
Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, – это человечество. А человечество отделилось от животного мира – мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их сковать – мы возвращаемся в животных.
Гласность, честная и полная гласность – вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности – тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности – тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.
А. Солженицын
12 ноября 1969
[14]
ВОТ КАК МЫ ЖИВЁМ
Вот как мы живём: безо всякого ордера на арест или медицинского основания приезжают к здоровому человеку четыре милиционера и два врача, врачи заявляют, что он – помешанный, майор милиции кричит: «Мы – органы насилия! Встать!», крутят ему руки и везут в сумасшедший дом.
Это может случиться завтра с любым из нас, а вот произошло с Жоресом Медведевым – учёным-генетиком и публицистом, человеком гибкого, точного, блестящего интеллекта и доброй души (лично знаю его безкорыстную помощь беззвестным погибающим и больным). Именно разнообразие его дарований вменено ему в ненормальность: «раздвоение личности»! Именно отзывчивость его на несправедливость, на глупость и оказались болезненным отклонением: «плохая адаптация к социальной среде»! Раз думаешь не так, как положено, – значит, ты ненормальный! А адаптированные – должны думать все одинаково. И управы нет – даже хлопоты наших лучших учёных и писателей отбиваются, как от стенки горох.
Да если б это был первый случай! Но она в моду входит, кривая расправа без поиска вины, когда стыдно причину назвать. Одни пострадавшие известны широко, много более – неизвестных. Угодливые психиатры, клятвопреступники, квалифицируют как «душевную болезнь»: и внимание к общественным проблемам, и избыточную горячность, и избыточное хладнокровие, и слишком яркие способности, и избыток их.
А между тем даже простое благоразумие должно было бы их удержать. Ведь Чаадаева в своё время не тронули пальцем – и то мы клянём палачей второе столетие. Пора бы разглядеть: захват свободомыслящих в сумасшедшие дома есть духовное убийство, это вариант газовой камеры, и даже более жестокий: мучения убиваемых злей и протяжней. Как и газовые камеры, эти преступления не забудутся никогда, и все причастные к ним будут судимы без срока давности, пожизненно и посмертно.
И в беззакониях, и в злодеяниях надо же помнить предел, где человек переступает в людоеда!
Это – куцый расчёт, что можно жить, постоянно опираясь только на силу, постоянно пренебрегая возражениями совести.
А. Солженицын
15 июня 1970
[15]
Секретарю ЦК КПСС
т. М. А. Суслову
14 октября 1970
Михаил Андреевич!
Пишу именно Вам, памятуя, что мы с Вами были познакомлены в декабре 1962 г. и Вы тогда отнеслись к моей работе с пониманием.
Прошу Вас рассмотреть лично и сообщить другим членам государственного руководства следующее моё предложение.
Я предлагаю пересмотреть ситуацию, созданную вокруг меня и моих произведений недобросовестными деятелями из Союза писателей, дававшими правительству неверную информацию.
Как Вам известно, мне присуждена Нобелевская премия по литературе. В течение 8 недель, оставшихся до её вручения, государственное руководство имеет возможность энергично изменить литературную ситуацию со мной, и тогда процедура вручения будет происходить в обстановке несравненно более благоприятной, чем сложилась сейчас. По малости оставшегося времени ограничиваю своё предложение минимальными рамками:
1) В кратчайший срок напечатать (при моей личной корректуре) отдельной книгой, значительным тиражом, и выпустить в свободную продажу повесть «Раковый корпус» (Гослитиздату, если ему будет указано, вся эта работа посильна в две-три недели). Запрет этой повести, одобренной московской секцией прозы, принятой «Новым миром», является чистым недоразумением.
2) Снять все виды наказаний (исключения студентов из институтов и др.) с лиц, обвинённых в чтении и обсуждении моих книг. Снять запрет с библиотечного пользования ещё уцелевшими экземплярами моих прежде напечатанных рассказов. Дать объявление о подготовке к печати сборника рассказов (не издававшегося ни разу).
Если это будет принято и осуществлено, я могу передать Вам для опубликования мой новый, в этих днях кончаемый роман «Август Четырнадцатого». Эта книга и вовсе не может встретить цензурных затруднений: она представляет детальный военный разбор Самсоновской катастрофы 1914 г., где самоотверженность и лучшие усилия русских солдат и офицеров были обезсмыслены и погублены параличом царского военного командования. Запрет в нашей стране ещё и этой книги вызвал бы всеобщее изумление.
Если потребуется личная встреча, беседа, обсуждение – я готов приехать.
Солженицын
[16]
Королевской Шведской Академии
Нобелевскому Фонду
27 ноября 1970
Многоуважаемые господа!
В телеграмме на имя секретаря Академии я уже выражал и теперь повторно выражаю благодарность за честь, оказанную мне присуждением Нобелевской премии. Внутренне я разделяю её с теми своими предшественниками в русской литературе, кто по трудным условиям минувших десятилетий не дожил до присуждения такой премии либо при своей жизни мало был известен читающему миру в переводах и даже своим соотечественникам – в подлинниках.
В той же телеграмме я выразил намерение принять Ваше приглашение приехать в Стокгольм, хотя и представлял ожидающую меня, принятую в нашей стране при всякой заграничной поездке, унизительную процедуру заполнения специальных анкет, получения характеристик от партийных организаций – даже для безпартийного, и инструктажей о поведении.
Однако за минувшие недели враждебное отношение к моей премии, проявленное в отечественной прессе, и по-прежнему преследуемое состояние моих книг (за их чтение увольняют с работы, исключают из институтов) заставляют предположить, что моя поездка в Стокгольм будет использована для того, чтоб отсечь меня от родной земли, попросту преградить мне возврат домой.
С другой стороны, в присланных Вами материалах по распорядку вручения премий я обнаружил, что в нобелевских торжествах много церемонийной праздничной стороны, утомительной для меня, непривычной при моём образе жизни и характере. Деловая же часть – нобелевская лекция, не входит собственно в церемониал. Позже, в телеграмме и письме, Вы высказали сходные опасения по поводу суеты, могущей сопутствовать моему пребыванию в Стокгольме.
Взвесив всё вышесказанное и пользуясь Вашим любезным разъяснением, что личный приезд на церемонию не является обязательным условием получения премии, я предпочёл в настоящее время не подавать ходатайства о поездке в Стокгольм.
Нобелевские диплом и медаль я мог бы, если такая форма окажется для Вас приемлема, получить в Москве от Ваших представителей в обоюдно удобный для Вас и меня срок. Как предусмотрено уставом Нобелевского Фонда, в течение полугода от 10 декабря 1970 г. я готов прочесть или представить письменно Нобелевскую лекцию.
Письмо это – открытое, и я не возражаю, если Вы опубликуете его.
С лучшими пожеланиями
А. Солженицын
[17]
Ваше Величество!
Дамы и господа!
Я надеюсь, моё невольное отсутствие не омрачит полноты сегодняшнего церемониала. В череде коротких приветственных слов ожидается и моё. Ещё менее я хотел бы, чтобы моё слово омрачило торжество. Однако не могу пройти мимо той знаменательной случайности, что день вручения Нобелевских премий совпадает с Днём Прав человека. Нобелевским лауреатам нельзя не ощутить ответственности перед этим совпадением. Всем собравшимся в стокгольмской ратуше нельзя не увидеть здесь символа. Так, за этим пиршественным столом не забудем, что сегодня политзаключённые держат голодовку в отстаивании своих умалённых или вовсе растоптанных прав.
А. Солженицын
10 декабря 1970
[18]
Шведская Академия, г. Карлу Рагнару Гирову
Нобелевский Фонд, г. Нильсу К. Столе
21 января 1971
Многоуважаемые господа!
Начав работу над составлением нобелевской лекции по литературе, я обнаружил, что в самом задании таится противоречие: писателю-художнику предлагается сменить вид работы и высказаться в плане скорее литературоведческом. Иногда такой опыт удаётся блестяще, как мы видим на примере Камю. Чаще же, вероятно, подобная смена жанра весьма трудна, если не невозможна.
Лично я обнаружил, что не смогу удержаться в рамках специфически-литературных: суждения о литературе сегодняшнего дня для меня невозможны в отрыве от суждений социальных и политических; большим (и, вероятно, неплодотворным) усилием будет для меня удержать себя в узде, говорить о природе искусства или природе красоты и избежать современного состояния жизни на Востоке и на Западе, не затронуть тех вопросов, которые горят в душе. Никакой западный писатель, естественно, не стал бы избирать для этого нобелевскую трибуну – а у меня просто нет другой. Однако, если я поддамся своему чувству и пойду, куда влечёт меня перо, моя лекция выйдет за всякие допустимые рамки того, что можно назвать нобелевской лекцией по литературе, она вступит в противоречие с гласной и негласной стороной нобелевской традиции, окажется неприемлемой для нобелевского сборника.
Итак, сам для себя я пришёл к выводу, что было бы разумнее мне отказаться от нобелевской лекции. Осенью Вы писали мне, что чтение такой лекции не обязательно. Однако с тех пор я высказал намерение представить лекцию, и может быть теперь мой отказ нанесёт Нобелевскому Фонду ущерб? С другой стороны, такая лекция, которая грозит у меня получиться, вероятно нанесёт ему ущерб ещё больший, укрепив обвинения, что нобелевская процедура служит политическим целям?
Это письмо я посылаю Вам неофициальным путём и ещё достаточно заблаговременно, в расчёте получить тем же путём Ваш ответ, Ваше мнение, которое прошу без стеснения высказать. Если Вы сочтёте, что отказ от лекции уже невозможен, – я представлю Вам (видимо, этим же путём), какая получится.
Что же касается вручения мне нобелевских диплома и медали, то пока нет признаков изменения обстановки в благоприятную сторону. В ожидании этого изменения – могут ли диплом и медаль остаться у Вас и дальше на хранении? и как долго?
В ожидании Вашего ответа,
с самыми добрыми пожеланиями
Солженицын
[19]
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
министру Госбезопасности СССР Андропову
13 августа 1971
Многие годы я молча сносил беззакония Ваших сотрудников: перлюстрацию всей моей переписки, изъятие половины её, розыск моих корреспондентов, служебные и административные преследования их, шпионство вокруг моего дома, слежку за посетителями, подслушивание телефонных разговоров, сверление потолков, установку звукозаписывающей аппаратуры в городской квартире и на садовом участке и настойчивую клеветническую кампанию против меня с лекторских трибун, когда они предоставляются сотрудникам Вашего министерства.
Но после вчерашнего налёта я больше молчать не буду. Мой садовый домик (село Рождество, Наро-Фоминский район) пустовал, обо мне был расчёт у подслушивателей, что я в отъезде. Я же, по внезапной болезни вернувшись в Москву, попросил моего друга Александра Горлова съездить на садовый участок за автомобильной деталью. Но замка на домике не оказалось, а изнутри доносились голоса. Горлов вступил внутрь и потребовал от налётчиков документы. В маленьком строении, где еле повернуться троим-четверым, оказалось их до десятка, в штатском. По команде старшего: «В лес его! И заставьте молчать!» – Горлова скрутили, свалили, лицом о землю поволокли в лес и стали жестоко избивать. Другие же тем временем поспешно бежали кружным путём, через кусты, унося к своим автомобилям свёртки, бумаги, предметы (может быть – и часть своей привезенной аппаратуры). Однако Горлов энергично сопротивлялся и кричал, созывая свидетелей. На его крик сбежались соседи с других участков, преградили налётчикам путь к шоссе и потребовали документы. Тогда один из налётчиков предъявил красную книжечку удостоверения, и соседи расступились. Горлова же с изуродованным лицом, изорванным костюмом повели к машине. «Хороши же ваши методы!» – сказал он сопровождающим. «Мы – на операции, а на операции нам всё позволено».
По предъявленному соседям документу – капитан, а по личному заявлению – Иванов сперва повёз Горлова в нарофоминскую милицию, где местные чины почтительно приветствовали «Иванова». Там «Иванов» потребовал с Горлова же (!!) объяснительную записку о происшедшем. Хотя и сильно избитый, Горлов изложил письменно цель своего приезда и все обстоятельства. После этого старший налётчик потребовал с Горлова подписку о неразглашении. Горлов наотрез отказался. Тогда поехали в Москву, и в пути старший налётчик внушал Горлову в следующих буквальных словах: «Если только Солженицын узнает, что произошло на даче, считайте, что ваше дело кончено. Ваша служебная карьера (Горлов – кандидат технических наук, представил к защите докторскую диссертацию, работает в институте Гипротис Госстроя СССР) дальше не пойдёт, никакой диссертации вам не защитить. Это отразится на вашей семье, на детях, а если понадобится – мы вас посадим».
Знающие нашу жизнь знают полную осуществимость этих угроз. Но Горлов не уступил им, подписку дать отказался, и теперь над ним нависает расправа.
Я требую от Вас, гражданин министр, публичного поименования всех налётчиков, уголовного наказания их и публичного же объяснения этого события. В противном случае мне остаётся считать их направителем – Вас.
А. Солженицын
[20]
Председателю Совета Министров СССР
А. Н. Косыгину
13 августа 1971
Препровождаю Вам копию моего письма министру Госбезопасности. За все перечисленные беззакония я считаю его ответственным лично. Если правительство СССР не разделяет этих действий министра Андропова, я жду расследования.
А. Солженицын
[21]
Есть много способов убить поэта.
Для Твардовского было избрано: отнять его детище – его страсть – его журнал.
Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырём, – только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! – и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости. Это жжение прожгло его в полгода, через полгода он уже был смертельно болен и только по привычной выносливости жил до сих пор – до последнего часа в сознании. В страдании.
Третий день. Над гробом портрет, где покойному близ сорока и желанно-горькими тяготами журнала ещё не борождён лоб, и во всё сиянье – та детски-озарённая доверчивость, которую пронёс он черезо всю жизнь, и даже к обречённому она возвращалась к нему.
Под лучшую музыку несут венки, несут венки… «От советских воинов»… Достойно. Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помним и: как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир». И совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос.
А вот вся нечётная дюжина Секретариата вывалила на сцену. В почётном карауле те самые мёртво-обрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. Это давно у нас так, это – с Пушкина: именно в руки недругов попадает умерший поэт. И расторопно распоряжаются телом, вывёртываются в бойких речах.
Обстали гроб каменной группой и думают – отгородили. Разогнали наш единственный журнал и думают – победили.
Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчёт непоправимый.
Безумные! Когда раздадутся голоса молодые, резкие – вы ещё как пожалеете, что с вами нет этого терпеливого критика, чей мягкий увещательный голос слышали все. Вам впору будет землю руками разгребать, чтобы Трифоныча вернуть. Да поздно.
А. Солженицын
к девятому дню
(27 декабря 1971)
[22]
Шведская Академия, г. Карлу Рагнару Гирову
Нобелевский Фонд, г. Нильсу К. Столе
Москва, 22 октября 1971
Многоуважаемые господа!
Получил Ваше «Сообщение для прессы» от 7.10.71, благодарю.
Действительно, в прошлом году посол г. Ярринг в числе других вариантов предлагал передать мне нобелевский диплом и медаль в шведском посольстве в Москве. Уже поняв к моменту нашей с ним беседы, что я не смогу выехать в Стокгольм, я хотел принять именно этот предложенный мне вариант, понимая так, что вручение будет происходить открыто, при каком-то числе собравшихся, и я смогу прочесть перед ними свою Нобелевскую лекцию. Однако посол Ярринг категорически возразил мне, что вручение может быть только конфиденциальным, «вот как сейчас, в кабинете».
Согласиться на такое предложение мне казалось унизительным для самой Нобелевской премии; как будто она есть что-то порочное, что надо скрывать от людей. Как я понимаю, вручение Нобелевских премий потому и происходит публично, что церемония эта содержит общественный смысл.
Когда я писал Вам 27.11.70, что готов принять нобелевские знаки и в Москве, я подразумевал именно такое естественное истолкование.
С тех пор ни моё положение, ни моя точка зрения не изменились. И в нынешнем году, как и в прошлом, я готов получить нобелевские знаки в Москве, но, разумеется, не конфиденциально. Если же, как и в прошлом году, такое вручение будет сочтено нежелательным или неудобным, я вновь буду просить Вас оставить мои нобелевские знаки для дальнейшего хранения в Нобелевском Фонде, тем более что это не противоречит Вашим правилам, как я узнал из присланного Вами коммюнике.
В этом случае я вместе с Вами буду сохранять терпеливую надежду, что в каком-то году обстоятельства станут, наконец, благоприятны для моего участия в традиционной Нобелевской церемонии в Стокгольме.
Лично Вам обоим я приношу свои глубокие извинения, что невольно послужил причиной излишних безпокойств и забот, которых Вы не испытывали с большинством моих предшественников.
С самыми тёплыми пожеланиями
А. Солженицын
Стокгольм, 22 ноября 1971
Дорогой господин Солженицын,
Нильс Столе и я встретились теперь с Гуннаром Яррингом. Наша беседа ни к чему новому не привела, но мы едва ли и ожидали положительных результатов. Приходится констатировать, что в посольстве нет подходящего помещения для публичной лекции и что Академия в данное время лишена возможности устроить такое помещение в другом месте в Москве. Нам придётся вооружиться терпением, как Вы пишете, в надежде, что обстоятельства позволят нам позже осуществить желания, от которых сейчас приходится отказаться. Знаки почёта всё ещё остаются здесь. Но я, естественно, всегда готов поехать в Москву, чтобы передать Вам в достойных формах нобелевский диплом и медаль в посольстве или другом, удобном для Вас месте, по мере возможности. В этом случае я, может быть, мог бы взять с собой копию Вашей лекции, чтобы она могла быть опубликована в Les Prix Nobel в ожидании случая, когда Вы могли бы сами прочитать её. Это только предложение, о котором я хотел упомянуть.
С самыми искренними пожеланиями
Ваш
К. Р. Гиров
[23]
Господину Карлу Рагнару Гирову
Королевская Шведская Академия
Стокгольм
Москва, 4 декабря 1971
Дорогой господин Гиров!
Четыре последних Ваших письма (от 7 и 14 октября, 9 и 22 ноября) всё более проясняют, посильно ли вручить мне нобелевские знаки в Москве, в достойной, как Вы пишете, обстановке.
Скажу прежде всего: хотя помехи как будто упрочиваются, а бодрость ослабевает, я высоко и даже сердечно ценю высказанное Вами непреклонное намерение приехать в Москву лично, во всякое время и при любых обстоятельствах, для того чтоб это вручение состоялось. Я искренне благодарен Вам за это решение и, откровенно говоря, считаю, что оно как луч проходит сквозь эту препятственную ситуацию.
Итак, после всех запросов, газетных статей, коммюнике для прессы, ответов шведского м.и.д. и даже личных разъяснений Вашего премьер-министра, нас возвращают к тому, что безо всяких усилий великодушно предлагал мне г. Ярринг ещё год назад: тайное, безгласное вручение нобелевских знаков в его закрытом кабинете.
По пословице, из большой тучи да малая капля…
А вся досадность оказывается в том, что шведское посольство в Москве просто не имеет помещения для любой иной процедуры. (И от этого бедствия, может быть, даже никогда не проводит приёмов?)
Закрадывается: а нет ли здесь семантического недоразумения? Не понимает ли господин посол Ярринг и стоящая над ним администрация под «публичностью», «гласностью» процедуры – непременно «массовость» её? – уж если не с глазу на глаз, так только при тысяче человек? Для того действительно помещения нет. Но в кабинете самого господина Ярринга – неужели не расставить стульев на 30 человек? И если эти гости будут приглашены Вами и мною, – то вот, по-моему, и вполне достойная публичная обстановка для чтения Нобелевской лекции. Таково самое простое решение.
Увы, увы, боюсь, что не поверхностная семантика разлучает нас и владельцев помещений, но неожиданная разность в понимании того, где проходят границы культуры. По делам культуры шведское посольство имеет в своём составе атташе и, стало быть, обнимает своим ведением всевозможные культурные вопросы, акты, события, – но вот рассматривает ли оно вручение Нобелевской премии (к сожалению, на этот раз мне) как явление культурной жизни, соединяющее наши народы? А если нет, а скорее даже как предосудительную тень, грозящую омрачить посольскую деятельность, – то ведь тогда и при самом просторном помещении, господин Гиров, для нашей с Вами процедуры места никак не найти.
Но тут я с утешением вспоминаю Ваши слова, что Шведская Академия и Нобелевский Фонд в своей деятельности и в своих решениях независимы и неприкосновенны и этому факту могла бы нанести даже и ущерб официальная церемония, организованная «как бы» шведским государством.
Очень понимая и разделяя это Ваше чувство, с другой же стороны не зная в Москве такой общественной или кооперативной организации, которая согласилась бы предоставить нам помещение для искомой цели, я осмелюсь предложить Вам иной вариант: совершить всю церемонию в Москве на частной квартире, а именно – по адресу, по которому Вы посылаете мне письма. Квартира эта, правда, никак не просторнее шведского посольства, но 40–50 человек разместятся, по русским понятиям, вполне свободно. Церемония может несколько потерять в официальности, зато выиграть в домашней теплоте. И зато, вообразите, господин Гиров, какой душевный груз мы при этом снимем и с господина шведского посла и даже со шведского министерства иностранных дел?!
Я не знаю нобелевских анналов, но предполагаю, что уже и в прошлом мог быть случай, когда нобелевский лауреат оказывался прикован к месту – ну, например, болезнью – и представитель Фонда или Академии выезжал и вручал ему премию прямо на дому?
А если все варианты окажутся нам с Вами преграждёнными? Что ж, тогда подчинимся судьбе: пусть мои нобелевские знаки продолжают и дальше храниться в Нобелевском Фонде, они ведь нисколько от того не обезцениваются. И когда-нибудь, даже после моей смерти, Ваши преемники с пониманием вручат эти знаки моему сыну?
Однако, уже переждавшая год, старится Нобелевская лекция по литературе за 1970 год. Как нам быть с ней?..
В этом письме, господин Гиров, я допустил несколько шутливый тон – лишь для того, что так легче одолеваются неприятные затруднения. Но Вы почувствуете, что этот тон нигде не отнёсся лично к Вам. Ваше решение благородно, находится на пределе Ваших возможностей, и я снова тепло благодарю Вас за него.
Передайте мои самые добрые пожелания господину Нильсу Столе, который, как я понял, вполне разделяет Ваши взгляды и оценки.
Всё же веря, что нам с Вами не закрыто в жизни и встретиться,
крепко жму Вашу руку.
Искренне Ваш
А. Солженицын
[24]
ИНТЕРВЬЮ
газетам «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост»
Москва, 30 марта 1972
(Над чем сейчас работает.)
«Октябрь Шестнадцатого», это Второй Узел той же книги.
(Скоро ли кончит.)
Нет. В ходе работы выяснилось, что этот Узел сложнее, чем я предполагал. Приходится охватить историю общественных и духовных течений с конца XIX века, ибо они впечатлелись в персонажей. Без предшествующих событий не понять и людей.
(Не опасается ли, углубясь в детальную историю России, удалиться от тем общечеловеческих и вневременных.)
Мне кажется, наоборот: тут многое выясняется общее и даже вневременное.
(Много ли материалов приходится изучать.)
Очень много. И эта работа, с одной стороны, для меня малопривычна, ибо до последнего времени я занимался только современностью и писал из своего живого опыта. А с другой стороны, так много внешних враждебных обстоятельств, что гораздо легче было никому не известному студенту в провинциальном Ростове в 1937–38 годах собирать материалы по Самсоновской катастрофе (ещё не зная, что и мне суждено пройти по тем же местам, но только не нас будут окружать, а – мы). И хотя хибарка, где мы жили с мамой, уничтожена бомбой в 1942, погибли все наши вещи, книги, бумаги, – эти две тетрадочки чудом сохранились, и, когда я вернулся из ссылки, мне передали их. Теперь я их использовал.
Да, тогда мне не ставили специальных преград. А сейчас… Вам, западным людям, нельзя вообразить моего положения. Я живу у себя на родине, пишу роман о России, но материалы к нему мне труднее собирать, чем если бы я писал о Полинезии. Для очередного Узла мне нужно побывать в некоторых исторических помещениях, но там – учреждения, и власти не дают мне пропуска. Мне преграждён доступ к центральным и областным архивам. Мне нужно объезжать места событий, вести расспросы стариков – последних умирающих свидетелей, но для того нужны одобрение и помощь местных властей, которых мне не получить. А без них – все замкнутся, из подозрительности никто рассказывать не будет, да и самого меня без мандата на каждом шагу будут задерживать. Это уже проверено.
(Могут ли это делать другие – помощники, секретарь.)
Не могут. Во-первых, как не член Союза писателей я не имею права на секретаря или помощника. Во-вторых, такой секретарь, представляющий мои интересы, так же был бы стеснён и ограничен, как и я. А в-третьих, мне просто было бы нечем платить секретарю. Ведь после гонораров за «Ивана Денисовича» у меня не было существенных заработков, только ещё деньги, оставленные мне покойным К. И. Чуковским, теперь и они подходят к концу. На первые я жил шесть лет, на вторые – три года. Мне удалось это потому, что я строго ограничил свои расходы. На самого себя я никогда не трачу больше, чем надо было бы платить секретарю.
(Нельзя ли брать деньги с Запада.)
Я составил завещание, и когда создастся возможность осуществлять его – гонорары будут направлены для общественного использования у меня на родине. (Чистосердечная, никогда не лгущая «Литературная газета» так и напечатала: «он дал подробные указания, как следует распорядиться гонорарами», а что для общественного использования на родине – попало у неё в невинное сокращение.) Сам же я буду пользоваться лишь Нобелевской премией. Однако получение и этих денег сделали мне унизительным, трудным и неопределённым. Министерство внешней торговли объявило мне, что на каждую приходящую сумму потребуется специальное решение коллегии: выплачивать ли мне её вообще, в каком виде, сколько процентов.
(Как же всё-таки удаётся собирать материалы.)
Тут опять особенность нашей жизни, которую западному человеку, вероятно, трудно понять. Насколько я представляю, может быть тоже неверно, на Западе установилось, что каждый труд должен быть оплачен и мало принято делать работу безплатно. А у нас, например, тот же Самиздат на чём и держится, как не на безплатности? Люди тратят свой труд, свободное время, сидят ночами над работой, за которую могут попасть только под преследования.
Так и со мной. О моей работе, моей теме широко известно в обществе, даже и за пределами Москвы, и доброхоты, часто незнакомые, шлют мне, передают, разумеется не по почте, а то бы не дошло, – разные книги, даже редчайшие, свои воспоминания и т. д. Иногда это бывает впопад и очень ценно, иногда невпопад, но всегда трогает и укрепляет во мне живое ощущение, что я работаю для России, а Россия помогает мне. И иначе. Часто я сам прошу знающих людей, специалистов – о консультациях, порой очень сложных, о выборке материалов, которая требует времени и труда, и не только никто никогда не спрашивал вознаграждения, но все наперебой рады помочь.
А ведь это бывает ещё и очень опасно. Вокруг меня и моей семьи создана как бы запретная, заражённая зона. И посегодня в Рязани остались люди, уволенные с работы за посещение моего дома несколько лет назад. Директор московского института членкор Т. Тимофеев, едва узнав, что работающий у него математик – моя жена, так перетрусил, что с непристойной поспешностью вынудил её увольнение, хотя это было почти тотчас после родов и вопреки всякому закону. Семья совершила вполне законный квартирный обмен, пока не было известно, что это семья – моя. Едва узналось – несколько чиновников в Моссовете были наказаны: как они допустили, что Солженицын, хотя не сам, но его сын-младенец, прописан в центре Москвы?
Так что мой консультант иногда встретится со мной, поконсультирует час или два – и тут же за ним начинается плотная слежка, как за государственным преступником, выясняют личность. А то и дальше следят: с кем встречается уже этот человек.
Впрочем, не всегда так. У госбезопасности свой график, свои глубокие соображения. Иные дни внешнее наблюдение по видимости незаметно или только простейшее. Иные – как обвисают, например перед приездом Генриха Бёлля. Поставят у двух ворот по машине, в каждой сидят по трое, да и смена ведь не одна, и вослед моим посетителям едут, так и гоняются за пешеходами. Если вспомнить, что круглосуточно подслушиваются телефонные и комнатные разговоры, анализируются магнитные плёнки, вся переписка, а в каких-то просторных помещениях все полученные данные собирают, сопоставляют, да чины не низкие, – то надо удивляться, сколько бездельников в расцвете лет и сил, которые могли бы заниматься производительным трудом на пользу отечества, заняты моими знакомыми и мною, придумывают себе врагов. А ещё кто-то роется в моей биографии, кто-то посылает агентов за границу, чтобы внести хаос в издание моих книг. Кто-то составляет и регулирует общий план удушения моих книг.
Удушить меня решили с 1965 года, когда арестовали мой архив и ужаснулись моим произведениям лагерных лет – как будто они могли не нести на себе печати обречённых навек людей! Если б это были сталинские годы, то ничего проще: исчез, и всё, и никто не спросит. А после XX и XXII съездов сложней.
Сперва решили меня замолчать: нигде ни строчки не появится, никто не упомянет даже бранно, и через несколько лет меня забудут. Тогда и убрать. Но уже шла эпоха Самиздата, и мои книги растекались по стране, потом уходили и за границу. Замолчать – не вышло.
Тогда-то против меня начали (и посегодня не кончили) клевету с закрытых трибун. Этого тоже западному человеку почти и представить нельзя. Существует по всей стране устоявшаяся сеть партийного и общественного просвещения и лекционная сеть. Нет такого учреждения или воинской части, районного центра или совхоза, где бы по определённому расписанию не выступали лекторы и пропагандисты, и все они, во всех местах, в одно и то же время говорят одно и то же, полученное по инструкциям из одного центра. Бывают и некоторые варианты – столичные, областные, армейские, академические. Благодаря тому, что допускаются только свои сотрудники или живущие в данном районе, такие лекции фактически носят закрытый характер или прямо закрытый. Иногда так и командуют, даже научным работникам: уберите записные книжки и авторучки. В эту сеть можно заложить любую информацию, любой лозунг. С 1966 года дали команду говорить обо мне: сперва, что я сидел при Сталине за дело, что я реабилитирован неверно, что произведения мои преступны. Причём сами лекторы сроду не читали тех произведений, потому что власти боялись дать и им, но им велено было так говорить.
Система, замысел в том, что читают только своим сотрудникам. Снаружи – тишь и благодать, никакой травли, а по стране разливается клевета, и неотразимая: не поедешь возражать во все города, не пустят в закрытые аудитории, лекторов этих тысячи, все неуловимые, а клевета завладевает умами.
(Как это становится известно.)
А – эпоха новая, эпоха другая. И из провинции и по Москве очень много ко мне стекается. Время такое, что на всех этих лекциях, даже самых закрытых, везде сидят мои доброжелатели и потом разными путями мне передают: такого-то числа в такой-то аудитории лектор по фамилии такой-то говорил о вас такую-то ложь и гадость. Самое яркое я записываю.
(Почему слушатели не возражают тут же, если видят искажение.)
О, это у нас невозможно и сегодня. Встать и возразить партийному пропагандисту никто не смеет, завтра прощайся с работой, а то и со свободой. Бывали и такие случаи, что по мне, как по лакмусу, проводили проверку лояльности при отборе в аспирантуру или на льготную должность: «Читали Солженицына? Как к нему относитесь?» – и от ответа зависит судьба претендента.
Говорят на этих лекциях много и пустяков. Одно время перемалывали мою семейную историю, нисколько не зная сути её, а – на самом кухонном уровне. Представьте, какая у нас занятость и за что платят зарплату, если не бабы базарные, но штатные пропагандисты в сети просвещения обсуждают с трибун чью-то женитьбу, рождение и крещение сына. Одно время очень охотно обыгрывали моё отчество «Исаевич». Говорили, так вроде небрежно: «Между прочим, его настоящая фамилия Солженицер или Солженицкер, но это конечно в нашей стране не имеет значения».
А по-серьёзному была взята установка, к чему легко склоняется ухо слушателей: изменник родине. У нас вообще для травли приняты никогда не аргументы, но самые примитивные ярлыки, грубейшие клички, наиболее простые, чтобы вызвать, как говорится, «ярость масс». В 20-е годы это был «контрреволюционер», в 30-е – «враг народа», с 40-х – «изменник родине». Ах, как листали мои военные документы, как искали, не был ли я хоть два денёчка в плену, как Иван Денисович, – вот была бы находка! Но, впрочем, с закрытых трибун можно плести доверчивой публике любую ложь. И понесли – годами, годами, по всем близким и отдалённым аудиториям, по всей стране: Солженицын добровольно сдался немцам в плен! Нет, целую батарею сдал! После этого служил у оккупантов полицаем! Нет, был власовцем! Нет, прямо служил в гестапо!.. Снаружи – тихо, никакой травли, а под коркой – уже опухоль клеветы. Как-то проводил «Новый мир» читательскую конференцию в Новосибирске – прислали Твардовскому записку: «Как вы могли допустить, что в Вашем журнале печатался сотрудник гестапо?» Таким образом, общественное мнение по всей стране было вполне подготовлено к любой расправе надо мной. А всё-таки – эпоха не та, и раздавить без гласности… Пришлось публично признаться, что я был боевой офицер, что моя боевая служба безупречна. Туман повисел-повисел без дождя и стал рассеиваться.
Тогда началась новая кампания обвинений, что я сам передал «Раковый корпус» на Запад. С закрытых трибун чего только не врали: как на границе (неизвестно где) задержали знакомого моего знакомого (имён – никаких), а у него в чемодане двойное дно, а там-то – мои произведения (названий никаких). И эту дребедень серьёзно внушали всей провинции, и люди ужасались, какой я злодей, опять-таки изменник родине. – Потом с исключением из Союза писателей открыто мне намекали, чтоб я убирался из страны, – под ту же «измену родине» подводя. Потом – вокруг Нобелевской премии. Со всех трибун заладили: «Нобелевская премия – иудина плата за предательство своей родины».
(Но ведь «Август Четырнадцатого» передал за границу сам – и это действие не инкриминируют.)
Пока хватает ума не инкриминировать. Но честная «Литературная газета» и здесь допускает сокращение, невинное, как все её «сокращения»: Солженицын сразу передал рукопись своего романа за границу», – о, не ложь! упущено самое маленькое: после того как предложил семи советским издательствам – «Художественной литературе», «Советскому писателю», «Молодой гвардии» и разным журналам, не хотят ли они хоть прочесть, хоть полистать мой роман, – и ни одно не изъявило желания даже взять его в руки. Ни одно не ответило на моё письмо, ни одно не попросило рукописи.
Однако появление «Августа» надоумило моих преследователей о новом пути. Дело в том, что в этом романе я подробно рассказал о материнской и отцовской линиях. Хотя моих родственников знали многие ныне живущие друзья и знакомые, но, как ни смешно, всеведущая госбезопасность только из этого романа и узнала. Тут они и бросились «по следу» с целью скомпрометировать меня – по советским меркам. Усилия их при этом раздвоились. Сперва ожила опять расовая линия. Верней, еврейская. Специальный майор госбезопасности по фамилии Благовидов кинулся проверять личные дела всех Исаакиев в архивах Московского университета за 1914 г. в надежде доказать, что я – еврей. Это дало бы соблазнительную возможность «объяснить» мою литературную позицию. Ведь с появлением исторического романа задача тех, кто травит меня, – сложнеет: мало опорочить самого автора, ещё надо подорвать доверие к его взглядам на русскую историю – уже высказанным и возможным будущим.
Увы, расовые исследования сорвались: оказался я русский. Тогда сменили расовую линию на классовую, для чего поехали к старой тётке, сплели статью из её рассказов, и бульварный «Штерн» напечатал.
Главный редактор «Штерна» теперь настаивает, что именно его корреспондент был у моей тётушки. Допускаю, что был и он, вместе с советскими. Однако заметим, что город Георгиевск, в отличие от соседнего Пятигорска, глухо закрыт для иностранцев все 55 лет советской власти. Приехали трое, свободно говоривших по-русски, и были у тётушки пять раз, не торопились. Очень восхищались её собственной биографией, попросили у неё записки почитать на несколько часов – и больше не вернулись, украли. Наружностей их она, почти слепая, не видела, но по ухватке, по психологической окраске – характер диккенсовского Иова Троттера, гости были из компании Виктора Луя, да не исключу, что и сам он. Связь «Штерна» с Виктором Луем давно хорошо известна. Например, когда Луй приезжал ко мне оправдываться, будто не он продал «Раковый корпус» на Запад, – детали нашего с ним разговора и его воровские фотографии (телеобъективом из кустов) появились именно в «Штерне», уже не за его подписью. Даже на моём малом опыте я заметил, что «Штерн» имеет особые льготы в нашей стране, ему доступны такие телефоны и адреса, которые можно получить лишь от тех, кто подслушивает мои телефонные разговоры и перлюстрирует мои письма. Едва появилась статья в «Штерне», как секретарь Союза писателей Верченко сказал на партсобрании: «Это тот источник, которому мы имеем все основания верить». Публикация в «Штерне», пиратские издания Флегона подрывают систему международной защиты моих книг.
По ухватке штерновской статьи, по шкодливой подсказке, проглядываются знакомые сочинители, особенно там, где решаются судить о природе литературного творчества. Мы узнаём, что Солженицын применил такой хитрый литературный приём: перенёс действие в дореволюционное время – для того углубился в людей другой эпохи, прочёл немало военных и исторических трудов, напрягся изобразить не ту войну, которую сам прошёл, а другую, непохожую, – и всё для того, чтобы на 740-й странице высунуться с одной фразой, которую «Штерн» подсказывает понять в переносном смысле, чтобы можно было посадить Солженицына в тюрьму. Точно, как в своё время вожди Союза писателей упрекали меня, что я подробно изучал онкологию, вступил в раковую клинику и раком заболел нарочно – чтобы подсунуть какой-то символ. Трусливые шкодники лезут судить о природе художественной литературы. Им невозможно в голову вобрать, что человек давно не нуждается в прятках и говорит о современности открыто всё, что думает.
(Насколько достоверны биографические сведения в статье «Штерна».)
Да уж будем говорить прямо, о статье в «Литгазете». Достоверны в том, что уже совпадает с напечатанным моим романом. В остальном есть смехотворный вздор, а есть и очень направленная, продуманная ложь. Только в усердии перебрали. Например, утверждают, что оба моих деда были помещиками на Северном Кавказе. «Литературной газете» всё-таки неудобно до такой степени не знать отечественной истории. Кроме нескольких всем известных казачьих генералов, никаких помещиков, то есть дворян-землевладельцев, потомков древней знати, получившей земли за военную службу, на Северном Кавказе вообще никогда не бывало. Все земли принадлежали Терскому и Кубанскому линейным казачьим войскам. Эти земли до самого XX века многие пустовали, не хватало рабочих рук. Крестьяне-поселенцы могли получать в собственность лишь небольшие участки, но казачье войско охотно сдавало в аренду сколько угодно, по баснословно низкой цене.
Деды мои были не казаки, и тот и другой – мужики. Совершенно случайно мужицкий род Солженицыных зафиксирован даже документами 1698 года, когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I (газета «Воронежская коммуна» от 9 марта 1969, статья о городе Боброве). А прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю Кавказского войска. Здесь, видимо как бунтаря, в казаки не поверстали, а дали жить на пустующих землях. Были Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в Ставропольи до революции несколько пар быков и лошадей, десяток коров да двести овец никак не считались богатством. Большая семья, и работали все своими руками. И на хуторе стояла простая глинобитная землянка, помню её. Но для «классовой» линии, чтобы оправдалась Передовая Теория, нужно приврать какой-то банк, приписать ноли к имуществу, придумать 50 батраков, двоюродную сестру-колхозницу вызвать в правление на допрос, а под кисловодским дачным домом Щербаков, где я родился, подписать, что это «деревенский дом» Солженицыных. И дураку видно, что не станичный дом. (Потом выяснилось, что этот подлог совершён лишь в советской части тиража; в тираже, ушедшем на Запад, где могут сверить со «Штерном», на этом же месте к этой же фотографии: «Дом в Кисловодске, принадлежавший Ирине Щербак. Сейчас это – один из корпусов санатория».) Вот такие мы «помещики». Всю эту ложь раздула нечисть ещё и для того, чтобы отцу моему, народнику и толстовцу, приписать трусливое самоубийство «из страха перед красными» – не дождавшись желанного первенца и почти не пожив с любимой женой! Суждение пресмыкающихся.
(О матери.)
Она вырастила меня в невероятно тяжёлых условиях. Овдовев ещё до моего рождения, не вышла замуж второй раз – главным образом опасаясь возможной суровости отчима. Мы жили в Ростове до войны 19 лет – и из них 15 не могли получить комнаты от государства, всё время снимали в каких-то гнилых избушках у частников, за большую плату; а когда и получили комнату, то это была часть перестроенной конюшни. Всегда холодно, дуло, топили углем, который доставался трудно, вода приносная издали; что такое водопровод в квартире, я вообще узнал лишь недавно. Мама хорошо знала французский и английский, ещё изучила стенографию и машинопись, но в учреждения, где хорошо платили, её никогда не принимали из-за её соцпроисхождения; даже из безобидных, вроде Мельстроя, её подвергали чистке, это значит – увольняли с ограниченными правами на будущее. Это заставляло её искать сверхурочную вечернюю работу, а домашнюю делать уже ночью, всегда недосыпать. По условиям нашего быта она часто простужалась, заболела туберкулёзом, умерла в 49 лет. Я был тогда на фронте, а на её могилу попал лишь через 12 лет, после лагеря и ссылки.
(Что помнит об отце.)
Только фотокарточки да рассказы матери и знавших его людей. Из университета добровольно пошёл на фронт, служил в Гренадерской артиллерийской бригаде. Горела огневая позиция – сам растаскивал ящики со снарядами. Три офицерских ордена с Первой Мировой войны, которые в моё детство считались опасным криминалом, и мы с мамой, помню, закапывали их в землю, опасаясь обыска. Уже весь фронт почти разбежался – батарея, где служил отец, стояла на передовой до самого Брестского мира. Они с мамой и венчались на фронте у бригадного священника. Папа вернулся весной 1918 и вскоре погиб от несчастного случая и плохой медицинской помощи. Его могила в Георгиевске закатана трактором под стадион.
(О деде Щербаке.)
Дед по матери пришёл из Таврии молодым парнем – пасти овец и батрачить. Начал с гола, потом стал арендовать землю и к старости действительно весьма разбогател. Это был человек редкой энергии и трудолюбия. В пятьдесят своих лет он выдавал стране зерна и шерсти больше, чем многие сегодняшние совхозы, и никак не меньше тех директоров работал. А с рабочими обращался так, что после революции они старика 12 лет до смерти добровольно кормили. Пусть директор совхоза после снятия попробует своих рабочих попросить.
(Ставится ли сейчас в вину происхождение.)
Конечно, не бушует, как в 20-е – 30-е годы, но это «суждение по соцпроисхождению» – оно очень прочно внедрено в сознание и весьма ещё живо в нашей стране, ничего не стоит снова раздуть костёр в любую минуту. Да совсем недавно враги Твардовского публично ставили ему в вину так называемое «кулацкое» происхождение. И со мной: если «измена родине» не вышла через плен, так может, натянется через «классовую основу»? Так что последние статьи в «Литгазете» при всей их безграмотности и глупости – совсем не простое, безцельное зубоскальство.
(В чём состоит план властей.)
План состоит в том, чтобы вытолкнуть меня из жизни или из страны, опрокинуть в кювет, или отправить в Сибирь, или чтоб я «растворился в чужеземном тумане», как они прямо и пишут. Какая самоуверенность, что те, кого ласкает цензура, имеют на русскую землю больше прав, чем другие, рождённые на ней же. Вообще во всей этой травле – неразумие и недальновидность тех, кто её ведёт. Они не хотят знать сложности и богатства истории именно в её разноообразии. Им лишь бы заткнуть все голоса, которые неприятны их слуху и лишают сегодня покоя, а о будущем они не думают. Так неразумно они уже заглушили «Новый мир» и Твардовского – обеднели от этого, прислепли от этого – и не хотят понять своей потери.
Изучение русской истории, которое сегодня уже увело меня в конец прошлого века, показало мне, как дороги для страны мирные выходы, как важно, чтобы власть, как ни будь она самодержавна и неограниченна, доброжелательно прислушивалась бы к обществу, а общество входило бы в реальное положение власти; как важно, чтобы не сила и насилие вели бы страну, а правота. Очевидно, это изучение и помогло мне увидеть в деятельности Твардовского именно примирительную, согласительную линию. Увы, и самый мягкий увещательный голос тоже нетерпим, затыкают и его. Уж как уступчиво, уж как благожелательно недавно выступали у нас Сахаров, Григоренко – никого даже не выслушали, пропадите, заглохните…
В том-то и мелкость и низменность расчёта тех, кто руководит кампанией против меня. Им искренно не приходит в голову, что писатель, думающий иначе, чем большинство его общества, составляет богатство этого общества, а не позор и порок его.
[25]
ЗАЯВЛЕНИЕ
при отмене Нобелевской церемонии
8 апреля 1972
Мы с г. Гировым уступили во всём, что только было можно: его поездка намечалась как частная, на частную квартиру, для совершения церемонии почти по частному обряду. Запрет церемонии даже в таком виде есть безповоротный и окончательный запрет всякой формы вручения мне Нобелевской премии на территории моей страны. Поэтому запоздалая уступка шведского м.и.д. уже нереальна.
Но она и оскорбительна: шведское м.и.д. продолжает упорно рассматривать вручение мне Нобелевской премии не как явление культурной жизни, а как политическое событие, потому и ставит условие, которое привело бы или снова к «закрытому» варианту вручения или к специальному отбору присутствующих и запрету им как-либо выражать своё отношение к происходящему, ибо всё это может быть кем-то истолковано как «политическая демонстрация».
Кроме того, после отказа г. Гирову в визе – принять нобелевские знаки из чьих-либо иных рук, нежели Постоянного Секретаря Шведской Академии, я считал бы унижением и ему и мне.
Наконец, нашими скромными силами уже была произведена вся нелёгкая подготовка: были разосланы приглашения, не только по Москве, примерно двадцати писателям, которых я понимаю как цвет и творческую силу нашей сегодняшней литературы, и примерно стольким же артистам, музыкантам, академикам; многие из них из-за этого назначили или отменили свои поездки, или репетиции, или другие обязанности. Теперь всем этим сорока гостям нанесено оскорбление отказом, разослана отмена приглашения. И они и я достаточно занятые люди, чтобы затевать такую процедуру вторично.
По разъяснённым мне правилам Шведской Академии нобелевские знаки могут храниться ею неограниченно долго. Если не хватит моей жизни, я завещаю их получение моему сыну.
А. Солженицын
[26]
В Комитет Государственной Безопасности СССР
2 июля 1973
Посылаю Вам копии двух дурно-анонимных писем, которые, впрочем, у Вас имеются по службе.
У меня нет досуга вступать с Вами в детективную игру. Если данный сюжет будет иметь продолжение в виде новых эпизодов, я предам публичности как его, так и предыдущие настойчивые приёмы Вашего ведомства в отношении моей частной жизни.
Солженицын
[27]
Министру внутренних дел СССР
Н. А. Щёлокову
21 августа 1973
Четыре месяца назад я подал заявление о прописке к семье. После столь долгого размышления в столь безспорном вопросе теперь мне объявлен отказ – милиции и Ваш лично.
Я бы выразил недоумение, какими человеческими или юридическими соображениями можно руководиться, чтобы препятствовать мужу жить с женой, отцу – со своими крохотными сыновьями, если бы не знал хорошо и из долгого опыта, что ни тех ни других в нашем государственном устройстве просто не существует.
Оскорбительный принудительный «паспортный режим», при котором место жительства избирает не сам человек, а за него начальство, при котором право переехать из города в город, а особенно из деревни в город надо заслужить как милость, – вряд ли существует даже в колониальных странах сегодняшнего мира. Но за 42 года от него уже пострадали и каждый день страдают миллионы моих сограждан. При нынешней широкой дискуссии о свободе эмиграции для тысяч насколько ж разительно безправие миллионов выбирать местожительство и род деятельности даже в пределах собственной страны! Это безправие ещё усилено законом 1973 года (Совмин, 19 июня): даже временная поездка крестьянина на сезонную работу запрещена без колхозного отпущения.
Я пользуюсь случаем напомнить Вам, однако, что крепостное право в нашей стране упразднено 112 лет тому назад. И говорят, Октябрьская революция смела его последние остатки.
Стало быть, в частности и я, как любой гражданин этой страны, – не крепостной, не раб, волен жить там, где нахожу необходимым, и никакие даже высшие руководители не имеют владельческого права отторгнуть меня от моей семьи.
Солженицын
[28]
ИЗ ИНТЕРВЬЮ
агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд»
Москва, 23 августа 1973
Правда ли, что Вы получаете письма с угрозами и требованиями от гангстеров?
Не столько с требованиями, сколько именно с угрозами, – расправиться со мною и с моей семьёй, да. Этим летом такие письма приходили ко мне по почте. Не говоря о просчётах психологических, многие и технические просчёты авторов убедили меня, что эти письма посылали деятели Госбезопасности. Тут – и невероятная скорость доставки этих «бандитских» писем – менее чем за одни сутки, как идут лишь письма важнейших правительственных учреждений (обычная почта ко мне по Москве идёт 3–5 суток, а письма сколько-нибудь важные, срочные и полезные мне не доставляются вообще никогда). Тут и – такая спешка, что заклейка конверта производилась после (!) штампа почтового приёма. Тут – и терминологические ошибки. Например, последнее такое письмо от 30 июля:
«Ну, сука, так и не пришёл?! Теперь обижайся на себя.
Правилку сделаем. Жди!!!»
Имитируя воровской жаргон, но не зная его достаточно, авторы употребляют слово «правилка», что означает суд и расправу воров над своим же виновным или изменившим вором, и никогда над «фраером», то есть вольным человеком остального презренного мира, – те люди по мнению воров недостойны «правилки», их просто убирают.
Такого рода «бандитский» маскарад для сотрудников ГБ не так уж и нов: известны случаи с ненаказуемыми «хулиганами», избивающими на улицах неугодных инакомыслящих, вырывающими портфели у корреспондентов, разбивающими стёкла иностранных автомашин. После того как кампания заочной клеветы против меня провалилась, вполне можно было ожидать бандитского маскарада.
А вот случай с Майклом Скэммелом, редактором «Индекса», после отъезда из СССР он передал мне этот эпизод. На аэродроме в Шереметьеве он подвергся трёхчасовому обыску, у него были найдены его памятные записи о поездке. Вести такие записи считается по понятиям всечеловеческим – естественным, по советским понятиям – преступным. В связи с этой находкой оказывая на него давление, так называемые таможенники предложили ему… купить рукопись о Солженицыне (не называя вперёд автора и не показывая рукопись) – и тем уладить инцидент. Скэммел отказался.
Была ли то провокация против Скэммела или готовится очередная против меня, но посудите, каков диапазон Госбезопасности: от «гангстеров» и уличных «хулиганов» – до «таможенников» и литературных маклеров. И спрашивается: если наша Госбезопасность защищает самый передовой в мире строй, которому согласно Единственно Верному Мировоззрению и без того обезпечена всемирно-историческая победа, то зачем такая суета и такие низкие методы?
Зимой 1971/72 меня предупредили, и даже несколькими каналами (в аппарате ГБ тоже есть люди, измученные своей судьбой), что готовятся меня убить через «автомобильную аварию».
Но вот особенность или, я бы дерзнул даже сказать, преимущество нашего государственного строя: ни волос не упадёт с головы моей или моих семейных без ведома и одобрения Госбезопасности – настолько мы наблюдаемы, оплетены слежкой, подсматриванием и подслушиванием. И если бы, например, нынешние гангстеры оказались подлинными, то уже после первого письма они стали бы под полный контроль ГБ. Если, например, взорвётся письмо, пришедшее ко мне по почте, то нельзя будет объяснить, каким образом оно прежде того не взорвалось в руках у цензоров. А так как я давно не болею серьёзными болезнями, теперь не вожу и автомашины, а по убеждениям своим ни при каких жизненных обстоятельствах не покончу самоубийством, то если я буду объявлен убитым или внезапно скончавшимся – можете безошибочно, на 100 %, считать, что я убит с одобрения Госбезопасности или ею самою.
Но должен сказать, что моя смерть не обрадует тех, кто рассчитывает ею прекратить мою литературную деятельность. Тотчас после моей смерти или исчезновения, или любой формы лишения меня свободы необратимо вступит в действие моё литературное завещание (даже если бы от моего имени поступило ложное противоположное заявление, типа письма Трайчо Костова из камеры смертников) – и начнётся главная часть моих публикаций, от которых я воздерживался все эти годы.
Если офицеры Госбезопасности по всем провинциальным городам выслеживают и отбирают экземпляры безобидного «Ракового корпуса» (а владельцев увольняют с работы, изгоняют из высших учебных заведений), то что ж они будут делать, когда по России потекут мои главные и посмертные книги?
В прошлом интервью, полтора года назад, Вы говорили о стеснениях и преследованиях как в своей литературной деятельности, в собирании материалов, так и в обычной жизни. Изменилось ли что-нибудь к лучшему?
Начальник тамбовского областного архива Ваганов отказался допустить меня даже к газетному фонду 55-летней давности, хотя вся тамбовская история у них там гибнет на полу сырого заброшенного храма и грызётся мышами. – В Центральном Военно-историческом архиве недавно производилось строгое следствие, кто и почему осмелился в 1964 году выдавать мне материалы по Первой Мировой войне. – Помогавший мне молодой литературовед Габриэль Суперфин, поразительного таланта и тонкости в понимании архивных материалов, 3 июля арестован по показаниям Якира-Красина и отвезен в Орёл, чтобы судить его поглуше и подальше, ему предъявлена статья 72, дающая до 15 лет. При его хрупком здоровьи это означает убийство тюрьмою. Открыто ему конечно не предъявят обвинения в помощи мне, но эта помощь отяготит его судьбу. – Александр Горлов, в 1971 не поддавшийся требованию КГБ скрыть налёт на мой садовый дом, с тех пор третий год лишён возможности защитить уже тогда представленную докторскую диссертацию, как и угрожали ему: диссертация собрала 25 положительных отзывов, включая всех официальных оппонентов, и ни одного отрицательного, научно провалить её невозможно, но всё равно защита (по механике фундаментов!) не пройдёт, поскольку Горлову выражается «политическое недоверие». Приняты подготовительные меры к увольнению Горлова с работы. – Мстислав Ростропович преследовался все эти годы с неутомимой изобретательной мелочностью, так свойственной аппарату великой державы. Это – длинный ряд придирок, шпилек, помех и унижений, которые ставились ему на каждом шагу его повседневной жизни, чтобы вынудить его отказать мне в гостеприимстве, а требование это ему без стеснения высказывала мадам Фурцева и её заместители. Одно время его и даже Галину Вишневскую вовсе снимали с радио и телевидения, искажались газетные упоминания о нём. Немало его концертов в СССР было отменено без ясных причин – даже когда он находился уже на пути в город, где концерт назначен. Его методически лишили творческого общения с крупнейшими музыкантами мира. Из-за этого, например, уже несколько лет задерживается первое исполнение виолончельного концерта Лютославского в Польше, на родине композитора, куда Ростроповича не пускают, и первое исполнение концерта Бриттена, посвящённого Ростроповичу. Наконец, ему преградили пути дирижёрской работы в Большом театре, которая была для него наиболее творчески важна и интересна. Этой весной я счёл своим долгом уехать с его дачи, чтоб освободить его от преследований. Однако они мстительно продолжаются и по сей день. Ещё же нельзя ему простить его письма о судьбах русского искусства.
Уже несколько лет ни один телефонный или внутрикомнатный разговор – мой или членов моей семьи, даже на последнюю бытовую тему, не остался неподслушанным и (есть признаки) не проанализированным. Мы уже привыкли к тому, что днём и ночью постоянно разговариваем в присутствии Госбезопасности. Когда у них кончается плёнка, они безцеремонно прерывают телефонный разговор, чтобы перезарядить, пока мы перезвоним. В таком же положении – Ростропович, Сахаров, Шафаревич, Чуковские, многие знакомые мне семьи, а ещё больше незнакомых.
Даже странно слышать, что где-то идут споры, имеет ли право президент страны распорядиться об установлении электронного подслушивания для защиты военных тайн своей страны. И даже оправдан по суду человек, разгласивший такие секреты. А у нас – и без суда считается виновным любой человек, однажды высказавший вслух мнение, противоречащее официальному. И электронное подслушивание за ним устанавливает не глава страны, но средний чиновник Госбезопасности. Такое электронное подслушивание, не говоря о всей прочей слежке, опутывает тысячи и тысячи интеллигентов и ответственных служащих в главных городах Советского Союза. И множество дармоедов в мундирах сидят и анализируют плёнки подслушивания. И это даже не очень скрывается, министр считает дозволенным заявить подчинённому: «Мне давали слушать ваш такой-то телефонный разговор», – и дальше выговор за этот разговор. Слежка доходит до того, что даже в отношении соприкасающихся со мною людей 5-е управление КГБ (ген. – майор Никашкин) и его 1-й отдел (Широнин) дают письменные указания – «выявлять посещаемые ими адреса», то есть спираль уже второго порядка.
В нашем дворе стоит поношенный ижевский «москвич» нашей семьи. С ним рядом ночуют несравненно лучшие машины, но какие-то странные «похитители» всякий раз покушаются именно на эту. Два раза потерпели неудачу, один раз повредили её нарочно, ещё раз – угнали в Грузию. И хотя милиция нашла машину и будто бы угонщиков – никакого суда над ними не было. – Не только я, но и мои знакомые засыпаны оскорбительными анонимными письмами. – Перед недавними муниципальными выборами агитатор («блока коммунистов и безпартийных») заявил о моей жене, не скрываясь: «таких надо душить!». – Редактор журнала «Октябрь» Зверев в публичных лекциях в Институтах Вирусологии и Иммунологии Академии Наук заявил, что я «член исполнительного комитета сионистов». Ему возразили наивно: «Но ведь в газете печатали, что Солженицын – помещичьего происхождения». Находчивый октябрист ответил во всеуслышание: «Тогда надо было писать так. А теперь надо считать Солженицына евреем». – Почтовая цензура не пропустила ни одного газетного западного отзыва на «Август» из многочисленных посланных мне моим адвокатом г. Хеебом. Таким образом, я лишён возможности узнать, как же воспринята моя книга на Западе. – Министр внешней торговли Патоличев отказался признать мои права на получение сумм из нобелевской премии, и меня вынуждают дискриминировать её, признать «подарком частного лица» (что к тому же даёт право государству конфисковать третью часть гневно осуждённой премии). – КГБ то и дело подсылает ко мне своих агентов под видом «юных авторов», принесших свои литературные опыты.
Видный генерал КГБ передал мне через третье лицо прямой ультиматум: чтоб я убирался за границу, в противном случае меня сгноят в лагере, и именно на Колыме.
В связи с тем, что Вам не дали прописки к Вашей семье, где же Вы живёте?
В зимнее время у меня нет другого места для жизни, как квартира моей семьи, естественное место для каждого человека. Я и буду здесь жить, независимо от того, дадут мне прописку или нет. Пусть безстыжие приходят и выселяют меня, это будет достойная реклама нашего передового строя.
[29]
КГБ, экспедитору Поляковой
31 августа 1973
В прошлом письме, полученном Вами 3 июля, я же предупредил, что сюжет с бандитами слишком ясен, его благоразумнее прекратить. Своим третьим письмом, да ещё таким злым, Ваше ведомство вынудило меня к интервью.
Если увидите Ивана Павловича Абрамова[91], передайте ему, пожалуйста, это.
Солженицын
[30]
В редакцию «Литературной газеты»
Главному редактору Чаковскому
28 сентября 1973
В Вашей газете 12 сентября в статье М. Максимова «После прозрения» лживо приписана мне цитата: обозвал Якира «алкоголиком, продавшимся за лишних сто граммов». Этих слов я никогда не говорил и не писал, о Якире я высказывался единственный раз в интервью 23 августа 73 года, этот текст известен Вам.
Всё, что Ваша газета до сих пор несла и несёт обо мне, находится на совести Вашей. Однако здесь я вижу новый приём – клеветать на меня, приписывая мне же ложные цитаты. Этот приём я вынужден буду пресечь. Если в ближайших номерах Ваша газета или М. Максимов не исправятся в сказанном, хотя бы как в «технической ошибке», я вынужден буду предать публичности формы и способы Вашей клеветы.
Солженицын
[31]
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЗЯТИИ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГА»
Москва, 5 сентября 1973
Как заявил Солженицын, в конце августа в Ленинграде КГБ конфисковал машинописный экземпляр книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» – многотомного исследования о советских лагерях за период 1918–1956, содержащего только подлинные факты, места и имена ещё ныне живущих людей (свыше двухсот человек). Автор опасается, что теперь начнётся преследование всех их за показания о своих муках в сталинских лагерях, данные 10 лет назад.
Сведения о месте хранения книги сообщила Елизавета Воронянская, которую допрашивали в КГБ непрерывно 5 суток. Вернувшись домой, она повесилась.
[32]
(на титуле самиздатского издания)
ОТ АВТОРА
Вступление СССР во Всемирную конвенцию по авторским правам позволяет предположить, что теперь права писателей нашей страны защищены от самовольных публикаций. В таком предположении автор и выпускает этот отрывок в Самиздат.
Сентябрь 1973
[33]
28 октября 1973
Дорогой Андрей Дмитриевич!
Был в отъезде, когда узналось о нападении на Вас, и потому пишу только сейчас.
Низко же поставлена наша страна перед арабами, если нет у них оснований уважать нашу национальную честь. Только и не хватало нам, чтоб ещё арабский терроризм «поправлял» русскую историю.
Однако я утверждаю, что в нашем отечестве при условии сквозной слежки и подслушивания, какие установлены за Вами, такое покушение невозможно без ведома и поощрения властей. Если б оно было независимым и для властей нежелательным, многочисленным штатам не составляло никакого труда пресечь его перед началом, в полуторачасовом ходе или тотчас по окончании задержать преступников. Посмели б они у нас пошевельнуться, не получив разрешения! – нелепо и подумать знающему наши условия.
Но это – новейший приём. Свободному слову свободного человека – что противопоставить? Аргументов нет, ракеты неприменимы, решётка ущербна для репутации, остаётся наёмный убийца.
Если когда-нибудь нанесут Вам этот удар, а я ещё буду жив, заверяю Вас, что остатком своего пера и жизни послужу, чтоб убийцы не выиграли, а проиграли.
Крепко обнимаю Вас!
Ваш
А. Солженицын
[34]
16 сентября 1973
Дорогой Андрей Дмитриевич!
Восхищаюсь Вашей стойкостью и стоянием. В большинстве случаев удивляюсь, как мы с Вами, не встречаясь, не советуясь, не сговариваясь, говорим и действуем почти строго параллельно (а потому что это вытекает из истинного положения дел).
Но сейчас услышал о Вашем обращении к американскому Конгрессу – и огорчён. Если правильно Вас передали, Вы поддерживаете только поправку Джексона, которая была вполне уместна полгода назад и даже 3 месяца назад, но сейчас представляется уже совсем слабой. После кампании августа-сентября против нас, в Конгрессе существуют более определённые мнения (например, председатель бюджетной комиссии палаты представителей Милз, очень влиятельное лицо): не предоставлять торгового благоприятствования тем странам, где нет гарантии прав человека (и он это сформулировал в защиту Вас и меня, специально). Разрабатываются мероприятия, как этого добиться (короткие сроки соглашения, постоянные доклады Конгрессу о состоянии прав человека в соответствующей стране). И вдруг – Ваше сегодняшнее выступление, верней отступление и сужение без всякой надобности? Андрей Дмитрич, дорогой, неужели же право эмиграции (по сути, бегства) важнее прав постоянной всеобщей жизни на местах? права немногих тысяч – важнее прав многих миллионов? Право эмиграции – частный-частный случай всех общих прав. Я прошу Вас, убедительно: не сводите вопроса к эмиграции, не акцентируйте её на первом месте выше всего – ведь почву под собственными ногами сжигаете.
С любовью обнимаю Вас!
Ваш
А. Солженицын
Если уж говорить о свободах – то не самая ли бы первая русская свобода была бы: от крепостного права, от закрепощения крестьянства, от паспортного режима? При всех свободах была бы и свобода эмиграции как частность.
[35]
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
14 января 1974
Не сомневаюсь, что побудительным толчком к нынешнему исключению писательницы Лидии Чуковской из Союза, этому издевательскому спектаклю, когда дюжина упитанных преуспевающих мужчин разыгрывали свои роли перед больной, слепой сердечницей, не видящей даже лиц их, в запертой комнате, куда не допущен был никто из сопровождавших Чуковскую, – истинным толчком и целью была месть ей за то, что она в своей переделкинской даче предоставила мне возможность работать. И напугать других, кто решился бы последовать её примеру. Известно, как три года непрерывно и жестоко преследовали Ростроповича. В ходе травли не остановятся и разорить музей Корнея Чуковского, постоянно посещаемый толпами экскурсантов.
Но пока есть такие честные безстрашные люди, как Лидия Чуковская, мой давний друг, без боязни перед волчьей стаей и свистом газет, – русская культура не погаснет и без казённого признания.
А. Солженицын
[36]
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
18 января 1974
Полная ярости кампания прессы скрывает от советского читателя главное: о чём эта книга? Что за странное слово «ГУЛАГ» в названии её? «Правда» лжёт: автор «смотрит глазами тех, кто вешал революционных рабочих и крестьян». Нет! – глазами тех, кого расстреливало и мучило НКВД. «Правда» уверяет, что в нашей стране – «безкомпромиссная критика» периода до 1956 г. Ну вот пусть и покажут свою безкомпромиссную критику, я дал им богатейший фактический материал.
Ещё сегодня – ещё сегодня! – этот путь не закрыт. И какое очищение было бы для страны!
Публикуя «Архипелаг», я всё же не ожидал, что до такой степени отрекутся даже от своих прежних слабых признаний. Линия, избранная органами нашей пропаганды, есть линия звериного страха перед разоблачениями. Она показывает, как цепко держатся у нас за кровавое прошлое и хотят нераскрытым мешком тащить его с собою в будущее – лишь бы не произнести ни слова – не то что приговора, но морального осуждения ни одному из палачей, следователей и доносчиков. Характерно: едва только «Немецкая волна» объявила, что каждый день будет по полчаса читать «Архипелаг» – на неё накинулись глушить неистово: ни одно слово этой книги не должно прорваться в нашу страну.
Как будто это надолго! Я уверен, что скоро наступит время, когда эту книгу в нашей стране будут читать широко и даже свободно. И найдутся памятливые и любознательные, кто потянется проверить: а что писала советская пресса при появлении этой книги? и кто подписывал? И в потоке мутной брани они не найдут имён собственных, ответственных, везде трусливая анонимность, псевдонимность.
Потому и врут так легко, что угодно: будто по моей книге «гитлеровцы снисходительны и милостивы к порабощённым народам», «сталинградская битва выиграна штрафными батальонами». Всё лжете, товарищи правдисты. Прошу объявить точные страницы! (Увидите, что не объявят.) Или ТАСС: «в своей автобиографии Солженицын сам признался в ненависти к советскому строю и к советскому народу». Моя автобиография напечатана в Нобелевском сборнике 1970 г., доступна всему миру, проверьте, как нагло лжёт Телеграфное Агентство Советского Союза. Да что о нём говорить, если оно имело безстыдство плюнуть в смеженные глаза всем убитым: что написано об их муках и смерти только ради валюты (сообщение Кирилла Андреева, ТАСС. А его отец – жив? или расстрелян там же?).
Но и тут промахнулось ТАСС: продажная цена книги на всех языках будет предельно низка, чтобы читали её как можно шире. Цена такая, чтобы только оплатить работу переводчиков, типографии и расход материалов. А если останутся гонорары – они пойдут на увековечение погибших и на помощь семьям политзаключённых в Советском Союзе. И я призову издательства отдать и свой доход на ту же цель.
А вот ложь «Литгазеты»: будто у меня «советские люди – исчадия ада», сущность русской души «в том, что русский человек готов за пайку хлеба продать отца и мать». Назовите страницы, лгуны! Это для того так пишется, чтоб разъярить против меня моих неосведомленных соотечественников: Солженицын «ставит знак равенства между советскими людьми и фашистскими убийцами». Маленькая подтасовка: между фашистскими убийцами и убийцами из ЧК-ГПУ-НКВД – да, ставлю. А «Литгазета» натягивает сюда «всех советских людей», чтобы среди них нашим палачам укрыться удобней.
Но какие страницы они будут указывать, из какой книги? Ведь «Литгазета» попалась на мародёрстве, на раздевании трупа: она цитирует захваченный экземпляр, 4-ю и 5-ю части «Архипелага», которые ещё нигде не напечатаны, – именно в Госбезопасности делал выписки подозрительный «Литератор»! Вот выйдет 4-я часть, вы прочтёте и эту цитату: «Я понял ложь всех революций истории» (конец главы 1-й), и эту оценку – не русского человека, но советской воли (глава 3-я, названия разделов): «Постоянный страх», «Скрытность и недоверчивость», «Тление души», «Ложь как форма существования»…
И ещё смеют обвинять, что момент печатания «Архипелага» выбран мировой реакцией, чтобы сорвать разрядку напряжённости. Он выбран – нашей Госбезопасностью (она и есть главная «мировая реакция» сегодняшнего дня), – выбран её жадностью хватать рукописи. Если она ценит разрядку напряжённости, зачем же она в августе 5 суток выдавливала, выжигала эту рукопись из бедной женщины? В произошедшем захвате я увидел Божий перст: значит, пришли сроки. Как предсказано было Макбету: Бирнамский лес пойдёт.
А. Солженицын
[37]
ИНТЕРВЬЮ
журналу «Тайм»
19 января 1974
Братья Медведевы выражают веру, что реформы в СССР могут произойти лишь изнутри, притом сверху, и что западное общественное мнение мало чем может помочь. Сахаров выражает мнение, что лишь давление снизу и извне может быть эффективным. Раздавались упрёки, что он и Вы обращались к западным правительствам и реакционным кругам на Западе. Что Вы скажете об этом?
Ни к иностранным правительствам, ни к парламентам, ни к иностранным политическим кругам я лично не обращался никогда. Сахаров же, сколько знаю, единственный раз к американскому Сенату и один раз, косвенным советом, к правительствам Западной Европы. Верно, это не адрес для нас и не путь. Мы обращались к мировой общественности, к деятелям культуры. Их поддержка для нас – безценна, всегда эффективна, всегда помогает. Мы оба до сих пор целы и живы только благодаря ей. Однако и она не может быть безконечной, призывами к этой поддержке мы не смеем злоупотреблять: во всех странах – свои заботы, и не обязаны они всё время заниматься нашими.
Но совсем смехотворно предложение Роя Медведева в его рыхлой статье, почти легальной по скучности: обращаться за помощью к западным коммунистическим кругам – к тем, кто не имел желания и усердия защитить даже коммунистическое дело в Чехословакии, – так неужели нас они будут защищать? (За публикацию «Ивана Денисовича» Хрущёв получил выговор от Гомулки и Ульбрихта.)
Братья Медведевы предлагают терпеливо, на коленях, ждать, пока где-то «наверху», какие-то мифические «левые», которых никто не знает и не называет, одержат верх над какими-то «правыми» или вырастет «новое поколение руководителей», а мы все, живущие, все живые, должны – что? «развивать марксизм», хотя бы нас пока сажали в тюрьмы, хотя бы «временно» и усилилось угнетение. Чистый вздор.
Казалось бы, и естественно нам – обращаться к нашему правительству, к нашим вождям, предположив, допустив, что они не совсем безразличны к судьбам народа, из которого произошли? Такие письма писались не раз – Григоренко, Сахаровым, мною, сотнями людей, с конструктивными выходами из сложностей и опасностей для нашей страны, – но никогда не были приняты даже к обсуждению, ответов не было, только карательные.
И остаётся наше право и наш прямой путь – обращаться к своим читателям, к своим соотечественникам, и особенно к нашей молодёжи. И если она, всё узнав и всё поняв, не поддержит нас, то это уже будет от недостатка мужества. И тогда она и мы заслужили нашу жалкую участь, и не на кого нам жаловаться, только – на своё внутреннее рабство.
Каким же образом ваши соотечественники, ваша молодёжь может оказать вам поддержку?
Никакими физическими действиями, всего-навсего: отказом ото лжи, личным неучастием во лжи. Каждому перестать сотрудничать с ложью решительно везде, где он сам видит её: вынуждают ли говорить, писать, цитировать или подписывать, или только голосовать, или только читать. У нас ложь стала не просто нравственной категорией, но и государственным столпом. Отшатываясь ото лжи, мы совершаем поступок нравственный, не политический, не судимый уголовно, – но это тотчас сказалось бы на всей нашей жизни.
ТАСС заявляет, что издание Вашей книги «Архипелаг ГУЛАГ» создаёт опасность возврата атмосферы «холодной войны» и наносит ущерб разрядке напряжённости между Востоком и Западом.
Вред миру и добрым отношениям между людьми и народами приносит не тот, кто рассказывает о совершённых преступлениях, а тот, кто делал или делает их. Раскаяние личное, общественное и национальное всегда только очищает атмосферу. Если мы открыто признаем наше страшное прошлое и сурово, не в пустых словах, осудим его – это только укрепит во всём мире доверие к нашей стране.
Ваша новая книга не будет напечатана здесь, но многие русские услышат её по радио. Как Вы себе представляете их реакцию, в особенности реакцию молодого поколения, знающего мало о событиях, которые Вы описываете?
Услышат ли по радио – неизвестно. По «Немецкой волне» «Архипелаг» уже глушат. Но всё равно правда дойдёт, узнается. Десятилетиями она настолько была скрыта, что её появление во весь рост потрясает всякого незнающего – но и воспитывает его сердце, но и даёт ему свет и силу на будущее.
Как Вы предполагаете, как поступят власти в отношении Вас?
Совершенно не берусь прогнозировать. Я и моя семья готовы ко всему.
Я выполнил свой долг перед погибшими, это даёт мне облегчение и спокойствие. Эта правда обречена была изничтожиться, её забивали, топили, сжигали, растирали в порошок. Но вот она соединилась, жива, напечатана – и этого уже никому никогда не стереть.
[38]
ПРОРЫВ НЕМОТЫ
Я полагаю, что выход в свет в 1973 г. новой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» – событие огромное. По неизмеримости последствий его можно сопоставить только с событием 1953 года – смертью Сталина.
В наших газетах Солженицына объявили предателем.
Он в самом деле предал – не родину, разумеется, за которую он честно сражался, и не народ, которому приносит честь своим творчеством и своею жизнью, а Государственное Управление Лагерей – ГУЛАГ, – предал гласности историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается предать забвению.
Кто же предательствует?
XX съезд партии приоткрыл над штабелями трупов окровавленный край рогожи. Уже одно это спасло в пятидесятые годы от гибели миллионы живых, полумёртвых и тех, в ком теплилась жизнь ещё на один вздох. Хвала XX съезду. XXII вынес решение поставить погибшим памятник. Но напротив, через недолгие годы злодеяния, совершившиеся в нашей стране в ещё никогда не виданных историей масштабах, начали усердно выкорчёвывать из памяти народа. Погибли миллионы людей, погибли все на один лад, но каждый был ведь не мухой, а человеком – человеком своей особой судьбы, своей особой гибели. «Реабилитирован посмертно». «Последствия культа личности Сталина». А что сделалось с личностью – не тою, окружённою культом, а той – каждой – от которой осталась одна лишь справка о посмертной реабилитации? Куда она делась и где похоронена – личность? Что сталось с человеком, что он пережил, начиная от минуты, когда его вывели из дому, – и кончая минутой, когда он возвратился к родным в виде справки?
Что стоит за словами «реабилитирован посмертно» – какая жизнь, какая казнь? Приблизительно с 1965 года об этом приказано было молчать.
Солженицын – человек-предание, человек-легенда – снова прорвал блокаду немоты; вернул совершившемуся – реальность, множеству жертв и судеб – имя, и главное – событиям их истинный вес и поучительный смысл.
Мы заново узнали, – слышим, видим, что это было такое: обыск, арест, допрос, тюрьма, пересылка, этап, лагерь. Голод, побои, труд, труп.
«Архипелаг ГУЛАГ».
Лидия Чуковская
4 февраля 1974
Москва
[39]
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
2 февраля 1974
В декабре, ещё не публиковался «Архипелаг», лекторы московского горкома КПСС (например, Капица в Госплане) заявляли дословно: «Солженицыну мы долго ходить не дадим». Эти обещания властей вполне совпадали с псевдобандитскими письмами, в которых добавлялись только череп и скрещенные кости. Вышел в свет «Архипелаг» – и любимый знак бандитов перешёл из анонимных писем на витрину Союза художников, а угрозы убить – в телефонную атаку («приговор приведём в исполнение!»). Эту телефонную атаку на мою семью – двух женщин и четырёх детей, хулигански вели агенты Госбезопасности в две смены – с 8 утра до 12 ночи, кроме суббот и воскресений, когда у них законные выходные.
А визгливая кампания газет направлена, собственно, не на меня: заполняй они бранью хоть целые полосы, они все вместе не испортят мне одного рабочего дня. Газетная кампания направлена против нашего народа, против нашего общества: оглушить, ошеломить, испугом и отвращением откинуть соотечественников от моей книги, затоптать в советских людях знание, если оно прорвётся через глушилки. Сыграть и на низких инстинктах – у Солженицына три автомашины, буржуй! – кто ж и где опровергнет всевластных лгунов, что никаких трёх машин нет и не было, а передвигаюсь двумя ногами да троллейбусом, как не унизится самый последний корреспондент ТАССа. Сыграть и на высоком возмущении: он оскверняет могилы павших в Отечественной войне! Через башни газетной лжи кто ж доберётся, что моя книга – совсем не об этой войне и не о двадцати миллионах наших павших, но о других шестидесяти миллионах, истреблённых войною внутренней за 40 лет, – замученных тайно, замороженных на безлюдьи, выморенных голодом целых республиках?
Недели назад ещё был честный путь: признать правду о минувшем и так очиститься от старых преступлений. Но судорожно, но в страхе животном решились стоять за ложь до конца, обороняясь газетными бастионами.
Защита мирового общественного мнения пока не даёт ни убить автора, ни даже арестовать: то было бы лучшим подтверждением книги. Но остаётся путь клеветы и личной дискредитации, за это теперь и принимаются дружно. Вот вызван из провинции мой бывший одноделец Виткевич, и, сохраняя свою научную карьеру, он через АПН, этот испытанный филиал КГБ (они ему «дружески показали» протоколы следствия 1945 года, пошёл бы кто добился другой!), похваливает следствие тех времён: «следователь не нуждался искажать истину». 29 лет он не ставил упрёков моему поведению на следствии – и до чего же вовремя попадает теперь в общий хор. Отлично знает он, что от моих показаний не пострадал никто, а наше с ним дело было решено независимо от следствия и ещё до ареста: обвинения взяты из нашей с ним подцензурной переписки (она фотографировалась целый год) с бранью по адресу Сталина и потом – из «Резолюции № 1», изъятой из наших полевых сумок, составленной нами совместно на фронте и осуждавшей наш государственный строй. Вспоминает мои «показания на суде», а надо мной и суда не было, заочное ОСО. Верно пишет он, что мы «принадлежим к разным людским категориям»: настаивал он на забвении всех смертей и мук, своих и чужих. Да это только начало. Вот выловят, заставят лгать свидетелей, попутчиков, встречных моей полувековой жизни. Вот и из бывших зэков, недострелянных, недомученных, выжмут заявления, что они не страдали, что их не пытали, что не было Архипелага.
У ЦК, КГБ и у наших газетных издательств, сегодня тайком нарасхват читающих «Архипелаг», нет уровня понять, что я о себе самом рассказал в этой книге сокровенное, много худшее, чем всё плохое, что могут сочинить их угодники. В этом – и книга моя: не памфлет, но зов к раскаянию.
Вся сегодняшняя газетная свистопляска, в которую вкружились именитые деятели искусств (а другие с твёрдостью отреклись, и идёт молва об их мужестве), – вся эта кампания есть бой против совести народа, против правды для народа. Перегораживая её чёрными фалдами, взмахами крыльев, решилась рогатая нечисть на этот безнадёжный бой перед заутреней, чтобы протянуть свою власть над человеческими душами. Но чем отчаянней они мажут чёрным, тем полней им отдастся, когда узнается правда.
Наш народ уже полвека добывает её только разгребаньем ото лжи. Научились люди, уже знают, зачем и когда так избыточно вопят. Притекает ко мне поддержка – в телефонных же звонках, в достигших письмах, записках от названных и неизвестных людей, –
«От уральцев. Всё понимаем. Так держать, браток!
Группа рабочих».
Пишут одиночные протесты в газеты, предвидя все гибельные последствия для себя. Вот и публично выступили безстрашные трое молодых – Борис Михайлов, Вадим Борисов, Евгений Барабанов (у каждого – малые дети), ничем не защищённые, кроме правоты. Быть может, раздавят и их и меня, но не раздавят правду, сколько б ещё знаменитых жалких имён ни подцепили к чёрному хороводу.
Я никогда не сомневался, что правда вернётся к моему народу. Я верю в раскаяние, в наше душевное очищение, в национальное возрождение России.
А. Солженицын
[40]
Прокуратура СССР
103793 Москва К-9, Пушкинская, 15-а
8 февраля 1974 г. №________
г. Москва, улица Горького д. 12, кв. 169
Гр-ну Солженицыну А. И.
Гр-н Солженицын А. И.
Вам надлежит явиться в Прокуратуру СССР – улица Пушкинская, 15а, 8 февраля 1974 г. в 17–00, комната № 513, этаж 5-й.
Прокурор следственного управления
Прокуратуры СССР
А. Балашов
[41]
ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
в ответ на её повторный вызов
В обстановке непроходимого всеобщего беззакония, многолетне царящего в нашей стране (а лично ко мне – и 8-летней кампании клеветы и преследований), я отказываюсь признать законность вашего вызова и не явлюсь на допрос ни в какое государственное учреждение.
Прежде чем спрашивать закон с граждан, научитесь выполнять его сами. Освободите невинных из заключения. Накажите виновников массовых истреблений и ложных доносчиков. Накажите администраторов и спецотряды, производившие геноцид (высылку народов). Лишите сегодня местных и отраслевых сатрапов их безпредельной власти над гражданами, помыкания судами и психиатрами. Удовлетворите миллионы законных, но подавленных жалоб.
А. Солженицын
11 февраля 1974
[42]
НА СЛУЧАЙ АРЕСТА
Я заранее объявляю неправомочным любой уголовный суд над русской литературой, над единой книгой её, над любым русским автором. Если такой суд будет назначен надо мной – я не пойду на него своими ногами, меня доставят со скрученными руками в воронке. Такому суду я не отвечу ни на один его вопрос. Приговорённый к заключению, не подчинюсь приговору иначе как в наручниках. В самом заключении, уже отдав свои лучшие восемь лет принудительной казённой работе и заработав там рак, – я не буду работать на угнетателей больше ни получаса.
Таким образом я оставляю за ними простую возможность открытых насильников: вкоротке убить меня за то, что я пишу правду о русской истории.
А. Солженицын
[43]
ИЗ ПИСЬМА ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР ПО ПОВОДУ ИЗГНАНИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА
Безответственные правители великой страны!
…вы, кажется, начали понемногу понимать… что в духовной борьбе убитый противник опаснее живого… Но… вы ещё не поняли, что с выходом в свет «Архипелага ГУЛАГа» пробил роковой для вас час истории; …Вы ещё не поняли, что Бирнамский лес уже пошёл… что на вас поднялись десятки миллионов убитых… Они давно уже стучатся в нашу жизнь, но некому было открыть им дверь… «Архипелаг ГУЛАГ» – это обвинительный акт, которым открывается судебный процесс человеческого рода против вас… И пусть паралич, которым Бог покарал вашего первого вождя, послужит вам пророческим прообразом того духовного паралича, который ныне неминуемо надвигается на вас.
…Может быть, задумается кто-то из вас: а всё же нет ли над всеми нами Того, Который спросит за всё?
Не сомневайтесь – есть.
И спросит. И – ответите.
…Отнимите Россию у Каина и отдайте её Богу…
Л. Л. Регельсон
17 февраля 1974
Москва
[44]
ПОЛГОДА ПРОТЯЖКИ И ПОЛТОРА ЧАСА РАЗГОВОРА
Запись допроса на Лубянке
Последнее лето (1974) в жизни отца я проводил с ним на Николиной Горе. В августе я собирался на машине в Крым, а Ирина уезжала в Пятигорск на лечение. Как раз перед её отъездом позвонили по телефону из КГБ, спросили меня, а потом просили её мне передать, чтобы я позвонил Викторову Андрею Павловичу, который желал бы со мной иметь разговор (оставил телефон). Ирина, конечно, взволновалась и хотела, чтобы я ещё перед её отъездом пошёл выяснил, в чём дело (неизвестность всегда безпокоит-теребит). Но я решил не спешить и успокоил её, а потом в письме написал, что бумажку с телефоном потерял, но что беды в этом нет никакой, что еду спокойно в Крым, а там видно будет. Но всё-таки это и меня теребило, и я принялся пилить и колоть дрова с такой силой, что перетрудился и пришлось немного полечить сердце. Зато нервы привёл в порядок. А было у меня два предположения насчёт интереса ко мне: либо по поводу Кривошеина (причины были вполне реальные), либо в связи с А. И.
Затем я уехал в Крым, там занозил палец: образовался костный панариций, всё время с ним возился и безрезультатно резал и лечил, тем не менее хорошо провёл время среди друзей, которые много заботились обо мне. Я даже и думать перестал о «приглашении» и решил, что «отвалились». Но вернувшись в Москву, я узнал, что кто-то, назвавший себя «одним моим знакомым», справлялся обо мне и спрашивал, в Тарусе ли я? По голосу и разговору судя, это было «оттуда», и только удивиться, как ясно, почти безошибочно это всегда можно определить!?
В эту осень отец стал слабеть и болеть, так что явно жизнь его шла к концу – ведь в декабре ему должно было исполниться 100 лет! Мне приходилось очень много времени проводить с ним, да и с пальцем я возился ещё месяца три, пока его не вылечили. За это время звонили ещё раз, но на меня не попали, а потом ещё, и на этот раз взял трубку я. Вкрадчивый, вежливенький голос напомнил о себе и о желании меня видеть. Ссылаясь на болезнь свою и отца, я сказал, что сейчас это невозможно, и просил, если уж так я нужен, прислать мне повестку по форме. «Это мне было бы удобнее»… Удивление: «Ну для чего же сразу повестку?» – «Там, по крайней мере, должна быть указана причина, а вы вот не говорите». – «Ну, это не телефонный разговор, а вы, Александр Александрович, всё-таки позвоните, когда у вас время будет, а то и мы можем к вам прийти поговорить». – «Нет, ко мне неудобно, да я и редко дома бываю, а телефон ваш куда-то затерялся…» – «Это не беда, запишите». Записываю. Сверяю с первым – тот же… Спрашиваю звание, – капитан (неохотно). Между прочим узнаю, что это то самое «отделение фирмы», которое беседовало с моей племянницей, после чего ей отказали в разрешении на выезд, но потом всё же разрешили её жалобы, поддержанные из Франции непосредственно к Фурцевой от Нади Буланже. И опять проходит немало времени, но понимаю – не отстанут. Умирает мой отец в ноябре, и только в декабре я принимаю решение – позвоню сам и пойду. За это время у меня укрепилось мнение, что это касается А. И., и я ясно определил себе свою позицию.
Звоню. Как мне показалось, радостное удивление. Назначают день. Нет, нарочно перекладываю на другой. Изысканно вежливо соглашаются. И вот в серый зимний день, обратившись предварительно к Божьей Матери, иду на Кузнецкий 24. Внутреннее ощущение: тупое, часть нервов как бы под местным наркозом, но голова ясная, глаза всевидящие. Вхожу в эту самую приёмную. В дверях теснятся два человека, о чём-то живо переговариваясь. Слегка удивляюсь этому здесь. Нисколько не удивляюсь тому, что сразу со стула против двери поднимается небольшого роста брюнет в чёрных очках и направляется ко мне. Называет меня по имени-отчеству, называет себя. Конечно, мой вид ему хорошо знаком. Пропускает меня вперёд через довольно узкую дверь в интерьеры, там тёмный коридор, я пропускаю его – пусть указывает, куда идти. Заминка. Но дело не в вежливости, а в инструкции, – он должен находиться сзади. Наконец куда-то выходим, и тут же дверь в кабинет налево. А за первой дверью замечаю в темноте прижатого к стене вертухая в фуражке с синим околышком. Значит, я переступил рубеж. Вхожу в небольшой кабинет. Всё как всюду, и всё же просматриваются штрихи особого стиля фирмы. Из-за стола в глубине поднимается и выходит мне навстречу другой человек лет под сорок, очень рыжий с прямыми волосами, длинно зачёсанными вбок. Здоровается (я делаю промах: не прошу отчётливо назваться); предлагает снять шубу и сесть. Сажусь – из окна свет падает на меня (11 часов). Спиной к окну, лицом ко мне садятся чёрные очки. Слева за свой стол садится рыжий. Несколько секунд молчания, потом начинается «беседа». (Передаю по памяти.)
– Вот мы пригласили вас на разговор. Вы, Ал. Ал., человек с большим жизненным опытом… а мы люди молодые (неестественная скромность – будто впрямь поучиться хотят).
Я молчу.
– Ну как вы думаете, Ал. Ал., почему вами заинтересовалась Госбезопасность, ведь у вас было время подумать над этим.
Однако же быстро вы поплевали на первого червяка и повесили крючок перед моим носом.
– Не знаю, право, мало ли что вас может интересовать. – (Наивничаю с улыбочкой.)
– Ну всё-таки, как вы думаете?
– А не проще ли вам просто сказать, – говорю сдержанно, чуть раздражённо. Рыжий думает.
– Нас интересуют ваши отношения с Солженицыным.
– Понимаю, – киваю головой.
– Какие у вас были с ним отношения?
Отвечаю бодро, почти весело, заранее отлитое:
– Очень хорошие, дружеские.
И гляжу, гляжу в оба – вида не подают, но чуть озадачены: ведь не пешкой сразу выхожу.
– И часто вы с ним видались?
– Нет, не часто, а за последнее время совсем редко.
– Но всё же уже и тогда, когда он прямо пошёл против закона, и уже получил повестку от прокурора?
Ну конечно, это-то вы знаете, как я пришёл в день ареста. Но не уточняют. И я тоже.
– Насколько мне известно, он был выслан без следствия и суда. А отворачиваться от друзей, когда им приходится плохо, не в моих привычках.
– Да, но он занимается антигосударственной деятельностью, а вы поддерживаете с ним связь?
– Я не поддерживаю с ним связь с тех пор, как он уехал. Я считаю, что он вошёл в острый конфликт с государственной властью: это не ново для русского большого писателя.
– Но ведь с ним очень гуманно поступили, разве вы с этим не согласны?
– Я хорошо знаю по личному опыту, что такое административная высылка, которой был подвержен дважды, вы наверное это знаете. Когда нас выслали из Франции в 1947 г., советское правительство не рассматривало это как «гуманный акт». Всё относительно. Конечно, с ним могли поступить гораздо хуже, и сравнительно с худшим – высылку можно считать гуманной мерой.
Они-то забыли про мою и моего отца высылку в 1922 г., и на эту тему разговор прекращается.
– А где и когда вы с ним познакомились?
– Ещё в период его славы, а где – точно не помню, кажется в Доме литераторов.
– А кто познакомил?
– Право, не помню. – (Хе-хе, деточки мои!)
Пауза, охлаждающая «теплоту беседы».
– Как вы относитесь к его деятельности?
– Я считаю его очень большим писателем и абсолютно независимым и честным. Как таковой он имеет право говорить всё, что он думает.
– Нет, нет! Не как писатель, – раздражённо говорят чёрные очки, – а в другой области, в политической.
– Я человек самостоятельно мыслящий и отношусь к разным его писаниям различно – одни одобряю, к другим отношусь критически. – (Нет, подробно обсуждать я с вами этого не буду, не надейтесь.)
– Но вы помогали ему, сотрудничали с ним?
– Нет.
– А нам известно, что сотрудничали. Вот в этой папке, не смотрите, что она тоненькая, собраны все данные, вам лучше не отрицать. Например, вы хранили его архив.
– Не знаю, какие у вас данные. Никакого архива я не хранил.
– А хотите, я назову номера дел, хранившихся у вас?
– Не знаю, что за номера, можете назвать, если хотите.
Тянется рукой к папочке, а сам глядит на меня пристально. Я тоже не спускаю с него глаз… в голове мелькает: о марках не говорят, на пушку думают взять или…
– Да нет, не стоит, в другой раз, – рука от папки возвращается назад этак лениво, лениво…
Так! Эта атака сорвалась, пока. Ещё больше укрепляюсь в своей позиции.
– А так называемую Люшу вы знаете?
– Знаю хорошо и давно.
– Она вам ничего никогда не передавала?
– Нет, ничего, никогда.
– А вам известно такое произведение «Телёнок», полное название «Бодался телёнок с дубом»?
– Известно, что такое было, но я не читал.
– А в чём там суть?
– Кажется, автобиографическое.
– А что-то с этой рукописью приключилось, в чём и вы замешаны были? Должны были бы знать!
– Не знаю.
А ведь знают всё же немало. Как отгадать: что точно, что неточно, что предположительно? Но тактика та же самая: внушают – «мы, де, всё знаем, рассказывайте всё, – это в ваших интересах».
Охлаждающая «беседу» пауза. Раздумие рыжего. Очки мрачнеют, углы губ вниз опустились…
Я курю много и замечаю, что закуриваю новую сигарету, не докурив начатую. Это не дело – волнение где-то проскакивает безконтрольно и наверное заметно.
– Вот вы говорите, что не сотрудничали, не помогали, а ведь у вас была и критика, даже очень острая…
Улыбается рыжий, как бы комплимент. Я не отрицаю и молчу. Отмечаю: и это им известно, но не очень-то удивляюсь. Где уж там всё утаить в такой момент, когда всё просматривалось и прослушивалось!
Игра в шахматы продолжается. Рыжий развивает наступление:
– А мемуары свои вы продолжаете писать?
– Да, продолжаю, – делаю вид, что совершенно не удивлён, что почти правда…
– Нам содержание более или менее известно.
– Я никому постороннему не давал, они предназначены только для родных и близких.
– Ну, уж не так и близких…
– Наверное, кто-нибудь из семьи сболтнул, вот и всё, – говорю с безразличием и презрительно (а сам думаю – кто?? Таруса?).
– А вы, наверное, их уже успели отправить Солженицыну?
– Нет, нет и нет! – вдруг обозлился я. – Они слишком интимны, и я не желаю, чтобы это стало предметом политической спекуляции, с любых позиций, – они не предназначены для печати и обнародования.
Так я действительно думаю, и я это же сказал А. И. в последнюю встречу. «Для чего же тогда писать?» – удивился А. И.
Постепенно вежливо-корректный тон начала «разговора» перешёл в явно враждебный и незамаскированно «опросный». То, что эти гаврики не долго удержались на первоначально задуманных позициях и явились мне всё в том же хорошо известном мне виде, меня не печалило нисколько, а подбадривало. Всё осталось на том же месте, по сути ничего в них не изменилось – те же приёмы, те же расчёты, та же примитивность. Ещё с цепи их не спустили, а зубами уже защёлкали, только сдерживаются. Но вот уже переходят к угрозам. После некоторой паузы, которую рыжий пытается сделать многозначительной, а чёрные очки зловещей, рыжий говорит:
– В общем, Александр Александрович, теперь всё будет зависеть от вас самих…
– Не понимаю, почему всё должно и будет зависеть от меня? Что вы хотите этим сказать? На что это намёк? Я считаю, что всё должно зависеть от объективных обстоятельств, а вовсе не от меня.
– Да, – уныло качает головой рыжий, – от объективных обстоятельств… Но для нас существенно выяснить вопрос «умысла», – говорит он «умудрённо», – вы понимаете, что значит умысел?
– Кое-какие представления об этом юридическом понятии я имею. А вот 25 лет тому назад здесь тоже всё предполагали да подозревали и ничего не нашли, не доказали, а 10 лет ИТЛ дали…
– Это были другие времена, – говорит рыжий.
Я криво улыбаюсь. Не получается разговор. Жду, что будет дальше.
– А что вы можете сказать про эту поездку на Юг 6-го августа 71-го года? – задаёт первый раз вопрос чёрные очки. Мгновенно в мозгу отщёлкивает: «кажется, промахнулись, ведь не 6-го, а 7-го отъехали, если не ошибаюсь», – и я без всякой заминки отвечаю:
– Ничего из этой поездки не получилось.
– Как не получилось?
– Да так, она не состоялась, и я просто отвёз Солженицына на вокзал.
– Как на вокзал!? – оторопел и весь на меня через стол наваливается чёрные очки. – Ну, знаете…
Я думал, спросят какой вокзал, да нет, не спросили.
– Ну что же, разговор у нас не получился, – говорит чёрные очки со злобой. И с угрозой!
– Да, не получился, – вторит ему рыжий и, не вставая со своего стула за столом, величественно протягивает руку к двери. Я понимаю, что «аудиенция окончена», встаю и направляюсь к вешалке, где висит моя шуба.
– А вы всё-таки подумайте как следует и позвоните нам.
– Нет, звонить я не буду, посылайте повестку.
– Значит, повестку? Окончательно?
– Да, повестку. Окончательно.
– И не вздумайте что-либо уничтожать у себя.
– Мне нечего уничтожать.
– Уже всё успели распихать? – срывается. – Как хорошо!
Не отвечаю. Одеваюсь.
– И не рекомендую говорить о сегодняшней встрече со Столяровой, несмотря на ваши близкие отношения. Мы её сами вызовем.
Не отвечаю, конечно, но моё лицо ничего, кроме омерзения, от этого шантажа выражать не может.
– А Чуковской можете рассказать…
Это ещё что за фокусы? А, наплевать!
Поворачиваюсь и собираюсь выходить. Из-за спины мне открывает дверь чёрные очки и даёт знак вертухаю у второй двери меня выпустить. Тот отворяет дверь, я выхожу из коридорчика, не оборачиваясь прохожу приёмную и выхожу на улицу. Спиной какое-то время чувствую взор чёрных очков.
На улице тот же день. Всё продолжалось часа полтора. Выхожу к «большому дому», потом на площадь, посреди которой стоит памятник. Вот здесь-то как раз накануне Святой Троицы я и передал «Архипелаг»! А вы – и не знаете!
Эх, хорошо же жить на белом свете! Из «Детского мира» звоню домой, потом иду выпить кофе на Сретенку… Ещё через день-два долго гуляю с Люшей по заснеженным дворам и задворкам в районе Миусских и Ямских улиц.
Хороший был день, удачный день! До сих пор я им доволен (и собой немного!).
Дважды пытался устным способом подробно передать в Вермонт о случившемся, но не получилось. С тех пор пока тихо. Вот, правда, ОВИР в 1977 отказал в поездке за границу. Но это мы переживём.
А. А. Угримов
[45]
Париж, 29 октября 1977
Дорогой А. И.!
…Ваши хорошие слова о моём возвращении ввергают меня в смущение – чуть неловко, словно люди тебя переоценивают, а ты помалкиваешь… А ведь всё получилось благодаря Вам, представьте себе. Ваша помощь помогла мне прожить на Западе год, почти ни от кого не завися (ни за что бы иначе не выдержала). Из-за Вас мне выпало никому не достающееся счастье – спокойно, свободно, сильно, глубоко выбрать, с сознанием, не обременённым ни принципами (Бог с ними, ни разу не понадобились), ни «чувством долга» (противопоказанная мне категория), ни даже сознанием пользы, которую могу принести (даже к себе не отношусь утилитарно). Год назад золотой осенний Париж вызвал чувство: ну вот, я в своём городе и никуда из него не уеду. Ан не получилось. Полная свобода, казалось бы, и «струя светлей лазури», и «луч солнца золотой», а уж я ли не ценитель! – а в сердце живая рана – клубок из любви и ненависти к великой, страшной, замордованной, растоптанной, безсмертной, «желанной», «долгожданной».
…Сегодня бродила по коридорам метро с пакетами для Москвы и вдруг услышала низкий русский голос у одного из тех нищих, что, сидя на полу, поют с гитарой. Смотрю – молодое русское лицо, и пел он «Полюшко, поле…». Пел хорошо, с тоской, многие останавливались. Я же постыдно плакала, отвернувшись к стене, плакала с такой горечью, словно год мне не давали выплакаться. О чём? О проклятии, висящем над нашей страной, о том, что люди – молодые, старые, хорошие, всякие – бегут, бегут, и каждый прав для себя, для своей единственной жизни. А «Россию – жалко».
Казалось бы, гнёт и страх испепелили даже само понятие свободы и достоинства, но тот же неумолимый пресс над духом неожиданно удесятерил потребность в свободе и достоинстве. Не так лагерь, как русская «воля» научила меня ценить как ничто на свете свободу (жить, двигаться, мыслить), которой мы так страстно добиваемся. И ради этой страсти, этой напряжённой жизни, в которую мы – «акробаты поневоле» – тщимся вместить свободу и достоинство, ради этого я, собственно, и возвращаюсь. Да, мне лучше жить там, прислушиваясь к ночным шагам по лестнице, судорожно унося утром из дома всё взрывное после долгого ночного звонка в дверь (потом выяснилось – ошибка «скорой помощи»), жить, непрерывно обманывая «всевидящее око» (и ухо) и хоть частично используя то книжное богатство, которое так обидно-легко плывёт ко мне в Европе, хоть частично удовлетворить вокруг себя неиссякаемую жажду к слову правды. Может быть, потому так ревниво блюла [во время западных путешествий. – А. С.] формальную непорочность паспорта, отметая возможность формального препятствия вернуться.
Вероятно, это моё последнее к Вам письмо, и потому попрошу – если хорошо ко мне относитесь, то не прикрашивайте меня. Помните, какая я жадная до жизни во всех её видах, как я противоречива и не мучаюсь от этого, какая я сибаритка, не избегающая соблазнов, а бегущая им навстречу. Правда, я благодарна судьбе за жизнь, за необыкновенные встречи, из которых ни одной не забываю. Вы, в частности, были одним из моих великих соблазнов, сразу в первом разговоре осознанным, и, как Вы помните, я Вас не отпустила, пока Вы меня не «услышали».
Все приветы в Москву конечно передам, о нашей встрече, однако, мало кому смогу сказать. Очень будем ждать малоформатных книжечек. Плохо с каналами – кому охота долго ходить по канату в чужой стране, – но верю в чудо личного контакта, да и жизнь набита чудесами, моя, во всяком случае, настолько, что я спокойно на них рассчитываю.
Обнимаю Вас и помню всегда.
Н. Столярова
[46]
Борис ИВАНОВ
МОСКВА – РОСТОВ, или КГБ ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА
Воспоминания чекиста[92]
Трель телефонного звонка, неожиданная и резкая, заставила насторожиться. Звонивший аппарат, один из трёх, расположенных на тумбочке по левую сторону массивного, отливающего коричневым глянцем рабочего стола, имел своё особенное назначение. С односторонней связью, без циферблата, в доверительных, служебных кругах он назывался «чёрным», «боссовским». Как правило, по этому телефону звонил «большой шеф», «генерал», «хозяин». Реакция должна быть чёткой и молниеносной: «Здравия желаю, слушаю». Два других аппарата были сугубо рабочими: один с выходом в город, другой, внутренний, для двусторонней связи с различными службами Управления. Спустя некоторое время появился четвёртый – для оперативной связи с периферийными органами. Наличие полного телефонного комплекта свидетельствовало о положении хозяина кабинета в железной иерархической системе Управления. Телефонные разговоры имели свою специфику. Это был эзоповский язык – иносказательность, конспиративность. Но нечастые и короткие разговоры по «чёрному», «боссовскому» телефону были внешне предельно безобидными…
Знакомый, чуть суховатый голос произнёс: «Зайдите ко мне». Приглашение крайне удивило меня. Обычно, по неписаным законам, редкие встречи с первым лицом Управления происходили только с разрешения и в присутствии непосредственного моего начальника. А тут вдруг такое…
Войдя в просторную, чуть затемнённую комнату, вопрошающе посмотрел на секретаря (он же порученец и адъютант). В наших с ним отношениях, нельзя сказать чтобы дружеских, но честных и доверительных, язык жестов и мимика имели немаловажное значение. Я кивнул в сторону двери генеральского кабинета, что недвусмысленно означало: «Что там происходит?» В ответ так же безмолвно последовало: «Не в курсе дела».
Пройдя двойную массивную дверь, доложил о своём прибытии. Генерал находился в хорошем, я бы сказал, в редко прекрасном настроении. Рядом сидел незнакомый мужчина средних лет, одетый в двубортный светлосерый костюм. Жестом руки шеф пригласил меня занять место против незнакомца. Генерал представил нас друг другу, назвал должность, фамилию и звание гостя. Затем строго предупредил о крайней конфиденциальности и чрезвычайной секретности предстоящей беседы, сославшись на указание «центра» – КГБ СССР. На вопрос: «а как же Николай Николаевич?» (мой непосредственный начальник), генерал утвердительно кивнул головой, мол, не безпокойтесь, и продолжил: «В нашу область с неизвестной целью едет писатель Солженицын. Товарищ из Москвы прибыл к нам в связи с этим тревожным обстоятельством. Вы, Борис Александрович, неплохо знаете ростовский период жизни Солженицына, его прошлые связи. Быть полезным товарищу из Москвы, кроме вас, честно говоря, некому. Что касается помощи других служб Управления, соответствующие команды уже даны. С гостиницей всё улажено, машина для гостя выделена. Думаю, вы приятно поужинаете. Искренне сожалею, что не могу составить вам компанию».
Отказ генерала от ужина привёл меня в неподдельное смятение. Не тот ранг гостя? Не то положение в центре? На своём служебном веку в органах КГБ я выполнял многие и разные поручения. Но сейчас я вдруг смутно ощутил дыхание чего-то необычного. Спросить? Глупо. В таких ситуациях язык надо держать на привязи. Иначе попадешь в архинелепое положение со всеми вытекающими последствиями. Одно было ясно: гость выполняет задание, в центре которого находится лидер диссидентов (в то время модное, популярное слово) писатель А. И. Солженицын.
Но почему здесь, у нас – этим занимается Москва? В данном случае операцию можно и целесообразно поручить ростовскому Управлению. Может быть, нам просто не доверяют, хорошо зная Александра Исаевича. Дело в том, что он обладал воистину недюжинными способностями в конспирации. То ли он был врождённый конспиратор, то ли его мученическая, полная лишений судьба отшлифовала это качество, но он довольно часто ставил в пикантное положение асов идеологической контрразведки. Это вызывало соответствующую реакцию со стороны Пятого идеологического Управления КГБ СССР, при котором в связи с Солженицыным была создана специальная оперативная группа. Мне хорошо было известно о её существовании и, в общих чертах, о составе. В неё входили, условно назовём, «теоретики» – приглашённые со стороны литераторы-профессионалы, «разработчики» – профессиональные чекисты, анализирующие добытые сведения и определяющие действия против объекта, и, наконец, «практики-исполнители», которые с учётом обстановки реально осуществляют предложения «разработчиков».
Когда Александр Исаевич стал активно «прогрессировать» в деятельности, направленной против системы социализма, немедленно поступили директивы об изъятии его опубликованных произведений, а также «самиздатовских» перепечаток. «Самиздат» как литературно-общественный феномен существовал и ранее, то есть до Солженицына. Но международный резонанс вызвал именно Солженицын. Созданная им волна «инакомыслия» перехлестнула границы нашего «самого передового» государства и вышла за его пределы. В результате, как ответная реакция, усиливается оперативная группа идеологического Управления. Полный состав группы я не знал. Думаю, что он был текучим, изменяющимся в зависимости от выполнения той или иной программы. Но костяк группы оставался неизменным. В основном он состоял из «разработчиков» и «исполнителей». Некоторые из них занимали очень высокую позицию, но, в соответствии с действующим положением о рангах, в ходе работы контактировали лично со мной. С руководителем московской группы и его «правой рукой» у меня сложились достаточно приятельские отношения. Итак, задача группы на всех уровнях, включая и периферийный, сводилась к пресечению распространения литературного творчества А. И. Солженицына в официальных и неофициальных изданиях.
Выход «Одного дня Ивана Денисовича» не прошёл безследно и на Дону. Управление КГБ начало кропотливое, тщательное изучение ростовского периода жизни писателя. Было установлено, что до войны он жил с матерью в Ростове, учился в школе, а затем в университете на физмате, который окончил перед войной. Тотальное изучение его дружеских, приятельских, интимных связей позволило выявить и определить характер людей, их мировоззрение, а главное, определить способы и методы общения с ними. Круг соучеников по школе и сокурсников по университету оказался небольшим (всё-таки прошло более тридцати лет). Люди эти жили в Ростове, Новочеркасске, Таганроге. Были они, конечно, весьма разные. Некоторые из них занимали солидные должности. Информация, полученная от них, вырисовывала следующую картину: мать писателя – машинистка в госучреждении, отсюда постоянная нехватка денег, нужда, лишения. Юноша был одарён, аккуратен, жил буквально по расписанию. Девчёнки любили его за ум, цельность, способности, но похихикивали над его замкнутостью, отчуждённостью.
При разговорах с бывшими сокурсниками и приятелями Солженицына обозначилась характерная деталь: чем выше должность собеседника, тем меньше информации о его отношениях с писателем. Некоторые «откровенно», старательно поносили его. Но были среди них и такие, редкие, в общем-то, смелые люди, которые с уважением, более того, преклонением отзывались о великом писателе.
Поскольку я руководил одним из подразделений 5-го идеологического отдела Управления КГБ Ростовской области, вся информация о жизни А. И. Солженицына в Ростове сосредотачивалась у меня. Согласно инструкции, эту информацию я немедленно направлял в 5-е Управление КГБ СССР, точнее, в спецгруппу Управления. Но мои функции этим не ограничивались. Они были гораздо шире. Центр направлял в Ростов иностранных, заранее подготовленных писателей, которых подробно знакомили с ростовским периодом жизни Александра Исаевича, преследуя единственную цель: дать материал для будущих зарубежных публикаций, компрометирующих имя писателя, – такая практика действовала на протяжении многих лет. И не только при содействии иностранцев. Например, первая жена Александра Исаевича – Наталья Решетовская, с помощью 5-го Управления опубликовала и распространила книгу «В споре со временем», порочащую супруга.
Но вернёмся к иностранным литераторам. Первым из них в Ростове был чех по имени Томаш, сын известного в Чехословакии писателя. В 1968 году, в период так называемой пражской весны, он эмигрировал в Швейцарию, откуда был возвращён на родину органами госбезопасности Чехословакии. Почему? На Томаша возлагались большие надежды, разумеется, с учётом литературного авторитета отца. Лет 35-ти, симпатичный, с приятным акцентом (он говорил по-русски), балагур и компаньон, Томаш моментально располагал к себе. Очень любил выпить, чем активно пользовались заинтересованные службы.
В Ростов он прибыл с руководителем московской спецгруппы и майором чешских органов госбезопасности Вацлавом. За несколько дней их пребывания на Дону мы ознакомили гостей с Ростовом, выезжали в Новочеркасск, в Институт Виноградарства и виноделия, где обосновалась «точка» местного отделения КГБ. Попутно знакомили с отобранными руководителем спецгруппы материалами, которые тенденциозно, однобоко преподносились Томашу. Такой сценарий применялся во всех случаях, ибо на этот счёт всегда имелась строгая установка центра. В результате – за рубежом появилась книга Томаша Ржезача «Спираль измены Солженицына» (изд-во «Прогресс», М., 1978. – Примеч. ред.). Спустя некоторое время московские коллеги передали мне подарочный экземпляр книги.
Второй визит нанесла писательница из Канады. Не очень популярная у себя в стране, она, по-видимому, решила приобрести международную известность на щепетильной, скандальной «солженицынской» теме. В почтенном возрасте, с грубыми чертами лица, сухопарая, выше среднего роста, она не очень привлекала к себе.
На этот раз её принимали под крышей Ростовского отделения АПН (Агентство Печати Новости). Сопровождающий её представитель московской спецгруппы КГБ имел соответствующие документы прикрытия и визитную карточку на русском и немецком языках с указанием телефона-коммутатора – не КГБ СССР, а совершенно другого, что навело на мысль о резиденции КГБ и в Московском АПН. Канадскую писательницу сопровождала также московская переводчица – смазливая, фривольная в обращении, неопределённых лет женщина. Надо полагать, она действительно работала в АПН, параллельно оказывая «услуги» службе Госбезопасности. Однажды, за очередным лёгким ужином, орошённым лёгкой же выпивкой, коллега из центра кивнул в сторону переводчицы и сказал:
– Знаешь, кто она? Дочь Анки-пулемётчицы.
– ???
Та громко рассмеялась:
– А что, разве не похожа?
И совсем доверительно:
– Кстати, отец мой – Чапаев.
До приезда канадской писательницы я, как всегда, получил указания и насчёт увеселительных мероприятий. Мы посетили дегустационный зал магазина «Солнце в бокале», холодильник № 1, где нас встречали и угощали, как самых дорогих гостей. Спектакль продолжался катанием на «Ракете» по Дону. Самым печальным оказался финал этого спектакля. Несколько позднее я узнал, что канадская писательница не только не оправдала затрат и надежд, а якобы публично разоблачила эту аферу КГБ. В таких случаях оправдание находится тут же: козни американских спецслужб.
Моё отступление от главной темы воспоминаний далеко не случайно. Я хочу оттенить следующее: появление любого гостя из Москвы всегда и неукоснительно сопровождалось предупреждением и соответствующими указаниями. А тут приезд москвича – как снег в мае. Внезапность можно было объяснить быстрым передвижением Солженицына по стране, а визит московского незнакомца – сменой руководства группы наблюдения. Но это всё догадки, а пока, в генеральском кабинете, информация о Солженицыне коллегу из центра не интересовала.
Попрощавшись с генералом, мы вышли на улицу. Стояла тёплая, ясная предосенняя погода, мы отказались от машины и направились в гостиницу «Московская», где гостя ожидал прекрасный номер люкс. В вестибюле гостиницы он что-то спросил у администратора, назвал фамилию, которую я не расслышал. Поднявшись в номер, мой новый «патрон» расположил в тумбочке содержимое портфеля, и мы спустились в буфет.
Надо заметить, что буфет гостиницы «Московская» был своего рода Меккой для оперативников нашего Управления. Поделиться новостями, «посплетничать», пропустить одну-другую рюмку водки или вина считалось естественным и незазорным. Руководители Управления хорошо знали об этих «посиделках» и, в случае необходимости, использовали их в своих начальственных целях.
Войдя в двуоконный уютный буфет, мы заняли любимый мною столик. Он располагался у входа справа и давал возможность наблюдать за присутствующими. Пока гость изучал меню и советовался со мною, я обратил внимание на вошедшего молодого человека, который переглянулся с моим коллегой, цепко окинул меня взглядом и неспешно направился к буфетной стойке. Невольно подумалось: «они знакомы». Заказывая ужин, новый посетитель время от времени смотрел в нашу сторону. Напряжённость во мне росла. Какая-то смутная тревога не давала покоя. Ниже среднего роста, плотный, с короткой стрижкой тёмных волос, незнакомец был, судя по одежде и поведению, из «семёрки» – службы наружного наблюдения. Согласно инструкции, им запрещалось входить в прямой контакт с оперативником, за исключением руководителя, который одновременно выполнял функции офицера связи.
Такой предположительный вывод несколько успокоил меня, и я стал заниматься гостем. Подошла уборщица, которая одновременно выполняла обязанности официантки, разумеется для «своих», знакомых посетителей. Заказали коньяк, салаты, мясное. Разговорились. После ничего не значащих фраз мой собеседник осторожно, достаточно непринуждённо стал интересоваться моей биографией: как долго работал в органах госбезопасности, где работал, на каких должностях? Особенно его заинтересовала моя служба в Литовской ССР, в частности применялись ли там специальные акции и какие?
Сытный ужин и армянский коньяк сделали своё дело. Гость откинулся на спинку стула, ослабил галстук, разоткровенничался. В органах госбезопасности недавно, рядовым оперативником не работал, руководящую должность получил, минуя все служебные вехи, бывший аппаратчик ЦК ВЛКСМ.
Я мгновенно понял, «кто и что» передо мной. В 60-е – 70-е годы, с приходом к руководству КГБ СССР Шелепина, а затем Семичастного, ключевые посты в органах КГБ, как в центре, так и на периферии, стали занимать бывшие комсомольские работники, получая высокие звания и оклады. Такое «омоложение», естественно, вызывало недобрую, затаённую реакцию у основного оперативного состава, которого таким образом лишали служебной перспективы. Из комсомола приходили люди разные: умные и глупые, порядочные и карьеристы, честные и лицемеры, трудяги и подхалимы. Но всех их объединяло одно качество – полное отсутствие профессионализма, который приобретается временем и огромной любовью к работе.
Этим же вечером, после ужина, московский гость попросил меня выехать с ним в Каменск, поинтересовавшись расстоянием до него. Он вызвал машину, связался с центром информации 7-го отдела Управления КГБ, представился и уточнил, где находится «объект», то есть Солженицын. Буквально через 20–30 минут чёрная с отливом «Волга» мчала нас по гладкой, освещённой фарами бетонке. В пути мне стало известно, что Солженицын со своим другом остановились на ночлег в сосновом бору севернее Каменска. Цель поездки – заменить московскую «семёрку» наружного наблюдения, сопровождающую «объект», «семёркой» Ростовского УКГБ, так как «объект» намерен посетить Ростов, Новочеркасск и, возможно, другие города области. Мне же предстоит оперативно проверить контакты и связи «объекта», выявленные «семёркой», и материалы отослать в Москву. Привожу дальнейший диалог:
Я: – Зачем вы ехали из Москвы по такому обычному делу? Ведь связи «объекта» по области давно установлены, информация своевременно поступила в центр.
Он: – Могут возникнуть новые связи, а вообще-то, я приехал с другой целью.
Я: – Как долго вы будете у нас?
Он: – Как только выполню задание – улечу.
Последние слова заставили меня насторожиться. Почему от меня скрывают его миссию? Не собираются ли меня каким-то образом подставить под удар? Я сразу вспомнил, как однажды мне поручили устроить сцену ревности американскому учёному, якобы агенту ЦРУ, а потом избить его, – от чего я категорически отказался. Но сейчас во мне заговорила профессиональная гордость. Зная, с кем имею дело, я принял решение выжидать, притаиться, не упуская из вида намерения и действия «шефа».
Вдали показались огни Каменска. Стороной миновали его. В нескольких километрах севернее города остановились на обочине, вышли из «Волги», часы показывали одиннадцать. Тёмная, островерхая стена соснового бора чётко вырисовывалась на фоне звёздного неба.
– Оставайся на месте, – сказал «шеф» и направился к бору.
Я внимательно следил за ним. Из-за деревьев навстречу ему вышел мужчина. Они о чём-то переговорили и разошлись. Подойдя ко мне, «шеф» тихо известил:
– Передача состоялась, московская «наружка» снята. Кстати, пойдём посмотрим, чем занимаются «объект» с приятелем. Перейдя шоссе, направились в глубину бора. С первых шагов стало ясно: мой попутчик совершенно не умеет ходить по ночному лесу. Я внутренне усмехнулся. Вскоре мы услышали ровные спокойные мужские голоса. Идти дальше было глупо и небезопасно – нас могли обнаружить. Жестами объяснил попутчику ситуацию, и мы вернулись к машине.
– Едем в Новочеркасск, там заночуем, – отчеканил «шеф» и нырнул в «Волгу».
Я последовал за ним.
В Новочеркасск приехали далеко за полночь. Несмотря на столь позднее время, начальник городского отдела КГБ находился, как говорится, при исполнении, – видимо, был предупреждён. В гостинице нас ждали два забронированных номера. Значит, «шеф» отделяется от меня. Каприз или необходимость? – подумал я. Но по прибытии в гостиницу он заявил, что мы поселимся в одном двухместном номере. Ещё одна загадка: для кого предназначена вторая бронь? Спрашивать, однако, не стал, – ответа всё равно не добьёшься.
Утром поступила информация о прибытии А. И. Солженицына и его приятеля в Новочеркасск. Наружное наблюдение держало их мёртвой хваткой. Мы находились в машине и по рации, с интервалом в пять – десять минут получали сведения о передвижении «объекта». Шла обыкновенная будничная работа. Наконец поступило сообщение о прибытии «объекта» с приятелем на площадь Ермака, где, оставив машину, они направились в собор. Там в это время проходило богослужение.
Наша «Волга» медленно двинулась к собору. Перед въездом на площадь, метров за двести, мы покинули машину. Хлопнув дверцей, «шеф» спросил, видел ли я «объекта»?
– Нет.
– Хочешь посмотреть?
– Конечно.
Собор встретил нас величавым торжественным молебном. Людей было не очень много. Сосредоточенные и просветлённые, они слушали пение, кто неподвижно, кто время от времени крестясь. Осторожно, с головными уборами в руке, мы передвигались между ними. Неожиданно «шеф» тронул меня локтем и едва заметным кивком указал в сторону одной из колонн. Я увидел стоящего на коленях пожилого человека с большим открытым лбом и подковообразной, рыжеватой бородой. Он в каком-то самозабвении клал поклоны, сопровождая их крестоналожением. Рядом с ним стоял худощавый, выше среднего роста, лет 55-ти мужчина. Но всё моё внимание было обращено на коленопреклонённого «объекта». Честно говоря, увиденная сцена шокировала меня напрочь. Никогда не поверил бы, расскажи мне кто-либо о подобном. Я всегда относился к верующим ровно и с пониманием, считая незыблемым право человека на вероисповедание. Зная довольно много, естественно заочно, об А. И. Солженицыне, прочитав его изданные и самиздатовские произведения, а также всю «литературу» о нём (включая информацию), я понимал, что перед нами огромная, неординарная личность. Но увиденное мной сейчас не вызвало понимания, сочувствия, наоборот, оно посеяло во мне растерянность, сомнения в предыдущих оценках.
В соборе мы находились недолго. Спускаясь по ступеням, «шеф» спросил: «Ну, как?» Я ничего не ответил.
Спустя несколько часов, следуя за «объектом», служба наблюдения установила два-три неизвестных нам адреса, интересовавших его. В дальнейшем предстояло выяснить, кто именно интересовал писателя, что за люди, цель и характер их взаимоотношений.
К обеду поступило сообщение, что «объект» с приятелем находится на центральной улице города и заходят в магазин. «Шеф», торопя водителя, принял энергичные меры по передвижению машины к центру. Тем не менее он несколько раз останавливал машину, куда-то удалялся, возвращался, нервничал. Очередной его «выход» завершился неожиданно для меня: он встретился с незнакомцем из буфета гостиницы «Московская». Значит, «незнакомец», подумал я, не является представителем «семёрки» наружного наблюдения, ибо московская «семёрка» давно покинула область. Теперь стало ясно, для кого бронировался второй номер в новочеркасской гостинице.
Судя по жестам, «шеф» и «незнакомец» о чём-то спорили. Сделать какой-то, минимально правильный, вывод я просто не мог, не хватало дополнительного материала. Я вышел из машины, направился к спорящим, рассчитывая услышать хотя бы отдельные кусочки фраз. Всё напрасно. «Незнакомец», что-то сказав напоследок «шефу», не видя меня, резко повернулся и направился в магазин. В этот момент я увидел «объекта» с приятелем, выходящих из дверей магазина. «Незнакомец» прошёл мимо, затем повернулся и последовал за ними. Время бездействия кончилось. Подойдя к «шефу», я спросил:
– Вам помочь?
– Возможно… пошли…
В порядке один за одним – «объект», «незнакомец», «шеф» и я – мы двигались по центральной улице города. Чуть погодя, «объект» с приятелем вошли в крупный по новочеркасским меркам гастроном. Следом – мы. Таким образом, мы все оказались в одном замкнутом пространстве. «Незнакомец» буквально «прилип» к «объекту», который стоял в очереди кондитерского отдела. «Шеф» прикрыл «незнакомца». Они стояли полубоком друг к другу, лицом к витрине. «Незнакомец» манипулировал руками возле «объекта». Что он делал конкретно, я не видел, но движения рук, одетых в перчатки, и какой-то предмет в одной из них помню отчётливо. В любом случае, рядом со мной, в центре Новочеркасска, происходило что-то непонятное для меня. Вся операция длилась две-три минуты.
«Незнакомец» вышел из гастронома, лицо «шефа» преобразилось, он улыбнулся, оглядел зал, увидев меня, кивнул и направился к выходу. Я последовал за ним. На улице «шеф» тихо, но твердо произнёс:
– Всё, крышка, теперь он долго не протянет.
В машине он не скрывал радости:
– Понимаете, вначале не получилось, а при втором заходе – всё о’кэй!
Но тут же осекся, посмотрев на меня и водителя.
Мы заехали в гостиницу, потом к начальнику горотдела, «шеф» дал указания о проверке новых связей «объекта», выявленных по городу, простились, затем сели в машину и – на Ростов.
В голове стоял какой-то дурман. Фраза «шефа»: «Вначале не получилось, а при втором заходе – всё о’кэй!» – по-иному высветила ситуацию, свидетелем которой я оказался. Эпизод в гастрономе не казался больше странным и непонятным. Это был финал задуманного высшим карательным органом страны преступления против великого писателя-диссидента. Что я мог сделать? Оставалось только молчать – единственный вариант сохранить жизнь себе и своей семье.
По прибытии в Ростов мы расстались с «шефом» на пороге приёмной генеральского кабинета. На прощание он излишне бодро сказал:
– Всё в порядке, новочеркасские материалы направишь в центр.
Судьба «незнакомца» осталась для меня тайной, что касается «шефа», мне удалось осторожно выяснить: в дальнейшем он был направлен за границу, разумеется, не в туристическую поездку.
Закономерен и естественен вопрос: что произошло с Александром Исаевичем после Новочеркасской операции? Не знаю. Может быть, он серьёзно болел, может быть, смерть ходила рядом с ним. Ответ, по-видимому, нужно искать у него или его близкого окружения…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Настоящее повествование документально, хотя написано по памяти. Изложенные события действительно происходили, и почти 20 лет этот груз лежит на моей совести. Опять и опять повторю: что я мог сделать? Прямых, неоспоримых улик у меня нет, вещественных доказательств тоже. Оставалось кричать. Но дали бы мне такую возможность? Очень сомневаюсь, более того, убеждён, моё «открытие» было бы в самом зародыше похоронено навеки.
У Г. А. Арбатова в первой главе «Свидетельства современника» высказана мысль: «…я думаю, пока живы свидетели, пока остались очевидцы событий этого важного и сложного периода нашей истории, тем более те, кто в них в той или иной мере участвовал, надо дать им высказаться. Какой бы скромной ни была их роль в том, что происходило».
Мною умышленно не названы конкретные лица – участники и соучастники изложенных событий. Поскольку я считаю необходимым оставить им возможность самим высказаться: расширить, уточнить, назвать инициаторов – идееносителей этой преступной акции, а они, безспорно, из числа высших государственных чинов.
Давайте посмотрим друг другу в глаза.
Перечень приложений
1. Интервью Седзе Комото, 15.11.1966
2. Письмо IV Всесоюзному Съезду Союза Советских Писателей, 16.5.1967
3. В Секретариат Правления Союза Писателей СССР, 12.9.1967
4. Изложение заседания Секретариата Союза Писателей СССР, 22.9.1967
5. Воронков – А. Солженицыну, 25.11.1967
6. В Секретариат Союза Писателей СССР, 1.12.1967
7. Члену Союза Писателей СССР, 16.1968
8. В Секретариат СП СССР, 18.4.1968
9. В редакции «Монд», «Унита», «Литгазеты», 25.4.1968
10. Ответ поздравителям. В «Литературную газету», 12.12.1968
11. В Президиум Московской коллегии адвокатов, 7.5.1969
12. Изложение заседания Рязанской писательской организации, 4.11.1969
13. Открытое письмо Секретариату Союза Писателей РСФСР, 12.11.1969
14. «Вот как мы живём», 15.6.1970
15. М. А. Суслову, 14.10.1970
16. Королевской Шведской Академии, Нобелевскому Фонду, 27.11.1970
17. Вместо приветственного слова на банкете в Стокгольме 10 декабря 1970
18. Карлу Рагнару Гирову (Шведская Академия) Нильсу К. Столе (Нобелевский Фонд), 21.1.1971
19. Открытое письмо министру Госбезопасности СССР Андропову, 13.8.1971
20. Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину, 13.8.1971
21. Поминальное слово о Твардовском, 27.12.1971
22. К. Р. Гирову, Н. К. Столе, 22.10.1971; К. Р. Гиров – А. Солженицыну, 22.11.1971
23. К. Р. Гирову, 4.12.1971
24. Интервью газетам «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», 30.3.1972
25. Заявление при отмене Нобелевской церемонии, 8.4.1972
26. В КГБ СССР, 2.7.73
27. Министру внутренних дел СССР Щёлокову, 21.8.1973
28. Из интервью агентству «Ассошиэйтед пресс» и газете «Монд», 23.8.1973
29. Экспедитору КГБ, 31.8.1973
30. В редакцию «Литгазеты», 28.9.1973
31. Извещение о взятии «Архипелага ГУЛАГа», 5.9.1973
32. На титуле самиздатского издания; сентябрь 1973
33. А. Д. Сахарову, 28.10.1973
34. А. Д. Сахарову, 16.9.1973
35. Заявление для печати, 14.1.1974
36. Заявление для печати, 18.1.1974
37. Интервью журналу «Тайм», 19.1.1974
38. Л. Чуковская. «Прорыв немоты», 4.2.1974
39. Заявление для печати, 2.2.1974
40. Повестка Прокуратуры СССР, 8.2.1974
41. Прокуратуре СССР, в ответ на её повторный вызов, 11.2.1974
42. «На случай ареста»
43. Л. Регельсон. Из письма Правительству СССР по поводу изгнания Солженицына, 17.2.1974
44. А. А. Угримов. Запись допроса на Лубянке
45. Н. Столярова – А. Солженицыну, 29.10.1977
46. Б. Иванов. «Москва – Ростов, или КГБ против Солженицына»
От редактора
Время написания исходной части книги – весна 1967, перед письмом автора IV съезду советских писателей, – и в тот момент не предполагалось продолжение её. Однако по мере развития событий возникла потребность продолжать сюжет – и так были последовательно написаны три Дополнения – в ноябре 1967, феврале 1971 и декабре 1973. (Примечания, сделанные при написании этого основного корпуса книги, не датируются.) Уже тогда автор имел в виду в будущем написать Дополнение «Невидимки» и собирал для него материалы, почти только устно: в советских условиях нельзя было доверить бумаге даже черновой набросок – по его крайней опасности для соратников, помощников, доброжелателей и друзей. Все части книги до изгнания автора из СССР были написаны в Подмосковьи (Рождество-на-Истье, Жуковка и Переделкино).
Сразу после изгнания в феврале 1974 – в Швейцарии было написано Четвёртое Дополнение (развязка: арест и высылка). В таком составе очерки «Бодался телёнок с дубом» были впервые опубликованы на русском в парижском издательстве «ИМКА-Пресс» (1975); затем, в переводах с этого издания, книга вышла на многих языках.
Тогда же, летом 1974 и 1975, в нагорьи Цюриха было написано Пятое Дополнение, «Невидимки». Но ради безопасности самих Невидимок глава о них не могла быть опубликована ещё долгие годы.
В 1978 в главу «На поверхности» были включены прежде никуда не вошедшие «Кремлёвские встречи» по сохранившейся авторской записи, сделанной во время самих встреч.
На родине текст «Телёнка» со всеми пятью Дополнениями впервые был напечатан в журнале «Новый мир» (1991, № 6–8, 11–12). Однако некоторые участники и детали ещё и тогда не могли быть названы. Через несколько лет, когда эти ограничения отпали, полный текст книги был напечатан в издательстве «Согласие» (1996).
В течение многих лет автор уточнял, заочным и очным опросом действующих лиц, подробности их участия и последствий его. Так появлялись в тексте книги добавления и поправки и новые примечания, датированные 1978, 1986, 1989, 1990, 1992 и 2004 годами. Последнюю правку автор предпринял в 2004 году. В этом окончательном виде текст впервые печатается в настоящем Собрании сочинений. Также впервые мы снабдили текст аннотированным Именным указателем, благодарю В. А. Астанкова за помощь при его составлении.
Рукописи всех последовательно писавшихся частей книги, а также машинописные и печатные экземпляры с авторской правкой хранятся в Архиве А. И. Солженицына в Троице-Лыкове.
Январь 2018 Н. СолженицынаФото
Ст. лейтенант Солженицын в блиндаже над рукописью «Женской повести». Шипарня, февраль 1944
Зэк Солженицын на строительстве дома у Калужской заставы. Москва, июнь 1946
Марфинская шарашка, место действия романа «В круге первом». Заключённый Солженицын работал на шарашке с июля 1947 по май 1950.
А. И. Солженицын – заключённый на Марфинской шарашке. Официальный снимок в казённом костюме и галстуке. Декабрь 1948
Выглядывает из окна своей хаты. Кок-Терек, 1955
В ссылке. Кок-Терек, 1954
Глинобитная хата на краю Кок-Терека, улица Пионерская, где ссыльный Солженицын жил с сентября 1953 по июнь 1956
Ссыльный учитель математики. Кок-Терек, весна 1954
А. И. Солженицын ведёт в степь учеников на занятия по геодезии. Кок-Терек, 1955
Матрёна Васильевна Захарова у своего дома в Мильцеве Владимирской области. В Мильцеве А. И. Солженицын жил и учительствовал с августа 1956 по июнь 1957.
Учитель А. И. Солженицын в деревне Мильцево. Осень 1956
Дом в Рязани (Касимовский переулок), где А. И. Солженицын жил с июля 1957 по февраль 1966
Во дворе дома в Касимовском, за самодельным столиком. Здесь был написан «Иван Денисович». Рязань, май 1958
Анна Самойловна Берзер за своим столом в редакции «Нового мира»
А. И. Солженицын. Лето 1962
Н. А. Решетовская и А. И. Солженицын. Лето 1962
Александр Трифонович Твардовский. Февраль 1964. Фото В. С. Лебедева
Н. С. Хрущёв и А. Т. Твардовский в Пицунде. Фото В. С. Лебедева
Владимир Семёнович Лебедев
А. И. Солженицын в дни опубликования «Ивана Денисовича» в «Новом мире». Ноябрь 1962
А. И. Солженицын с Борисом Андреевичем Можаевым. Солотча, 1963
А. И. Солженицын. Солотча, 1963
Велосипедный поход. На привале. 1963
В верховьях Дона, недалеко от Епифани. 1963
Встреча-интервью с С. Комото (второй слева). Москва, 1966
Редколлегия «Нового мира». Сидят (слева направо): Б. Г. Закс, А. Д. Дементьев, А. Т. Твардовский, А. И. Кондратович, А. М. Марьямов. Стоят: М. Н. Хитров, В. Я. Лакшин, Е. Я. Дорош, И. И. Виноградов, И. А. Сац. Февраль 1970
С Корнеем Ивановичем Чуковским на его даче в Переделкине.
С друзьями по шарашке Львом Зиновьевичем Копелевым (слева) и Дмитрием Михайловичем Паниным. Подмосковье, август 1968
Вячеслав Всеволодович Иванов с отцом Вс. Ивановым в Переделкине. 1963
Жорес Александрович Медведев у А. И. Солженицына в Рождестве-на-Истье. 1968
Вероника Валентиновна Туркина и Юрий Генрихович Штейн
Юрий Титов, А. И. Солженицын, о. Александр Мень. Скоротово под Звенигородом, сентябрь 1968
На Мокше (Рязанщина), с можаевским «Фёдором Кузькиным». 1969
У часовни Артемия Праведного близ деревни Веркола Архангельской области. Июль 1969
На вологодском вокзале. Июль 1969
Садовый домик А. И. Солженицына в Рождестве-на-Истье
Игорь Ростиславович Шафаревич
Генрих Бёлль
Мстислав Леопольдович Ростропович у А. И. Солженицына в Рождестве-на-Истье. Лето 1969
Дача М. Л. Ростроповича в Жуковке под Москвой
Галина Павловна Вишневская и Мстислав Леопольдович Ростропович
С ньюфаундлендом Ростроповича. Жуковка, 1972
Флигель на даче М. А. Ростроповича в Жуковке, в котором жил А. И. Солженицын с конца 1969 по весну 1973
Похороны Твардовского. Декабрь 1971
На похоронах Твардовского. Мария Илларионовна Твардовская, Юрий Штейн, А. И. Солженицын. Москва, декабрь 1971
Андрей Дмитриевич Сахаров
А. И. Солженицын с женой и сыном Ермолаем
Елена Александровна и Николай Иванович Зубовы. Кок-Терек, 1956
А. И. Солженицын с Н. И. Зубовым в Рязани. 1958
Анатолий Яковлевич Куклин
Ирина Валерьяновна Куклина
С Николаем Андреевичем Семёновым в Рязани. 1957
Николай Иванович Кобозев
Сусанна Лазаревна и Вениамин Львович Теуши
Георгий Павлович Тэнно
Наталия Константиновна Тэнно
Арнольд Сузи
Лембит Аасало
Арнольд Сузи с дочерью Хели
Марта Мартыновна Порт
Нина Александровна Пахтусова
Елизавета Денисовна Воронянская («Кью»)
Наталья Мильевна Аничкова
Надежда Григорьевна Левитская
Николай Павлович Иванов
Валентина Павловна Холодова
Ольга Александровна Крыжановская
Андрей Иванович Крыжановский
Мира Геннадьевна Петрова
Елена Цезаревна (Люша) Чуковская
Наталья Ивановна Столярова («Ева»)
Вадим Витальевич Афанасьев
Александр Вадимович (Саша) Андреев
С Натальей Ивановной Столяровой и Александром Александровичем Угримовым. Рождество-на-Истье, 1968
Ольга Викторовна и Вадим Леонидович Андреевы в Переделкине у К. И. Чуковского
Эльфрида Филиппи
«Судьбы скрещенья», обнаруженные С. Н. Татищевым в Москве
Степан Николаевич Татищев
Александр Моисеевич Горлов
Борис Александрович Иванов (офицер КГБ)
Наталья Владимировна Кинд
Иван Дмитриевич Рожанский
Михаил Константинович Поливанов
Леонид Петрович Крысин
Николай Вениаминович Каверин
Инна Петровна Борисова
В Институте Русского Языка с Ламарой Андреевной Капанадзе. Ноябрь 1967
Юрий Александрович Стефанов («Донец»)
Вильгельмина Германовна Славуцкая
Татьяна Михайловна Гарасёва
Наталья Евгеньевна Радугина
Вера Семёновна Гречанинова
Анна Александровна Саакаянц
Пётр Андреевич Зайончковский
Галина Андреевна Главатских
Владимир Львович Гершуни
Габриэль Гаврилович Суперфин
Неонила Георгиевна Снесарёва
Наталья Алексеевна Кручинина
В Ленинграде у Ефима Григорьевича Эткинда и Екатерины Фёдоровны Зворыкиной. Конец 1960-х
Игорь Николаевич Хохлушкин
Маргарита Николаевна Шеффер (Гуцалова)
Александр Ильич Гинзбург с сыном Саней. Таруса, 1973
Наталия Дмитриевна (Аля) Солженицына
Надежда Васильевна Бухарина с Ермолаем и Игнатом Солженицыными. Москва, 1974
Андрей Николаевич Тюрин
Валерий Николаевич Курдюмов
Галина Николаевна Тюрина
Александр Сергеевич Бутурлин
Леонора Ефимовна Островская
Вадим Михайлович Борисов
Евгений Викторович Барабанов
Сергей Петрович Дёмушкин
Анастасия Борисовна Дурова
Никита Алексеевич Струве
Д-р Фриц Хееб
Элизабет Маркштейн («Бетта»)
Ная Лазарева
Н. А. Струве, А. И. Солженицын, фрау Хееб. Первые дни в Цюрихе, февраль 1974
Стиг Фредриксон с сыном. Москва, 1972
Ингрид Фредриксон с сыном. Москва, 1973
С Нильсом Мортеном Удгордом в Штерненберге. Лето 1974
Фрэнк Крепо
Стив Броунинг
Джеймс Пайперт
Роджер Леддингтон
Ив Аман и Н. И. Столярова
Ирина Николаевна Медведева-Томашевская
Екатерина Васильевна Заболоцкая
Последнее лето в России. С сыном Ермолаем. Фирсановка, 1973
Дом К. И. Чуковского в Переделкине. Здесь, по приглашению Л. К. Чуковской, А. И. Солженицын жил и работал в свою последнюю зиму в России – с октября 1973 по февраль 1974.
Лидия Корнеевна Чуковская
Последняя фотография А. И. Солженицына до изгнания. Во дворе дома в Козицком, февраль 1974
Газетная травля января-февраля 1974
Рабочий стол А. И. Солженицына в Переделкине как он остался 11 февраля 1974 после отъезда А. И. к семье в Москву, где он был арестован и затем выслан
Последнее, читанное А. И. Солженицыным на родине (на столе в Переделкине). Фото С. Букалова
Подъезд дома в Козицком, откуда А. И. Солженицын был увезен в Лефортовскую тюрьму. Фото Л. Мелихова
Газетное сообщение ТАСС, 14 февраля 1974
Примечания
1
Между «Архипелагом» и «Красным Колесом». – Примеч. 1986.
(обратно)2
Проза Шаламова тоже, по-моему, пострадала от долголетней замкнутости его работы. Она могла бы быть совершеннее – на том же круге материала и при том же авторском взгляде.
(обратно)3
Лидия Чуковская в «Записках об Анне Ахматовой» вспоминает, как та пятью годами раньше гневалась на Твардовского за тогдашнюю главу «Друг детства»: «Новая ложь взамен старой!»
Страна? При чём же здесь страна!.. Народ? Какой же тут народ!И поэт вместе с зэком
…ведал всё. И хлеб тот ел.И зэк
По одному со мной билету, Как равный гость, бывал в Кремле.Да: для 1956 удобная лесенка лжи.
(обратно)4
А «Софье Петровне» пришлось ещё несколько лет ожидать – до своей четверти века и зарубежного опубликования. Очень понятное у нас, это совсем непонятно Западу: один и тот же журнал не посмел бы опубликовать вторую повесть на тюремную тему. Ведь получалась бы линия…
(обратно)5
Зря я уступил. У нас смываются границы между жанрами и происходит обезценение форм. «Иван Денисович» – конечно рассказ, хотя и большой, нагруженный. Мельче рассказа я бы выделял новеллу – лёгкую в построении, чёткую в сюжете и мысли. Повесть – это то, что чаще всего у нас гонятся называть романом: где несколько сюжетных линий и даже почти обязательна протяжённость во времени. А роман (мерзкое слово! нельзя ли иначе?) отличается от повести не столько объёмом и не столько протяжённостью во времени (ему даже пристала сжатость и динамичность), сколько – захватом множества судеб, горизонтом огляда и вертикалью мысли.
(обратно)6
Ничего не доводил Хрущёв до конца, не довёл и низвержения Сталина. А немного б ему ещё – и ничьи б уже зубы не разомкнулись провякать о «великих заслугах» убийцы.
(обратно)7
«Новый мир» изящно пошутил над цензурой: безо всякого объяснения послал им на визу первую вёрстку «Ивана Денисовича». А цензура в глуши своих застенков ничего и не знала о решении ЦК, ведь оно прошло келейно, как всё у нас. Получив повесть, цензура обалдела от этой «идеологической диверсии» и грозно позвонила в журнал: «Кто прислал эту рукопись?» – «Да мы тут», – невинно ответила зав. редакцией Н. П. Бианки. – «Но кто персонально одобрил?» – «Да всем нам понравилось», – щебетала Бианки. Угрозили что-то, положили трубку. Через полчаса позвонили весело: «Пришлите ещё пару экземпляров» (им тоже почитать хотелось). Хрущёв – Хрущёвым, а виза цензуры всё равно должна была на каждом листе стоять.
(обратно)8
Но пришлось сменить на «Кречетовка», чтоб не распалять вражды кочетовского «Октября» к «Новому миру».
(обратно)9
Соображения «пройдёт – не пройдёт» настолько помрачали мозги членам редакции «Нового мира» (тем более – всех других советских журнальных редакций), что мало у них оставалось доглядчивости, вкуса, энергии делать веские художественные замечания. Во всяком случае, со мною, кроме вот этой единственной беседы А. Т., никто в «Новом мире» никогда не провёл ни пяти минут собственно редакторской, а не противо-цензорской работы.
(обратно)10
Да куда совсем не поспевали ни мои заботы, ни тем более Твардовского, а где очень надо было бы обернуться-позаботиться: что делается сейчас с переводами «Ивана Денисовича» на языки? Ужасности этого – что рассказ мой зарубливают на 25 и на 40 лет вперёд, – я совершенно не представлял. При том, что СССР – не член международных соглашений об авторском праве, рассказ был открыт на расхват кому угодно. А тут такая политическая сенсация! Только на одном английском языке взялись издавать 6 издательств, не считал на других. И все же – наперегонки, кто раньше, переводчики – самые случайные, только бы скорей! – а перевод-то наисложнейший. Даже группа Хингли и Хэйворда, самая солидная, перевела неудачно, – что ж говорить о других! Серый малограмотный поток с политическим шибаньем в нос. Погасли все краски, все языковые пласты, все тонкости, а уж намёки на брань переводились самыми последними отъявленными ругательствами, полным текстом. – Примеч. 1978.
В 1981 в штатах Массачусетс и Вермонт книгу изымали из школьных библиотек за эти грубые ругательства (хотя нынешние американские школьники ругаются грязнее наших зэков) – и я получал негодующие письма от родителей: как можно такую мерзость печатать! – Примеч. 1986.
(обратно)11
Есть литература каждого отдельного народа и есть литература мировая (огибающая по вершинам). Но не может быть никакой промежуточной «многонациональной» литературы (пропорциональной, вроде Совета Национальностей). Это дутое представление, наряду с соцреализмом, тоже помешало развитию нашей литературы в истекшие десятилетия.
(обратно)12
«Кремлёвский самосуд». Родина, 1994. С. 5–7. – Примеч. 2004.
(обратно)13
Изворотливый Аджубей первый же и напечатал, но с таким вступлением: как эту поэму красиво слушал Шолохов (!?..). Тут и Аджубей весь, тут и нашим и вашим, тут и: своего же 30 лет ничего нет, будешь слушать…
(обратно)14
Так оно и сказывалось. После отказа мне в премии, жаловался потом А. Т., стало журналу совсем невыносимо, придирались в цензуре к каждому пустяку. И чтобы журнал не опаздывал безнадёжно, приходилось уступать.
(обратно)15
В тех же днях ещё М. А. Лифшиц, ортодокс, имевший долгие годы сильнейшее влияние на Твардовского, дал письменную рецензию на мой роман. Она предваряла собой те тучи критики, которые стянулись бы над романом, будь он напечатан, и, может быть, отчасти поколебала Твардовского. Пришлось мне письменно защищаться, чтобы его подкрепить.
(обратно)16
Совсем недавно мне сказали, что Лебедев был – чекистом… По расчёту времени – при Сталине. Тогда, конечно, не в шашки они играли.
(обратно)17
После свержения Хрущёва Лебедев, по новой круговой поруке верхов, только должность потерял, но не свергнут был из знатности и не впал в нищету. К. И. Чуковский встречал его в 1965 году в барвихском санатории. Бывший «ближний боярин» писал какие-то мемуары и говорил Чуковскому, что опровергает все мои неточности о сталинском быте (заели-таки его мои главы). Ещё с Новым, 1966 годом он меня поздравил письмом – и это поразило меня, так как я был на краю ареста (а может быть, он не знал?). До него дошли слухи, что мы поссорились с Твардовским, и он призывал меня к примирению. Мне было очень тошно в то время, и я не оценил, может быть, самого безкорыстного душевного движения Лебедева. А потом и с Твардовским у меня целый почти год касаний не было. Недавно же я узнал: именно в тот год, 1966, Лебедев умер, не старше лет пятидесяти. На похороны бывшего всесильного советника не пришёл никто из ЦК, никто из партии, никто из литературы, – один Твардовский. Представляю себе его дюжую широкоспинную фигуру, понурившуюся над гробом маленького Лебедева.
(обратно)18
Критики просто не заметили, я упомянул: «соседнего председателя», который поднял колхоз на лесной спекуляции, – намёк на того самого Горшкова, которого мне критик и ставил в пример.
(обратно)19
Вот уж не предполагал, что он станет дальше шефом КГБ!..
(обратно)20
Кстати, так в этот вечер сложилось, что главным «юбиляром» оказался почему-то маршал Жуков, сидевший гостем в президиуме. При всяком упоминании его имени, а это было раз пять-шесть, в зале вспыхивали искренние аплодисменты. Московские писатели демонстративно приветствовали опального маршала! Струйка общественной атмосферы… Но к добру ли она льётся? Несостоявшийся наш де Голль сидел в гражданском чёрном костюме и мило улыбался. Мило-мило, а холоп, как все маршалы и все генералы. До чего же пала наша национальность: даже в военачальниках – ни единой личности.
(обратно)21
Конечно, выходя на люди, Алексеев строит только на лжи. Гибель собственных родителей от голода в коллективизацию он в автобиографическом «Вишнёвом омуте» скрыл как деталь незначительную.
(обратно)22
И Лакшин ещё сумеет подсунуть его «Известиям», и там будет набор, и лишь когда уже там рассыпят – придётся «Новому миру» принять на себя эту публикацию.
(обратно)23
И повестью-то я её назвал сперва для одного того, чтоб не путали с конфискованным романом, чтоб не говорили: ах, значит, ему вернули? Лишь потом прояснилось, что и по сути ей приличнее называться повестью.
(обратно)24
В очередном «ответе» Семичастный заявит, что я клеветал, будто мы морили с голоду немецких военнопленных.
(обратно)25
Далее в квадратных скобках – ссылки на номера Приложений. – Примеч. ред.
(обратно)26
Неоправданно надеялся я. Нельзя и за двадцать лет. И даже вообще целиком – нельзя. – Примеч. 1978.
(обратно)27
Впрочем, Дементьев ещё долго и жалостно навещал редакцию с голосом на слезе. Он и никогда не работал здесь ради зарплаты, он выполнял общественное поручение, а сейчас, наверно, и совсем безплатно взялся бы.
(обратно)28
Только много лет спустя я понял, что это, правда, был за шаг: ведь Запад не с искажённого «Ивана Денисовича», а только с этого шумного письма выделил меня и стал напряжённо следить. Ещё за полтора года перед тем разгром моего архива прошёл совсем незамеченным. А отныне – отмечался каждый мой жест против СП. – Примеч. 1978.
(обратно)29
Список, кому разослать, я долго отрабатывал, каждую фамилию перетирая. Надо было разослать во все национальные республики и по возможности не самым крупным негодяям (ставка на помощь национальных окраин у меня, впрочем, сорвалась, – не нашлось там рук и голосов); всем подлинным писателям; всем общественно-значительным членам Союза. И наконец, чтобы список этот не выглядел как донос, – припудрить самими же боссами и стукачами.
(обратно)30
А ведь рассчитано было, бросалось по разным районам Москвы, по разным ящикам, не больше двух писем вместе. Несколько человек помогало мне (см. Пятое Дополнение).
(обратно)31
Секретарь мосгоркома КПСС, замахнувшийся на Брежнева.
(обратно)32
См. Пятое Дополнение, «Невидимки».
(обратно)33
Как это сделано в «Круге». Я предполагал так и в «Корпусе», позже отказался, может быть и зря. – Примеч. 1986.
(обратно)34
Этот стыд за Чехословакию так долго и сильно ещё горел во мне потом, что в последующие годы, когда я составлял «Жить не по лжи», я в запале написал: «преданный нами, обманутый нами великий народ Европы – чехословацкий». А глянуть просторней – кто кого обманул и с каким душевным величием, когда чехословацкие легионеры дезорганизовали колчаковское сопротивление, самого Колчака предали на расстрел большевикам, а через Сибирь увозили украденное русское золото? (И они не были к тому принуждаемы пулей, как наши солдаты в 1968.) Это – один из нередких в истории примеров, когда люди, группы и даже целые нации в безумной слепоте куют своё же гибельное будущее. – Примеч. 1986.
(обратно)35
А по Самиздату пришли и такие поздравления:
«…Поражены вашей способностью дожив до 50 лет писать правду. Просим поделиться опытом страницах нашей газеты.
Редакция “Правды”».«…В год вашего 50-летия по количеству и качеству выпускаемой продукции мы заняли первое место в мире. Надеемся сотрудничать вами ближайшие 50 лет?
САМИЗДАТ».«Кацо! Дарагой! Бальшое спасиба уточнение отдельных деталей маей замечательной биографии. Нэ плохо, очень нэ плохо, паздравляю!
Иосиф Джугашвили». (обратно)36
Еще забавное. Рано утром 12-го декабря это моё заявление отвезла из Рязани гостившая у нас в юбилейный день Вероника Туркина – с моей просьбой: в Москве тотчас отнести в «Литгазету», а копию в «Новый мир». Она так и сделала.
И вот, с опозданием в 35 лет читаю («Знамя», 2003, № 10, с. 162, 176), какова же была настороженная недоверчивость (а от кого и неприязнь) редакционной верхушки «Нового мира» ко мне: из этой быстрой доставки они с уверенностью заключили, что заявление моё «было разослано еще до его юбилея», а значит – сочинённый ход, …лучше б я этого не читал… страшнее всего быть смешным». Вот именно! по вашей робости и неповоротливости… – Примеч. 2004.
(обратно)37
Да по моей постоянной спешке борьбы и из-за наших постоянных разладок в тактике мы никогда с ним не углубились серьёзно в литературную протяжённость – назад и вперёд. Твардовский очень был верен классической традиции и очень недоброжелательно относился к фокусным новшествам: он как бы предугадывал, как новая литературная молодёжь скоро бросится в клочья рвать саму русскую литературу. Почему в то время не укрепился наш союз на этом? Потому что я – так далеко не видел, я весь был напряжён в борьбе с бастионами советской лжи, да и его изводили тогда главным образом дутые советские «классики», новая порча ещё тогда не проступила. Это всё – издержки того хребта, по которому ещё предстояло пройти русскому сознанию: не свалиться ни в пропасть остро-каменного национал-большевизма, ни в трясину расплывчатой интернациональной (безнациональной) популярии. – Примеч. 1986.
(обратно)38
Как их собирали и готовили – я узнал потом. Секретарь рязанской писательской организации (из семи человек) Эрнст Сафонов верно предчувствовал и пессимистически говорил мне летом, что всю процедуру покатят через него. В СП РСФСР он упёрся против моего исключения. Но зав. отделом пропаганды рязанского обкома партии Шестопалов настиг его и в больнице после операции и тщетно пытался вырвать согласие там. (За сопротивление Сафонов потом много лет носил партийный выговор.) 4 ноября с утра Шестопалов вызывал четырёх писателей в обком по одному и каждому внушал, что меня надо исключить. Но такая неудобная цифра «7», что «4» не составляют из неё двух третей. Итак, для кворума необходимо было пригнать ещё пятого писателя – Николая Родина из Касимова. Это – 200 километров от Рязани, по худым дорогам, и Родин действительно лежал с высокой температурой, очевидно с воспалением лёгких. И по телефонной команде из обкома секретарь касимовского райкома принудил Родина сесть в райкомовскую машину. Однако Родин вернулся с дороги, говоря, что он может в пути умереть (шофёр пожалел Родина, нарушил партийную дисциплину.) Секретарь райкома пришёл в гнев: «По дороге – четыре больницы, будете заезжать к врачам!» – и погнал их снова. Родин успел приехать на заседание «партгруппы» – пяти партийных писателей (то есть все, кроме меня), где секретарь обкома по пропаганде Кожевников ещё их стропалил, направлял и удостоверялся. Оттуда через час они все и ввалили в писательскую комнату. – Примеч. 1978.
(обратно)39
Год спустя он умудрится протащить в «Новом мире» (с новым руководством) стихотворение о бакенщике «Исаиче», которого очень уважают на большой реке, он всегда знает путь, – то-то скандалу было потом, когда догадались! и исключили-таки бедного Женю из СП. – Примеч. 1978.
(обратно)40
Я считал, что подавил поэму в Самиздате и в «Цайт» и не дал ГБ её понюхать. Много позже как же я поразился, узнав, что ГБ тотчас получила поэму, лишь только стали её читать московские литераторы; передано было «Штерну» через его московского корреспондента Дитмара Штейнера, приятеля Виктора Луи, а главный редактр «Штерна» Наннен и подкинул «Цайту» печатать поскорее, настаивая, что «из очень надёжного источника, автор просит скорее печатать». – Примеч. 1978.
(обратно)41
Лакшин, по традиционным интеллигентским меркам, обижался: «Наш журнал не либеральный, а демократический», то есть, мол, гораздо левей. Как ни парадоксально, он был октябристским, но не в бандистком кочетовском смысле, а в терминологии предреволюбционной России: они хотели, чтоб именно этот режим существовал, лишь придерживаясь своей конституции.
(обратно)42
Мне рассказали об этой сцене в тех днях, когда я готовился описывать прощание Самсонова с войсками, – и сходство этих сцен, а сразу и сильное сходство характеров открылось мне! – тот же психологический и национальный тип, те же внутреннее величие, крупность, чистота, – и практическая безпомощность, и непоспеванье за веком. Ещё и – аристократичность, естественная в Самсонове, противоречивая в Твардовском. Стал я себе объяснять Самсонова через Твардовского и наоборот – и лучше понял каждого из них.
(обратно)43
Позже, в эмиграции, сообщил мне Б. Г. Закс: в декабре 1970 он посетил А. Т. в больнице. А. Т. говорил с трудом, односложно, «ну как?», «как там?», но с интересом слушал, что ему рассказывали, был очень весел, оживлён, много смеялся (дико кашляя при этом). И на рассказ о моей нобелевской истории произнёс громко, отчётливо: «Так им и надо!» – Примеч. 1986.
(обратно)44
Коммунист Вооружённых сил. 1971, № 2.
(обратно)45
С выходом «Августа» на Западе состроились и комические эпизоды. Появилась статья проф. Н. Ульянова, эмигранта, в «Новом русском слове» – «Загадка Солженицына»: открыл он, что никакого Солженицына в природе нет, это – работа коллектива КГБ, не может один человек так дотошно знать и описывать и тюремные процедуры, и виды онкологического лечения, и исторические военные события, да ещё в каждой книге свой новый язык! А переводчик «Августа» на английский М. Гленни, оправдывая свой поспешный и губительный перевод, давал интервью, что «Август» настолько плохо написан по-русски, что ему, Гленни, приходилось целые фразы менять.
(обратно)46
Что кончилось так благополучно – не вина «Штерна». «Штерн» снова сделал всё возможное, чтобы положить мою голову под топор: взял на себя смелость (и художественное безвкусие) утверждать, что действие «Августа» лишь условно перенесено в предреволюционное время, а на самом деле трактуются современные проблемы.
(обратно)47
Один из этих корреспондентов, Хедрик Смит, потом неоднократно жаловался, что я встретил их готовым интервью – с вопросами, подготовленными мною же, проявил такое полное непонимание законов западной прессы. Действительно, в моей смертной борьбе с государством я нуждался только в резком защитном ходе, даже лучше бы – публичном заявлении, ни в каком не интервью. А Смит предлагал мне «актуальнейшие» вопросы: о том, что случилось с творческой энергией Евтушенко и Вознесенского, потеряла ли к ним публика интерес, находятся ли стесненья их на прямой линии от преследования Пушкина (западным надо непременно выстроить традицию: царская Россия – коммунистический СССР, иначе не будет глубокомысленности), – или ставил меня в опасное положение вопросом, намерен ли я после «Августа» объяснять также и большевицкую революцию.
Мне же, напротив, с непривычки невыносима оказалась разрыхленная безсвязная форма, в которой эти корреспонденты в их печатном изложении растрясли мои мысли. И я тогда же написал откровенное частное письмо Хедрику Смиту. Отдаляясь от того момента, всё более понимаю, что он должен был и имел право обидеться.
Однако не прошло трёх лет – осенью 1974 Х. Смит посетил нас в Цюрихе и стал просить: не может ли он использовать в «Нью-Йорк таймс» весь материал моего литературного интервью Нильсу Удгорду в «Афтенпостен» (28 августа 1974). Ну перепечатайте. Да нет, настаивал Смит, тогда это не будет новинка, давайте сделаем вид, будто это интервью вы сейчас ещё раз дали мне! Я опять согласился: ведь он знал законы западной прессы (что это? как это выглядит?), а я их не знал. Так он и напечатал: как свою реальную беседу со мной… – Примеч. 1978.
(обратно)48
(астр.) – точка на небесной сфере, внизу, под ногами наблюдателя, противоположная зениту.
(обратно)49
Впрочем, из поздних записок Самутина следует, что рукопись у него не была и закопана. – Примеч. 1990.
(обратно)50
От каких частностей могут зависеть крупные события. Например, многолетняя западная поддержка меня во многом зависела от одной главы в «Раковом корпусе», разговора Шулубина и Костоглотова о социализме. Я написал её чисто экспериментально, пытаясь представить одну из возможных точек зрения, или что может поддерживать такого опустошённого человека, как Шулубин. А на Западе эту главу прочли (художественно – совсем неоправданно) как мой собственный манифест в защиту «нравственного социализма», прочли – потому что хотели прочесть, потому что им надо было видеть во мне сторонника социализма, так заворожены социализмом – только бы кто помахал им той цацкой. Я – не понимал этого тогда совсем, а если б и понимал, то ни для какой тактики не стал бы изгибаться, погнушался бы, никогда я и слова похвалы социализму не сказал, – а вот, истолковали главу. И как сторонника социализма меня и защищали столь дружно, столь едино, до всех левых включительно. Напечатай я в сентябре 1973 «Письмо вождям» или не скради ленинскую главу из «Августа» – сразу бы сорвал всю поддержку. А от поддержки такой – советские власти и были терроризованы настолько, что даже схваченного «Архипелага» использовать не смогли. И «Архипелаг» – сам проложил себе дорогу через эту взбудораженность – куда лучше, чем по моему замыслу появился бы весной 1975, когда Советы в размахе Уотергейта и при конце Вьетнама ощутят свою победоносность. Никаких моих предвидений не хватило бы, все движенья направляла Божья воля. – Примеч. 1978.
(обратно)51
Публицистика. Т. 1. С. 138–147. – Примеч. 2004.
(обратно)52
Хотя политические выводы Роя Медведева всегда оказываются те самые, какие наиболее выгодны советскому режиму, – западная левая пресса ещё долго будет превозносить его как крупнейшего в стране социалистического оппозиционера. – Примеч. 1978.
(обратно)53
Чего я совсем тогда не представлял, ещё не зная западной шкалы оценок: что «Письмом» я только сбил бы весь эффект от «Архипелага» и вырвал бы свою опору в самый решающий момент борьбы. Уберёг меня Бог и тут. – Примеч. 1978.
(обратно)54
Это ж ещё у них задача: найти страну, которая согласится с ними сотрудничать, меня принять; и как просьбу средактировать. – Примеч. 1978.
(обратно)55
Смелости у них тогда не хватило: надо было ссылать меня в Сибирь. Покричали бы на Западе – успокоились бы: ведь не в тюрьме же сидит, не срывать из-за него разрядку и торговлю. Ссылка бы – удалась. (А режим содержания подвинтить постепенно.) – Примеч. 1978.
(обратно)56
Теперь-то – можно бумаге доверить, написано (Пятое Дополнение). А уж печатать – когда??. – Примеч. 1978.
(обратно)57
И бедного Николая Ивановича разыскал и снова вымучивал проходимец Ржезач для своей гебистской книжки. – Примеч. 1978.
А в 1984 достиг меня слух, что оба Зубовы умерли. Царство им Небесное! – Примеч. 1986.
(обратно)58
В 1976 Зильберберг издал в Лондоне очень удивившую меня книгу с парткомовским названием «Необходимый разговор с Солженицыным». Он упрекает меня, что я знал о хранении у него моего архива: дескать, в единственную нашу с ним встречу «В. Л. начал что-то тихо говорить вам и я услышал, как он сказал “у него”, указывая на меня рукой, вы кивнули». Всё это – более поздняя конструкция самого Зильберберга: он по забывчивости (не хотелось бы думать, что сознательно) переносит встречу с 23 июня 1964 (чётко помню, потому что – накануне нашего выезда в Эстонию на летнюю там работу) – на июнь 1965. Вторая тут его ошибка: в 1965 ему передан был не «архив» мой, нормально хранимый и вот с правом передаваемый, а случайные осколки его, которые Теуш забыл мне вернуть и только потому теперь сунул Зильбербергу. А на этих двух ошибках Зильберберг строит многие из своих обвинений, особенно нравственные, к которым легко склонен. Центральным событием он считает следствие по делу статьи «Благова» (впрочем – «обращение с нами не напоминало сталинских следователей», «ни один из них не вызвал острой неприязни»), а стало быть, поражён, что я не «примчался» к ним тотчас на совещание, «что и как будем делать дальше». Впрочем, Зильберберг тогда «не старался и не мог докопаться до истинной цели обыска». (По непонятной причине Зильберберг скрыл в публикуемом протоколе обыска фамилии гебистов, жаль.) Но о чём я узнал только теперь из книги Зильберберга: о подозрительных визитах к Теушу ранее того, в начале 1965, подосланных лиц, то за «уроками математики», то за «техническим переводом»; и даже о прямом многочасовом магнитофонном подслушивании откровенного разговора Теуша и Зильберберга во дворе – никогда В. Л. меня об этом не предупредил и сам не стал аккуратней. Ошибается Зильберберг и что я на секретариате СП в 1967 будто первый публично назвал Теуша: потому я и назвал, что его до этого уже многократно прополаскивали лекторы с трибун, и мое публичное соединение наших имён укрепляло его положение. Но книга далеко выходит за пределы этих ошибок, тут разворачивается филиппика против меня.
Заняв в мою сторону учительную позу, после 15-минутного навязанного мне знакомства с ним даёт 150 страниц воспоминаний и разъяснений, со ссылкой на близких им неназванных «знакомых», третьих и четвёртых лиц, которые все кому-то что-то «говорили», – Зильберберг с непрерывной безтактностью поучает сверху вниз, самоуверенно читает мне многие нравственные нотации (как все мелкодушные оппоненты, не упуская ткнуть во мною же произнесенные публично раскаяния и откровенности), да даже вот что: он хочет оказать мне духовную помощь достичь внутренней гармонии. Меня, безнадёжно испорченного ГУЛАГом зэка (позиция также и В. Лакшина), он поучает законам нравственного поведения в нормальном (советском) обществе: я против советской власти применял «низшие» методы, а надо было применять «высшие»; я «в литературно-общественную жизнь вступил с внутренней ложью» (против КПСС) – и она «ржавыми пятнами проступает в очерках /моей/ жизни и во многих /моих/ общественных выступлениях, проникла и в /мои/ художественные произведения». (А уж в моих общественных выступлениях – «аберрация видения, так свойственная» мне.) Моё поведение в единоборстве с Властью – это «поступки советского человека»: как мог я унизиться предъявлять справку о реабилитации (когда меня объявили гестаповцем)? То – зачем я признал себя автором «Пира» (а затем, что он слишком автобиографичен, не отопрёшься), «возня вокруг “Пира”». «Телёнка» он уже прочёл, заметил наконец, какая пылающая рана для меня был тот провал 1965 года, какое всежизненное поражение с замыслом недописанного «Архипелага» и истории 1917 года, – нет, почему я не разрабатывал с ними тактику следствия по статье Теуша. Если Зильберберг настолько не понял ни величины моего тогдашнего груза, ни размеров задачи, – что ж было ему отвечать? Каждого поэта, и не один раз в жизни, должно достичь ослиное копыто. Правильно, что я не ответил тогда же: ответ ему понятен только здесь, в контексте всех «Невидимок».
А лучше бы он объяснил, почему ж не опубликовал, затаил, заморозил полученную им работу Теуша, дружбу с которым он рассматривал «как величайший дар судьбы», «изливалось на меня в виде некоей благодати», «родство душ», со смертью В. Л. «для меня начинается новый этап жизни – без В. Л.», – но вынес приговор, что книга учителя не должна увидеть света? – Примеч. 1986.
(обратно)59
И до сих пор не тронули. – Примеч. 1978.
(обратно)60
Сейчас в Самиздате появились записки уже покойного Самутина «Как был взят “Архипелаг”». Из них теперь я с изумлением узнаю, что Самутин (оказывается, давно знавший о моём распоряжении сжечь «Архипелаг», но тоже вступивший с Е. Д. в обман) даже вообще не закапывал рукописи, но просто держал на чердаке дачи, да вместе и с «Кругом»-96, тоже тогда засекреченным. Уж такой допоследней небрежности я не мог вообразить!
Через несколько месяцев появились в печати ещё и другие «мемуары Самутина», написанные под диктовку чекистов, как свидетельствуют вдова и дочь покойного, – а может быть, и ещё правленные в ГБ потом. – Примеч. 1990.
(обратно)61
Много лет спустя, в эмиграции, писал мне Я. Виньковецкий: следователь, допрашивая вскоре после смерти Е. Д. его сотрудницу по геологическому институту, с гордостью сказал ей: «После моих допросов люди вешались». – Примеч. 1986.
(обратно)62
Теперь из мемуаров Самутина (истинной части их) можно уточнить: в эти же часы 29-го гебисты задержали его на улице, повезли в Большой Дом – и он сразу взялся отдать им «Архипелаг». (Удивляюсь, старый лагерник, бывший власовец, столь необычно допущенный в Ленинград, в такой шаткой позиции, он в записной книжке имел множество адресов людей, которых теперь мог потащить за собой, и оброс обильным самиздатом, боялся теперь, что откроется тот самиздат, – это рядом с «Архипелагом»! и больше всего боялся травмировать жену и детей домашним обыском… Но не подвергся и личному.) В ночь на 30-е гебисты на его даче получили «Архипелаг». Ясно, что обязали и молчанием: никому о том ни звука. Но утром 30-го спохватились, что им нужна расписка, что он сдал – добровольно, и его ещё раз тягали на встречу в Европейской гостинице. – Примеч. 1990.
(обратно)63
А Самутин, всю дорогу скрывавший от спутников, что взят «Архипелаг», тут, пишет, сказал Эткинду: «Всё – у них, смерть Е. Д. связана с этим». Но Эткинды не знали, что такое могло быть всё, они не знали о самовольном хранении «Архипелага». Они подумали: какой-то-архив Е. Д.? – Примеч. 1990.
(обратно)64
Это было тогда же рассказано нам из круга Копелева-Эткинда, но Самутин ничего об этом сюжете не пишет. Боится ли впутать жену? Но, видимо, с 30-го на 31-е разобрала его совесть, что об «Архипелаге» надо предупредить автора, нельзя же молчать; а может быть – жена сделала эта сама, без ведома Самутина? – Примеч. 1990.
(обратно)65
Подаренный Кью «Реквием» Верди – со мной в Вермонте, и каждый год 28–30 августа я ставлю в её память. – Примеч. 1978.
В ноябре 1985 получаю письмо от неизвестной мне штейнерианки Иоганны Фишер из Швейцарии: Елизавета Воронянская, никогда не знакомая ей при жизни, стала часто к ней приходить, прося передать мне, чтобы я ревностно помог ей в её нынешнем положении. Она является к Иоганне в виде тени и издали.
А я – и молюсь за неё, ещё бы… – Примеч. 1986.
(обратно)66
И перележал «Архипелаг» вместе с «Танками» сохранно 20 лет у благородно-безстрашного Алексея Алексеевича Ливеровского, теперь откопан. – Примеч. 1989.
(обратно)67
Годами позже я узнал, что с конца 1974 – и даже до 1979 – её дёргало ГБ, ведь сколько же лет не унялись! Читали ей состряпанный «обвинительный материал» (и всё мимо…), склоняли выступить против меня через АПН, но она не колебнулась, устояла твёрдо. – Примеч. 1990.
(обратно)68
Наступило новое время горбачёвской «гласности» – и Люша же первая теперь крикнула в «Книжном обозрении» – обо мне и чтобы меня вернули на родину, правда невольно подглаживала меня при этом под советского. В редакцию хлынуло множество благодарных и сколько-то возмущённых писем. Читателям выглядело Люшино выступление как чей-то голос со стороны, никто не знал, сколько сил, времени и сердца отдала она этому автору. – Примеч. 1990.
(обратно)69
Нет, не так легко это завершилось, как может представиться. КГБ всё-таки вызвало Александра Александровича в 1974 и выказало знание некоторых деталей – например, в той погоне за убежавшим «Телёнком» в рождественский сочельник, какую подстроила нам безпечность А. С. и какая стоить могла Александру Александровичу головы. (И ещё ж я его в тот день укорил, подозревал в утечке.) Но то ли по сочельнику, как в рождественской сказке, – всё должно было закончиться благополучно. Этот допрос на Лубянке А. А. записал и переслал мне в Вермонт – и мне не передать всего того воздуха лучше [44]. – Примеч. 1978.
(обратно)70
Прошли годы – мы всё обменивались записочками из-за границы, знали о радостях Царевны: то вновь посетила тундру – очень её любила, то купила под Москвой садовый участок, то вместе с Евой, Данилой, Люшей отдыхают в Крыму – сдружило их всё прежнее. Только она и знала о поездке Евы к нам в Вермонт – и у неё-то на подмосковной дачке читался вслух предыдущий, 9-й очерк «Невидимок». Эта живая непригнутая весть от нас к ним была прямо неправдоподобна; Ева рассказывала им подробности о Вермонте, чего нельзя под московскими потолками. А в конце 1983 у неё были гебисты с обыском (когда сжималось кольцо вокруг Евы, вокруг Фонда), забрали мои книги, требовали объяснения, откуда они, ответила просто: «Дружила с ним с 60-х годов». Отвязались. – Примеч. 1986.
(обратно)71
Всё же, по большой осторожности, ему удалось избежать всяких гебистских подозрений – и он продолжал пользоваться заграничными командировками, поражая и радуя нас в Цюрихе вдруг внезапным звонком из Парижа, в Вермонте – письмом из Италии. (И какова же судьба советских! – «Тут есть и другие люди из СССР, поэтому я с трудом побарываю подозрение, что каждое моё движение, и, в частности, это письмо, подсматриваются. Так что не удивляйтесь следам болезненной конспирации даже в этом письме».) Но в этих письмах он – и почти единственный в то время с родины, прорывая глухоту, – давал развёрнутые, глубокие отзывы на Узлы, особенно дорогие нам тогда. – Примеч. 1986.
(обратно)72
Только теперь узнаю: они с друзьями, без моего ведома, охраняли меня в Переделкине после моего письма съезду писателей. – Примеч. 1990.
(обратно)73
Выход в свет «Телёнка» неблагоприятно отразился на Анне Самойловне, всего не предусмотреть. Не мог я обойти похвалы и благодарности ей – а за то приказано было редакции «Нового мира» не давать ей больше приработков, частных заказов, попала она как в блокаду. А тут ещё стала и слепнуть. (Напротив, обруганный мною в «Телёнке» А. Д. Дементьев благодаря этому вошёл в моду у казённых кругов.) – Примеч. 1978.
(обратно)74
Знаменитая кулинарка, Надежда Васильевна ещё потом много лет по памятным дням собирала у себя на Левшинском всех наших сознакомленных друзей, давая им соединиться в юбилеи и печальные годовщины. На Покров 1982-го стало ей худо, и она в сутки умерла, от тромба в сердце (было ей 81). Отпевали её у Николы в Кузнецах, и привалило множество народу. В ночь перед похоронами случилась в Москве нековременная вьюга, насыпало снегу, и хоронили её на Ваганькове, как зимой, цветы и свечи на снегу. – Примеч. 1986.
(обратно)75
А после смерти Евы в 1984 – взяла на себя тайную артерию помощи нашего Русского Общественного Фонда, – правда, и провалили её на этом в 1986, первый крупный провал Фонда, – и сегодня терзают её гебисты. – Примеч. 1986.
(обратно)76
Такой хрупкий, трепетал перед арестом (нависавшим над ним за самиздатскую «Хронику текущих событий») – а справился со следствием хорошо: от каких-то несчастных вначале показаний он потом нацело отказался, как приобрёл второе дыхание, твёрдо прошёл суд, со всей своей хрупкостью твёрдо вынес и тюрьмы, и карцеры, и лагеря – в 1978 сослан в Северный Казахстан. – Примеч. 1978.
(обратно)77
У Прицкера были потом большие неприятности: ему угрожали увольнением. Он возразил: «Но Таврический дворец – не атомная подводная лодка?» Ему начальство: «Таврический дворец – учреждение режимное!» Потребовали письменного объяснения, Д. П. написал, что не знает фамилии человека, которого водил по дворцу. Начальство – не имело доказательств, и это уберегло его.
А я-то теперь, уже кончив «Март», не наблагодарюсь: что б я делал, не повидав Таврического своими глазами изнутри?! – Примеч. 1990.
(обратно)78
Дружба наша сперва продолжалась и за границей, Е. Г. побывал у нас в Цюрихе, встречались мы несколько раз в Париже (делился я с ним моим проектом создать Русский университет за границей, спрашивал мнения). Но потом – переменилось. Спустя два-три года Эткинд выступил против меня публично: заявил, будто я хочу для России нового византизма, и в самый разгар казней в Иране, вызывавших содрогание во всём мире, – что я хочу для России нового Аятоллу, а русские аятоллы будут ещё хуже иранских! Это – необъяснимо было для меня. Мне пришлось ответить ему тоже публично – «Персидский трюк», осень 1979. А дальше – Эткинд стал одним из повсеместных нашёптывателей о моих никогда не бывших теократизме и антисемитизме. – Примеч. 1986.
(обратно)79
После его выезда на Запад и взаимно примирительных писем он, однако, легко влился в ту клеветническую накипь, которую вздували вокруг меня иные третье-эмигранты. В 1985 наши отношения в последнем обмене писем оборвались. – Примеч. 1986.
(обратно)80
А когда чекистский агент Ржезач шнырял за клеветою против меня по свидетелям моей жизни – то как объяснить, что большинство не добыто им, не упомянуто, не привлечено в его грязную книгу? Не тем ли, что они отклонили, устояли? Он не мог не добиваться показаний – от Лидии Ежерец, моей школьной соученицы. От друзей студенческого времени – Эмиля Мазина и Михаила Шленёва. От фронтовых моих командиров генерал-майора Травкина, подполковника Пшеченко, майора Пашкина, и более всего – от фронтового моего приятеля и соратника Виктора Васильевича Овсянникова – именно и особенно потому, что ныне он – подполковник госбезопасности. А вот же – ничего подходящего никто из них не показал, не выступил под прожекторы лжи, – и значит, кем же остался? Невидимкой. – Примеч. 1978.
(обратно)81
Пугали и мать его, А. Я. Захарову, вызывали её в КГБ и как бы дружески (она многие годы работала радиоинженером в системе их): «Надо спасать Андрея, ходит на Козицкий». После нашего отъезда Андрею отомщали ежегодными переаттестациями: вне всяких законов и порядков, при блестящем докторстве, его мурыжили и мыкали по кабинетам и научным советам, не утверждая профессором, и всё вели «социально-политические» допросы.
А в главном – обошлось. Божьим покровом. – Примеч. 1978.
(обратно)82
Капитан Клементьев так и войдёт в «Март Семнадцатого» под своим именем, со своей биографией. – Примеч. 1986.
(обратно)83
Как потом в Англии рассказала мне участница его «артели», – Гленни раздал весь «Август» по клочкам своим аспирантам, они и переводили, кто в лес, кто по дрова. – Примеч. 1978.
(обратно)84
И даже взялся он за действия более крупные и сложные: он был главным звеном той цепи, что осуществляла всю помощь Русского Общественного Фонда от нас в СССР. Следующая за ним была Ева, потом Алик Гинзбург (а после его ареста включился вслед Еве ещё Боря Михайлов). На них и держалась вся объёмная и остро опасная работа.
В отличие от Татищева Ив был чрезвычайно осмотрителен, выдержан – и министерство иностранных дел Франции охотно оставило его на второй срок, ещё после 1977. То-то мы радовались! Звали мы его «Фей», не произнося его имени под потолками даже западными. В 1975 он рискнул приехать к нам в Цюрих. Оказался нежен, сдержан и молчалив. – Примеч. 1978.
(обратно)85
Всегда Татищев легко принимал и пересылал письма – ведь нешуточная лилась у нас все годы переписка из Европы с Россией, с десятками людей. Но, воротясь из России, он сердце оставил там и не мог уже удовлетвориться прежней парижской жизнью. С 1975 на 1976 он дважды ездил в Москву туристом, сошло благополучно, но, очевидно, наделал неосторожностей. Когда снова поехал летом 1977 – за ним установили открытую плотную слежку, предупреждали: «ноги переломаем». Он не испугался, еле оторвался от них на каком-то базаре, уверяет, что начисто, счастливо, приехал после того к Царевне, ещё что-то передал, – но по возврату в гостиницу был тотчас выслан из страны.
А через 8 лет он умер от рака, почти внезапно, ещё совсем молодым. Из последних дел его для родины, теперь для него закрытой, было: установить радиовещание на Россию, «Голос Православия». – Примеч. 1986.
(обратно)86
Нильс докончил свой срок в СССР, а Стиг даже и перебыл и в своё агентство вернулся с повышением. – Примеч. 1978.
(обратно)87
Теперь умерла и Марья Акимовна. Не знаю: унесла ли с собой тайну или и не было её. – Примеч. 1986.
(обратно)88
Громославский ещё жив был в 50-е годы, тогда-то и появилась 2-я книга «Поднятой целины», а после смерти Громославского за 20 лет Шолохов не выдал уже ни строчки. Я указывал на это в статье о «Поднятой целине» («По донскому разбору», Вестник РХД, № 141, 1984), где заодно ответил и на смехотворный компьютерный анализ норвежского слависта Гейра Хьетсо и его коллег, пытавшихся доказать авторство Шолохова. – Примеч. 1986.
(обратно)89
В 1988–89 в израильском журнале «22» (№ 60 и 63) опубликовано исследование Зеева Бар-Селла «“Тихий Дон” против Шолохова», очень убедительный текстологический анализ, – то самое, что и ожидалось давно. – Примеч. 1990.
(обратно)90
Мы, в интересах детей И. Н., должны были ещё 15 лет скрывать имя автора, давая повод насмешкам, что я этого Д* сам придумал.
А в 1989 из письма д-ра филологических наук В. И. Баранова в «Книжное обозрение» я узнал: когда в 1974 вышла книга «Стремя “Тихого Дона”» – в СССР готовили громкий ответ. Сперва поручили К. Симонову дать интервью журналу «Штерн» (ФРГ), он это выполнил. Затем ждали: когда на Западе на него обратят внимание – тут и дать залп статьями в «Литгазете», «Вопросах литературы» и «Известиях». И статьи были написаны – но… но на Западе симоновское интервью прошло без отклика. Приготовленные статьи всё же напечатали – но как бы к 70-летию Шолохова, так и не коснувшись книги Д*. А ныне так пишут в советской прессе, что будто именно книга Д* сбила Шолохова и не дала ему кончить уже 30 лет длимый роман «Они сражались за Родину» – да так, что и ни строчки к начатой в войну книге не прибавилось. – Примеч. 1990.
(обратно)91
Заместитель начальника 5-го Управления КГБ, генерал, ведавший инакомыслием.
(обратно)92
Опубликованы с сокращениями в московском ежемесячнике «Совершенно секретно», 1992, № 4.
Борис Александрович Иванов – профессиональный чекист, работал более 30 лет в органах госбезопасности Краснодара, Грузии, Литвы. С 1967 по 1976 годы занимал должность начальника одного из подразделений идеологического отдела Управления КГБ Ростовской области.
(обратно)





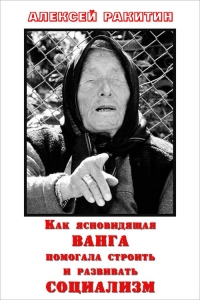
Комментарии к книге «Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни», Александр Исаевич Солженицын
Всего 0 комментариев