Г. Тарнавский, В. Соболев, Е. Горелик КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В данном электронном издании использована информация с сайта «Библиотека „Катынь“»
-books.ru/library/kuropaty-sledstvie-prodolzhaetsa.html
Вместо предисловия, или о чем поведала домовая книга
В довоенном Минске все было в центре города, если смотреть на него глазами сегодняшнего жителя. А уж этот дом, на первый взгляд серьезный, чопорный, но в то же время какой-то легкомысленный — с ажурными решетками балконов, с витиеватой лепкой и свирепыми масками мифических героев — и вовсе стоял на пересечении главных житейских путей. Отсюда, с перекрестка улиц К. Маркса и В. И. Ленина, за две минуты можно было дойти до ЦК партии и комсомола, за пять — до Дома правительства и всего за три минуты — до здания НКВД, которое располагалось чуть-чуть в стороне, но и строго между ними. Фасад его украшали благостные силуэты двух богинь — Совести и Правосудия, дарящих людям мир и спокойствие. Фемида, как принято, держала в одной руке меч, в другой — весы. Глаза ее закрывала повязка. При взгляде на это произведение неизвестного ваятеля у любого минчанина или гостя города сразу же развеивались всякие сомнения, где именно торжествуют Закон и Справедливость.
Может, случайно, а может, по аналогии с популярной гостиницей, дом на перекрестке называли «Вторым Советским», и жили в нем люди преимущественно известные, ответственные — руководители республики, наркомы, видные ученые и общественные деятели, иностранные граждане, искавшие в нашей стране защиты от преследований за коммунистические убеждения. Сейчас на стенах домика тесно от мемориальных досок — Ф. Э. Дзержинскому, П. К. Пономаренко, А. Г. Червякову — одному из организаторов Советской Белоруссии, председателю ЦИК БССР, Н. М. Никольскому — известному историку и этнографу, академику АН БССР, лауреатам Ленинской премии поэту П. У. Бровке и академику ВАСХНИЛ М. Е. Мацепуро. Не исключено, что вскоре появятся доски и многим другим достойным людям, в чью честь, правда, до последнего времени не принято было устанавливать памятные знаки.
Сходство с гостиницей в те годы придавало дому и то грустное обстоятельство, что жильцы в нем, как правило, надолго не задерживались. Некоторые квартиры освобождались и заселялись по четыре-пять раз в год, а следы их недавних хозяев, дойдя за три минуты до здания НКВД, внезапно обрывались, чаще всего — навсегда.
…На столе перед нами желтая, с подтеками и чернильными пятнами, изрядно потрепанная «Домовая книга для прописки граждан, проживающих в доме номер 38/23». Первая запись в ней учинена в октябре 1931 года, последняя — в январе 1941-го.
Десятилетие, вместившее сотни «прописок» и «выписок», сотни человеческих судеб, чаще всего — трагических. Почти полвека книга бережно сохранялась в семье Александра Осиповича Хоревича, одного из немногих старожилов привилегированного дома. В заполнявшейся при прописке графе «род занятий, должность и место работы…» о нем записано так: «уборщик 2-го Дома Советов».
Должность эта, как выяснилось, включала в себя несколько профессий. Александр Осипович был дворником и сторожем, истопником и грузчиком, столяром и слесарем-сантехником. Словом, на любую просьбу жильцов А. Хоревич, которого они ласково называли Хоревчик, откликался быстро и охотно, заслужив прочную репутацию мастера на все руки и одновременно доброго, отзывчивого человека.
К середине 30-х Александр Осипович поневоле освоил еще одну профессию — понятого. Рассказывая нам об этом времени, его сын, Виктор Александрович, как о чем-то обыденном, привычном упомянул, что почти каждую ночь его, тогда пятиклассника, будил по ночам громкий, требовательный стук в окно или дверь. Отец подхватывался с постели, торопливо одевался и уходил вместе с дядями в штатском или в форме НКВД.
Возвращался он, как правило, утром, ходил мрачный, подавленный, угрюмо молчал, а на расспросы матери и Виктора отвечал с несвойственной ему резкостью: «Придержите язык за зубами». Но к вечеру отцовская тайна постепенно раскрывалась и кто-то из пацанов-приятелей шептал Виктору на ушко: «Из шестой квартиры арестовали дядю Николая. Польским шпионом оказался…»
С каждым днем «шпионов» и «террористов» в доме становилось все больше, к внезапным арестам почти привыкли, и после очередного ночного визита энкаведешников стал обыденным такой разговор между мальчишками: «Вчера забрали Юркиного батьку. Опять седьмую квартиру опечатали».
…По улицам изувеченного бомбежками Минска еще шли торжественным маршем орущие колонны гитлеровцев, а к «дому с излишествами» уже подкатило несколько легковых автомашин. Будущие отцы оккупированного города присматривали себе подходящее гнездо. Они внимательно обследовали пострадавшие во время обстрелов квартиры, велели немедленно начать ремонт, а немногим семьям, перебравшимся на первый этаж и в подвал, приказали в двадцать четыре часа освободить помещения.
Александр Осипович быстро собрал свой небогатый скарб в легкий сундучок, положил на дно домовую книгу с дорогими его памяти именами и отправился с женой и сыном в пригород, где накануне присмотрел свободную комнату в продуваемом насквозь дощатом бараке. Все тяжкие годы оккупации и затем почти тридцать послевоенных лет — до самых последних дней своих — берег А. О. Хоревич книгу как дорогую реликвию, как документ, который (он верил в это) когда-нибудь пригодится, заговорит.
После смерти отца все нажитое им за долгую жизнь перешло в собственность Виктора Александровича. Он живет сейчас в Жодино, недавно вышел на пенсию по инвалидности, но по мере сил работает, держит хозяйство. Сын стал беречь книгу уже как память об отце и о своем детстве. Узнав из газет о расследовании «дела о Куропатах», он справедливо рассудил, что документ из того, теперь уже далекого прошлого, непременно должен в чем-то помочь следствию, и, не колеблясь, отправил пакет в Минск, в Прокуратуру республики. И вот теперь мы вместе с нашими гостями осторожно листаем ломкие страницы и, боясь проронить хоть одно слово, слушаем диалог Софьи Александровны Червяковой — дочери первого президента Белорусской Советской республики — и Вальтера Ивановича Лейзера — сына секретаря Комиссии партийного контроля при ЦК КП(б)Б. Их отцы были объявлены «врагами народа» с интервалом в один год — А. Червяков в июне тридцать седьмого, И. Лейзер — в июле тридцать восьмого.
С. Червякова:
— Сколько я себя помню, мы всегда жили в этом доме. А заселились, кажется, в двадцать первом, мне было тогда три года. Моя младшая сестра Люся еще даже не родилась. И квартиру занимали одну и ту же — десятую на втором этаже. Когда начались аресты, я заканчивала школу и хорошо помню, как утром к маме, Анне Ивановне, с полными ужаса глазами, прибегала то одна, то другая соседка. Просили заступиться за мужа или отца, помочь разобраться. Не знаю, предпринимала ли мама какие-то шаги, — она была представителем газеты «Известия» в Минске и, думаю, немногое могла сделать. Передавались ли эти просьбы отцу, тоже не знаю, при детях взрослые таких разговоров, как правило, не вели. А мы с Люськой верили, что если арестовали, значит, враг, так просто Советская власть не арестовывает.
В. Лейзер:
— Я тоже верил. Пожалуй, только к середине тридцать седьмого начали одолевать сомнения. Особенно, когда забрали ночью друга нашего отца — Рейнгольда Яновича Эгле. Латышский стрелок, человек с легендарной биографией, он приехал в Минск, как тогда говорили, по линии Коминтерна.
Был дядя Рейнгольд очень высокого роста, мне запомнилось, что, входя в нашу квартиру, он всегда сильно наклонялся, потом поднимал голову и весело здоровался по-немецки. Работая уполномоченным топливного комитета, часто уезжал в командировки, а возвратившись, непременно приносил мне и сестрам гостинцы — то большое красивое яблоко, то узелок лесных орехов, то пригоршню белых тыквенных семечек. Баловал нас, может, еще и потому, что своих детей не было.
Накануне ареста он тяжело заболел, несколько дней не поднимался с постели. «Пришли ночью, — рассказывала потом его жена тетя Соня, — уложили на носилки и унесли». Через несколько дней умер в тюрьме, никаких показаний дать не успел.
С. Червякова (читает книгу):
— Хацкевич Александр Исакович. Очень хорошо помню их семью. Жили они в 17-й квартире. Года четыре, наверное, он работал наркомом финансов. Иногда заходил к отцу, а Лидия Владимировна — жена его — дружила с мамой, забегала к нам почти каждый вечер. Была у них дочка Варенька — немного моложе меня, водилась с нашей Люськой.
Расстреляли дядю Сашу, как мы потом узнали, в Минске, в конце тридцать седьмого года. Обвинение выдвинули тяжелое, но по тому времени ставшее уже стандартным: «участник национал-фашистской организации, проводил вредительскую работу и занимался шпионажем в пользу Польши». Как сложилась судьба Варвары и ее братика Владимира, я не знаю.
В. Лейзер:
— Смотри, Зося, вслед за Хацкевичами в семнадцатой квартире прописаны Дубовцовы. Большая была семья, очень дружно жили, весело. Все на чем-то играли, хорошо пели, какие-то спектакли ставили. Я дружил с Федором — старшим сыном — и часто ходил к ним. Андрей Афанасьевич заведовал приемной в ЦИК, по нынешним временам — в Президиуме Верховного Совета. Исключили его из партии, а вскоре и арестовали за то, что, «имея тысячи сигналов-жалоб о контрреволюционной работе в Белоруссии, не разоблачал врагов народа, чем прикрывал их деятельность». Мне запомнилась эта формулировка, потому что через несколько месяцев ее дословно повторят в обвинении против моего отца — секретаря комиссии партийного контроля при ЦК КП(б)Б.
С. Червякова:
— Помнишь, Вальтер, под нами была девятая квартира? В тридцать седьмом году она заселялась раза три или четыре.
В. Лейзер:
— Да, все это было на моих глазах. Случилось так, что после ареста отца нашу семью почему-то не тронули. Опечатали только кабинет, оставив для нас четверых две маленькие комнатки. Правда, где-то через полгода одну из них вместе с отцовским кабинетом отдали какому-то начальнику из Наркомфина. Нас он почти не замечал, был поглощен своими заботами, только сильно ругал кого-то по телефону, забывая извиняться и перед собственной молодой женой, и перед моими взрослыми сестрами.
А в девятой квартире долгое время жили Бенеки — Казимир Францевич и Станислава Станиславовна. Сын Альфред был старше меня на три года, учился в университете. О Казимире Францевиче рассказывали легенды: в семнадцать лет он стал профессиональным революционером, в девятнадцать был арестован и заточен в считавшуюся неприступной Модлинскую крепость. А он из нее убежал. Участвовал в Февральской и Октябрьской революциях. Затем в красногвардейском отряде воевал с немцами. Был губернским комиссаром по польским делам в Воронеже. Много лет и сил отдал партийной работе в различных районах Белоруссии.
В 1927 году он возглавил наркомат труда, потом торговли, три года был заместителем председателя Совнаркома БССР. Когда мы поселились во «Втором Советском» и я познакомился с пацанами, то узнал, что отец Альфреда — нарком земледелия, член ЦК и ЦИК, по теперешним меркам — народный депутат республики.
Позднее, исследуя на досуге «родословную» нашего дома, я убедился, что наркомат земледелия был, пожалуй, самым «богатым» на «врагов» и «вредителей». Судите сами: Д. Ф. Прищепов — один из первых наркомов — уже в 1929 году исключен из партии «за оппортунистическую деятельность и систематическое искажение классовой линии в руководстве земельными органами…», а через два года заключен в лагеря на десять лет как член контрреволюционной национал-демократической организации.
В 1933 году на этот пост был назначен К. Ф. Бенек, спустя три года объявленный одним из лидеров антисоветской профашистской террористической организации, ставившей целью отторжение Белоруссии от Советского Союза. Чем это закончилось, известно: Бенека приговорили к высшей мере наказания и расстреляли.
В июне тридцать седьмого его сменил на посту наркома Николай Федосьевич Низовцев. Жили они с женой Ольгой Васильевной и сыном Юркой в 15-й квартире. Наркомом проработал месяца два, наверное. Как теперь помню, возвращались мы вместе с дачи в город, ехали в трамвае. И вдруг слышим разговор двух мужчин: «Сегодня еще одного врага народа взяли — Низовцева». Ольга Васильевна побледнела, губы ее задрожали. И вдруг, я и слова сказать не успел, выскочила из трамвая, бросилась назад, на дачу. Там быстро собрала Юрку и бесследно исчезла. Энкаведешники потом с ног сбились, разыскивая ее, но так и не нашли.
Очередным наркомом земледелия назначили, кажется, В. Ф. Шишкова, но тоже совсем ненадолго. Он заселился в девятую квартиру после ареста секретаря ЦК КП(б)Б Владимира Дмитриевича Потапейки.
Авторская ремарка
Тут мы попросим прощения у Вальтера Ивановича, прервем его монолог и расскажем о судьбе В. Д. Потапейки устами его жены — Лидии Игоревны Миранович. Мы отыскали ее в Минске, в большом панельном доме, глядящем сотнями окон на некогда загородное Московское кладбище. На нем немало покоится тех, кому посчастливилось уцелеть и, пройдя через лагеря и ссылки, вернуться после реабилитации домой, в родную Белоруссию, чтобы закончить свой путь за ажурной оградой привилегированного погоста.
…Дверь открыла маленькая седая женщина в длинном домашнем халате и мягких тапочках. Чистая, опрятная комната обставлена скромно и только самым необходимым: тахта, телевизор, книжный шкаф, несколько жестких стульев, да в углу, опустив крылья, давно, видимо, ждет гостей стол-книга.
Лидия Игоревна заметно волнуется: вертит в руках очки, то наденет их, то снова положит в футляр. Нам понятно ее нетерпение — из нашего предварительного телефонного разговора она знает о существовании документа «тех лет» и, конечно же, хочет поскорее взглянуть на него: а вдруг там есть хоть строчка о ее Володе, который навсегда остался в памяти молодым, тридцатилетним.
Лидия Игоревна бережно кладет на колени «Домовую книгу», медленно прочитывает фамилию и имя жильца, потом некоторое время молчит, что-то вспоминает и, наконец, восклицает:
— Как же, помню, Ананьев Анатолий Андреевич, зампредседателя Совнаркома. Мы почти одновременно въезжали. Они в семнадцатую квартиру, мы — в девятую… Не знали тогда ни Ананьевы, ни мы, что проживем в этих хоромах чуть больше месяца и что запишут наших мужей в одну «контрреволюционную, профашистскую организацию», одинаково жестоко будут избивать, а затем рядом посадят на скамью подсудимых.
Л. Миранович:
— За Володей пришли ночью, насмерть перепугали детей, даже грудная Верочка долго не могла успокоиться, все вздрагивала крохотным тельцем и глядела на меня огромными, немигающими глазами.
Не обращая ни на кого внимания, как будто в комнате пусто, гости в штатском медленно перебирали книги, заглядывали во все ящики столов, прощупывали каждую складку одежды. Ничего, конечно, не нашли, взяли документы и письма от родителей. Я догадывалась, зачем им нужны письма: ведь за несколько недель до ареста Володи забрали его отца и, по существу без следствия, без суда, обвинив в шпионаже, приговорили к смертной казни и через день расстреляли.
Старший кивнул Володе: «Собирайся, пойдем!». А я только глядела на всех безумными глазами, отказываясь верить в то, что происходило на моих глазах. Кажется, я даже не плакала, не кричала, за что изводила себя потом месяцы и годы, а только успокаивала, качая на руках не затихающую даже на время трехнедельную Верочку.
Энкаведисты встали рядом с Володей, показали жестом на дверь, но он вдруг резко повернулся, шагнул назад, к нам, поцеловал детей, меня, горячо заговорил: «Не волнуйся, Лида, все будет хорошо. Это ошибка, я чист перед партией…»
Когда резко хлопнула входная дверь, я осознала, наконец, что случилось: у детей нет больше отца, у меня мужа, но зато у всех у нас появилось страшное по своим последствиям клеймо — «семья врага народа». Как юрист и работник прокуратуры я знала, что стоит за этой фразой и какие изменения в нашей жизни она обещает. Ждать долго не пришлось — через несколько дней мне сообщили, что оставаться в прокуратуре я, естественно, не могу, а помочь с трудоустройством пока нет возможности. В 29 лет, с редким тогда высшим образованием, я стала безработной, имея на руках двоих детей, старшему из которых было семь лет.
На партийное собрание, где меня как жену врага народа должны были исключать из партии, пришлось взять Верочку. Я держала ее на руках, когда рядом со мной на пустом до этого ряду сели двое энкаведистов. Молча и, казалось, безучастно слушали они гневные речи моих недавних товарищей по партии и по работе. И только один раз дружно усмехнулись, когда наш признанный активист и правдолюбец, пронзая меня разящими взглядами, гневно заявил: «Она не могла не знать о враждебной деятельности своего мужа, потому что спала с ним на одной подушке».
Я была уверена, что мои добровольные телохранители по окончании сходки нежно возьмут меня под руки и препроводят «куда следует». Но, видимо, что-то дрогнуло в их казенных душах, не осмелились арестовать тут же, да еще с грудным ребенком.
Через несколько дней, когда мы уже перебрались в другую, совсем не привилегированную полуподвальную квартиру, мне вернули какие-то документы, кажется, свидетельство о браке, метрики детей и самое главное — сберегательную книжку, где у нас было накоплено сотни три, не меньше. Деньги небольшие, но на них можно было продержаться какое-то время, купить продукты для передач Володе. Иногда с детьми, иногда одна, оставив меньшенькую соседке, я часами выстаивала в очередях, но когда сдавала передачу, мчалась домой радостная, почти счастливая, как будто увидела его, поговорила.
Я понимала, если приняли передачу, значит, жив, значит, есть надежда. После расстрелов ни писем, ни передач не брали. Это я знала определенно.
И вот однажды мне отказали. Я металась от одного окошка к другому, умоляла сказать правду, пусть самую страшную, и всюду натыкалась на холодный, безучастный взгляд: «Потапейко не значится…»
Несколько недель пробивалась на прием к какому-нибудь начальнику — со мной никто не хотел разговаривать. Тогда решила схитрить: пришла рано утром к служебному входу в НКВД и стала караулить руководителя отдела — его фамилию мне под большим секретом сообщила подруга из прокуратуры.
Говорил он со мной вежливо, хоть и настороженно, торопливо. Сообщил главное: «Езжайте в Могилев, в психиатрическую больницу».
…В больницу меня не пустили. Ходила вдоль забора, вглядывалась в зарешеченные окна — а вдруг мелькнет знакомая тень, но ничего разглядеть не могла. И снова, как и в Минске, попробовала взять хитростью. Узнала домашний адрес главного врача, дождалась его вечером у калитки и упала перед ним на колени. В прямом и переносном смысле. Он испугался, бросился поднимать меня, потом буквально затащил в дом и под недоуменные взгляды жены и детей усадил в кресло, стал успокаивать, утешать. Эти добрые люди отогрели меня чаем и ласковым словом, успокоили, пообещали помочь. А утром я задолго до назначенного часа была у входа на кухню, через которую главный врач незаметно провел меня в корпус, дал халат и мы направились в палату, где лежал Володя.
У окна стоял высокий стриженный под машинку человек, из-под больничной пижамы выпирали острые лопатки. Главный врач незаметно кивнул мне, я подошла к нему и тихо позвала:
— Володя, здравствуй…
Он медленно повернул голову в мою сторону, окинул меня безучастным взглядом и снова отвернулся к окну. Лицо его было изможденным, почти черным.
— Володя, ты меня не узнаешь? Это я, Лида…
Мне показалось, что в нем что-то дрогнуло, какая-то искорка вспыхнула в сознании, но мгновенно погасла:
— Какая Лида? Я вас не знаю…
— Володенька, родной, вспомни, я твоя жена. Я привезла тебе фотографии наших деток…
Лицо его вдруг исказила какая-то страшная гримаса, он отступил на шаг и закричал:
— Вон отсюда! Уберите ее, она шпионка! Она лжет, моих детей расстреляли…
И замахнулся на меня кулаком.
Врач, все время стоявший за моей спиной, рванулся вперед, схватил его за руку, резко приказал:
— Сядьте, успокойтесь… Слушайте меня внимательно: это ваша жена, она, как видите, жива и дети ваши живы… Вы меня понимаете?..
Постепенно Володя начал успокаиваться, задышал ровнее, поднял голову, но во взгляде его ничего не читалось. Я так до сих пор и не знаю, понял ли он что из моего торопливого, сбивчивого рассказа…
Авторская ремарка
В. Д. Потапейко в Могилеве подлечили и сразу же, по настоянию следствия, отправили в Москву, где он предстал перед Военной коллегией Верховного Суда СССР.
Рядом с ним на скамье подсудимых оказались еще четверо соседей «по дому на перекрестке» — председатель ЦИК БССР М. О. Стакун, второй секретарь ЦК КП(б)Б А. А. Ананьев, нарком просвещения БССР В. И. Пивоваров и Председатель Совнаркома республики, проработавший в этой должности чуть больше года, А. Ф. Ковалев. Из всей пятерки в живых остался только он, Афанасий Федорович. Выдержать трехлетнее испытание жестокими пытками и тюремными карцерами ему, по его же признанию, помогло мужество и недюжинное здоровье. Он и теперь, на 86-м году жизни, по-молодецки строен и широк в плечах.
Мы проговорили весь вечер, буквально по месяцам и неделям разложили его горестную одиссею, с гордостью вспомнил он тех, кто не сломался под пытками, выстоял, не оговорил ни себя, ни других. Живая, не затухающая с годами боль и сострадание звучали в голосе Афанасия Федоровича, когда он рассказывал о муках своих товарищей, не выдержавших изощренных издевательств, о тех, кого силой и обманом вынудили подписать клеветнические показания. «У каждого человека есть свой предел терпения», — вздохнув, заключил А. Ковалев.
На суде М. О. Стакун с трудом поднимался со скамьи, говорить почти не мог — в груди его что-то клокотало, хрипело, дышал он часто и тяжело, жадно хватая ртом спасительный воздух. Не надо было быть врачом, чтобы понять, что у него повреждены легкие — их отбили ему на допросах, вымогая «правдивые» признания. Но Михаил Осипович держался на редкость мужественно и несмотря ни на что не подписал измышлений следователя.
Суд вынужден был его оправдать. Тогда руководство НКВД БССР опротестовало решение суда. Рассмотрение протеста затянулось надолго и М. О. Стакуну так и не суждено уже было выйти на волю — он умер на нарах в камере Тамбовской тюрьмы.
Из последних сил держались и другие подсудимые. Все они отказались на суде от своих прежних показаний, заявили об избиениях и пытках следствия, но слишком тяжкие и коварно завязанные в единый узел признания были ими уже подписаны. Особый интерес для суда представляли, конечно, записи очных ставок. Следователи знали об этом и провели их по высшему классу шантажа и подтасовок.
Вот как проходила, по описанию А. Ковалева, его очная ставка с В. Потапейко:
— Справа в углу комнаты сидел человек-скелет. Когда у меня спросили, знаю ли я этого человека, хотелось ответить: «Нет, не знаю». Потому что признать в нем недавно цветущего молодого красавца было почти невозможно: лицо землистое, в отеках, по обе стороны рта залегли старческие складки, глаза потухли. Склонив голову, он тупо смотрел на свои колени. Мне показалось, что он уже никого и ничего не замечает. Его губы шевелились, но беззвучно, как у старушки на богомолье. Чувствовалось, что это тяжело больной человек, и ни один эксперт не осмелился бы утверждать, что ему всего тридцать лет.
Афанасий Федорович рассказал, как искусно ставились В. Потапейко вопросы, на которые он должен был отвечать односложно: «Да».
— Вы подтверждаете, что Ковалев лично дал вам вражеское поручение?
— Да.
— Вы вместе с ним участвовали в антисоветской, террористической деятельности?
— Да.
— Вы даете чистосердечные показания?
— Да…
Подобным образом проходили очные ставки А. Ковалева с В. Пивоваровым и А. Ананьевым. Спустя много лет Афанасию Федоровичу рассказали, как вел себя после этой очной ставки А. Ананьев. Видимо, к нему на время вернулась ясность мышления, он осколком найденного на прогулке стекла попытался вскрыть себе вены и кровью написал на клочке бумаги прощальную записку дочери:
«Что бы обо мне ни говорили, помни, доченька, — я честный человек».
…Но вернемся назад, к нашим гостям, с нескрываемым интересом изучающим «Домовую книгу», и послушаем дальше их обращенный в прошлое диалог.
С. Червякова:
— Вальтер, а ты помнишь Дмитрия Коника? Толстенький такой, в очках. Они почти одновременно с вами въехали в дом. Его назначили заведующим отделом культуры и пропаганды ЦК партии. Очень жену свою обожал, всегда ходил с ней под руку, с гордо поднятой головой. Когда они гуляли по улице, мы выходили посмотреть. Нам казалось, что рядом с ней — стройной, изящной — он не идет, а, как колобок, катится. Относились к ним в доме все очень тепло, а маму Дмитрия Юдовича — Ефимию Николаевну — просто боготворили. За доброту, какую-то особую сердечность и за пирожки, которыми она почти каждый вечер потчевала во дворе детвору.
Сына ее тоже записали в «контрреволюционную террористическую организацию, занимающуюся вредительской подрывной деятельностью». Меньше, чем через два месяца после ареста его приговорили к смертной казни и сразу после суда, в тот же день, расстреляли.
В. Лейзер:
— В этой же шестнадцатой квартире, если ты помнишь, Зося, жили Шестаковы. Павел Петрович и тетя Эмма, жена его. Она еще с акцентом говорила — латышка была по национальности. С их сыном Вадимом мы почти одногодки, в осоавиахимовский кружок ходили вместе, ворошиловские значки получили.
Павла Петровича забрали, кажется, раньше, чем Коника, зимой тридцать седьмого. Держали под следствием месяцев десять. Расстреляли только в сентябре. После реабилитации стало известно, в чем его обвиняли. Оказалось, что всю сознательную жизнь он боролся против партии и Советского правительства за отторжение Белоруссии от Советского Союза и создания самостоятельного буржуазного Белорусского государства. Работая заместителем наркома просвещения, а затем директором Белгосиздата, вместе со своими единомышленниками протаскивал в учебные пособия буржуазную идеологию. Он участвовал также в создании боевой террористической группы, которая должна была убить Ворошилова, когда он приезжал на маневры, но почему-то не осуществила свой злодейский замысел. Сейчас подобные обвинения кажутся нам дикими, нелепыми! А тогда они вызывали гневные бури в газетах, и большинство людей им верило.
С. Червякова:
— Никогда не забуду, какая отборная ругань обрушилась с газетных страниц и по радио на моего отца незадолго до его самоубийства и продолжалась еще долго после похорон. Вместе с Голодедом, Уборевичем, Бенеком его зачислили в шайку шпионов, провокаторов и убийц, которым, как говорилось в многочисленных резолюциях митингов трудовых коллективов, «нет места на свободной советской земле». В. Ф. Шарангович, тогда первый секретарь ЦК КП(б)Б (до тридцать четвертого года он жил в вашей квартире, Вальтер), на XVI съезде Компартии Белоруссии гневно заклеймил как врагов народа многих своих недавних соратников и друзей. В заключительном слове, явно намекая на отца, который застрелился в перерыве между заседаниями съезда, обаятельный и всегда такой милый Василий Фомич сурово заявил: «Ни самоубийства, ни земное шипение всей этой сволочи из-за угла не могут поколебать наших рядов. Всех этих гадов мы уничтожим».
Он не знал еще тогда, что через полтора месяца его самого вызовут в Москву, арестуют и начнут «репетировать» с ним одну из второстепенных ролей в показательном процессе «антисоветского правотроцкистского блока», где на авансцене были Бухарин, Рыков, Томский и некоторые другие видные деятели партии.
Авторская ремарка
Считаем возможным дополнить рассказ Софьи Александровны одним характерным эпизодом, случившимся на похоронах ее отца, — Александра Григорьевича Червякова. Хотя он и застрелился сам, как сообщили газеты: «на личной семейной почве», хоронить его, как простого смертного, поначалу все-таки не решились. На день гроб разрешили установить в профсоюзном клубе, мимо него скорбной чередой прошли тысячи людей — в Белоруссии мало было равных Червякову по авторитету и популярности.
И вот назавтра, когда растянувшийся на несколько кварталов людской поток двигался за катафалком на кладбище, на одном из поворотов дорогу людям вдруг перегородила плотная цепь милиционеров. Кортеж машин, горсточка родственников и соседей оказались по одну сторону памяти, тысячи людей — по другую. Одним жестом общенародная печаль объявлялась крамольной. Видный государственный деятель, чье имя неотделимо от истории создания Компартии Белоруссии, обретения республикой своей самостоятельности и суверенности, наконец, от истории рождения Союза ССР, когда А. Червякову было доверено от имени белорусского народа подписать документы нового, небывалого сообщества наций, этот человек отныне превращался в подозрительную персону, а через день-два ему предстояло стать полноценным «врагом народа».
Сохранились редкие кадры кинохроники — коренастый, усатый головач, с виду сельский учитель, кем он и был по избранной в юности профессии, Александр Григорьевич — в президиуме съезда Советов, провозгласившего создание СССР. Вместе со своими коллегами — Председателем ЦИК РСФСР М. И. Калининым, Председателем ЦИК Украины Г. И. Петровским и Председателем ЦИК Закавказской Федерации Н. Наримановым — Червяков стал одним из четырех председателей ЦИК СССР.
На пленке запечатлен один из фактов пятнадцатилетней работы Александра Григорьевича в верховном органе власти страны: представляя советское руководство, он принимает в Кремле в середине 30-х годов верительную грамоту посла сражающейся с фашизмом республиканской Испании.
Приведем еще строку из характеристики А. Червякова как члена ЦИК СССР:
«Единственный из старых партийных товарищей, хорошо знающий белорусскую общественность. Пользуется признанием в белорусских кругах».
В этих словах были выражены одновременно и активное участие Червякова в судьбах национальной культуры, в умножении духовных богатств своего народа и в то же время искренняя признательность ему за добрые дела со стороны национальной интеллигенции.
В биографию белорусского кинематографа навсегда вписан и такой примечательный факт. А. Червяков снялся в первенце национального игрового кино — фильме «Лесная быль». Вместе с двумя другими руководителями республики, в годы гражданской войны организаторами партизанского движения в Белоруссии — В. Кнориным и И. Адамовичем — они сыграли самих себя.
И как же страшно это трепетное и гордое чувство сыновней привязанности к родной земле «аукнулось» Червякову, когда наступил его роковой час. То, что в характеристике отмечалось как достоинство, стало материалом для мрачных обвинений. С трибуны упоминавшегося уже съезда Компартии Белоруссии через день после похорон Александра Григорьевича звучало;
«Червяков являлся идейным вдохновителем и руководителем национал-оппортунистического уклона в КП(б)Б. В нашем распоряжении имеются документы, которые характеризуют Червякова как руководителя нацдемовского движения».
«Нацдемовского», значит контрреволюционного, националистического. Многим руководителям республики, ученым, литераторам был приклеен этот зловещий ярлык, бросивший их в середине тридцатых годов в тюремные камеры, отправивший по этапу в далекую Сибирь или на скорый расстрел.
С. Червякова:
— Через несколько дней после похорон мама помчалась в Москву, надеясь там отыскать людей, которые развеют клевету на отца, вернут ему доброе имя. Ее арестовали, посадили в пресловутую Бутырку, и мы с Люсей выстаивали долгие очереди, чтобы передать что-нибудь из продуктов или одежды. Передачи брали, но никакой, даже крохотной записочки от мамы мы ни разу не получили. Меня в свою очередь отправили в административную ссылку в Ярославль. А сослали меня за то, что я категорически отказалась отречься от отца. Меня исключили из института им. Баумана, где я училась на третьем курсе, выгнали из комсомола. Это случилось уже в тридцать восьмом, после «бухаринского» процесса, на котором Шарангович признался, что в тридцать пятом году вступил в национал-фашистскую организацию, возглавлявшуюся Червяковым и Голодедом. (Николай Матвеевич десять лет был Председателем Совнаркома республики, жил в соседней с нами восьмой квартире. А с его дочерью Валей, теперь бабушкой Валентиной Николаевной, мы всю жизнь дружим).
Арестовали Николая Матвеевича Голодеда тихо, скрытно, все-таки опасались широкой огласки. Как раз накануне XVI съезда КП(б)Б его вызвали в Москву. Вечером в номер гостиницы постучали четверо в штатском, предъявили ордер на арест и сразу же повезли на Белорусский вокзал. Это случилось 15 июня. А через неделю во время допроса он бросился в открытое окно верхнего этажа здания НКВД.
После реабилитации отца Валентине по ее настоятельной просьбе показали его дело. В нем не было ни одного протокола допросов Николая Матвеевича, лежали только выписки из показаний других арестованных, которые называли Голодеда одним из организаторов и руководителей контрреволюционной организации.
Запомнила Валя, что там еще было письмо бывшего наркома внутренних дел БССР Бермана Ежову с цитатами из тех же показаний и выводом — «подлежит аресту». Наискосок черным толстым карандашом была начертана ежовская резолюция: «Арестовать».
Грешно сказать, но если раньше мы с Валей в душе осуждали последний шаг наших отцов, то поздней, когда многое прояснилось, мы поняли, как же правильно они поступили, избавив себя от мучений, они еще и не запятнали своего имени ложью во спасение, пусть вынужденной, выбитой, но клеветой на себя и других.
В. Лейзер:
— Не знаю, была ли у моего отца такая же возможность, как у Н. М. Голодеда, но воспользоваться револьвером, как Александр Григорьевич, он не мог. Его арестовали на Советской, нынешнем Ленинском проспекте, возле книжного магазина, который и сейчас там находится.
Был жаркий солнечный день — 20 июля 1938 года. Отец вышел из дома в модных тогда белых брюках, голубой косоворотке и светлых сандалиях. Чем он оправдывал свое немецкое происхождение, так это безукоризненным внешним видом и строгой пунктуальностью во всем. И когда он не вернулся домой в привычные для всех нас часы и не позвонил, мы забеспокоились, стали справляться в милиции, у друзей, наконец, в морге.
Все прояснилось около полуночи: в дверь громко постучали и, когда мама открыла, в прихожую решительно вошли трое и сразу же направились в отцовский кабинет. Нехотя перелистали несколько книг, заглянули в ящики стола — знали, что искать нечего. Забрали оружие: у отца было три пистолета, один из них именной, хранился еще с гражданской войны, и тонкой работы охотничье ружье.
Вместе с оружием лежал и серебряный портсигар, который мама подарила отцу в день свадьбы. Он им очень дорожил и берег. Может, еще и потому, что однажды в Самаре, где отец работал на заводе, и вместе с В. В. Куйбышевым и Н. М. Шверником участвовал в революционном движении, его тоже арестовали и учинили в доме обыск. Едва жандарм взял в руки портсигар, мать бросилась к нему и вырвала из рук: «Не дам, это память». Тут, с энкаведистом, она не решилась на такой отчаянный шаг. Потом объяснила нам: «При царе жен за провинности мужей в тюрьму не сажали». Серебряный портсигар ушел из нашей семьи навсегда.
Отца долго держали в минской тюрьме, видимо, не находили подходящей антисоветской организации, к которой его можно было приписать. В одну компанию с Червяковым, Бенеком или Голодедом не годился — в республике всего три года, да к тому же немец, непонятно, какие националистические идеи он проповедовал. Стать модным тогда шпионом в пользу Польши ему было не с руки… Словом, почти год создавалось дело «О неразоблачении врагов, о потере бдительности», а затем был скорый суд, продолжавшийся двадцать минут и отправивший отца на десять лет в лагеря. К сожалению, этот приговор оказался не окончательным. Вскоре его отменили и приговорили Ивана Ивановича Лейзера к расстрелу. Все это мне стало известно в 1957 году, после реабилитации отца, когда меня познакомили с обвинительным заключением и когда из всей нашей большой семьи в живых остался только я.
Авторская ремарка
Во «Втором Советском», как мы уже говорили, жило немало иностранцев. В домовой книге есть отметки о прописке семьи Фердинанда Арма из Чехословакии, немцев А. Рольгейзера и М. Маурера, поляков М. Эмилита и С. Рак-Михайловского, латышей К. Ратнека и А. Балтина.
Об Августе Яновиче Балтине следует сказать особо. Профессиональный революционер, член партии с 1909 года, его много раз арестовывали царские власти, бросали в тюрьмы, отправляли в ссылки. Все выдержал, перенес. После Октября активно включился в созидательную работу. Сначала в Закавказье, потом в Москве, а с 1929-го года — в Белоруссии. Был председателем Белкоопсоюза, затем наркомом торговли, социального обеспечения, легкой и местной промышленности, заместителем председателя Совнаркома БССР, членом ЦК партии.
Его биография, как и сотен других старых большевиков, в энциклопедии завершается 1937 годом. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в Белоруссии к началу войны репрессированы были практически все иностранные граждане.
Семье Ивана Ивановича Лейзера, прямо скажем, повезло. Две его дочери — Ирма и Эльза — вскоре после ареста отца вышли замуж, старшая забрала с собой мать, а Вальтера в канун войны призвали в армию.
После оккупации Минска с сестрами, прекрасно знавшими немецкий язык, установили связь подпольщики. Ирма стала связной партизанской бригады «Смерть фашизму», базировавшейся в Логойском и Борисовском районах. Не раз ей удавалось успешно выполнять задания одного из руководителей минских подпольщиков — позднее Героя Советского Союза Ивана Кабушкина.
Но однажды, забыв о конспирации, командир отряда передал через нее записку для Кабушкина, в которой было написано: «Жан, достань и пришли мне пистолет…» На посту при входе в город Ирму остановили полицейские, обыскали и нашли неосторожное командирское послание. Через несколько дней Ивана Кабушкина арестовали, а Ирму после долгих истязаний и пыток вынудили дать согласие работать на гестапо и отправили назад, в лес.
Придя в отряд, она обо всем рассказала партизанскому командованию, назвала все пароли и явки, имена людей, с которыми ей предложено держать связь. Партизаны почему-то не рискнули вступить в игру, которую им предлагала Ирма, а переправили ее на Большую землю, в Москву. Здесь ее обвинили в пособничестве фашистам, отправили в лагеря, где она и погибла.
Эльзе судьба уготовила не менее тяжкие испытания. Медик по образованию, она по рекомендации подпольщиков устроилась в больницу, где работал Евгений Владимирович Клумов — будущий Герой Советского Союза, спасший от смерти тысячи партизанских жизней, переправивший в лес оборудование и медикаменты для десятков партизанских госпиталей.
После ухода и невозвращения из отряда Ирмы гестаповцы арестовали Эльзу как заложницу. В фашистских казематах она приняла мученическую смерть вместе со многими минскими подпольщиками.
В. Лейзер:
— Как сына «врага народа» меня не взяли на строевую службу, а определили в стройбат в Гродненской области. Было это в мае, а ровно через месяц нам пришлось вступить в бой с гитлеровцами. Боем то, что произошло, назвать будет немалым преувеличением — они шли вооруженные до зубов, у нас на весь батальон было несколько винтовок. Ясное дело, стройбат. Постреляв немного для очистки совести, мы организованно отступили.
Добрались до Борисова, здесь нам дали оружие, мы заняли линию обороны и сколько могли держались. Поступил приказ отходить, мы откатились до Смоленска, здесь укрепились вроде неплохо, но фашист бросил против наших винтовочек авиацию и танки, подтянул тяжелые орудия. Много ребят там осталось, а мне снова повезло, уцелел.
На переформирование нас отправили под Москву, а 27 августа 1941 года пришел приказ: всех немцев из красноармейских рядов изъять. Нас спешно погрузили в товарные вагоны, довезли до Магнитогорска, велели строить железную дорогу. Когда ее построили, всех отправили под Челябинск, в шахту. На скорую руку соорудили лагерь, обнесли его колючей проволокой, над забором подняли сторожевые будки. Так без суда и следствия всех моих соплеменников заключили под стражу, и я тринадцать лет ходил под конвоем.
После XX съезда были сняты ограничения на местожительство и я уехал в Минск, где нашел только могилу мамы. Остальные имена приписал на памятнике под ее именем. Думаю, она на меня не обидится.
И еще об одном не могу не сказать. К сорокалетию победы отметили всех участников войны и трудового фронта. Я хоть и немного, всего два месяца, но воевал. Потом рубил для фронта уголек, отдавал, пусть редкие и не ахти какие большие, суммы премий в фонд Победы, а меня нет сегодня ни в каких списках. Кто я — боец или дезертир? Кем я был во время войны? Ни в детском же саду воспитывался в двадцать с лишним лет. Как мне объяснить это внукам?
В десятках писем в самые разные инстанции я задавал эти вопросы. Вразумительного ответа до сих пор нет.
Неужели и сегодня кто-то боится сказать правду? Всю, без оговорок и умолчаний.
Авторская ремарка
Перед тем, как попрощаться, мы попросили Софью Александровну и Вальтера Ивановича еще раз перелистать страницы домовой книги и назвать судьбы живших с ними когда-то под одной крышей людей. Почти о каждом втором они сказали: «Репрессирован…» и добавили: «Может, и в Куропатах покоятся их души».
К началу войны в доме не осталось старожилов, за исключением, пожалуй, одного лишь Александра Осиповича Хоревича. Но кто-то же должен был сберечь этот документ, помочь нам протянуть живую ниточку между сегодняшним днем и тем суровым и горьким временем.
Как взорвалось это слово «Куропаты»?
Сосна стояла, как на постаменте, на высоком бугорке, а прямо от ее ствола, заметно углубляясь к середине, сбегала вниз пологая впадина. Внимательно присмотревшись, можно было разглядеть и очертания былого прямоугольника, из которого эта впадина образовалась.
— Может тут когда-то уже стояла землянка, — высказали предположение ребята и дружно решили, что если это так, то лучшего места им и искать не надо.
Копали долго, неторопливо, уходя все глубже и глубже в податливый песок и постепенно продвигаясь навстречу сосне. Игорь Бага, как самый крепкий и выносливый, изредка, и то всего на несколько минут, уступал лопату младшим — Виктору Петровичу или Саше Макрушину, — а потом снова с азартом и нетерпением принимался за работу. Мальчишки задумали построить несколько настоящих землянок, но так, чтобы они ни в коем случае не были хуже тех, которые им показывали однажды на экскурсии в партизанском лагере. Ребята уже мысленно видели, как они оборудуют здесь командный пункт, а потом, если понадобится, и миниатюрный госпиталь, узел связи. «„Зарница“, хоть и игра, — рассудили ребята, — но лучше, чтобы все было всамделишное, без подделок и бутафории».
Работали долго, уже и подустали немного — Игорь все чаще стал передавать лопату друзьям и они, хоть и без прежнего энтузиазма, настойчиво бросали наверх податливый песок.
Но вдруг лопата заупрямилась, не захотела входить в мягкий до этого грунт. Игорь встал на колени, руками разгреб сверху песок и увидел голенище мужского кожаного сапога. Стал разгребать дальше и откопал миниатюрную женскую галошу, затем небольшую кружку с остатками белой эмали на донышке и по краям. Передал находку наверх ребятам, а сам снова взялся за черенок. Но уже через несколько минут в недоумении и растерянности отброса лопату в сторону: из земли один за другим стали проступать серые, пугающие пустыми черными глазницами черепа.
Первое желание было немедленно все бросить и бежать куда-нибудь подальше от этого места. Младший Виктор и Саша испуганно глядели на Игоря, который выскочил из раскопа и, стараясь скрыть волнение, суетливо отряхивал песок со штанин. Все трое долго молчали. Потом Саша неуверенно предложил: «Может, позвать кого из взрослых? Я быстренько домой cбeгаю…»
Его остановил Игорь: «Погоди, подумают, что мы испугались… давайте еще немножко прокопаем, посмотрим, сколько там чего, а потом и позовем…». Не без робости и сомнений, но ребята согласились.
Они нашли в тот день 23 черепа и множество костей, осторожно извлекли их из земли, как смогли, очистили ветками от песка и аккуратно, бережно сложили. Среди черепов и костей попадались различные вещи — мальчишки их тоже осторожно обметали, тут же рядком складывали. Нашли они еще несколько кружек, зубную щетку в футляре, на которой можно было прочитать название витебской фабрики, круглые сломанные очки в тонкой металлической оправе, кожаный кошелек с советскими монетами выпуска тридцатых годов, много обуви и пустых стреляных гильз. Самым удивительным и тревожным для ребят открытием были небольшие круглые дырочки на затылках почти всех черепов. Иногда их было по две и даже три.
Постепенно страх ушел, осталось только неодолимое мальчишечье любопытство и ощущение причастности к какой-то большой и зловещей тайне. Когда начало смеркаться, ребята заложили раскоп крест-накрест длинными сучьями, сверху забросали еловыми ветками и, условившись пока молчать о своей находке, отправились по домам. Было это 1 мая 1988 года.
А через четыре дня, направляясь к своей несостоявшейся землянке, они увидели на противоположной окраине леса взрослых, раскапывающих такую же, как и они, впадину. Мальчишки, конечно же остановились, присели, стали ждать, что же найдут археологи. А что это были люди ученые, ребята поняли из разговоров, из того, как они, натянув на колышки тесьму, сначала разметили раскоп, потом осторожно и уверенно стали снимать слой за слоем. Углубились, наверное, метра на полтора, но так ничего и не обнаружили — на траве выросла гора чистого желтого песка.
И тогда ребята решили открыть свою тайну — они повели археологов к заветной сосне, сами сбросили ветки, сучья, показали все, что нашли, рассказали обо всем, что знали. Оказалось, что для взрослых их находки отнюдь не великое открытие и не самая большая неожиданность. Они просто стали вещественным доказательством того, о чем догадывались, предполагали археолог 3. Позняк и инженер-конструктор Е. Шмыгалев, многие годы по крупицам собиравшие сведения о жертвах сталинских репрессий, о невинных советских людях, расстрелянных в окрестностях Минска. А еще через месяц в газете «Лiтаратура i мастацтва» появилась их большая статья «Куропаты — дорога смерти». Свое горькое повествование они начали так:
«То, о чем мы хотим рассказать читателям, известно многим. Но, видимо, как и мы, те, кто обо всем знал, подчинялся обстоятельствам и терпел. Для нас это терпение было невыносимым. Невыносимым от сознания, что быстро бежит время, умирают люди и исчезает память о страшных злодеяниях против народа, совершенных в 30-х годах. Невыносимым от сознания того, что если пропадет, потеряется эта память — повторится все с сначала».
В предисловии к статье лауреат Ленинской премии, народный писатель Белоруссии Василь Быков в свойственной ему строгой и суровой манере написал:
«Как свидетельствуют некоторые наши исследователи, только в Белоруссии в 30-е годы ежовско-бериевским репрессиям были подвергнуты сотни тысяч человек… но где конкретно ликвидированы эти многие сотни тысяч, в какой земле тлеют их белые косточки?
Не надо думать, дорогой читатель, что это какая-то особая, проклятая людьми и богом земля, — по существу, это те же самые места, по которым каждый день мы ходим, где отдыхаем на ласковой природе в выходные и праздники, где весело играют, ничего не зная о прошлом, наши беззаботные дети. Да, они не очень много знают из тех ужасных времен, да и мы, взрослые, информацию такого рода начали получать только в последнее время. Много лет в стране действовали силы (они действуют и теперь, разве что другими методами), очень заинтересованные спрятать давние дела под покрывало «секретности», утаить от народа свои кровавые следы. Только, как давно известно, злодеяния плохо уживаются с самой сверхсекретной секретностью, рано или поздно они выходят на свет божий, чтобы лишний раз заклеймить зло и засвидетельствовать необходимость бдительности».
Авторы статьи подробно рассказывают, как в начале 70-х годов в деревне Зеленый Луг, которая тогда еще несмело подступала к северной окраине Минска, а сейчас исчезла, подарив свое красивое имя огромному микрорайону, довелось им услышать от старожилов о расстрелах людей в недалеком лесу. С 1937 по 1941 год, говорили они, каждый день и ночь туда привозили на машинах обреченных на смерть людей и расстреливали. Кругом стоял старый бор, называли его Брод, а вокруг простирались леса с крохотными лоскутками пашни.
Небольшой участок бора — гектаров 10–15 — приходился на живописную покатую горку, которую именовали почему-то Куропатами, хотя птиц там было немного, зато весной буйно цвели нежно-белые лютики, по-белорусски курослепы. Был он обнесен высоким, не менее трех метров, дощатым забором, обтянутым сверху колючей проволокой. За забором находилась охрана с собаками.
Людей привозили по гравийной дороге, что вела от Логойского тракта к Заславлю. Путь этот местные жители называли «Дорогой смерти». Авторы опросили тогда многих сельчан из Зеленого Луга и других деревень, установили немало фактов и обстоятельств массовых убийств.
«Но обнародовать их в 70-е годы, рассказать обо всем не было возможности. В 1987–1988 годах мы отыскали некоторых жителей снесенной уже деревни, снова побеседовали со старожилами и свидетелями событий в окрестных селах, выяснили обстоятельства, детали, записали ответы…»
3. Позняк и Е. Шмыгалев процитировали многих своих собеседников, постепенно дополняя и обогащая подробностями картины расстрелов, приводя аргументы в обоснование того или иного вывода.
«Людей ставили в ряд, затыкали каждому рот кляпом и завязывали тряпкой… Убийцы были в форме НКВД. Они стреляли из винтовок сбоку в голову крайнего, чтобы прошить пулей двоих человек… Патроны жалели».
Это свидетельства Николая Васильевича Карповича, 70-летнего жителя деревни Цна-Иодково — самой близкой к Куропатам. А Василий Яковлевич Скворчевский, Мария Григорьевна Потершук, Надежда Ефимовна Хомич и другие говорят, что слышали крики, плач, мольбы и проклятия. «Может, не хватало кляпов?» — спрашивают авторы. И сами отвечают:
«Нет, видимо, дело в другом. Человек, который долгое время регулярно убивает людей, постепенно становится садистом. У него возникает потребность помучить свою жертву, прежде чем убить ее. Вот и мучили людей перед смертью.
Видимо, не патроны экономили убийцы, когда стремились прошить одной пулей сразу двоих. Это была своего рода бравада, спорт для палачей, демонстрация профессионализма. Н. Карпович, вероятно, как раз и видел этот нетипичный способ расстрела из винтовок. Мы подробно расспрашивали всех, кто слышал, как звучали выстрелы, и тех, кто видел, как убивали, или узнал от тех, кто видел, — и пришли к выводу, что расстреливали в основном из наганов и пистолетов (что и подтвердилось затем раскопками)».
Всем свидетелям авторы задавали вопрос: не знают ли они о расстрелах в этих местах советских людей фашистами в годы войны. Ответы были одинаковыми: нет, немцы здесь появлялись редко, никого не расстреливали. Интересовались также, кто из местных жителей был репрессирован, какова его судьба. Люди назвали имена учителя Арсена Павловича Груши, крестьян из деревни Хмаринщина Андрея Филипповича и Степана Терлюка, братьев Стриго из Подболотья.
По этому поводу авторы замечают, что можно как-то понять, почему в годы сталинских репрессий уничтожались в первую очередь руководящие партийные и военные кадры, интеллигенция, специалисты. Но совсем необъяснимо, почему убивали темных, неграмотных крестьян и рабочих. Трудно отыскать в этом какую-то логику, потому что она, по существу, не человеческая, а с каким-то иным знаком.
В статье обстоятельно излагается версия о кем-то уже проведенной ранее эксгумации захоронений в Куропатах. 3. Позняк и Е. Шмыгалев пишут^
«Осмотр некоторых могил вызвал у нас тревожные подозрения. Слишком глубокие впадины, а по сторонам иногда бугорки, будто раскапывали когда-то… Тревога усилилась, когда мы вспомнили рассказ одного крестьянина, который захотел остаться инкогнито, о том, что сразу после войны тут долго копались солдаты».
И когда после раскопок одной из могил в ней ничего не было обнаружено, подозрения не могли не перерасти в уверенность.
«Это открытие… поразило не меньше, чем сам факт массовых репрессий. Как же мы недооценили их подлость! Вот кто копался здесь после войны! Заметали следы. Значит, знали еще тогда, что творили! Где же ваша «честная» уверенность в справедливости своих дел, в праведности приказов?! Оказывается, вы боялись еще тогда. Совершить такую египетскую работу! Выкопать столько трупов! Куда вы их дели? Вывезли и закопали? Сожгли? Не мелкая сошка дала приказ на эксгумацию. Берия? Цанава? Маленков? Кто?»
Авторы сообщают и о том, что одна из могил была затронута во время прокладки трассы газопровода на вершине Куропат и в ней найдены кости и 15 черепов, 20 пар кожаной обуви и галош, другие предметы. Захоронение, замечают они, во время эксгумации было «пропущено», его забыли раскопать.
Завершает статью справедливое напоминание о том, что в массиве необходимо срочно установить надписи с информацией об этих местах, чтобы люди знали, чти они не подходят для пикников и беззаботного воскресного отдыха.
Публикация в писательской газете, выходящей в общем-то небольшим тиражом, мгновенно получила республиканскую известность. Номер передавали из рук в руки, активно обсуждали, спорили. Спустя несколько дней появились публикации, построенные на тех же фактах и размышлениях, в «Московских новостях» «Известиях», «Огоньке», основные положения статьи были пересказаны в передаче Центрального телевидения. Куропаты мгновенно обрели всесоюзную, а затем и мировую известность.
И как результат — буквально шквал читательских откликов. «Неужели это правда? Неужели именно так и было? Разве у нас такое могло быть?» — восклицали одни. «Не слишком ли зло написано? Может, чересчур смело и открыто размышляют авторы?» — спрашивали другие. «А куда нам уйти от этих фактов? — возражали им третьи. — Может, спрятаться за неправдой и полуправдой, за глубокомысленными размышлениями о необходимости всеобщего очищения?»
Безусловно, всем нам было бы спокойней, если бы не проступили, не проросли из земли эти не столько «белые», сколько «красные», кровавые пятна прошлого, писали читатели. Если бы не знать, не ведать места расстрелов, не считать, сколько было невинно загубленных, не догадываться, кто и как расстреливал, наверняка так было бы спокойней, во всяком случае комфортней.
Но разве можно излечиться от серьезной болезни, избегая лекарств лишь потому, что они горькие? Старший научный сотрудник Государственного музея БССР Ф. Кривонос писал в редакцию:
«Считаю, что статья впервые за три последних года ставит вопрос о преступлениях сталинского времени предельно конкретно, и вижу в этом большой шаг вперед по пути всевозрастающей гласности. Считаю также, что в материале правильно говорится о необходимости наказания, пусть символического (ведь многих преступников уже нет в живых), тех, кто ответствен за совершенное в 30-е годы».
Кандидат философских наук Р. Миненков:
«Не могу не откликнуться на публикацию „Куропаты — дорога смерти“. То, о чем в нем написано, невозможно осмыслить, потому что это за пределами нормальной логики. Разум останавливается перед этой ужасной вакханалией мракобесия и не может найти ей какое-то определение и оправдание. Народ уничтожался от имени народа и ради его… счастья. Такого издевательства над людьми, над великой гуманистической целью, причем со стороны своего народного правительства, видимо, не знала ни одна эпоха и ни один народ! Что это? Откуда? Из каких чудовищных глубин истории?»
Пенсионерка из д. Сычи Несвижского района Г. Апанович:
«Прочитав эту статью я, наконец, узнала, где покоится прах моих родителей. Может, найденные при раскопках подошвы фетровых сапожек мамины — она тоже носила 36 размер? Ее арестовали 10 марта 1937 года, когда она понесла передачи моим отцу и брату. Первым у нас забрали брата — в ночь с 5-го на 6-е ноября 1936 года. Обыск вели до утра, перевернули все в хате, на чердаке, в сарае. Ничего не нашли, но брата увели. Утром мы узнали, что той же ночью были арестованы братья Игнатовские — Валентин и Федор, сыновья академика Игнатовского. Брат мой дружил с Валентином.
В следующую ночь увели шурина — брата нашей невестки. Они дружили еще со школы. Одним словом, за две ночи арестовали всех друзей моего брата — одиннадцать человек. Мама очень плакала, но тот, кто арестовывал, успокоил, сказал, что сын через несколько дней вернется.
Мы каждый день ждали его возвращения, но так и не дождались. А в ночь с 25-го на 26-е декабря 1936 года увели и отца. Обыска не делали, сказали ему быстро собраться, взять пару нижнего белья. И снова успокоили, что отец вскорости вернется. Потом пришла и мамина очередь. Когда ее забрали, мне только-только исполнилось 11 лет. И что удивительно, меня даже в детский дом не определили, так и жила одна. Пустила в дом квартирантов, на их содержании и была, училась в школе, до войны закончила семь классов.
Родители мои не занимали никаких постов, отец простой рабочий, ударник, трудился медником-лудильщиком на фабрике, а мама была домохозяйкой. Брат после окончания школы начал работать на заводе, не помню на каком, учился на вечернем отделении автодорожного техникума, потом его приняли в управление шоссейных дорог. Старательный, хороший был работник. Как и отец, все умел делать. Даже дом, в котором мы жили, они вдвоем построили своими руками.
Где-то в конце сентября 1937 года я понесла передачу, но у меня ее не приняли, сказали, что родители уже высланы из Минска, осуждены на 10 лет без права переписки. Тогда почти всем выносили такой приговор. Я писала письма и Сталину, и Калинину, и Ворошилову, но ответ был один: „Дело будет рассмотрено в ближайшее время“.
Когда началась война, мне удалось выбраться из Минска. Я попала в Саратов, где меня, наконец, определили в детский дом. Шла война, я понимала, что теперь людям не до моих родителей, и никуда не обращалась. Но как только Минск освободили, вернулась домой. Соседи рассказали, что меня искала женщина, которая сидела с мамой в одной камере. Она сообщила, что мама не признала себя виновной, что все время очень тревожилась обо мне. Нервы ее не выдержали, и она сошла с ума. Я поняла, что маму уже никогда больше не увижу.
В 1946 году я снова обратилась в органы НКВД, чтобы узнать судьбу своих родителей и брата. Мне ответили, что брат умер в 1941 году от менингита, отец — в 1942 году от сердечной недостаточности, а мать в 1944 году от воспаления легких. Я поняла, что это ложь.
Правду сказали в 1956 году, когда органы КГБ отыскали меня и пригласили на беседу. О многом подумалось, пока ехала в Минск, но даже не догадывалась, что мне просто хотят сообщить о реабилитации родителей и брата. Оказалось, что их обвиняли в шпионаже, в измене Родине, терроризме и диверсиях. По делу проходило 19 человек и все они были расстреляны в 1937 году в Минске.
В невиновности своих близких я никогда не сомневалась. Хотя от людей и приходилось слышать: раз посадили, значит, что-то есть, без причины у нас не сажают».
И таких писем-исповедей, писем-размышлений оказалось много среди откликов. В них была хотя и не бесспорная, требующая тщательной проверки, но очень ценная и нужная следствию информация.
Внимательно прочитали и статью, и отклики на нее в Прокуратуре БССР. Оценили публицистичность, гражданственность и смелость позиции авторов, но главное внимание уделили фактам, их обоснованию и аргументации, анализу показаний свидетелей. В райисполкоме, прокуратуре и военкомате Минского района запросили некоторую дополнительную информацию. И уже через неделю Прокурором республики Г. Тарнавским было возбуждено уголовное дело — первое в стране по фактам преступлений полувековой давности.
В печати появилось сообщение о начале следствия и о создании Правительственной комиссии, в которую вошли писатели В. Быков и И. Чигринов, народный художник СССР М. Савицкий, бывшая подпольщица, Герой Советского Союза М. Осипова, токарь, Герой Социалистического Труда Д. Червяков, руководители министерств юстиции и внутренних дел, Верховного Суда БССР, КГБ, ученые, представители общественных организаций. Возглавила комиссию заместитель Председателя Совета Министров БССР Н. Мазай.
Дело предстояло сложное и необычное, не имеющее аналогов ни по объемам, ни по характеру преступлений и потому все понимали, что его успех или неудача будет во многом зависеть от тех людей, на чьи плечи ляжет тяжкая обязанность найти однозначные ответы на множество сложнейших вопросов.
Выбор пал на Я. Бролишса, следователя по особо важным делам, одного из самых опытных и знающих свое ремесло людей. Долгое время он работал прокурором-криминалистом, в его богатом послужном списке немало «громких» расследований, подтвердивших непростое умение счастливо совмещать обширные научные познания с рядовой, обыденной следственной практикой. Когда определился лидер, ему было предложено самому сформировать следственную группу. И Язеп Язепович выбрал, казалось бы, неожиданный вариант — он пригласил в бригаду молодых, не отягощенных большими победами и серьезными провалами следователей. С. Кловриго из Молодечно, спокойного, даже несколько флегматичного, но основательного и вдумчивого молодого человека, готового пробиваться к истине через любые преграды и завалы. Из городской прокуратуры он вызвал Н. Ничипоренко, смешливую, обаятельную женщину, что, однако, не мешает ей быть строгим, аккуратным и даже педантичным работником, а из прокуратуры Партизанского района — А. Абадовского, недавнего выпускника университета, но, как говорят в таких случаях, подающего серьезные надежды.
Координация усилий всех служб, привлекаемых к расследованию, руководство его ходом были поручены начальнику следственной части Прокуратуры БССР В. Соболеву, а общий надзор возложен на заместителя Прокурора республики В. Кондратьева.
Как первый заместитель Председателя Правительственной комиссии и одновременно Прокурор республики Г. Тарнавский просто обязан был вникать во все детали следствия, наблюдать за его развитием, активно помогать своим младшим товарищам не только подсказкой, добрым советом, но и строгим взыскательным контролем.
Честно скажем, когда участники будущего расследования в первый раз собрались все вместе, на многих лицах откровенно читалось состояние, близкое к полной растерянности. И опытные, и совсем молодые наши Шерлоки Холмсы и умом и сердцем понимали, что масштабы предстоящего следствия, его уровень должны во всем отвечать масштабам похороненной в Куропатах тайны. Иного просто не дано.
Накануне они побывали здесь, на месте происшествия, хотя ни у кого из них не хватало смелости назвать Куропаты этим привычным, стандартным термином. Машины промчались по Ленинскому проспекту, затем выехали на Логойский тракт, повернули налево, на Заславскую дорогу, прорезающую некогда могучий, а ныне изрядно поредевший бор. Прильнув к окнам, все напряженно молчали, хотя каждый, наверняка, думал о том, что сейчас они полностью повторяют полувековой маршрут знаменитых «черных воронов» — автозаков, резво сновавших между этим лесом и железными воротами тюрем НКВД. Для кого тридцать минут этой наезженной дороги стали последними в жизни? Кто вез их сюда под неусыпным оком пистолета? Два из множества вопросов, на которые предстояло найти ответы.
А теперь оставим на время мчавшиеся по дороге на Куропаты машины и познакомим читателя еще с одной судьбой, завершившейся этой сакраментальной фразой: «Приговор приведен в исполнение в Минске».
Слова эти часто повторяются в архивно-следственных делах людей, чьи жизни оборвались у края могилы с такой неопределенной пропиской: «Минск».
Наш собеседник Сергей Иванович Граховский — человек очень трудной и мужественной судьбы. Поэт, как говорят, божьей милостью, он уже в тринадцать лет начал публиковать свои стихи, а в двадцать три был обвинен в принадлежности к «контрреволюционной националистической организации», прошел через все ужасы карцеров, конвейерных допросов, очных ставок, но не сломался, не оговорил ни себя, ни товарищей и, может благодаря именно непреклонной стойкости и воле выжил, вытерпел все 19 лет тюрем, лагерей и ссылок.
— Меня арестовали летом 1936 года, всего на несколько дней раньше, чем Юрку Лявонного, но я почти год ничего не знал о нем. Во мне даже теплилась надежда, что он уцелел, что «черный ворон» проехал мимо домика под липами, где он с молодой женой и крохотной дочуркой снимал тесную боковую комнатку. Верилось в лучшее, хотя тучи к тому времени сгустились над всей белорусской писательской организацией, а жестокий гром прогрохотал уже над головами многих наших собратьев по перу.
Мы познакомились в тридцать первом, когда я — восемнадцатилетний графоман — приехал в Минск покорять поэтический Парнас, будучи абсолютно уверенным в скором и решительном триумфе. Но таких покорителей в столице, не в пример моему тихому Глусску, было в избытке, и все не без оснований мечтали о книгах, признании и славе.
В поисках удачи я начал бродить по редакциям, протирать кресла в Доме писателя, надеясь быть замеченным кем-нибудь из «великих».
Наверное не только я сразу выделил Юрку из серой толпы страждущих — на него нельзя было не обратить внимания: высокий стройный юноша, с густой каштановой шевелюрой, несколько артистичный в своем щегольском костюме с модным широким галстуком, он держало независимо, даже гордо, но с мэтрами не заигрывал и таких, как я, новичков, не чурался.
Подошел ко мне, крепко пожал руку, узнав, что квартируем мы по-соседству, предложил домой идти вместе. С того вечера и началась наша дружба. Он работал в «Звязде», я — в молодежной газете «Чырвоная змена», оба учились на литфаке пединститута. И хотя жили бедно, впроголодь и без всякого комфорта, очень верили в счастливое будущее, стихи писали бодрые, оптимистичные, на высокой ноте модной тогда патетики.
По метрике и паспорту он был Леонидом Николаевичем Юркевичем. Но мода на псевдонимы подтолкнула когда-то шестнадцатилетнего юношу перекрутить фамилию на имя, а имя — Лявон — на фамилию, и тем самым как бы сразу приобщиться к серьезной, взрослой литературе. Постепенно все привыкли к новому имени и даже жена звала его Юркой. Поэтому, когда через год безрезультатного «предварительного следствия» меня перевели в городскую тюрьму, в общую камеру и друзья по несчастью сразу же сообщили, что прямо под нами, в подвале «отдыхает» писатель Юркевич, я не сразу сообразил, что речь идет о Лявонном.
Мы немедленно установили связь и потом постоянно переговаривались. Юрке приписывали несколько страшных статей, но он только посмеивался, говорил, что все это глупые фантазии следователей, что на суде вся их нелепая конструкция развалится и он будет оправдан.
Каждое утро Лявонный выходил в «эфир». Распахнув подвальное окно, он хорошо поставленным дикторским голосом сообщал новости с воли, рассказывал о событиях в стране и в мире. А добывал информацию, оказалось, довольно оригинальным способом. Как известно, нам, политическим, категорически запрещалось читать газеты и книги. Наверху сидели малолетние уголовники, их, наоборот, усиленно просвещали, перевоспитывали — давали газеты и журналы, но запрещали курить. Юрка организовал обмен духовной пищи на материальную: на веревочке пацаны исправно опускали прямо к Юркиному окошку свертки газет или книги, а взамен получали желанные пачки махорки.
Однажды, кажется в середине сентября тридцать седьмого, Юрка вдруг не вышел «в эфир». Все встревожились, наперебой стали достукиваться до его камеры. Ответ получили неопределенный: «Вызван в суд без вещей». Через день снова молчит шестая камера, на следующий — опять ни слова. Спустя четыре дня из подвала сообщили: «Не вернулся. Вещи забрали».
Потом нам стало известно, что в Минск прибыла Военная коллегия Верховного Суда СССР во главе с Ульрихом и завертелась кровавая молотилка. Разговор на суде, как правило, был коротким:
— Признаете себя виновным? Нет? Если враг не сдается, его уничтожают.
И через несколько минут выносили приговор — высшая мера наказания. В тот же день увозили на расстрел. Куда, не знаю. Может быть, и в Куропаты.
В сентябре и октябре 1937 года были расстреляны поэты Юрка Лявонный, Валерий Моряков, Изи Харик, Анатоль Вольный, прозаики Платон Головач и Василь Коваль. А сколько далеких от литературы людей встали тогда под пулю бьющих без промаха «ворошиловских стрелков»?
Тяжкая доля выпала и жене Юрки Лявонного — Евгении. По статье, не внесенной ни в один кодекс в мире: «Член семьи врага народа», она была осуждена на восемь лет лагерей, а ее трехлетнюю дочурку Инну отправили в детский приют. Освободившись после войны из заключения, Женя объездила множество детских домов, но так и не нашла дочери. Не исключено, что она попала в другую семью, или, заботясь о ее же будущем, воспитатели детдома заменили ей «вражескую» фамилию на другую, нейтральную. Так нередко бывало.
Рассказываю вам о Юрке, о других моих безвременно ушедших товарищах и думаю о том, что человек жив, пока о нем помнит хоть один современник. Но когда уйдем и мы, не должна померкнуть память о жертвах сталинского террора. Нужно, чтобы их имена, их крик, обращенный ко всем честным людям, воплотился в книгах, граните и мраморе, в обелисках и мемориалах, которые, я верю, встанут на безымянных братских могилах, сокрытых пока под сенью полувекового леса.
…Следователи вышли из машин, спустились в глубокую лощину, из которой начинался медленный подъем верх к вершине протянувшегося с востока на запад покатого холма. Буквально через несколько шагов стали встречаться впадины — разные по глубине и размерам, чистые, поросшие травой или кустарником и превращенные в свалки, заполненные мусором, битым стеклом и консервными банками. По всему склону — то там, то здесь — расстелив на земле покрывала, а то и просто разложив старые газеты, сидели под деревьями группки людей, неспешно закусывали под захлебывающийся вой магнитофона, весело смеялись. Мерно качался в гамаке досрочно раздобревший молодой человек, да покрасневшая от усердия дородная дама отчаянно призывала к порядку лохматую овчарку, с восторженным визгом шарахавшуюся от сосны к сосне. Что ж, обычный пейзаж, ничем не отличающийся от других, граничащих с городскими кварталами островков леса.
На самом гребне холма деревьев нет — здесь, видимо, проходила лесная дорога. Недавно газовики проложили по ней свою новую трассу. В одном месте они тоже натолкнулись на могилу, остановили работы, пригласили сотрудников военкомата, вместе извлекли несколько черепов и костей, остатки обуви и одежды.
С восточной стороны, если хорошо присмотреться, можно определить место, где когда-то возвышался забор. Хорошо сохранился ров, который скорее всего был прорыт перед самой оградой. По едва приметным выемкам легко угадываются столбы — они чередовались через каждые четыре метра.
Долго и внимательно изучали следователи и эксперты каждый уголок Куропат. Все сколько-нибудь значительные детали занесли на специальные карты-схемы, все измерили и подсчитали. В блокнотах и документах появилась первая цифра: 510 впадин размером 2 на 3; 3 на 3; 4 на 4; 6 на 8 метров.
Когда они появились здесь? В тридцатые годы? А может быть, раньше — в гражданскую войну или позже — в Отечественную? На территории какого сельсовета размещался лесной массив? Какому ведомству или организации принадлежал? Может, включался когда-нибудь в запретную или режимную зону. Если это так, то кто тогда обращался в облисполком за разрешением на учреждение такой зоны.
Ответы на эти и другие вопросы могли бы дать архивы. По просьбе следствия к поиску и анализу нужных документов подключились опытные специалисты архивного дела, историки. Одновременно депутаты сельских советов, работники милиции пошли по дворам прилегающих к Куропатам деревень, чтобы составить списки ныне здравствующих сельчан, которые жили здесь и в тридцатые — сороковые годы, а также тех, кто выехал, переселился, но был очевидцем происходивших в лесном массиве событий. Вскоре у следствия появились списки имен и адресов без малого двухсот человек, способных помочь в поиске и торжестве истины.
Из архивов же одно за другим пришли безрадостные вести:
«Материалов, относящихся к этому периоду и содержащих какие-то сведения о событиях в лесном массиве близ деревень Цна-Иодково, Дроздово, Зеленый Луг, не имеется».
Активно включилась в расследование, в поиск ответов на поднятые в статье проблемы Правительственная комиссия. Сейчас мы попытаемся воспроизвести атмосферу первого ее заседания. Не претендуем при этом на полноту и дословный пересказ каждого выступления!
Н. Мазай (заместитель Председателя Совета Министров БССР, председатель комиссии):
— Мы познакомились с предварительным планом проведения следствия, можем сейчас высказать по нему свои суждения и замечания. Хотелось бы, чтобы в них были не только благие пожелания, но и предложения о конкретной деловой помощи.
Д. Андреев (председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда):
— Через печать и телевидение необходимо обратиться к людям, в первую очередь к ветеранам, к их памяти. Не исключено, что в семейных архивах сбереглось то, чего нет в государственных хранилищах.
М. Савицкий (народный художник СССР):
— Комитету государственной безопасности и Министерству внутренних дел республики надо дать поручение выяснить, не приводились ли в исполнение в Куропатах приговоры и решения «троек», «двоек» или «особых совещаний»? Не захоронены ли здесь трупы советских граждан, казненных гитлеровцами? Не размешались ли поблизости от этого леса концлагеря, в которых содержались советские люди или иностранцы?
Военный комиссариат БССР должен проверить, не погребались ли здесь советские и немецкие солдаты, погибшие во время боев в сорок первом и сорок четвертом годах? Не проводились ли уже после войны раскопки могил, и если да, то с какой целью?
А. Дулов (профессор, доктор юридических наук):
— Уже сегодня ясно, что без эксгумации обнаруженных захоронений не обойтись. Необходимо тщательно продумать все детали, определить методику проведения раскопок, круг их участников, вооружить бригаду следователей и экспертов современной техникой и приборами. Думаю, раскопки должны вестись с участием общественности, членов нашей комиссии. Но сообщений о их результатах в печать не давать, чтобы не подтолкнуть мародеров к поиску золотых колец, коронок и других ценностей. Таких примеров наша практика знает немало…
В. Быков (народный писатель БССР):
— Надо продумать ритуал, определить место перезахоронения останков, уже извлеченных школьниками, строителями и археологами, а также тех, которые еще будут найдены при следственной эксгумации. Мне представляется, что наша комиссия не выполнит до конца свой гражданский долг, если не предложит конкретного решения судьбы Куропат. Я не готов сказать, что это будет — величественный мемориал или скромный обелиск, но память тысяч невинно загубленных жизней должна быть увековечена. Не только во искупление прошлого, но и в предупреждение будущего.
Разговор на заседании комиссии еще раз подтвердил, на какое множество сложнейших вопросов предстоит ответить следствию и какая нелегкая, но благородная миссия выпала на долю каждого из них.
Вопрос первый: Что видела лесная окраина?
От крайней хаты до леса идти, может, пять, а может, всего три минуты. И если встать на вершине холма, то вот она, Цна-Иодково, как на ладони. Одно только серьезное изменение есть: кольцевая дорога, отрезавшая опушку леса от деревни, стала одновременно и серьезным звуковым барьером. Теперь кричи в Куропатах, хоть надорвись, вряд ли кто услышит. А раньше очень хорошо слышно было. Особенно в сумерках, когда садилось солнце.
Из показаний Ольги Тимофеевны Боровской, 1927 года рождения, пенсионерки, работает на полставки санитаркой в больнице:
— У нас была большая семья: родители и пятеро детей. Отец охранял колхозный амбар и пасеку. Мы, дети, помогали маме по хозяйству. Отец сильно волновался по поводу происходивших в лесу событий, он очень это переживал. Нам часто говорил: вот до чего дошла Советская власть, иди мать послушай, дети, послушайте. Мать поднималась с кровати, выходила на улицу, мы дети — следом за ней. А со стороны леса были слышны крики, стоны. Кто-то кричал: «За что нас?» Были слышны выстрелы.
Сначала стреляли только ночью, а потом и днем. Все это происходило в 37—38-м годах, а потом и до самой войны. Но поздней было не каждую ночь, через день-два.
Как-то летом мы пошли за ягодами. Много собралось детворы из деревни, я среди них была самая младшая. Со мной, помню, была Батян Мария Степановна, но она уже умерла. Пошли мы в Брод. С нами был хлопец, который сказал, что покажет такие ягоды, где моментом можно кувшин набрать. Залезли мы туда через подкоп под забором. А забор был высокий — метра три, перелезть через него невозможно. Не успела я собрать и полкувшина, а ягод было, действительно, много, как он вдруг кричит: «Атас». Парень перекатился под забором, а все столпились у подкопа. В это время стали подъезжать машины, мне деваться некуда и я спряталась под ель, я вся дрожала, очень перепугалась, даже кувшин потеряла.
Да, у парня, который нас туда привел, фамилия Нехайчик Александр Григорьевич, он погиб на фронте. Сразу пришла легковая машина, которую Саша называл «эмочка». И следом за легковой — крытый грузовик. Из легковушки вышли мужчины, которые были одеты в гражданские костюмы серого цвета, без головных уборов. Было их человек пять, я не считала, не до этого было. Из будки грузовой машины эти мужчины стали выводить людей. У всех были руки назад и связаны. Когда их выводили из машины, то руки развязывали. Их начали стрелять, мне стало страшно. Люди кричали: «За что вы нас, я ни в чем не виноват». Из кабины грузовой машины никто не выходил. Выводили и расстреливали людей те, кто приехал на легковушке. Одежду их более точно я описать не могу. Помню, что стреляли, а яма уже была выкопана заранее.
Когда этих людей расстреляли, несколько человек еще вывели из машины и заставили закапывать могилу, потом и их постреляли. Среди убитых были и мужчины, и женщины. Одежда у них была обычная, городские они или деревенские, не могу сказать. Помню только, что у женщин были растрепанные волосы.
По возрасту и молодые, и старые, всякие. Но эти люди не местные, я их не знала. Кто они по национальности, сказать не могу, говорили они обыкновенно, по-русски и по-нашему, по-белорусски.
Отец мой ходил на это кладбище, когда еще не было забора, матери он тогда говорил, что земля еще «варушится», они еще там живые.
Из показаний Дарьи Игнатьевны Товстик, 1911 года рождения, пенсионерки:
— Я не один раз видела, как в лес привозили расстреливать людей. Помню, летом мы жали жито возле этого леса. Видим, возле нас по дороге проехала грузовая машина. Она поехала в лес, а потом за ограду через ворота, что со стороны Заславской дороги. Нам стало любопытно посмотреть, что они там делают. Мы подошли к ограде, нашли щелку и увидели: мужчины копают ямы. После этого мы убежали обратно в поле.
Они выкопали яму и уехали. Вскоре возле нас проехала еще одна машина, только уже с черной будкой.
Кто ехал в этой машине, нам не было видно. Но после послышались выстрелы и людские крики. Выстрелы были одиночные, пистолетные или ружейные, сказать не могу, так как в этом не разбираюсь. О чем кричали, разобрать было трудно. Потом машина уехала, мы пошли посмотреть, что там случилось. В щелочку было видно, что яма, которую копали те мужчины, засыпана свежим песком. Нам показалось, что он шевелится, мы еще подумали, возможно, живых людей засыпали. После этого мы ушли работать. Кого там расстреливали и кто расстреливал, не могу сказать, не видела.
А еще такой случай был. Однажды, когда я шла наш работу, меня остановил энкаведешник, потребовал документы и сказал, что один человек убежал из-под расстрела. Потом люди говорили, может, выдумывали, что человек этот был спортсменом и перепрыгнул через забор.
Авторская ремарка:
О таких счастливых побегах из-под расстрела упоминали многие свидетели. К сожалению, никаких документальных подтверждений их рассказам следствию добыть не удалось. И как тут не вспомнить о невероятных спасениях героев народных преданий, которых, казалось бы, ничто уже не может уберечь от беды, но вдруг случается чудо — любимый герой жив и невредим, добро празднует победу.
Так, видимо, было и здесь, в Куропатах. Люди интуитивно чувствовали великую несправедливость происходящего за околицей их села и, не имея возможности как-то вмешаться, помочь обреченным на смерть, искренне сочувствовали им, сострадали, и это сострадание постепенно рождало в их душах святую веру в возможность спасения, которая с годами превратилась в уверенность, в убеждение.
Из показаний Романа Николаевича Батяна, 1913 года рождения, пенсионера:
— Я коренной житель деревни Цна, у меня семеро детей. Сказать хочу следующее: лесной массив между дорогой, ведущей на Заславль, и кольцевой дорогой назывался Брод. Кольцевая дорога раньше называлась Боровой дорогой. Еще проходила здесь Погонная дорога, а Заславская строилась в 1936 году.
Забор охранялся сотрудниками НКВД, охранялись и ворота. Но мы знали, что за забором расстреливают советских людей. Я живу в конце деревни и много раз видел, как подъезжали машины, а затем начиналась стрельба и крики.
Как-то я шел вдоль забора, гляжу — ворота открыты и вроде никого нет поблизости. Должен заметить, что вначале, после того, как это ограждение поставили, сильной охраны не было. Я и решил посмотреть, что там прячут. Увидел много провалов размерами примерно 3 на 5 метров. Могилы тщательно маскировались, сверху на них сажали сосенки. От ворот до ям было метров 20–30.
Кто расстреливал и кого персонально, не скажу, не видел. Знаю только, что в то время забрали учителя из нашей деревни Грушу Арсена. Было ему лет 40–45, все его уважали и любили, он интересно собрания проводил, рассказывал, какая у нас хорошая жизнь скоро будет. Жил он вместе с женой Ольгой Ивановной прямо в школе. Забрали его ночью, тихо, незаметно. Все ждали, что разберутся, отпустят, но он больше не вернулся. Может, и его в нашем лесу расстреляли, не знаю.
Архивная справка
Груша Арсений Павлович, 1884 года рождения, уроженец местечка Еремичи Новогрудского уезда, белорус, из крестьян, окончил Минский рабочий университет. До ареста проживал в д. Цна-Иодково Минского района, работал директором школы.
Арестован 23 марта 1938 года. Признан виновным в том, что, являясь агентом буржуазной Польши, проводил на территории СССР шпионскую работу.
Во время допросов А. П. Груша пояснил, что в агенты польской разведки его еще в 1923 году во время перехода государственной границы завербовал польский поручик Жолнеркевич, а шпионские сведения он передавал Кончевскому. Других данных, подтверждающих признания подследственного, в деле нет.
Постановлением особой тройки НКВД БССР от 26 октября 1938 года А. П. Груша приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.
В 1958 году проведена дополнительная проверка дела А. П. Груши. Сведений о его принадлежности (а также Жолнеркевича и Кончевского) к польской разведке не установлено. Определением Военного трибунала БВО от 22 декабря 1958 года постановление особой тройки отменено и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Дополнение к справке
Дело А. П. Груши вел помощник начальника отделения третьего отдела УГБ НКВД БССР Б. Гладышев. Закончил Высшую школу НКВД СССР, прошел по служебной лестнице от оперуполномоченного до начальника отдела. В марте 1953 года погиб.
Из рассказа Галины Степановны Сидякиной, 1924 года рождения, пенсионерки:
— Я была в семье самая младшая, училась в 19-й школе. Где-то году в 1936-м в городе стали говорить, что арестовывают «врагов народа» и расстреливают их под Минском, возле деревни Цна, где сейчас расположен Зеленый Луг. Все люди боялись ночью спать, никто не знал, что с ними будет завтра.
Я не помню, что говорил мой отец по поводу этих расстрелов, но запомнила хорошо, что родителей арестовали одновременно — 31 октября 1937 года. Пришли к нам домой в три часа ночи. Как сейчас помню, возле входной двери стоял солдат с ружьем и со штыком, в шинели, а два работника НКВД в форме делали в доме обыск. Ничего они у нас не нашли и ничего не взяли, кроме паспортов матери и отца. Я хорошо помню, что во время обыска не было понятых.
Мама ушла из дому в бумазейном платье темного цвета с разводами, в черной плюшевой куртке с серым воротником, в черном платке и в домашних кожаных тапочках. На правой руке у мамы было золотое обручальное кольцо, которое с пальца не снималось, даже когда она стирала.
Отец надел бобриковое пальто с каракулевым воротником, коричневую кожаную шапку с коричневой цигейкой, на ногах у него были ботинки, кажется, с галошами — так тогда все носили.
После ареста родителей я все ходила в НКВД, справлялась о их судьбе. Людей, которые приходили узнавать о своих близких, было очень много, стояли длинные очереди. Я тоже стояла, и несколько раз мне говорили о том, где мои родители, но говорили каждый раз по-разному.
Да, я забыла сказать, что мой отец, Жуковский Степан Иванович, работал в органах социального обеспечения плановиком-экономистом, а мать, Софья Адамовна, была домохозяйкой.
Первый раз мне сказали, что мои родители высланы: мать на семь лет, а отец — на двенадцать без права переписки. Второй раз ответили, что и мать, и отец осуждены на десять лет без права переписки, а в третий раз просто отмахнулись, дескать, высланы и все, про срок ничего не сказали.
Дома без родителей я постоянно голодала. Мама, когда ее уводили, шепнула мне, что в комоде лежат семьдесят пять рублей. Я эти деньги долгое время экономила, покупала по булочке в день. Невестка, жена старшего брата, относилась ко мне плохо, злилась, если брат чем-либо помогал мне или жалел меня.
Потом старшего брата забрали в армию и мне вообще стало очень плохо. Я закончила семь классов, пошла работать, хотя устроиться тогда было очень трудно, мне еще не было шестнадцати лет, не было паспорта. Сначала пришлось сказать, что я паспорт оставила дома, потом призналась, что его у меня вообще нет, но со службы меня не выгнали.
Работала сначала секретарем в управлении подсобных колхозных и мукомольных предприятий. Это тоже в Доме правительства, на первом этаже, в том же крыле, где работал и отец. О родителях здесь никто ничего не знал, и я при устройстве написала, что они умерли.
Летом 1938 года наша соседка с улицы Цнянской, сейчас ее фамилия Симоненко Екатерина Ивановна, повела меня в лес возле деревни Цна, где были расстрелы. Об этих расстрелах знали все жители Минска, и в первую очередь жители этой деревни. Катерина была родом из Цны, потом она переехала в Минск, а в деревне остались ее родители.
Я не помню, по какой дороге она меня вела, но пришли мы к густому лесу. В нем стоял забор, высотой метра три. Место было огорожено большое, забор тянулся далеко, но мы его не обходили, боялись. Никого из людей не видели, была ли там охрана, не знаю.
Катя привела меня к тому месту, где под забором недалеко от земли была щель. Через эту щель я видела свежий желтый песочек, только что насыпанный, а по нему воткнуты ветки. С нашей стороны была приготовлена свежая куча веток высотой около метра.
Долго мы возле забора не оставались, пошли в деревню к родителям Кати. Их дом стоял недалеко от леса, на горке. Там переночевали. Вечером и утром я видела, как к лесу подъезжали «черные вороны». Слышала ли я выстрелы, не помню.
До войны мне о родителях узнать ничего не удалось. Во время войны жила в Минске, никуда не уезжала. В 1943-м году вышла замуж и вместе с мужем ушла в партизаны. После освобождения Минска мужа забрали в армию. О дальнейшей его судьбе мне ничего не известно.
После войны я работала в воинской части телефонисткой, затем взяли в штаб. Но через некоторое время меня вызвали в контрразведку, и со мной разговаривал работник по фамилии Малышев. Он положил на стол пистолет, грубо оскорбил меня нецензурной бранью, а затем закричал: «Где твои родители?». Я ему ответила, что это я должна у него спросить. Он не стал со мной разговаривать, а через день меня уволили без всяких объяснений.
О судьбе родителей мне стало известно только в 1959 году. В ответ на наши многочисленные письма из военного трибунала, наконец, сообщили, что они реабилитированы посмертно. В справках не указано, где они похоронены, но я уверена, что их расстреляли в Куропатах.
Дело в том, что до войны в деревне Цна жил Батян Григорий Иванович. Работал он в НКВД. Жители деревни рассказывали, что он по пьянке хвалился однажды, как расстреливал Жуковских, т. е. моих родителей. Этого Батяна уже нет в живых, он умер в 1954-м году.
Мне также известно, что его друг Олехно Иван Матвеевич, житель деревни Зеленовка, тоже работал в НКВД. Говорят, и он был исполнителем во время расстрелов.
Архивная справка
Степан Иванович Жуковский, уроженец д. Цна-Иодково, осужден к высшей мере наказания. 22 ноября 1937 года расстрелян в Минске. Обвинен в том, что с 1932 года являлся агентом польской разведки, куда был завербован неким Паенко. По его заданию собирал и передавал сведения о расположении воинских частей минского гарнизона, о военном строительстве и об отношении населения к мероприятиям партии и Советской власти.
Виновным себя признал полностью. Однако других доказательств в протоколе несудебного рассмотрения дела (самого дела в архивах нет) не приводится.
Дополнительной проверкой, проведенной следственным отделом КГБ СССР в сентябре — октябре 1959 года, никаких сведений о принадлежности С. И. Жуковского к польской разведке не установлено.
Софья Адамовна Жуковская пережила своего мужа всего на пять дней — ее расстреляли 27 ноября 1937 года. Как и Степана Ивановича, обвинили в шпионаже в пользу Польши, в том, что она на квартире Ярослава Чеховского встречалась с агентом польской разведки Константином Довнар-Буримским и по его заданию помогала мужу в шпионской деятельности.
Во время дополнительной проверки так и не удалось установить, кто такой Довнар-Буримский, а дело Александра Дроздовича, который якобы завербовал Ярослава Чеховского, в 1958 году прекращено за недоказанностью состава преступления.
5 ноября 1959 года Военный трибунал БВО отменил постановления комиссии НКВД и Прокурора СССР от 17 ноября 1937 года в отношении Степана Ивановича и Софьи Адамовны Жуковских и прекратил их дела за недоказанностью предъявленных обвинений.
Справки о реабилитации вручены их дочери Г. С. Сидякиной.
Из показаний Ивана Матвеевича Олехно, 1911 года рождения, сторожа санаторно-лесной школы:
— Да, Батян Григорий был моим приятелем, он тоже работал в комендатуре НКВД, в должности надзирателя. Как-то по пьянке, в компании родственников, меня при этом не было, он проболтался, что в лесу возле Цны расстреливают наших людей, и он в этом деле участвует. За столом сидела тогда сестра моей жены — она была замужем за братом Григория. Как бы между прочим поинтересовалась у моей жены, не принимаю ли я участия в расстрелах вместе с Батяном. Жена ответила, что я просто вахтер и к этим делам не имею никакого отношения.
Батян впоследствии стал, видимо, подозревать, что я знаю о его похвальбе, и написал на меня донос, будто я скрыл от своего руководства, что мой отец до революции был офицером. Я это действительно скрыл, так как очень хотел работать в НКВД. Никакой другой вины за мной не было. Поэтому, когда мне предложили написать объяснение, я все чистосердечно выложил. Указал, что Батян написал на меня донос, потому что боялся с моей стороны разоблачения. И дальше сообщил, как он рассказывал о расстрелах в лесу возле деревни Цна и о своем участии в этих расстрелах.
После короткого разбирательства Батяна из НКВД уволили. Он стал потом работать где-то на дорожном строительстве. А я вскоре перешел в штаб пограничных и внутренних войск, комендантом. Это был хозяйственный отдел, к следствию никакого отношения не имел. С Батяном мы уже связей не поддерживали.
Перед самой войной я устроился диспетчером по пожарной сигнализации в Дом офицеров. Когда наши войска оставили Минск, перебрался в свою деревню и, так получилось, остался на оккупированной территории. Да, во время войны в нашей деревне стояли немцы. В окрестных лесах, а также в том лесу возле Цны, где до войны расстреливали людей, никаких немецких воинских частей не было. Наших людей они в этих местах не расстреливали.
Авторская ремарка
Десятки людей опросили следователи, и почти всегда беседа с одним очевидцем протягивала ниточку памяти к другому человеку, а из общих подробностей их рассказов постепенно проступала, выкристаллизовывалась истина.
Из рассказа Екатерины Николаевны Богойчук, 1919 года рождения, пенсионерки:
— В деревне Цна я проживаю с самого рождения. Лес, который расположен между кольцевой дорогой и Заславской, называют Брод. Я не слышала, чтобы его называли Куропатами. Мы жили на хуторе недалеко от леса. Как выйдешь вечером на улицу часов в 11–12, так и слышно: шпок-шпок, стреляют и стреляют. Отец выйдет на улицу и говорит, слушайте дети, запоминайте.
Однажды мы собирали ягоды около забора, я посмотрела в щель и увидела большой куст ягод. В заборе была дырка, я под нее пролезла, а тут мужчина бежит и кричит: «Что тебе здесь нужно, уходи немедленно» и выстрелил. Я испугалась и убежала. Отбежала несколько метров, села под кустом и вижу, что туда въезжает машина. Я не стала ждать и убежала домой.
В деревне тогда рассказывали, что людям перед расстрелом закрывают рты пробками и стреляют через два человека, чтобы меньше было выстрелов. Нам об этом рассказывал один мужчина, он уже, правда, умер. Фамилия его Батян Григорий Иванович. Он работал в НКВД, родом был из нашей деревни. Мужчины говорили, что по пьянке он как-то рассказал, что сам людей не забирал, а только докладывал, где, какие люди враги, и потом возил их расстреливать.
У нас в деревне жил парень, который все знал, он был озорной мальчишка и лазил через забор. Зовут его Церлюкевич Иван. Он живет сейчас в Минске. Если его спросить, он может многое рассказать. Вместе с ним лазил, кажется, и Коля Патершук.
В лицо я никого не знаю, кого расстреливали в этом лесу. У нас из деревни забрали только учителя Грушу. Расстреляли его в этом лесу или нет, сказать не могу. Не видела я, и кто расстреливал: военные или гражданские. Привозили людей в закрытой машине с черной будкой. Стреляли только вечером, и с перерывами. Постреляют, потом полчаса или час тишина, видимо, подвозили на машинах, а потом опять начинали стрелять. Было это все в 1937 году.
Николай Иванович Патершук еще молодцеват и крепок, недавно отметил шестидесятилетие. Работает на минском заводе «Термопласт», грузчиком. Говорит степенно, неторопливо, будто взвешивает на невидимых весах каждое слово.
— У нас в деревне все знали о расстрелах, так как почти каждый день, под вечер, из леса доносились выстрелы. Кого расстреливали, никто из местных жителей не видел, знали только, что «врагов народа». Но об этом даже между собой говорить боялись.
В то время я был пацаном и помню, как вместе с другом — Церлюкевичем Иваном мы все же решили однажды посмотреть, что происходит за забором. Думаю, это было не раньше 1939 года. Пошли мы к забору под вечер, после шести часов. Время было летнее, на улице еще светло. Ворота были со стороны дороги-гравейки на Заславль. Через них, мы почти каждый день это видели, заезжали крытые грузовые машины, и после этого начинались в лесу выстрелы.
Мы с Иваном пошли к забору не со стороны ворот, а со стороны своей деревни. Нашли в заборе небольшие щели и стали смотреть. Первое, что я увидел и хорошо запомнил: метрах в 40 от того места, где мы сидели, несколько мужчин копали яму. Все они были в гражданской одежде. Когда яму выкопали, мы увидели, как всех этих мужчин посадили в машину и увезли. Машина стояла на чистой вырубленной поляне. Церлюкевич мне сказал, что должны скоро привезти людей на расстрел. Он, видимо, был возле этого забора не в первый раз. Мы с ним пошли к дороге-гравейке, стали ждать. И действительно, скоро показались машины, их было, наверное, штук пять. Одна закрытая — «черный ворон», остальные обычные грузовики с высокими бортами. В кузове сидели люди. Как только машины въехали в ворота, мы сразу побежали к забору, где сидели раньше, и увидели, что людей выводят сначала только из одной машины. Были в ней только мужчины, а выводили их люди в военной защитной форме и подталкивали к яме. Потом раздались выстрелы. Я испугался и убежал домой, а Иван остался. Я знаю, что он однажды даже за забор пробирался.
Прошло пятьдесят лет, а я и сегодня не могу забыть, как голосили, как кричали эти люди во время расстрела: «За что? В чем наша вина?»
На следующий день, когда под вечер начали опять расстреливать, я слышал уже не только мужские, но и женские крики, но близко к лесу не подходил, боялся.
Расстрелы продолжались до самой войны. А после войны я тоже часто бывал в этом лесу и могу совершенно определенно ответить на ваш вопрос: никаких раскопок там никто не проводил.
Иван Антонович Церлюкевич на год моложе своего товарища детства и юности. Но разница эта была совершенно незаметной: Ваня всегда выглядел крепче и старше своих одногодков. Может, еще и потому, что всегда и во всем был заводилой, вожаком, как сказали бы нынешние педагоги, — «прирожденным лидером». И, конечно, он не мог допустить, чтобы рядом скрывалась какая-то неизвестность, тайна, а он даже не попытался бы ее разгадать.
— Наш дом стоял на самом краю деревни, и когда машины с дороги заворачивали в лес, нам в окна падал свет фар, — вспоминает Иван Антонович. — «Хапуны» въезжали за ограду и начинались выстрелы, слышны были крики людей. Я не могу сейчас сказать, были эти выстрелы пистолетные или автоматные, помню только, что стреляли негромко, а люди очень сильно кричали. Днем мы пасли в этом лесу коров, бывало, что ходили около самого забора, но никто нас не прогонял. Любому мальчишке любопытно посмотреть, что там, за забором. Однажды, когда мы пасли с пацанами коров в лесу, я подошел и вытащил доску из-под ворот, а через образовавшуюся щель влез на территорию. Помогал ли кто из моих друзей вытащить доску, я уже не помню, а вот за забор я пролез один. Там увидел, что территория присыпана свежим желтым песком, деревьев в этом месте почти не было, рос мелкий кустарник.
Немного поодаль, на горке, я увидел деревянную будку и пошел к ней. Она была открыта, и я зашел в нее. Там стоял стол, скамейка. На столе лежала начатая пачка папирос «Эпоха», на стене висело обмундирование работника НКВД. Больше ничего в будке я не видел. Я вышел из будки на территорию, хотел пойти еще вглубь, но вдруг откуда-то появился работник НКВД в форме. Он меня поймал, накрутил мне уши и пригрозил, что если еще раз приду, то убьет. Когда он меня отпустил, я побежал к воротам и вылез через щель под ними. Больше за забор я лазить не решался, все-таки страшно было. Как долго продолжались расстрелы в лесу, точно сказать не могу, видимо, до войны.
Авторская ремарка
Бесценны эти живые свидетельства людей, изо дня в день принужденных наблюдать похожие в своей единообразной жестокости сцены, слышать отзвуки разыгрывавшейся рядом с ними, а иногда и прямо на их глазах трагедии. По-разному они вели себя, и разные у них впечатления. Одни не осмеливались даже приблизиться к кровавым подмосткам, у других хватало духу заглянуть «на сцену» в щелочку, третьи, презрев страх и опасность, хоть на несколько минут стремились проникнуть туда, за ограду, чтобы все самому увидеть и, по возможности, понять.
Но все это «люди со стороны», а следствию очень важно было отыскать непосредственных, так называемых законных участников расправ. Сказать, что сделать это оказалось невероятно сложно и трудно, значит и на малую толику не передать состояние участников расследования, когда они вновь и вновь, как на частокол, натыкались на холодные ответы: «Данных по интересующему вас вопросу в архиве нет», «списков лиц, приводивших приговоры в исполнение, не имеется», «адресное бюро… сообщает, что гражданин… прописанным на территории республики не значится». Да, прошло пять десятилетий, и очень многих людей, так или иначе причастных к событиям в Куропатах, давно уже нет в живых. Не вызывает особых сомнений и отсутствие некоторых документов в спецхранах. Во время следствия выяснился, например, и такой факт. О нем сообщил бывший минский подпольщик, пенсионер Александр Яковлевич Толстик.
В первые дни после прихода гитлеровцев в Минск на улицах города валялись кипы документов самых различных учреждений. Лежали они и рядом со зданием НКВД. Наверное, их мог подобрать любой. Это подтвердилось спустя несколько месяцев, когда в конторку, где размещалась одна из служб городской управы (Александр Яковлевич работал в ней уборщиком улиц), кто-то принес на растопку толстую прошнурованную папку. В ней были протоколы допросов людей, как он понял, «врагов народа», которые агитировали против колхозов и имели связи с заграницей.
Папку сожгли, а потом отправились в подвалы НКВД посмотреть, не осталось ли там чего лишнего, что не должно попадать на глаза гитлеровцам. Но кроме разрозненных бумаг ничего не обнаружили. А. Я. Толстик сделал справедливый вывод, что в канун оккупации города работники этого ведомства смогли вывезти не все, что-то в спешке позабыли или оставили сознательно. «Не исключено, — не без улыбки замечает он, — что сверхсекретными ныне уголовными делами топили тогда печки десятки, а может, и сотни минчан».
Хорошенько поразмыслив, следователи решили поискать удачу в открытом для всех и, кажется, неплохо сохранившемся архиве Октябрьской революции. Несколько дней унылых бесплодных поисков — и, наконец, слабый лучик удачи: обнаружены списки работников административно-хозяйственного управления НКВД БССР, проходивших в разное время медицинские осмотры. Были в них и фамилии водителей, которые, следуя элементарной логике, могли обслуживать и маршрут «тюрьма — Куропаты».
Справочное бюро назвало несколько конкретных адресов.
Из показаний минчанина Михаила Абрамовича Дэвидсона, пенсионера, бывшего шофера гаража НКВД:
— Как водитель, я ни в каких оперативных делах не участвовал: мне говорили ехать — и я ехал. К тому же я работал на легковых автомашинах. Однако был один случай. Я тогда дежурил ночью. Меня вызвал дежурный по НКВД, фамилии его не помню, и сказал оставить свою «эмку» в гараже, идти во двор, сесть в стоящую там машину, она называлась «ворон», и ехать, куда мне прикажут. Сел я за руль, рядом со мной работник комендатуры, фамилии его не знаю. Велел ехать в сторону Московского шоссе…
Когда мы въехали в лес, я увидел большую прямоугольную яму. По ширине она была примерно как длина вашей комнаты, а по длине раза в два больше. Я остановил машину, сижу в кабине. Мне сказали включить свет, так как время было ночное. Я включил свет и увидел, что сзади, из кузова выводят людей. Часть из них уже сидела по краям ямы, ноги свешивались вниз, а руки были связаны за спиной. Когда полностью края ямы были заполнены людьми, их начали расстреливать.
Расстреливал только один работник комендатуры, стрелял из пистолета в затылок, и люди падали в яму. Когда все были убиты, он сам прыгнул в яму и стал втаптывать людей, я слышал хруст костей. Фамилия этого работника Острейко, имени и отчества его не помню.
На место расстрела, кроме моего, приехал еще один грузовик. В нем, видимо, также были люди. Всего расстреляли тогда более 20 человек, в моей машине столько вместиться не могло. Видимо, всех расстреляли сразу. В свете фар я видел этих людей, однако лиц не запомнил. Были только мужчины средних лет. Все легко одеты — костюмы, пиджаки, без пальто, без головных уборов, одежда гражданская. Вещей при них никаких не было.
В расстрелах принимало участие примерно человек пять работников комендатуры, старшим среди них был Ермаков. Однако непосредственно расстреливал только один, как я уже сказал, Острейко. Во время расстрела я сидел в машине, не выходил из кабины. Фамилий остальных участников не знаю. В лицо я знал их всех, однако по фамилиям не знал. Все участники расстрела были в форме НКВД. Сама форма была защитного цвета, петлицы красные. Фуражки с синим околышком и красным верхом. Все были вооружены пистолетами, более крупного оружия я не видел.
Место, где расстреляли людей, было без ограждения. Когда мы к нему подъезжали, нас уже на месте кто-то ждал, тоже в форме. В лес въехали с потушенными фарами — мне еще при въезде в лес сказали выключить свет. Место расстрела я освещал недолго. Во время расстрела никто из людей не пытался убежать: вокруг ходили вооруженные работники НКВД и в такой ситуации надежд на спасение не было.
Во время расстрела никаких процессуальных форм не соблюдалось. Никто с этими людьми не разговаривал, никаких вопросов им не задавал. После расстрела мне сказали уезжать, поэтому я не знаю, кто закапывал яму.
По моим подсчетам, это происходило где-то в конце 1934-го — начале 1935 года, но после смерти Кирова. Полагаю, что эти люди расстреляны в связи с убийством Кирова.
Свидетелем такого страшного события мне пришлось быть только один раз. Работали вместе со мной в НКВД и другие водители, которым, возможно, приходилось чаще присутствовать при таких событиях. Так, постоянными водителями машин «ворон» были Матюшевский, Корсак, Адамович, Яртемик. Последнего видел после войны, он был шофером писателя Кулешова. Мне известно также, что после таких «операций» всех участников приглашали на ужин в столовую НКВД. Меня тогда тоже пригласили, но я не пошел.
Я никогда никому не рассказывал о том, что мне пришлось увидеть. Водители, которым приходилось в таких «операциях» участвовать, между собой об этом не говорили.
Архивная справка
А. Острейко работал старшим надзирателем внутренней тюрьмы, «американки», которая была построена по проекту американских специалистов. В 1937 году назначен дежурным помощником коменданта комендатуры административно-хозяйственного отдела НКВД БССР. Через год вновь возвращен на должность старшего надзирателя тюрьмы. А в 1943 г. назначен дежурным помощником коменданта комендатуры Наркомата госбезопасности БССР.
На запрос в адресное бюро получен ответ: «Прописанным на территории республики не значится».
Авторская ремарка
Да, многое видела лесная поляна. Во сто крат, конечно, больше, чем могли знать и запомнить свидетели. Но и то, о чем они рассказали, не оставляло места для сомнений — в Куропатах расстреливали советских людей.
Вопрос второй: Когда это было?
В начале казалось, что ответить на этот вопрос будет несложно: следствие отыскало, как мы уже говорили, около двухсот человек, чьи жизненные пути проходили очень близко, а иногда и пересекались с последней дорогой людей, обреченных на смерть в Куропатах. К тому же пятьдесят пять из них — очевидцы, их память сохранила множество ценнейших деталей и подробностей, но, к сожалению, ни один человек не решился назвать точную дату события, свидетелем которого ему довелось быть.
Из показаний Софьи Андреевны Козич, 1925 года рождения, пенсионерки:
— С полной уверенностью я не могу назвать время, когда начали расстреливать людей в нашем лесу — может, с 1937 года, может, позже, но хорошо знаю, что было это до войны. Сначала их возили просто в лес, а потом поставили высокий забор. За ним находилась охрана. Я лично видела одного охранника с собакой. Был он в военной форме, на боку — пистолет в кобуре.
Я его запомнила, потому что он часто ходил с чайником к нашим соседям, у которых во дворе был колодец. Помню, как-то летом, в общем совхозном стаде обнаружилась нехорошая болезнь — «ящур». Чтобы от него не заразились и частные коровы, в лесу отвели специальное место, и там они находились около месяца в карантине. Все жители по очереди дежурили по ночам возле своих буренок.
Однажды отец взял на дежурство и меня. Это было в мае-июне, а вот год не помню. Где-то к полуночи к лесу стали подъезжать машины, а потом послышались выстрелы и крики людей. Было так жутко, что я начала плакать и отец отвел меня домой. После этого случая я больше с отцом дежурить ночью не ходила.
Однако бывать близко возле места расстрелов людей мне приходилось еще не раз. Не могу сейчас вспомнить, в каком году это было, но в летнее время, мы вместе с жительницей нашей деревни Нехайчик Надеждой Викентьевной пасли коров возле дороги-гравейки, которая вела на Заславль. Со стороны этой дороги как раз и находились ворота в заборе. Мы не досмотрели и, видимо, несколько наших коров зашли через открытые ворота за забор. Почему ворота оказались открытыми, сказать не могу. Мы долго не решались подойти к ограде, боялись, но потом оттуда вышел знакомый охранник, тот, что ходил к соседям за водой. Мы стали плакать, просить, чтобы он отдал наших коров. Охранник нас послушался, но предупредил, что если мы не будем смотреть за коровами, то сами останемся за этим забором. Пока мы говорили, я видела засыпанные свежим песком ямы не очень далеко от входа.
Во время войны в Куропатах немцы никого не расстреливали. Часть леса они вырубили, а забор разобрали местные жители. Ни во время, ни после войны в том лесу, где расстреливали людей, никто никаких раскопок не делал. Это я знаю точно, так как жила в Зеленом Луге до 1978 года, пока нашу деревню не снесли.
Старшая подруга С. А. Козич — Надежда Викентьевна Нехайчик тоже хорошо помнит тот случай, но с другими подробностями:
— Мне кажется, что карантин на «ящур» был в нашем совхозе в 1938 году. И коровы находились в лесу больше месяца. Загон сделали недалеко от того места, где расстреливали «врагов народа». Нам было хорошо видно, как по гравейке к забору ночью подъезжали «черные вороны». После того, как машины заезжали за забор, начинались выстрелы, слышались крики людей и сильно лаяли собаки. Ночью все это хорошо было слышно, и всех нас дрожь пробирала от страха. Потом все стихало, грузовики уезжали.
Как-то мы пасли коров и потеряли их. Мы подумали, что они зашли через ворота за забор, где расстрелы были. Но идти туда боялись. В то время в нашем доме жил работник милиции, наш, сельский. Я ему все рассказала. Он пошел с нами — и стал свистеть. Из-за забора через ворота вышел охранник, работник НКВД. Он сказал, что никаких коров за забором нет. Потом оказалось, что они зашли в Цну, их вернули нам через некоторое время.
А еще я помню такой случай. Мой сын Николай, когда ему было лет семь (он с тридцатого года), пошел с детьми в лес за ягодами. Я очень волновалась, так как узнала, что они направились туда, где расстреливают людей. Ждала сына, все прислушивалась, а потом услышала выстрел и увидела, как мой сын бежит к дому, голосит, а за ним гонится работник НКВД с пистолетом.
Откуда-то примчался мой муж, схватил за руку энкаведешника и стал спрашивать, зачем он стрелял в мальчика. Тот начал извиняться, но было видно, что он сильно пьяный. Все повторял, что принял нашего сына за взрослого, думал, кто-то из-за забора убежал.
У Евгения Михайловича Сташкевича, которому недавно исполнилось шестьдесят лет, воспоминания о расстрелах привязаны к конкретному памятному событию:
— Летом тридцать седьмого года умер мой отец, и мать стала вместо него поднимать меня рано утром пасти корову. Мы жили на хуторе, наш дом стоял в стороне от деревни. Коров пасли рядом с Заславской дорогой. Уже в один из первых дней моей пастушечьей службы, часов в пять утра я увидел, как въехали в лес закрытые, грузовые машины. Очень скоро после этого раздались выстрелы. Я был пацаном и не знал сначала, что это за машины и почему стреляют. Потом мне взрослые объяснили, что расстреливают «врагов народа».
Шофер Минского завода «Ударник» Владимир Константинович Батян, 1928 года рождения, подтверждает, что иногда машины приезжали утром, но все-таки в основном под вечер и ночью. Часто «черных воронов» было много — 4–5 автомобилей. Как только они заезжали за забор, сразу раздавались выстрелы.
— Забор поставили в тот год, когда арестовали учителя Грушу, — утверждает свидетель. — Мы, ученики, это хорошо запомнили, потому что долго не было в школе директора, а жена Арсения Павловича — Ольга Ивановна — выходила на улицу с маленькой дочкой и девочки из нашего класса бегали помогать ей нянчить малышку.
У семидесятилетнего Дмитрия Мартыновича Боровского такие временные ориентиры:
— Я живу в Цне с рождения, и все происходило на моих глазах. Людей в нашем лесу начали расстреливать примерно в 35—36-годах. Я уже был дюжим хлопцем, даже на танцы пробовал ходить. Но тогда стреляли редко, массовые казни начались в 37-м году, тогда и забор поставили.
Хорошо помню, что летом 1936 года я устроился подработать на узкоколейку, которая проходила возле торфозавода и пересекала Логойский тракт. Как-то в обед пошел погулять по лесу и наткнулся на яму, засыпанную желтым песком и замаскированную мхом. Сказал об этом мастеру, и мужчины, посоветовавшись, решили раскопать яму, посмотреть, не прячет ли там кто какие-нибудь ценности.
Не успели мы углубиться и на метр, как натолкнулись на чьи-то ноги в лаптях. Дальше копать не стали, испугались. Таких замаскированных могил вокруг было много.
Мария Михайловна Панкевич в 1935 году родила сына. Когда ему было два годика, за ручку водила его гулять к опушке леса и видела, как туда завозят доски и бревна. И еще одна примета: весной 1936 года умер брат ее мужа, невестка Лида осталась молодой вдовой. Больше года она носила траур, никуда не ходила, а потом решилась вместе пойти на собрание. Стояла снежная зима, и едва они спустились к гравейке, как увидели застрявшую в сугробе машину «черный ворон». Ее раскачивали двое мужчин, но вытолкнуть никак не могли, попросили помочь.
— Мы с Лидой не на шутку испугались, — вспоминает Мария Михайловна, — и старались изо всех сил. Правда, машина быстро выбралась на укатанный след и поехала в лес, к забору. Кто находился в кузове, мы не видели, голосов тоже слышно не было, только доносился какой-то шорох или шепот, разобрать слов мы не смогли. Когда отошли от того места метров на триста, услышали в лесу глухие выстрелы. Потом долго переживали, что своей глупой помощью сократили людям жизнь на несколько минут.
Расстрелы в нашем лесу продолжались до самой войны.
И еще одно свидетельство очевидца, связанное с точной датой и горьким, запомнившимся на всю жизнь событием, мы хотим привести, отвечая на вопрос: когда это было?
Рассказывает пенсионерка, восьмидесятитрехлетняя Татьяна Викентьевна Матусевич:
— Мы с мужем работали тогда в совхозе «Зеленый Луг» рядом с Минском — он в полеводстве, а меня поставили сторожем на ферме, даже оружие выдали. Наш дом стоял почти у самой дороги, а лес находился совсем недалеко и мы все видели и слышали.
Помню, что сначала забрали Заровского, двух братьев Стриго, учителя Костюка, потом и моего мужа. Случилось это в конце 1937 года. Очень долго ничего о нем не было известно. Только после войны мне сказали, что его выслали на пять лет и я должна получить от него письмо. Я долго ждала письма, думала, что скоро объявится муж, так как мне одной с детьми, а их у меня шестеро, было очень тяжело.
Но письма я так и не дождалась. Опять пошла узнавать. На этот раз мне сообщили, что мой муж, Матусевич Антон Морхиорович, выслан на десять лет без права переписки. Мне было непонятно: сначала сказали, что выслали на пять лет, ждите письма, а потом говорят совсем другое. Я добилась, чтобы меня снова принял тот человек, который сообщил, что Антон выслан на десять лет.
Разговаривали мы с ним в кабинете вдвоем, он меня выслушал, вздохнул. А потом сказал, что точных сведений о моем муже у него нет, но посоветовал устраивать свою жизнь, выходить замуж.
Я заплакала, сказала, что у меня дети, кому я нужна. Тогда этот человек посоветовал написать им заявление и они помогут устроить моих старших детей. Но я отказалась от их помощи, сказала: где я буду, там и дети мои будут. Человек этот со мной хорошо разговаривал, и я запомнила его фамилию — Михайлов. Я ему спасибо сказала за правду и больше никуда не обращалась.
В тот год, когда забрали моего мужа, начали ставить забор в лесу. Случилось это после того, как на яму с убитыми людьми натолкнулся лесник Кононович. Он прибежал в совхозную контору и стал звонить, то ли в милицию, то ли в прокуратуру. Потом Кононович по секрету рассказывал, как к нему приезжали сотрудники НКВД и посоветовали меньше присматриваться, если он хочет жить.
После того как забрали мужа, меня вызвали в контору совхоза и объявили, что, поскольку муж арестован органами НКВД, я не пользуюсь доверием и меня снимают с должности сторожа и ставят пастухом. Целое лето я пасла коров, а к зиме меня пожалели, снова назначили сторожем.
Архивная справка
Антон Морхиорович Матусевич, 1906 года рождения, рабочий совхоза «Зеленый Луг» Минского района по ордеру, подписанному наркомом внутренних дел БССР и начальником 2 отдела управления госбезопасности НКВД БССР, арестован 19 ноября 1937 года.
Обвинялся в том, что в 1934 году был завербован в агенты польской разведки нелегально переходившим границу Никифором Стриго. По его заданию занимался сбором шпионских сведений. Это обвинение подтверждалось показаниями братьев Никифора Стриго — Ивана и Василия. Других доказательств вины А. Матусевича в деле нет.
А. Матусевич виновным себя не признал и показания братьев Стриго категорически отверг. Но уже через десять дней после ареста — 29 ноября 1937 года — обвинительное заключение было направлено на рассмотрение Генерального комиссара госбезопасности НКВД СССР Н. Ежова. На основании решения комиссии НКВД и Прокурора СССР от 14 декабря 1937 года А. М. Матусевич через две недели расстрелян в Минске. Осуждены как польские агенты и расстреляны также братья Иван и Василий Стриго.
Проведенной в пятидесятых годах проверкой по делу установлено, что Никифор Стриго с 1919 года проживал в Новогрудском районе и в СССР ни разу не приезжал. В архивах МВД СССР и БССР материалов о причастности А. Матусевича и трех братьев Стриго к бывшей польской разведке не имеется.
Уголовные деле на всех четверых прекращены «за отсутствием в их действиях состава преступления».
А теперь по всем законам следственной практики настал черед предъявить читателю помимо свидетельских показаний и вещественные доказательства. Но для этого нам потребуется вновь вернуться под скорбные сосны Куропат, чтобы вместе с понятыми и следователями, археологами и экспертами, в присутствии членов Правительственной комиссии и представителей общественности вскрыть несколько захоронений, по щепотке перебрать десятки тонн извлеченного наверх грунта, боясь пропустить хоть малую крупицу на десятилетия упрятанной в земле истины.
Заметно волнуются сгрудившиеся вокруг своего командира — старшего лейтенанта А. Пургина — молодые, еще стриженные под машинку солдаты. Для них, восемнадцатилетних, события полувековой давности, — конечно же, глубокая история, часто не очень понятная, труднообъяснимая, скрывающая немало горького и мрачного. Но в эту историю там, за чертой пятидесятилетия, крохотными строчками вписаны жизни и их дедов, наполненные тяжким трудом и светлой, искренней верой в будущее. И как бы сегодня кому-то ни хотелось, от истории нельзя отмахнуться, отвергнуть ее, зачеркнуть даже самую малость. Не умом, так сердцем, ребята понимают это. Понимают: тяжелая штука — память, но беспамятство — еще горше.
Молодые солдаты не знают, что их появлению здесь предшествовали горячие споры. Одни члены Правительственной комиссии считали, что для раскопок нужно привлечь мощную и разнообразную технику. Другие, справедливо настаивая на ручной работе, предлагали пригласить школьников или неформалов. Третьи возражали им, ссылаясь на непредсказуемость поведения подростков и опасность нанесения их неокрепшим душам психологических травм. В итоге победила вера в воинское мужество, выдержку и стойкость. Учитывалось и умение военных людей работать с металлоискателями, другими приборами, их способность в случае необходимости укротить и старый снаряд или гранату. К счастью, такое умение военным не понадобилось.
Раскопки решено было провести строго по археологическим методикам, и потому для участия в них пригласили одного из авторов упомянутой статьи 3. Позняка, в помощь которому руководство Института истории АН БССР выделило молодых коллег — научного сотрудника отдела археологии Н. Кривальцевича и аспиранта О. Иова. Следуя хорошо известному в археологии закону, что для выяснения сущностных характеристик однотипного памятника (в данном случае могильника) достаточно исследовать его часть, выбрали восемь захоронений в разных уголках массива и 6 июля 1988 года приступили к работе.
Разметили пересекающиеся в центре впадины и выходящие за ее пределы узкие шурфы — траншеи — они контрольные, проверочные. Края дали ясную картину разреза грунта, по его плотности определили первоначальные контуры могилы. Осторожно углубляя траншеи, а не всю поверхность захоронений, можно быстрее выйти на пласт погребенных либо убедиться в его отсутствии. Забегая вперед, скажем, что так случилось в раскопах, получивших номера 4 и 7, где следов захоронения обнаружить не удалось.
…Но вот уже появились первые признаки слоя останков — для воинов это команда начать съем грунта по всей площади раскопа. Проходит совсем немного времени, и лопаты получают право на отдых: теперь пришел черед совков, ножей и щеток. Каждая косточка, каждый предмет тщательно очищаются, затем следует подробное их описание, с указанием всех характеристик и деталей. Место расположения в раскопе каждой вещи наносят на карту-схему. При этом строго фиксируется глубина, на которой покоится находка; раскоп криминалисты периодически фотографируют и снимают на видеопленку.
Выброшенный наверх песок участники эксгумации «прощупывают» сначала металлоискателем, а потом и пальцами, чтобы ничего не пропустить, не оставить без внимания. Ведь, как говорят криминалисты, даже крохотная булавочная головка может стать ключом к открытию самой большой тайны.
Эксперты тщательно осматривают каждую кость, каждый предмет. Все черепа и кости скелета, пригодные для исследований, откладываются в сторону, регистрируются, упаковываются в отдельные ящики.
Остатки обуви — галоши, голенища сапог, подошвы, имеющие маркировки или другие особенности, сохранившиеся части кожаной одежды тоже отбираются для последующего проведения различных экспертиз. Особый интерес для следствия представляют личные вещи покойных — расчески, портмоне, щетки, очки, монеты — а вдруг они заговорят, назовут имя своего прежнего хозяина или хоть что-то расскажут о нем, о его жизни?
Когда весь пласт останков был поднят и пропущен через десяток рук и глаз, все пригодные для исследований предметы отобраны, на дне могилы выкопали небольшую, как ее называют специалисты, контрольную траншею и опустили в нее все, что пока сохранилось, но, увы, уже не может ничего поведать о своем времени.
Могилу вновь засыпали, аккуратно выровняли, привели в порядок всю территорию вокруг захоронения. Можно подвести первый итог, перебрать в памяти и проверить по спискам отданные землей находки.
Из раскопа, которому был присвоен первый номер, изъято 45 черепов и их фрагментов. На всех сохранившихся черепах хорошо видны сквозные отверстия, в основном в затылочной области. Отобрано 54 пары бедренных костей и одна непарная бедренная кость, 43 пары плечевых и 45 пар большеберцовых костей.
В списке вещей — более сорока названий предметов. Сапоги, ботинки, галоши заводского и кустарного производства, кошельки, подошвы и голенища, фрагмент ткани, пластмассовые расчески, кусок кожи, металлическая кружка, фрагмент плетения, возможно, остаток лаптя, стреляные гильзы, в том числе одна, прилипшая к каблуку, предмет из резины, похожий на детскую соску, пуговицы из пластмассы, кусочки металла, напоминающие деформированные пули, 7 монет достоинством 20 копеек, портмоне с остатками спичечного коробка, эмалированная металлическая кружка с маркировкой на донышке «Ростов»… Можно долго еще перечислять эти, пока безмолвные, предметы. Заговорят ли они в руках экспертов?
На следующий день вскрыли еще одну впадину, находящуюся от первого раскопа на расстоянии 24 метров к юго-востоку. Была она, как и предыдущая, неглубокой, также присыпана мелкой хвоей. Рядом с могилой, как в карауле, стояли высокие стройные сосны. Снова прокопали крест-накрест две траншеи, определили размеры захоронения, которое оказалось намного больше предыдущего, и уже на глубине 84 см обнаружили останки. Располагались они по краям могилы, а в центре появились только полуметром ниже. Такое же, по принципу «воронки», размещение пласта останков будет выявлено затем в большинстве эксгумированных захоронений. Это странное, на первый взгляд, обстоятельство станет для участвовавших в раскопках археологов, и в первую очередь 3. Позняка, весомым аргументом для серьезных и далеко идущих выводов. Но об этом позднее.
А сейчас вернемся ко второму раскопу, вместе с воинами, экспертами и археологами осторожно извлечем из могилы все, что она сберегла.
Из перечня находок в раскопе № 2
1. 62 черепа, 68 пар бедренных, 55 пар плечевых, 64 большеберцовых и 48 пар малоберцовых костей. В затылочной области черепов — отверстия округлой формы.
2. Фарфоровая кружка.
3. Восемь деформированных металлических предметов, похожих на пули.
4. Портмоне.
5. Очки с круглыми стеклами, в футляре.
6. Шесть кошельков.
7. Спичечный коробок с монетами. Точное количество монет не установлено во избежание разрушения коробка.
8. Зубная щетка…
9. Расческа с маркировкой «British <w> made».
10. Три фрагмента обуви…
Не будем дальше утомлять вас перечислением находок. Скажем только, что и в каждом последующем раскопе (помимо тех, в которых захоронений не оказалось) их было много, большинство — аналогичны уже изъятым предметам, но появлялись и новые, ранее не встречавшиеся. Если в 1–3 могилах обувь, кстати, сохранившаяся лучше других вещей, преимущественно отечественного и кустарного производства (галоши фабрик «Красный треугольник», «Красный богатырь», «Резинотрест»), то в 5, 6 и 8 раскопах очень много ботинок, туфель, резиновой обуви с маркировкой зарубежных фирм — «Gentlman», «Pepege», «Вата», «Alfa — Sanok», «Rugavar» и других.
А теперь отложим на время строгие, отягощенные специальной терминологией и обилием цифр документы экспертов. Снова вернемся к живым свидетельствам очевидцев. Думается, их рассказ не может не вызвать интереса хотя бы по той простой причине, что оба наши собеседника волею судеб оказались по ту сторону условного барьера. Там, где в годы сталинских репрессий оставалась почти безграничная власть, право выносить приговоры и приводить их в исполнение.
Из показаний Сергея Николаевича Харитоновича, 1912 года рождения, пенсионера:
— После демобилизации из армии с 13 января 1937 года я начал работать в органах НКВД. Служил выводным во внутренней тюрьме, которая располагалась во дворе здания НКВД по ул. Урицкого. Мы называли эту тюрьму «американкой», потому что строилась она по американскому образцу, в ней уже тогда применялась своеобразная автоматизация. Например, к каждой камере вели провода — достаточно было положить ключ в специальное гнездо и нужная дверь тут же открывалась.
В мои обязанности вахтера входило выводить заключенных из камер. В основном на допросы, но иногда… Работали мы поочередно — день, а потом ночь. Одну смену стояли у камер конвойными, а вторую смену — выводными.
Работал я здесь до ноября 1938 года, т. е. почти два года. Все это время регулярно приходилось выводить людей, которых, как мне потом стало известно, увозили на расстрел. Хочу заметить, что во время моей службы во внутренней тюрьме содержались только мужчины, женщин не было. Заключенных я знал в лицо, фамилий их сейчас, к сожалению, не помню и, естественно, назвать не могу.
По вашей просьбе повторяю, что в 37–38 годах из «американки» регулярно отправляли людей на расстрел. Я лично расстреливать заключенных не возил, мне приходилось только выводить их из камер к машине, которая называлась «черный ворон».
Сажали в машину по 15–20 человек и сразу увозили, а куда — мне было неизвестно. Только один раз пришлось съездить на место расстрелов, чтобы закопать свежую могилу. Нас тоже усадили в «черный ворон». Хорошо помню, что ехали по Логойскому тракту и километрах в четырех от города повернули налево. Вы знаете, что граница города была тогда где-то за Комаровским рынком.
Приехали мы в какой-то лес, там увидели могилу — достаточно длинную, но не очень широкую траншею. Трупы в ней уже были присыпаны песком, нам оставалось только полностью все засыпать и сравнять с землей. Повторяю, что ездил я на такую «операцию» только один раз, а в расстрелах мне самому участвовать не приходилось. Хочу добавить, что на казнь арестованных возили преимущественно вечером или ночью, днем практически не возили. И как правило, на «черном вороне». Только один раз я видел, что повезли на открытой грузовой машине — трехтонке. Перед посадкой заключенным связывали руки за спиной простыми веревками.
Возили людей на расстрелы при мне постоянно весь 1937 год. Когда я дежурил, заключенных приходилось выводить каждую ночь, а в 1938 году, мне кажется, уже расстреливали меньше. Тогда начали арестовывать самих работников НКВД, в том числе и тех, которые принимали участие в допросах и расстрелах.
Рассказ Иосифа Иосифовича Бетанова, 1915 года рождения, пенсионера:
— 18 апреля 1936 года я по комсомольской путевке, был направлен на работу в органы НКВД и принят инспектором по автотранспорту. Естественно, мне хорошо известно все, что так или иначе связано с работой гаража. Прекрасно помню, что в нем было примерно 60 автомашин, в том числе два автозака. Они были закреплены за комендатурой и стояли на территории внутренней тюрьмы. Смонтированы были автозаки на базе автомобилей «ГАЗ-АА», так называемых «полуторок». Переоборудовали их уже при мне в тридцать седьмом, для чего нанимали со стороны бригаду рабочих.
Как выглядели автозаки? Представьте себе фургоны, очень похожие на те, в которых сейчас перевозят почту. Кузова их делали из дубового каркаса, который сверху был обит фанерой и жестью. Я не знаю, почему их называли «черным вороном», но выкрашены они были в серый, мышиный цвет. Окошек в этих фургонах не было, зато сверху над каждой выгородкой оставляли отдушину.
Фургон состоял из пяти отдельных кабинок. Вход в него был сзади. Первые три выгородки и размещались позади кабины водителя в один ряд. Две другие — сзади — с правой и с левой стороны. Посередине оставлялось пространство с откидными сиденьями для конвоя.
В автохозяйстве я проработал до мая 1938 года. Затем меня перевели по моей просьбе начальником авторемонтной мастерской. Но когда еще был завгаром, то от водителей слышал, что некоторые из них возили в автозаках на казнь заключенных из внутренней тюрьмы. По словам этих водителей, расстреливали людей в лесу по Логойскому шоссе, но где именно, мне они не рассказывали. По этой причине я не могу конкретно сказать, где находилось место расстрела и что оно собой представляло. Мне запомнилось, что, разговаривая между собой, водители избегали произносить слово «расстрел» и на вопрос, куда везешь людей, отвечали: «На свадьбу». Брали, как мне помнится, в каждый «черный ворон» по 15–20 человек, хотя «по проекту» они рассчитаны были на пятерых.
А сейчас вернемся в исследовательские лаборатории, изучим акты различных судебных экспертиз, выберем из них абзацы и строки, в той или иной мере отвечающие все на тот же вопрос: когда это было?
Из заключения комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы
«Все представленные на исследование кости скелета относительно плотные (кости черепа ломкие, хрупкие), без мягких тканей, связок и хрящей, обезжиренные, сухие. Степень высыхания устанавливалась следующим образом: кости выборочно взвешивались, затем погружались на одни сутки в воду и вновь взвешивались. Установлено, что при этом их вес увеличивался на 40 % в сравнении с первоначальным, что свидетельствует о максимальной сухости.
Цвет всех костей серовато-коричневый с желтоватым оттенком, поверхность шероховатая. Отчетливо выражены изменения поверхности в виде «выветривания» и дефектов компактного слоя, питательные отверстия не видны. Отмечаются значительные дефекты компактного слоя с обнажением губчатого вещества, преимущественно на костях черепа.
На поперечном распиле длинных трубчатых костей при исследовании костномозгового канала установлено, что сетчато-петлистая структура местами разрушена, а сухие мелкие частицы черного цвета располагаются уже по стенкам канала в виде отдельных скоплений.
…Блеск эмали на зубах частично утрачен. На ней есть выраженные в различной степени поверхностные и глубокие трещины. На отдельных зубах эмаль отделена в виде пластинок различной величины».
Мы столь подробно и с максимальным использованием специальной терминологии процитировали описание некоторых характерных особенностей извлеченных из захоронений костных останков не только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть сложность вставшей перед исследователями задачи, но и с тайной надеждой облегчить вам потом понимание выводов.
Добавим к перечисленным исследованиям еще и спектральный анализ останков. Для этого взяли фрагмент кости одного из поднятых из захоронения черепов и для контроля из архива физико-технического отделения бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава БССР кусочек «свежей» кости черепа. Их поместили в фарфоровые тигли и при температуре 450° превратили в светлосерую золу. Затем по известным методикам на кварцевом спектрографе получили спектрограммы. Когда их расшифровали и выявили все макро- и микроэлементы, оказалось, что содержание некоторых из них в исследуемом черепе в четыре раза ниже, чем в контрольном, что объясняется значительным накоплением кремния и марганца в кости за время длительного пребывания в земле — в течение нескольких десятилетий.
Более точно установить давность эксгумированного захоронения, замечают эксперты, сегодня не представляется возможным. Можно только сказать, что обезжиренность костей, отсутствие хрящей, связок, высыхание, разрушение структуры костных мозговых каналов наступает через 10–15 лет после захоронения. Цвет серовато-коричневый с желтоватым оттенком, «выветривание» компактного слоя кости приобретают, ориентировочно, через 20–30 лет. Грубые трещины эмали зубов со сколами ее в виде пластинок появляются через 30–40 лет после захоронения. Через такой же срок, обычно, возникает разница коэффициентов соотношения химических элементов от 2 до 10 раз.
В связи с этим, заключают эксперты, можно прийти к выводу, что длительность нахождения представленных костных останков в земле соответствует нескольким десятилетиям. Давность захоронения с 1937 по 1945 годы таким образом не исключается.
В один из дней в Куропаты вместе со следователями пришли специалисты лесного хозяйства, чтобы… срубить несколько деревьев, стоящих рядом с раскопанными захоронениями. Только так, по годичным кольцам, можно наиболее точно определить возраст деревьев. Оказалось, что ель у раскопа № 1 имеет 41 годовое кольцо, у могилы номер 2 — 46, у пятого раскопа — тоже 46. По количеству мутовок на соснах, растущих в изголовье других вскрытых могил, эксперты ориентировочно назвали их возраст в интервале от 35 до 41 года. Общий вывод: возраст деревьев у раскопов колеблется от 35 до 46 лет. Подтверждаются показания свидетелей о том, что лес в Куропатах был постепенно вырублен и новый поднялся уже после войны.
Мы уже сказали, что среди извлеченных из раскопов вещей было много кошельков с монетами. Они тоже, конечно, не называют точной даты расстрелов, но по времени их чеканки совершенно определенно свидетельствуют, что в первую и вторую могилы люди полегли не ранее 1936 года, а в пятую — в 1940 году.
Это можно достаточно уверенно предположить, держа в руках любопытную находку из пятого раскопа. Обычная в общем-то мужская расческа, она стала одним из немногих, к сожалению, говорящих посланий из того горького времени. На одной стороне расчески по-польски написано:
«Тяжелы минуты заключенного. Минск 25.04.1940. Мысль о вас доводит меня до отчаяния».
А на второй:
«26.IV. Расплакался — тяжелый день».
Названа конкретная дата. И даже если следствие продолжалось несколько месяцев, что маловероятно — репрессивный конвейер работал в те годы на повышенных скоростях, — то и в таком случае дистанция между предварительным заключением и вынесением смертного приговора вряд ли протянулась за пределы сорокового года.
Еще один вывод экспертов мы хотим привести. Исследовав зубные протезы, коронки и пломбы, они установили, что протезы изготовлены во временном интервале: с 1933 года и, возможно, до послевоенных лет. Это утверждение специалисты обосновали следующими аргументами: нержавеющая сталь в зубном протезировании начала применяться после 1933 года, а каучук, используемый под основания съемных протезов, в 1946–1947 гг. уступил место пластмассе. Не изготавливались после войны и искусственные зубы седловидной формы, часто встречающиеся в раскопах.
Суммировав показания свидетелей и выводы экспертов, следствие пришло к заключению: расстрелы в лесном массиве Куропаты проводились со второй половины тридцатых годов до начала войны.
Вопрос третий: Почему это стало возможным?
Ненадолго, всего на несколько минут, поменяем адрес вашего внимания. Из горестных Куропат отправимся в библиотеки и архивы, в шумные от незатухающих споров кабинеты историков и тихие квартиры ветеранов. Полистаем старые газеты. Послушаем мнение знающих и умудренных жизненными невзгодами людей.
Конечно, эти заметки никак не могут претендовать на серьезное научное исследование причин разгула сталинских репрессий — у нас на троих одна диссертация и та по проблемам, весьма далеким от белорусской истории. И потому, отвечая на вынесенный в заголовок вопрос, мы постараемся просто вооружить читателя не очень известными фактами, информацией, еще недавно проходившей под грифом «Совершенно секретно», размышлениями сведущих людей, а правильные выводы, мы уверены, каждый из вас способен сделать самостоятельно, без изрядно наскучивших всем «разъяснений» и «подсказок». Тем более что волна антисталинских публикаций во всевозможных изданиях раскрыла немало загадок времен культа личности, обнажила многие питавшие его корни и вынесла на людской суд, кажется, всю бесконечно горькую правду о тяжелейших его последствиях. Хотя, как говорят ученые, теоретическое осмысление культа как явления государственной политики, всестороннее и глубокое исследование его корней еще впереди. Безусловно, репрессии в Белоруссии, как и по всей стране, освящались одними и теми же идеями и лозунгами, разыгрывались по единому, всесоюзному сценарию, но были в них и свои особенности, некий свой местный колорит, на сотворение которого бросили, пожалуй, все возможное: и неоднозначность подходов к утверждению белорусской государственности, и непростые поиски осуществления национальной политики, и тернистые дороги к возрождению культуры и языка народа, и многое другое.
Но, думаем, тут нам самое время передать слово специалисту — старшему научному сотруднику Института истории партии при ЦК КПБ, кандидату исторических наук Алексею Степановичу Королю:
— Если говорить о жупеле, которым все тридцатые годы неистово размахивали вдохновители и творцы репрессий в Белоруссии, то им я назвал бы национал-демократизм, «нацдемовщину». До Октябрьской революции этот термин имел положительное звучание, объединял активных сторонников революционной демократии, действовавших в рамках национально-освободительного движения. Многие из них связали затем свою судьбу с большевиками, с Коммунистической партией.
Яростная кампания по разоблачению национал-демократизма началась с конца двадцатых годов. К этому времени заметны стали первые плоды проведения в республике государственной политики белорусизации. Если попытаться выразить ее суть в двух словах, то надо сказать, что она предусматривала укрепление экономики края, территориальное самоопределение белорусского народа, развитие родного языка и расширение сферы его употребления, возрождение национальной культуры, воспитание и выдвижение на важные посты кадров из коренного населения.
Одновременно гарантировалось равноправие, соблюдение интересов и потребностей национальных меньшинств — им создавались все условия для реализации своих способностей, изучения и пользования родным языком, сохранения своей самобытности, ценностей национальной культуры. Газеты и книги издавались на четырех языках — белорусском, русском, еврейском и польском, действовали национальные театры, в местах компактного проживания населения были созданы национальные советы.
Эта политика получила добрый отзвук за рубежом, в том числе и у белорусских эмигрантов, считавших себя противниками Советской власти. О ситуации в Западной Белоруссии и настроениях ее населения в одном из Документов того времени читаем:
«Советская Белоруссия превратилась в недосягаемый идеал. Каждая весточка из Минска передается из уст в уста. Никто уже не выступает против Советской власти. Те интеллигентские группировки, которые год-два назад пытались еще это делать, сейчас тоже замолчали, боясь потерять окончательно свое влияние на трудовые массы…»
Получившие пристанище в Берлине правительство и Рада Белорусской Народной Республики в октябре 1925 года объявило о прекращении борьбы против Советской власти, роспуске правительства БНР и признании Минска единым центром национально-государственного возрождения Белоруссии.
Воспользовавшись амнистией, многие бывшие члены Рады возвратились на родину, получили достойную их опыта и знаний работу, главным образом в науке, культуре и образовании. Некоторые стали академиками АН БССР. Ни они, ни кто-либо другой не могли тогда предвидеть того крутого сталинского поворота в национальной политике, который вначале безжалостно поломает их судьбы, а затем и отправит на эшафот.
В преддверии тридцатых годов, день ото дня нарастая, в печати началась острая, безапелляционная критика национал-демократизма. Его стали представлять как глубоко враждебную советскому строю идеологию и практику, националистическое, контрреволюционное течение, имеющее целью реставрацию капитализма в БССР. Полярно изменялись и оценки прошлого. Уже все национально-освободительное движение, без всякой дифференциации, объявлялось реакционным, а деятельность белорусских коммунистических секций РКП(б) сугубо националистической.
Суровые обвинения в правом уклоне и национал-демократизме обрушились в первую очередь на известных всей республике людей, признанных народом лидеров — председателя ЦИК БССР А. Г. Червякова, главу первого белорусского правительства, а в конце двадцатых годов кандидата в члены ЦК партии, руководителя Главискусства Наркомпроса БССР, писателя Д. Ф. Жилуновича (Т. Гартного) и члена бюро ЦК КП(б)Б, президента национальной академии наук В. М. Игнатовского.
Оба последних были освобождены со всех постов и в январе 1931 года исключены из партии. Не выдержав тяжести и несправедливости обвинений, В. М. Игнатовский застрелился. Жестокий черед А. Г. Червякова и Д. Ф. Жилуновича придет спустя шесть лет, в 1937 году.
Из постановления Пленума ЦК КП(б)Б (январь 1930 г.) «О позиции тов. Червякова по вопросу борьбы с правым уклоном и национал-демократизмом»
«…Бюро ЦК и Президиум ЦКК КП(б)Б, обсудив позицию тов. Червякова по вопросу борьбы с правым уклоном и национал-демократизмом, констатирует отсутствие активного участия тов. Червякова в борьбе с правым уклоном и национал-демократизмом и что тов. Червяков на протяжении долгого периода и до последнего времени в ряде выступлений устных и в печати высказывал и защищал ряд неправильных, правоуклонистских установок. Эти правоуклонистские установки, взятые в целом, объективно представляют собой целую систему правооппортунистических и национал-оппортунистических взглядов.
Эти правооппортунистические и национал-оппортунистические взгляды и установки тов. Червякова нашли свое отражение в следующем:
…в соответствии с лозунгом Бухарина «Обогащайтесь» тов. Червяков на VII съезде Советов БССР в мае 1925 года выступил с лозунгом: «Богатей, крестьянин, добывай больше богатства, и чем больше ты будешь богат, тем более богатым будет наше Советское рабоче-крестьянское государство»;
…вслед за Бухариным тов. Червяков усматривает источники наших хлебных трудностей в первую очередь в том, что «зерновые продукты в смысле цен были поставлены нашей политикой в недостаточно удовлетворительные условия»;
…тов. Червяков замазывает руководящую роль рабочего класса во всем социалистическом строительстве. Так, например, на Съезде агрономов 26 января 1929 года тов. Червяков, говоря о необходимости подъема сельского хозяйства, видел наши преимущества перед капиталистическими странами в области решения этой задачи в следующем: «Нам необходимо, мы можем и должны идти вперед по пути развития сельского хозяйства более крупным шагом, более ускоренным темпом, чем шли капиталистические страны. Для этого у нас есть все необходимое — во-первых, высокоразвитая наука, второе — высокоразвитая техника и третье — необходимость скорейшего решения задач социалистического строительства». О диктатуре пролетариата, основополагающем условии успеха высоких темпов социалистического строительства, о рабочем классе и его партии — руководителе этого строительства — тов. Червяков ничего не сказал».
Покаянное слово А. Червякова[1]
«Я считаю, что моей задачей в современный момент, на данном Пленуме, является заявить о том, что я те ошибки, которые совершил, решительно осуждаю, что ЦК поступил правильно, когда помог и заставил меня вскрыть и осудить эти ошибки. ЦК поступает правильно, когда указывает дальнейшие пути в деле окончательного изживания этих ошибок через активное участие в реализации всех задач нашей борьбы, в проведении в жизнь генеральной линии партии.
…Я уверен, в рядах КП(б)Б, под руководством ЦК КП(б)Б, на практической работе я найду в себе достаточно возможностей для того, чтобы исправить свои ошибки и принимать активное участие в борьбе за проведение в жизнь генеральной линии партии, в первую очередь против правого уклона, против белорусского национализма как наиболее опасного на данном этапе и против Другого шовинизма, а также против левых перегибов».
Своеобразной кульминацией массированного наступления на национал-демократизм явилось сфабрикованное от первой до последней страницы (теперь мы можем сказать об этом с полной уверенностью) дело контрреволюционной нацдемовской организации — так называемого «Союза вызволения Белоруссии». Заметим, что такой-же «Союз» был одновременно раскрыт и на Украине.
В 1931 году за принадлежность к сему мифическому союзу постановлением коллегии ОГПУ было осуждено 90 человек, главным образом деятелей белорусской науки, культуры и искусства, работников наркоматов республики. Правда, для большинства из них мера наказания была избрана относительно мягкая — высылка из Белоруссии сроком на пять лет. Но и тогда нарком просвещения А. В. Балицкий, заместитель директора Белгосиздата П. В. Ильюченок, нарком земледелия Д. Ф. Прищепов были приговорены к десяти годам лагерей, а в 1937 году их судили повторно и всех отправили на расстрел.
Авторская ремарка
Извинимся и прервем на время монолог А. С. Короля, чтобы несколько подробней рассказать об одном из их товарищей по скамье подсудимых, приговоренном вначале к смертной казни, которую затем милостиво заменили десятью годами концлагерей. Речь идет о недавно ушедшем из жизни академике АН БССР, лауреате Государственной премии СССР, известном ученом — геологе Гаврииле Ивановиче Горецком. Редкого благородства и кристальной честности человек, он оставил добрый след в сердцах и душах сотен людей, с которыми его сводила не знавшая компромиссов судьба.
Почти четыре десятилетия Г. И. Горецкий провел вне Белоруссии — сначала в заключении, затем, получивший свободу, но лишенный права вернуться в родные края, он самоотверженно трудился в геологических экспедициях, вел инженерно-изыскательские работы под строительство Беломорско-Балтийского и Волго-Донского каналов, Горьковской и Цимлянской ГЭС, Рыбинского и Соликамского гидроузлов, различных шлюзовых систем и мостов. Добытые в эти годы и бережно сохраненные материалы помогли Гавриилу Ивановичу выдвинуть и обосновать в своих многочисленных трудах идею об уникальной роли древних рек в жизни человечества и геологии земли, которая принесла его имени мировую известность, а советской геологической науке заслуженное признание зарубежных исследователей и специалистов-практиков.
Говоря столь подробно о вкладе Г. И. Горецкого в советскую науку, мы невольно думаем о том, что этого вклада могло бы и не быть, если бы мужество и непоколебимая вера в справедливость, в торжество правды не помогли ему выстоять в неравных «дискуссиях» со следователями, не унизить своего достоинства вынужденным признанием, спасительной клеветой на себя и других. В уголовном деле Г. И. Горецкого, обвинявшегося в причастности к антисоветской контрреволюционной организации, действовавшей в рамках «Союза вызволения Белоруссии» в сельскохозяйственной академии в Горках Могилевской области, есть его собственноручные показания:
«Я уже предупрежден, что мое отрицание принадлежности к контрреволюционной организации будет рассматриваться как поведение, достойное самого отпетого, неисправимого контрреволюционера. Также предупрежден я и о том, что такое поведение значительно ухудшает мое положение и отразится на постановлении коллегии ОГПУ в смысле назначения мне более сурового наказания.
И все же я категорически отрицаю свою принадлежность к троцкистской контрреволюционной партии и „Союзу вызволения Белоруссии“. Я считаю, что если бы я под влиянием чисто животного страха перед наказанием стал утверждать несуществующие или неверные факты, то тем самым я принес бы огромный вред социалистическому строительству».
Вернемся к рассказу Алексея Степановича Короля, к тому «нацдемовскому» процессу 1931 года, который нанес белорусской культуре страшной силы удар.
— Он был бы еще более сокрушительным, если бы новым опричникам из ОГПУ удалось осуществить свой первоначальный замысел, по которому роль руководителей союза отводилась народным песнярам Янке Купале и Якубу Коласу. Но помешала их стойкость и непоколебимость духа. Янка Купала отверг все обвинения, наотрез отказался, по словам тогдашнего секретаря ЦК КП(б)Б К. В. Гея, «пойти навстречу нам в смысле хотя бы осуждения контрреволюционной деятельности своих друзей — участников и руководителей „Союза вызволения Белоруссии“».
Певец свободы и мужества сделал свой выбор, заплатив за него жуткой ценой — собственноручным ударом ножа в грудь. Врачам удалось спасти его жизнь, а ОГПУ пришлось вносить коррективы в первоначальную, казалось бы, беспроигрышную версию. В одном оказался прав К. Гей, оценив поступок Я. Купалы «как протест против нашей политики борьбы с национал-демократизмом». Посягая на свою жизнь, поэт спасал десятки других жизней.
Важно отметить, что разгром национал-демократизма не был локальным, специально задуманным ударом сугубо против национальных отрядов интеллигенции. Он был логичным результатом сверхцентрализации, утверждения жесткой, бюрократическо-командной, казарменной системы вообще, основанной на режиме личной власти и всеобщей подозрительности. Сталинская номенклатура с ее принципом назначения сверху не хотела мириться с выдвижением местных кадров. Немалую опасность для нее составляла и образованная, самостоятельно мыслящая интеллигенция, в том числе выросшая из национальных корней, вышедшая из крестьянства. Потому логично было первый удар нанести именно по интеллигенции: русской, белорусской, украинской, грузинской… по национальным республикам, чей суверенитет был к тому же закреплен конституционно. Ленинские принципы федеративного объединения народов стали подменяться принципами отвергнутой В. И. Лениным сталинской концепции «автономизации».
Постепенно наращивая обороты, заработала репрессивная машина. В 1931 году в республике принимается постановление «Об усилении борьбы с уклонами в национальном вопросе». В тридцать третьем «раскрывается» контрреволюционное вредительство в Наркомземе и тракторном центре БССР, а также контрреволюционная организация нацдемов в белорусском национальном центре и группа вредителей в Белгосснабе.
Исподволь приверженность к белорусскому языку и национальной культуре, считавшаяся доблестью в середине двадцатых годов, к середине тридцатых трансформируется в полную свою противоположность и становится весомым аргументом для обвинений в национал-демократизме. В подтверждение можно сослаться на судьбу талантливого ученого-историка, ректора университета В. И. Пичеты, обвиненного в нацдемовщине и прозападной ориентации за то, что он последовательно вводил в БГУ преподавание на белорусском языке и разрешил чтение курса лекций по истории славян и Польши.
Из постановления объединенного пленума ЦК и ЦКК КП(б)Б (декабрь 1933 года)
«…КП(б)Б сокрушила попытки великодержавных элементов срывать дело большевистской белорусизации, одновременно решительно разгромила попытки белорусских нацдемов и их агентов внутри партии использовать большевистскую белорусизацию в целях реставрации власти капиталистов и помещиков и при помощи самого подлого оружия эксплуататорских классов — разжигания национальной розни — подготовить отрыв Белоруссии от СССР, превращение ее в свою колонию.
В 1929–1930 гг. КП(б)Б вскрыла и разгромила нацдемовскую контрреволюционную организацию (Лесик, Некрашевич, Красковский и др.). члены которой (Игнатовский, Жилунович, Балицкий, Адамович и др.) пролезли в партию и, как провокаторы, двурушники осуществляли на деле директивы зарубежных капиталистов, стремясь путем отделения Советской Белоруссии от Советского Союза возродить в Белоруссии власть капиталистов и помещиков и превратить ее в свою колонию.
…Русские великодержавные шовинисты и белорусские нацдемы будут пробовать объяснить направление партией главного удара против белорусского национал-демократизма как ревизию национальной политики партии. Этим клеветническим и провокационным попыткам, рассчитанным на срыв большевистского проведения ленинской национальной политики, необходимо дать самый решительный отпор. Полный разгром белорусского национал-демократизма, решительное изобличение пролезших в партию националистов, великодержавных и двурушных элементов является необходимым условием и составной частью большевистской белорусизации.
Полный разгром контрреволюционного белорусского национал-демократизма должен сопровождаться всемерным усилением борьбы против великорусского шовинизма, который, как показывают факты, на деле смыкается на данном этапе с контрреволюционной работой белорусских националистов, способствуя со своей стороны усиленному проявлению этого местного национализма».
Поблагодарим Алексея Степановича за помощь и продолжим рассказ.
Близость польской границы, а пролегала она всего в 60 км от Минска, была сполна использована сталинистами для нагнетания в республике атмосферы шпиономании, для кровавых расправ над многими простыми людьми, чья «вина» состояла только в том, что у них в буржуазной Польше жили родственники или знакомые. А если кому-то довелось хоть однажды побывать у них в гостях, то за этим фактом почти неотвратимо следовало обвинение в связях с дефензивой — польской разведкой, — арест, жестокие допросы и «признание», что во время поездки «был завербован», а затем собирал сведения о положении дел в советском сельском хозяйстве, на строительстве, железной дороге, в промышленности — в зависимости от рода занятий арестованного. Как правило, заканчивалось обвинительное заключение не требующим доказательств утверждением: «Готовился к борьбе в советском тылу, когда Польша нападет на нашу страну».
Таких документов немало хранится в архивах. Сегодня их нельзя читать без искреннего недоумения и горечи, но за каждым из них стоит чья-то трагическая судьба — практически все «дела о шпионаже» завершались одним приговором: высшая мера наказания.
Повторимся, не хотелось бы, чтобы разговор о белорусской специфике сталинщины подтолкнул кого-нибудь к заключению, что тридцатые годы в республике резко отличались от общей ситуации в стране, что, бросив главные силы на разгром «нацдемовщины», опричники Сталина ослабили атаки на представителей других социальных групп и движений. Отнюдь, все совершалось по законам какой-то дьявольской центробежной силы, когда репрессии, как волны, рождаясь сначала в центре, постепенно набирая мощь и заряжась инерцией, неумолимо накатывались затем на окраины. Здесь они дополнялись честолюбивым угодничеством некоторых местных «активистов», сознательно или невольно подогревавших атмосферу подозрительности и доносительства, и обретя таким образом уже несколько иную, региональную окраску, сметали в слепой жестокости то мнимых оппозиционеров-троцкистов, то национал-уклонистов, то спецов-вредителей, то «контрреволюционеров, ведущих антисоветскую агитацию и подрывную деятельность, выступающих против колхозов, против индустриализации, состоящих в фашистско-шпионских организациях и готовящихся к вооруженной борьбе за свержение Советской власти».
Как известно, к началу тридцатых годов практически сформировалась командно-административная система руководства с ее предельной централизацией власти, грубым принуждением и изощренной бюрократией, отрицанием важнейших законов экономического и социального развития общества, жестким регламентированием всех сторон жизни союзных республик и, как результат, практически полной потерей их самостоятельности и суверенитета. Обладавшие до этого значительной автономией при решении своих внутренних проблем окраины, естественно, без восторга встречали грубый административный нажим. Недовольство местных коммунистов, стремление руководителей учитывать национальную специфику и интересы коренного населения тут же квалифицировалось как национализм, их зачисляли в национал-уклонисты, раздували отдельные ошибки и расправлялись — вначале устранением от должности, а поздней и с помощью хорошо отлаженного механизма репрессий.
Нельзя не сказать здесь о белорусском варианте коллективизации села и ликвидации кулачества как класса. О том, что она проводилась насильственными методами, свидетельствуют более тысячи крестьянских восстаний, которые выдавались за бунты яростно «противящихся» торжеству новой жизни кулаков. На самом деле это были отчаянные протесты середняков и даже бедных крестьян. В архиве хранятся письма в ЦК партии, в которых люди просят о пощаде, пишут о том, что умирают с голода, умоляют остановиться, не обобществлять все и вся, сгоняя с сельского двора последнюю курицу.
Несколько слов о том, что представлял собой кулак в Белоруссии. Он, по существу, не имел дореволюционного стажа, так как до семнадцатого года основные наделы земли были в руках помещиков. Раскулачиваемый на рубеже 20-х — 30-х годов хозяин вырос на почве ленинского Декрета о земле. Это бывший красноармеец, получивший из рук Советской власти долгожданный надел, пестовавший его не только с любовью, но и с огромным усердием, упорством, а порой и самоотверженностью.
По данным статистики, к 1928 году в Белоруссии насчитывалось 3,5 процента крестьянских хозяйств, которые относили к кулацким. Следует заметить, что кулак на скудных белорусских землях имел доходы середняка в других регионах страны, а середняк стоял на одном уровне, скажем, с воронежским бедняком. И все же к 1930 году было раскулачено 12 % крестьянских хозяйств, большей частью середняков — главных поставщиков на рынок хлеба и других продуктов.
Было разорено примерно 95 500 крестьянских усадеб, не менее 700 тыс. человек лишились крова, права жить под родным небом и были насильственно вывезены в чужие края, как правило, в Сибирь и Казахстан. Многие — на верную гибель.
Как и по всей стране, провалы в экономике, усугублявшиеся последствиями насильственной коллективизации и политикой «большого скачка» в развитии индустрии, в Белоруссии тоже объяснялись происками «врагов» и «вредителей». По примеру своих более опытных коллег, состряпавших процессы Промпартии и «Шахтинское дело», белорусские мастера фальсификации быстро обнаружили и разоблачили многочисленные группы «троцкистских контрреволюционных вредителей» в Витебском железнодорожном депо и на фабрике «Знамя индустриализации». На Гомельском вагоноремонтном заводе, в системе Белзаготзерно и Наркомземе, в Управлении связи БССР и в Белгосиздате, выявили «диверсионно-шпионско-террористические, вредительские организации», действовавшие в Мозырском, Осиповичском, Оршанском, Жлобинском и множестве других округов.
Из репортажа «Враги народа»
(«Советская Белоруссия» за 15 октября 1937 г.)
Они вошли в зал суда с опущенными головами, пряча свой взор, боясь сотен гневных глаз.
Девять бандитов, девять участников троцкистской, диверсионно-шпионской, террористической организации предстали перед судом, держа ответ за свои кровавые дела.
Их преступления чудовищны. Они из кожи лезли вон, лишь бы напакостить белорусскому народу. Издеваясь и грабя трудящихся крестьян, они мечтали восстановить их против Советской власти. Они, эти продажные душонки, агенты и лизоблюды польской разведки, готовили повстанческие кадры для фашистской Польши на случай войны ее с Советским Союзом.
И вот они стоят перед судом — мерзкие убийцы, шпионы, диверсанты. Припертые к стенке неопровержимостью улик и фактов, они вынуждены признаться в своей чудовищной вине, в черном предательстве. Все девять участников контрреволюционной троцкистской, шпионско-диверсионной, террористической организации не случайно пошли позорным путем разбойников с большой дороги. Главарь этой шайки — бандит Лехерзак (секретарь райкома) сам заявил на суде, что он никогда не был коммунистом, что он был троцкистом. Об обстоятельствах вербовки его в контрреволюционную организацию матерым польским шпионом, орудовавшим в ЦК КП(б)Б, Лехерзак показал:
— Зная меня как антисоветского человека, он предложил мне вступить в контрреволюционную объединенную организацию и создать такую же организацию в Жлобинском районе.
Лехерзак подбирал людей по тем же признакам. Ему нетрудно было сговориться с бандитами Лютько, Думсом, Лейновым, Царевым, которые ненавидели советский народ.
— Я поручал Семенову бандитские дела, — показывает Лехерзак, — зная о его антисоветских настроениях.
Когда у Лехерзака спросили, почему он издевался над трудящимися района, этот прожженный подлец и негодяй ответил:
— Для того, чтобы вызвать у них недовольство Советской властью.
— Значит, вы имели задание с крестьянами не церемониться? — спросил судья.
Лехерзак: Да, я имел такое задание.
Председатель суда: Вы были террористом?
Лехерзак: Да, я был террористом.
Председатель суда: Вы вели линию на поражение Советской власти?
Лехерзак: Выходит, так.
Председатель суда: Вы брали курс на интервенцию?
Лехерзак: Да, на интервенцию.
Он кончает свои показания — этот фашистский ублюдок — и, окинув оком сидящую рядом с ним свору, садится.
Подсудимый Лютько, как и его предшественники, цинично и нагло повествовал суду о тех бесчеловечных издевательствах, которые устраивались над крестьянами по его указаниям. Лютько, будучи председателем райисполкома, налагал на крестьян непосильные платежи, лишал единоличников земли, грабил и разрушал их хозяйства. Председатель суда спросил:
— Такой работой вы добивались разорения хозяйств?
Лютько: Правильно.
Председатель суда: Вы можете назвать число разоренных таким образом хозяйств?
Лютько: Цифра эта большая.
Председатель суда: Какие задания давались директору хлебозавода Максимову?
Лютько: Он получал и выполнял задания по срыву выпечки хлеба, по засорению хлеба гвоздями, проволокой и другими предметами.
Председатель суда: Значит, очереди вами создавались искусственно?
Лютько: Конечно. У нас оставались большие запасы неиспользованной муки. Сознательно мы срывали наряды на муку для рабочих железнодорожного транспорта. Кроме того, мы умышленно создали закрытые хлебные распределители, чтобы совершенно прекратить свободную продажу хлеба.
Бандит Лютько без всякого труда завербовал в контрреволюционную организацию заведующего финансовым отделом Думса.
Председатель суда: Лютько завербовал вас в организацию, учитывая ваши контрреволюционные настроения?
Думе: По-видимому, он это учитывал.
Председатель суда: Что вы сделали как член контрреволюционной организации?
Думе: Я переоблагал налогами крестьянские хозяйства. А делалось это для того, чтобы вызвать у крестьян недовольство Советской властью.
Фашистские бандиты, неслыханно издеваясь над трудовым населением района, принимали все меры к тому, чтобы выгораживать и обелять преступные элементы, которые они затем вербовали в свою шайку. Непосредственное исполнение этой задачи проводил бывший райпрокурор Лейнов. Вот он стоит перед судом. Гнусавеньким и визжащим голосом он говорит о том, как он судил и сажал в тюрьму ни в чем не повинных крестьян. На вопрос же о том, как он вел борьбу с преступниками, Лейнов отвечает:
— С ними я борьбы никакой не вел, ибо в мою задачу входило сохранение в районе контрреволюционных кадров.
Со скамьи подсудимых встал очередной негодяй — директор Жлобинского хлебозавода Максимов:
— Передо мной была поставлена задача срывать обеспечение трудящихся хлебом. Это делалось мною с успехом, и я озлоблял население против Советской власти. Умышленно я выпекал недоброкачественный хлеб, нарочно тормозил ремонт завода.
Председатель суда: Что вас толкнуло на контрреволюционный путь?
Максимов: То, что я убежденный троцкист.
Председатель суда: Какой метод вредительства вы избрали?
Максимов: Искусственное создание тяжелых экономических условий для трудящихся.
Один за другим давали свои показания обвиняемые, равнодушно рассказывая суду о своих гнусных, чудовищно мерзких делах. Подсудимые Мельников, Евтухов, Семенов предстали перед судом не менее лютыми врагами, нежели их предшественники. От их показаний об издевательствах над крестьянами несло холодом и жутью.
Грозен и беспощаден народный гнев! Надо было видеть, с какой ненавистью и презрением смотрели присутствующие в зале суда трудящиеся на этих изуверов, сидящих на скамье подсудимых. Великим и благородным гневом закипали сердца трудящихся, славших проклятие врагам народа. Долго несмолкаемой бурей оваций встретили трудящиеся приговор о расстреле девяти бандитов. Приговор суда — это приговор народа.
— После этого приговора как-то особенно легко стало дышать, — сказал колхозник Осиповский. — Мы каждому снесем голову, кто попробует замахнуться на наше счастье.
Теперь население Жлобинского района, терпевшее от наглых врагов народа, знает, что эти фашистские бандиты омрачали его свободную и светлую жизнь, что подлые враги народа, на головы которых опустился карающий меч диктатуры пролетариата, готовили ему мрак и ужас фашистского господства. Не вышло! Славные чекисты сорвали маску с врагов. Трудовое население Жлобинского района еще крепче полюбило свою Коммунистическую партию, свое Советское правительство и вождя народов товарища Сталина».
В. Полесский, М. Козлов
г. Жлобин.
Подобными репортажами из зала суда да еще гневными письмами трудящихся под выразительными заголовками: «Смерть фашистским гадам!», «Никакой пощады врагам!», «Выкорчевать вражеское охвостье», «Горе тому, кто посмеет посягнуть на нашу счастливую жизнь» заполнены полосы не только «Советской Белоруссии», но и «Звязды», других газет республики. К сожалению, они выражали царившую тогда в обществе непререкаемую веру в правильность всего, что осенилось именем любимого вождя, в справедливость самых суровых приговоров многочисленным врагам народа, сопротивление которых, как сказал «великий и мудрый наставник», по мере нашего победоносного продвижения вперед будет неизмеримо возрастать.
Как ни парадоксально, но и сами обреченные зачастую были уверены, что они(!) действительно стали «врагами народа». Одни — после психологической обработки следователей, другие — после физических воздействий в тюремных застенках, третьи — из-за фанатичной веры в существующий строй и Сталина.
В полной мере стали использоваться изуверские права, предоставленные следственным и судебным органам сталинской директивой, впервые обнародованной недавно публикацией доклада Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС:
«1) следственным властям — вести дела обвиняемых в подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком;
2) судебным органам — не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств преступников данной категории о помиловании, так как Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать подобные ходатайства к рассмотрению;
3) органам Наркомвнудела — приводить в исполнения приговоры о высшей мере наказания в отношений преступников названных выше категорий немедленно по вынесении судебных приговоров».
К 1937 году, на который и в Белоруссии приходится апогей беззакония, репрессий и расстрелов, крайне ужесточился режим взаимоотношений внутри партий. Подавляющее большинство коммунистов искренне считало, что жесткий курс — единственно правильный, что это тот путь, который приведет к осуществлению благородных целей революции, поможет торжеству ее высоких идеалов. В итоге многие сами становились невольными мастеровыми, помогавшими создавать чудовищную сталинскую машину насилия, через жернова которой вскоре было суждено пройти большинству из них.
Авторская ремарка
Тут будет к месту рассказать о судьбе Василия Фомича Шаранговича, бойца старой партийной гвардии, мужественно сражавшегося за Советскую власть в Белоруссии. В конце 1919 года он был послан на подпольную партийную работу в оккупированную войсками Польши Минскую область. Организовал партизанский отряд. По свидетельству очевидцев, показывал пример личной отваги и самоотверженности.
Против партизан были брошены кадровые части. Им удалось окружить, а затем и пленить горсточку отчаянно сопротивлявшихся храбрецов. Всех их, в том числе и В. Шаранговича, приговорили к расстрелу, который, однако, польские власти сочли возможным заменить 20 годами каторги.
Через 18 месяцев после ареста Советское правительство обменяло Василия Фомича и он вернулся в Белоруссию, где ему вручили высшую награду республики — орден Боевого Красного Знамени и памятное оружие. Он работал заместителем наркома юстиции БССР, вторым секретарем ЦК КП(б)Б, направлялся уполномоченным Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) в Казахстан и Харьковскую область, работал в Сибири, а в марте 1937 года был избран первым секретарем ЦК КП(б)Б. Но продержаться в этой должности ему дано было всего четыре месяца. Через год, в марте тридцать восьмого, его усадили на скамью подсудимых вместе с Бухариным, Рыковым, Пятаковым и другими участниками процесса «антисоветского правотроцкистского блока».
Вглядываясь в страницы биографий таких людей, как В. Шарангович, нам легко обвинить их в беспринципности, в склонности к компромиссам, в откровенной беспомощности и готовности идти на поводу у каждого, кто обладал не истиной, а силой. Да, они прошли через все испытания, сражаясь за Советскую власть, но далеко не каждому из них оказалось по плечу испытание злоупотреблением этой властью. И все же, скажите, вправе ли мы сегодня судить их за это? Вправе ли осуждать «послушного» Шаранговича, выдержавшего изуверские пытки в застенках дефензивы, но не устоявшего перед истязаниями своих же «товарищей по борьбе»?
Из выступления В. Шаранговича на XVI съезде КП(б)Б
(июнь 1937 года)
«…Мы должны помнить и ни на минуту не забывав предупреждения товарища Сталина о том, что мы находимся и работаем в капиталистическом окружении, помнить о подрывной работе троцкистов, правых, националистов, этих японо-немецких и польских агентов, бандитов, диверсантов, шпионов и вредителей, этой фашистской нечисти. Фашизм готовит усиленными темпами войну против нас и это особенно надо помнить нам, большевикам, и всему белорусскому народу, работающим на границе с фашистской Польшей.
…Товарищи, мы должны поднять большевистскую бдительность. Все факты показывают, что она в КП(б)Б не была на должной высоте. Иначе ничем иным нельзя объяснить того, что, несмотря на сигналы, оставались неразоблаченными дезертир Красной Армии и двурушник Ходасевич и такие матерые враги народа, как Бенек, Дьяков и целый ряд других презренных предателей нашей родины.
Мы должны уничтожить до конца остатки японо-немецких и польских шпионов и диверсантов, остатки троцкистско-бухаринской и националистической падали, раздавить и стереть их в порошок, как бы они ни маскировались, в какую бы нору ни прятались.
Мы должны сказать на нашем съезде одно:
Смерть этим гадам и предателям нашей родины!»
Из доклада В. Шаранговича на XVI съезде
«…Наши успехи были бы гораздо значительнее, если бы бдительность в КП(б)Б и ее Центральном Комитете была на высоте, если бы мы не проглядели работу врагов и не дали бы им возможности творить свои гнусные дела, вести подрывную работу в народном хозяйстве республики. Но именно потому, что бдительность наша была невысока, что мы болели благодушием и беспечностью, враги сумели пробраться на ответственные посты, а разоблачить многих из них удалось только в последнее время. Злейшие враги советского народа (Бенек, Дьяков, Уборевич, Арабей) сумели даже пробраться в Центральный Комитет КП(б)Б и его бюро. И только потому, что в ЦК и в партийной организации недостаточно были развернуты критика и самокритика, что семейственности и подхалимству не давалось решительного отпора, враги народа не были своевременно разоблачены.
…Хотя в последнее время органы НКВД и партийная организация проделали большую работу по разоблачению и разгрому врагов, но эта работа еще не закончена. Предстоит еще много работы по выкорчевыванию и ликвидации всех корней и щупальцев врага, по ликвидации всех последствий вредительства троцкистско-правых и националистических контрреволюционеров — агентов и наймитов фашизма. Надо помнить, что остатки врага постараются еще глубже уйти в подполье, еще больше замаскироваться. И наша задача заключается в том, чтобы выловить их из всех щелей и нор и всех их уничтожить, как бешеных собак».
Фрагмент заключительного слова В. Шаранговича
«…Я думаю, что выражу мнение всего съезда и всей КП(б)Б, если скажу, что вся КП(б)Б не только готова, но и принимает все меры к тому, чтобы разгромить до конца врагов (бурные аплодисменты).
Ни самоубийства (в перерыве между заседаниями застрелился А. Червяков. — Авт.), ни змеиное шипение всей этой сволочи из-за угла не могут поколебать наших рядов. Всех этих гадов мы уничтожим. Пусть наши враги пишут о нас что хотят, клевещут и устраивают провокации. Мы знаем только одно: очищая свои ряды от всей этой гнили и падали, мы укрепляем наши большевистские ряды. Разоблачение врагов говорит о нашей силе, а не о нашей слабости.
Мы должны дать клятву нашему ЦК ВКП(б), нашему товарищу Сталину, что большевики Белоруссии, работающие на границе с капиталистическим Западом, помнят указания товарища Сталина о капиталистическом окружении, отдадут все свои силы, всю свою энергию, а если потребуется — и жизнь за дело нашей любимой Родины (бурные аплодисменты)».
Через месяц Василия Фомича срочно вызовут в Москву и о рождении дочери он узнает из двухминутного телефонного разговора с женой, который милостиво подарили подследственному В. Шаранговичу всемогущие мастера добровольных «признаний» из НКВД.
Из стенограммы допроса подсудимого В. Шаранговича на процессе «Антисоветского правотроцкистского блока»
«Советская Белоруссия» за 6 марта 1938 года
Председательствующий Ульрих: Подсудимый Шарангович, вы подтверждаете ваши показания, данные на предварительном следствии?
Шарангович: Полностью подтверждаю. Позвольте мне рассказать все последовательно. Изменником родины я стал в августе 1921 года и был им до ареста. В августе 1921 года после заключения мира с Польшей я возвращался из польской тюрьмы, в порядке обмене как заложник с группой осужденных. Я остановился в Варшаве. В Варшаве нас вызывали поочередно в советское посольство, чтобы выяснить лицо каждого из нас. В советском посольстве работал тогда некто Вноровский. Этот Вноровский заявил мне, что поляки не хотят меня выпускать и что они смогут это сделать только в том случае, если я дам согласие работать в польской разведке. Я это согласие дал и после этого польской разведкой и был переброшен в Советский Союз.
…В национал-фашистскую организацию я был завербован Голодедом и Чернышевичем в начале 1932 года. Голодед подробно информировал меня о составе этой организации и о том, что эта национал-фашистскя организация связана с Московским центром правых, получает от него директивы, персонально от Рыкова и Бухарина. Основные цели национал-фашистской организации в Белоруссии Голодед коротко формулировал так: свержение Советской власти и восстановление капитализма, отторжение Белоруссии от Советского Союза в случае войны с фашистскими государствами. Что же касается методов и средств, то сюда входили: вредительство, диверсия, террор…
Вышинский: Расскажите конкретно о вашей преступной деятельности.
Шарангович: Мы ставили перед собой задачу наиболее широко развернуть вредительство во всех областях народного хозяйства.
Вышинский: В каких целях?
Шарангович: В целях подготовки поражения СССР и в целях создания недовольства населения в стране.
Вышинский: В целях провокационных?
Шарангович: Конечно.
Вышинский: В чем же выразилась конкретно ваша преступная деятельность?
Шарангович: Я занимался вредительством, главным образом, в области сельского хозяйства. В 1932 году мы, и я лично, в этой области развернули большую вредительскую работу. Первое — по срыву темпов коллективизации.
Вышинский: Вы какую должность тогда занимали?
Шарангович: Я был вторым секретарем Центрального Комитета компартии Белоруссии.
Вышинский: Так что возможности у вас были большими.
Шарангович: Конечно. Я лично давал вредительские установки ряду работников.
Вышинский: Своим сообщникам?
Шарангович: Да, сообщникам. Мы организовывали выходы из колхозов. Затем мы запутывали посевные площади. Суть этого дела заключалась в том, что мы давали районам такие посевные площади, которые они не могли освоить; другим районам, имевшим большие площади для посева, наоборот, давали уменьшенные задания. Кроме того, мы организовали срыв хлебозаготовок. В 1932 году это было проведено таким образом. Сначала наша национал-фашистская организация приняла все меры к тому, чтобы хлебозаготовки шли плохо. То есть срывали их. Потом, когда было вынесено специальное решение Центрального Комитета ВКП(б) о ходе хлебозаготовок в Белоруссии, наша организация, боясь провала и возможного разоблачения, приняла срочные меры к тому, чтобы хлебозаготовки несколько подтянуть. Я должен также сказать, что в 1932 году была нами распространена чума среди свиней, в результате был большой падеж свиней.
Вышинский: А в области промышленности?
Шарангович: В области промышленности вредительство проводилось на таких объектах, как торф. Торф, как топливная база, для энергетики Белоруссии имеет очень большое значение, и поэтому подрыв этой топливной базы вел к подрыву всех отраслей промышленности. Дальше, говоря о вредительстве, я должен остановиться на культурном фронте, потому что наша национал-фашистская организация придавала этому участку особое значение в условиях национальной республики. На этом участке работало значительное количество участников нашей национал-фашистской организации. Это вредительство проводилось в целях компрометации национальной политики партии и Советской власти. Здесь вредительство шло и по линии школ, и по линии писательских организаций, и театра.
Вышинский: Значит, подытоживая вашу преступную вредительскую деятельность, можно сказать, что ни одна отрасль социалистического строительства не осталась вне вашей вредительской деятельности.
Шарангович: Совершенно правильно…
Вышинский: Подытожим кратко, в чем вы себя в целом признаете виновным по настоящему делу.
Шарангович: Во-первых, что я изменник Родины.
Вышинский: Старый польский шпион.
Шарангович: Во-вторых, я заговорщик. В-третьих, я непосредственно проводил вредительство.
Вышинский: Нет. В-третьих, вы непосредственно один из главных руководителей национал-фашистской группы в Белоруссии и один из активных участников правотроцкистского антисоветского блока.
Шарангович: Правильно. Потом я лично проводил вредительство.
Вышинский: Диверсии.
Шарангович: Правильно.
Председательствующий Ульрих: Организатор террористических актов против руководителей партии и правительства.
Шарангович: Верно.
Председательствующий Ульрих: И все это совершал в целях…
Шарангович: И все это совершал в целях свержения Советской власти, в целях победы фашизма, в целях поражения Советского Союза в случае войны с фашистскими государствами.
Председательствующий Ульрих: Идя на расчленение СССР, отделение Белоруссии, превращение ее…
Шарангович: Превращение ее в капиталистическое государство под ярмом польских помещиков и капиталистов.
Председательствующий Ульрих: Вопросов у меня больше нет.
В этом диалоге палачей и жертвы легко разглядеть глубокий трагизм времени, когда вера-убеждение, поднимавшая людей на подвиг во имя революции, постепенно преобразовалась в слепую веру в авторитеты, в непререкаемость высшей власти. А жизнь людей заполнило нечто химерное, причудливо сплетенное из страха и энтузиазма, организованного поклонения и добровольного отречения от себя самого.
Почему это случилось? Почему отрекались от веры, обрекая себя на верную гибель, такие мужественные люди, как В. Шарангович? Кому-то проще искать ответ в недостаточной их грамотности — большинство делегатов XVI съезда КП(б)Б, в том числе и Василий Фомич, в графе анкеты «Образование» писали «низшее». Но сколько не умевших расписаться мужиков категорически не признали себя шпионами и ушли на расстрел, в Куропаты, с презрением отвергнув измышления следователей, выдержав «конвейеры», «мельницы» и другие кровавые способы добывания показаний. И скольким ученым не хватило их долготерпения и стойкости?
В этом видится еще одна загадка феномена сталинской репрессивной системы и звучит молчаливый призыв к нам, ныне живущим, по возможности удержаться горьких укоров тем — «не выдержавшим», «не устоявшим», «преклонившим колени». Ведь мы уже говорили, что обстановка всеобщей «шпиономании» способствовала тому, что многие жертвы шли на самооговор ради спасения, как им казалось, друзей по партии, работе. Но вот отказаться от своих показаний на следствии во время суда не у каждого хватало смелости, а чаще физических сил. О тех же, кто не смирился, чуть ниже.
Из справки Военной коллегии Верховного Суда СССР от 4.01.1958 года
«Дело по обвинению Шаранговича Василия Фомича пересмотрено 19 декабря 1957 года. Приговор Военной коллегии от 13 марта 1938 года по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено.
В. Ф. Шарангович реабилитирован посмертно».
Бесчисленные аресты, шумные процессы, предпринятые против руководителей многих районов, наркоматов и организаций, а также рядовых коммунистов привели к сокращению численности белорусской партийной организации почти наполовину. Из 99 секретарей райкомов в тридцать седьмом году уцелело только двое. Органы НКВД, завладевшие к этому времени с благословления Сталина неограниченной и по существу бесконтрольной властью, повели планомерное истребление основных кадров партии и государственного руководства.
Особенно жестокий и редкий по циничности удар был нанесен по ЦК КП(б)Б. Один за другим арестовывались и уничтожались первые секретари ЦК. Примечательно, что даже те из них, кто уже не работал в Белоруссии, не избежали горькой участи своих товарищей. Всех их обвинили в принадлежности к руководству контрреволюционной, национал-фашистской организацией, якобы действовавшей в Белоруссии, и расстреляли или принудили к самоубийству. Так погибли А. Криницкий и Я. Гамарник, возглавлявшее республиканскую партийную организацию соответственно в 1924–1927 и в 1928–1929 годах, хотя нелепость выдвигавшихся против них обвинений была очевидна.
Репрессированы почти все секретари ЦК, заведующие отделами, большинство членов Центрального Комитета. В 1937 году в ЦК, в обкомах и райкомах партии часто некому было работать, за год аппарат менялся несколько раз. В одном из списков исключенных из партии в 37—38-х годах коммунистов после того как их арестовали сотрудники НКВД — более 400 фамилий. Всех их зачислили в белорусское объединенное антисоветское подполье, в национал-фашистскую организацию во главе с руководителями республики Н. Гикало, А. Червяковым, Н. Голодедом. В этом угадывалось прямое заимствование приемов и аргументации ранее сфабрикованного «дела» «Союза вызволения Белоруссии».
Расскажем и о таком, обнародованном совсем недавно факте. В июле 1937 года в республику прибыли заведующие отделами ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков и Я. А. Яковлев «с целью разоблачения партийных и советских работников, завербованных иностранной разведкой».
Итоги их поездки по районам подводились на Пленуме ЦК КП(б)Б, который состоялся 29 июля. В. Ф. Шаранговича к этому времени в республике уже не было, скорей всего он обживал одну из камер следственного изолятора на Лубянке. Второму секретарю ЦК КП(б)Б Н. М. Денискевичу оставалось пробыть на свободе всего три дня, а жить — чуть более двух месяцев.
Судя по стенограмме, собравшимся, лучше сказать собранным по команде, было предложено обсудить постановление ЦК ВКП(б) от 27 июня 1937 года «По вопросу руководства ЦК КП(б)Б», но как такового обсуждения не состоялось — последовало откровенное избиение кадров, грубое, бездоказательное обвинение их в шпионаже, вредительстве, двурушничестве.
Выступающим Маленков и Яковлев не давали говорить, «забивали» вопросами: «Сколько у вас еще врагов?», «Сколько шпионов, вредителей разоблачено, сколько осталось?». Тут же решалась судьба оратора, еще стоящего на трибуне, — снять с работы, исключить из партии. Сразу забирали партийный билет, а затем за дверью, при выходе из зала, арестовывали.
Первым выступил председатель Слуцкого окрисполкома Желудов. Он начал с рассказа о делах в округе, но Маленков и Яковлев не дали ему говорить — прерывали, задавали провокационные вопросы. Затем Яковлев заявил: «Я думаю, таким людям нечего делать ни в ЦК Белоруссии, ни в партии».
Предложение Яковлева об исключении Желудова из партии и выводе из состава ЦК ставится на голосование.
Пленум принимает его.
«Председатель: Ваш партийный билет?
Желудов: Значит, я — вредитель?
Яковлев: Так получается.
Желудов: Я вредителем никогда не был! Я вышел из пролетарской семьи, боролся на фронтах.
Маленков: Поляки за вас управляли округом.
Слово предоставляется Домбровскому: Я теперь работаю в Пуховичском районе, несколько раньше работал в Дзержинском райкоме партии.
Его прерывают.
Яковлев: Вы прямо скажите, как вы превратили этот район в центр польских шпионов?
Маленков: После того как вам показалось, что неправильно поступили, записывая белорусское население поляками, вы добрались до того дела, до председателя райисполкома, вы отменили постановление райисполкома?
Домбровский: Я говорил об этом в Центральном Комитете партии.
Маленков: С какого года вы числитесь в партии?
Домбровский: С 1909 года.
Маленков: Вы где вступили в партию?
Домбровский: Я вступил в партию в Латвии. В Либаве.
Маленков: С кем вы связаны по старому времени, с кем встречаетесь?
Домбровский: Имел знакомство с начальником погранотряда Мартыненко.
Берман (НКВД БССР): Мартыненко шпион, он арестован».
Домбровскому было задано более 30 вопросов. Его исключили из партии, вывели из состава ЦК КП(б)Б.
Уходя с трибуны, он сказал: «Товарищи, я не враг. Я работал все время честно, преданно партии».
Такая же участь постигла на пленуме секретаря Кагановичского райкома партии г. Минска Ляхова, секретаря Бобруйского райкома Вайнмана и других.
В резолюции Пленума было сказано:
«…Предложить всем партийным организациям:
а) быструю и решительную ликвидацию последствий вредительства польских шпионов Голодеда, Шаранговича, Бенека, Червякова и других вредителей и диверсантов…»
Архивная справка
По данным политического отдела УГБ НКВД БССР, «1 июня 1938 года в итоге «разгрома антисоветского подполья в БССР» за два года было арестовано 2570 «участников объединенного антисоветского подполья. Из них троцкистов и зиновьевцев — 376, правых — 177, национал-фашистов — 138, эсеров — 585, бундовцев — 198, меньшевиков — 7, сионистов — 27, церковников и сектантов — 1015, клерикалов — 57».
«Из арестованных нами участников антисоветского подполья, — говорилось в справке начальника отдела старшего лейтенанта госбезопасности Ермолаева, — работали в центральных правительственных и партийных учреждениях — в ЦК КП(б)Б и ЦК ЛКСМБ — 23, в ЦИК и СНК—16. Арестовано и разоблачено наркомов и заместителей — 40, секретарей окружных комитететов, горкомов и райкомов — 24, председателей окрисполкомов, горсоветов и райисполкомов — 20, руководящий работников советского и хозяйственного аппарата — 179…»
В справке приведены «факты» создания бывшим первым секретарем ЦК КП(б)Б Н. Гикало в Минске «боевых террористических групп», якобы готовивших террористический акт против Ворошилова (следователи «установили», что осуществить его должен был заведующий Истпартом С. Поссе во время банкета в честь приезда наркома обороны на маневры в Белорусский военный округ).
Вместе с партийными кадрами столь же последовательно и целеустремленно уничтожалась и национальной интеллигенция. По неполным данным, за два «пиковых» года было арестовано 90 членов Союза писателей БССР, из которых более 50 погибли в лагерях и тюрьмах. Это такие выдающиеся деятели культуры, как один из основоположников современной белорусской литературы Максим Горецкий, прозаик, ранее первый секретарь ЦК ЛКСМБ, редактор газеты «Чырвоная змена», заместитель наркома просвещения, член ЦК КП(б)Б и ЦИК БССР Платон Головач. Прозаики Сымон Барановых, Михась Зарецкий, поэты Михась Чарот, Алесь Дудар, Тодор Кляшторный, драматург Владислав Голубок и многие другие.
Более 100 ученых (опять-таки по предварительным подсчетам) потеряла в эти годы Академия наук БССР. Массовые репрессии уничтожили значительную часть мастеров искусства, работников печати, учителей. Сегодня подавляющее большинство из них уже реабилитированы, многие восстановлены в партии.
А теперь, нам кажется, самое время вкратце рассказать о том, как вершилось в республике правосудие (если тут уместно это слово), какие всходы дал на белорусской почве пресловутый сталинский «внесудебный порядок» рассмотрения дел и вынесения по ним приговоров. Напомним, что 10 июля 1934 года ОГПУ было реорганизовано в НКВД и одновременно при нем создан внесудебный орган — особое совещание. В его состав вошел Прокурор СССР. Как говорится, тут тебе и «меч закона», и «надзор» за ним.
Через полгода выйдет знаменитое постановление Президиума ЦИК СССР о террористических актах (мы его уже цитировали), потом порядок его действия перенесут на дела о вредительстве и диверсиях, через некоторое время по предложению Кагановича введут внесудебное рассмотрение дел с применением высшей меры, а Молотов, учитывая большое количество «врагов», посоветует вообще «судить» и расстреливать по спискам.
Этими «новациями» расстреливалась в упор старая и чтимая в правовых государствах истина, что только суд обладает правом признать человека виновным в совершенном преступлении и назначить ему наказание.
Из показаний Григория Ивановича Ручана, пенсионера:
— После окончания юридического института в 1938 году меня направили на работу в Прокуратуру БССР, в отдел по надзору за спецделами. Их, как известно, расследовали органы НКВД.
Большинство из них было о шпионаже, контрреволюционной деятельности и т. п. После завершения следствия такие дела, как правило, выносились на рассмотрение «троек». В их состав входили: нарком внутренних дел или его заместитель, работник ЦК КП(б)Б и Прокурор республики или его заместитель. Решения принимались двоякие: либо расстрел, либо лишение свободы сроком на 10 лет с высылкой. Отдельные дела, в основном об антисоветской агитации, направлялись в спецколлегию Верховного Суда БССР. Председателем коллегии был в 1938–1939 гг. В. С. Карлик. Я не думаю, что в этих делах были хоть какие-то доказательства.
На чем основано мое предположение? Видите ли, в самом начале работы в органах прокуратуры я узнал, что следствие ведется незаконными методами. Мне по долгу службы приходилось бывать в тюрьме, где следователи допрашивали обвиняемых, и я знал, что их жестоко избивают, чтобы получить нужные показания.
По жалобам, а мне приходилось работать именно с ними, проверялись и те дела, которые вели следователи НКВД. Даже беглого взгляда на них было достаточно, чтобы увидеть, что делается это формально, необъективно, доказательств в протоколах нет, а есть либо доносы, либо признания обвиняемых, которые они дали под физическим воздействием. К такому выводу пришел не только я, но и мой товарищ Александр Хомич. Он живет в Минске и может подтвердить мои слова.
Нас это возмутило и мы решили доложить заместителю прокурора БССР по спецделам Алексееву. Пошли к нему домой, обо всем рассказали, потребовали принять какие-то меры, но Алексеев охладил наш пыл, сказав, что обо всем знает и что докладную по этому поводу ему писать не нужно. Тяжело вздохнув, велел нам продолжать работу.
Да, санкцию для направления дел на рассмотрение «тройки» давали либо Прокурор республики, либо его заместитель. Но немало дел направлялось на «тройку» и без их санкции. В подтверждение сошлюсь на такой пример.
Как-то в конце 1938 года нас с Хомичем вызвал Алексеев и поручил изучить расследованные в НКВД дела, по которым нужно было дать санкции для направления на «тройки». Мы начали смотреть материалы и обнаружили, что обвиняются в шпионаже в основном люди военные, а никаких доказательств их вины нет, есть только признательные показания. Мы отказались санкционировать эти дела, потому что знали, каким образом получены эти признания. Кроме того, даже эти показания были не подробные, а содержали общие фразы о том, что в случае войны обвиняемый готовился участвовать в подрыве мостов либо просто «работать на пользу противника».
После нашего отказа санкционировать эти дела приехал работник ЦК, фамилии его не знаю, он не представлялся, и обвинил нас с Хомичем в том, что мы защищаем врагов народа. Нам хватило смелости настоять на своем мнении, но через некоторое время вышел приказ об отстранении нас от занимаемых должностей. В конце 1939 года меня назначили помощником прокурора Минской области по надзору за местами заключения.
Хочу заметить, что наш отдел, кроме надзора за спецделами, то есть за следствием в органах НКВД, осуществлял также надзор за следствием в органах милиции. В них тоже были «тройки», но рассматривали они только дела уголовников. Состава этих троек я не знаю, но хорошо помню, что, в отличие от политических, уголовникам выносили различные сроки лишения свободы — от 3 до 10 лет.
Есть у меня и личный опыт участия в следствии по обвинению в антисоветской агитации. Я тогда еще работал в отделе по надзору за спецделами. Было это, кажется, в конце 1938 года. Поступило указание из Прокуратуры СССР дополнительно допросить профессора Минского юридического института Коноплина, обвиняемого по ст. ст. 68, 72 УК БССР. Следствие уже велось работниками НКВД. Мне поручили выяснить, говоря упрощенно, как он осуществлял шпионаж и каким образом вел антисоветскую агитацию. Допрашивал я профессора в следственной комнате общей тюрьмы по ул. Володарского в присутствии двоих следователей НКВД. В деле, как обычно, были только признания, а конкретных доказательств не было.
Во время допроса, при работниках НКВД, Коноплин прямо не сказал, что он себя оговорил. Он стал мне объяснять, что ему вменяют в качестве шпионажа то, что он написал книгу «Фашизм и фашистская диктатура», а поводом для обвинений в антисоветской агитации стала фраза, сказанная им во время лекции: «Мне мешает белорусское солнышко». Дело в том, объяснил профессор, что во время лекции прямо ему в глаза светило солнце, заставляло его отворачиваться и он однажды произнес эту шутливую фразу. Несмотря на возражения следователей НКВД, я записал эти показания Коноплина, а затем доложил о результатах допроса Алексееву. Тот дал мне указание вынести постановление о прекращении уголовного дела в отношении Коноплина за его подписью. Он сказал, что это для того, чтобы меня не арестовали. Я написал это постановление, копию которого направили в Прокуратуру СССР.
Освободили Коноплина только через полгода. Сейчас его уже нет в живых, а то бы он, думаю, подтвердил мои слова.
И еще одно авторитетное свидетельство Ивана Макаровича Стельмаха, пришедшего в НКВД по комсомольской путевке в страшном 1937 году:
— В это время большинство так называемых политических дел рассматривалось «двойками», «тройками» или особыми совещаниями. Существовал ли какой-то критерий их отбора, сейчас сказать не могу, но у меня сложилось твердое убеждение, что дела, где было мало доказательств, посылались в эти «несудебные органы», а не в суды, в том числе и не в военный трибунал.
Даже призрачная возможность рассмотрения дела «по закону», с соблюдением пусть минимальных демократических принципов уголовного судопроизводства таким образом устранялась. Хотя к этому времени, судя по документам и свидетельствам уцелевших юристов, суды были уже низведены до положения бесправного придатка предварительного следствия. Им доверяли лишь скреплять своей подписью произвол, творимый органами, тем самым легализуя его, придавая ему статус законного. Ведь «органы не ошибаются»; «у нас зря не сажают». Или, как изрек «великий правовед», академик Вышинский: «Если органы взяли, значит, враг». Как действовал этот постулат в реальной жизни, мы видели в репортаже с «процесса жлобинских шпионов и вредителей».
Единственное, что обязательно интересовало суд и государственного обвинителя, опять-таки по теории Вышинского, — подтверждает ли обвиняемый показания, данные им на предварительном следствии. То есть признает ли он публично выбитое из него в специальной камере «добровольное» признание?
Какая состязательность и какое равенство сторон, какая гласность, объективность и всесторонность расследования и судебного разбирательства, какое право обвиняемого на защиту, если идет «борьба с врагами народа»? И где тут помнить о таком древнем постулате, как принцип презумпции невиновности, хотя без него правосудие есть просто фикция!
Из показаний Василия Семеновича Карпика, пенсионера:
— В 1934 году меня направили в Верховный Суд БССР председателем спецколлегии, где я проработал четыре года. Спецколлегия рассматривала уголовные дела, расследование которых вели органы НКВД. Сегодня я не могу точно вспомнить все категории дел, которые мне приходилось рассматривать. Но помню, что в основном это были хозяйственные дела. Людей обвиняли в том, что они плохо работают, воруют либо устраивают свои личные дела за счет государства. Что касается доказательств, то с ними было туго. Как известно, тогда господствовал обвинительный уклон. Главное было — как можно больше осудить людей, где уж тут заботиться об истине. Неважно, есть доказательства или нет, главное, чтобы или сам обвиняемый признался, или кто-то указал на него. Этого было достаточно.
Помню один характерный пример. Я рассматривал дело одного инженера, фамилии его не помню, который, судя по материалам, плохо работал и по его вине некачественно построили здание. В этом деле лежало несколько страниц, которые написал сам обвиняемый, признавшийся, что да, он трудился неважно. Никаких других доказательств его вины не было и я отправил дело на доследование. Возвращал я и другие подобные дела.
Это не понравилось работникам НКВД, вскоре меня обвинили в либерализме, а вслед за этим последовало исключение из партии.
Будем считать, что Василию Семеновичу повезло — в партии его в 1939 году восстановили, он смог устроиться адвокатом, а после войны заняться желанной наукой. Многим его коллегам, работавшим в те годы в суде или прокуратуре, увы, повезло гораздо меньше.
Вот обзорная справка материалов архивно-следственного дела по обвинению Б. М. Глезерова — заместителя Прокурора БССР. Арестован сотрудниками НКВД без санкции прокурора 2 сентября 1937 года как «участник контрреволюционной организации, проводившей вражескую работу в системе прокуратуры республики». Какие собраны доказательства о причастности Б. Глезерова к этой организации, как она действовала и что конкретно совершила, из материалов дела не видно.
Правда, на допросе 26 ноября Глезеров показал, что еще в 1933 году бывшим секретарем ЦК КП(б)Б Н. Гикало он завербован в контрреволюционную правотроцкистскую террористическую организацию, а позже сам завербовал в нее прокурорских работников: Нускультера Минченко, Хомякова, Фрейдлинга и других, совместно с которыми проводил «активную вредительскую работу путем применения массовых незаконных репрессий к трудящимся города и деревни и защиты участников контрреволюционной организации».
Между обвиняемым Глезеровым и арестованными С. Б. Нускультером, А. Г. Минченко, Л. К. Хомяковым и А. С. Фрейдлингом проведены очные ставки, на которых Глезеров изобличал их всех в принадлежности к правотроцкистской организации, а они, в свою очередь, подтвердили, что в эту организацию завербованы Глезеровым.
Дело по обвинению Б. М. Глезерова рассмотрено в судебном заседании выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР 19 декабря 1937 года. Б. Глезеров виновным себя признал и полностью подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии. Осужден к высшей мере наказания — расстрелу. На следующий день приговор приведен в исполнение в Минске.
Чудом уцелел прокурор республики П. В. Кузьмин, арестованный органами НКВД 31 марта 1938 года. Его тоже зачислили в мифическую антисоветскую правотроцкистскую организацию, активно боровшуюся против Советской власти. В подтверждение этого обвинения к делу приобщена выписка из протокола допроса бывшего наркома юстиции СССР Н. В. Крыленко, давшего показания, что Кузьмин в состав контрреволюционной организации правых, существовавшей в органах суда и прокуратуры, завербован Е. Б. Пашуканисом.
На предварительном следствии Павел Васильевич себя виновным не признал. И поскольку в ходе расследования ни один свидетель допрошен не был, а к делу приобщены только выписки из протоколов их допросов, Кузьмин законно требовал проведения очных ставок, но ему в этом отказывали. Скорей всего потому, что никого из свидетелей уже не было в живых.
Это предположение подтверждает обвинительное заключение, в котором указано:
«Учитывая, что хотя следствием преступная деятельность П. В. Кузьмина полностью доказана, однако в связи с отсутствием лиц, его изобличающих (осуждены), дело не может быть рассмотрено в открытом судебном заседании, а подлежит направлению в особое совещание НКВД СССР».
Приговор оказался на удивление мягким: 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Но по отбытии наказания постановлением особого совещания при МВД СССР 24 мая 1947 года его вновь за то же «преступление» приговаривают к ссылке в Красноярский край на 5 лет, а затем — на поселение. Полностью реабилитирован П. В. Кузьмин только в 1955 году.
Длинен список репрессированных юристов. Открывать его, видимо, должен первый прокурор республики, латышский стрелок, старый большевик Адольф Христафорович Гетнер. Он возглавлял прокуратуру будучи одновременно и наркомом юстиции до 1925 года. А через тринадцать лет уже в Мордовии его настигла зловещая тень пресловутой «Белорусской национал-фашистской организации», мнимой принадлежностью к которой оправдывались расправы над тысячами невинных жертв. Арестам подверглись работники прокуратуры БССР, областных и районных прокуратур, члены Верховного Суда БССР и народные судьи. Не исключено, что многие из них закончили свой жизненный путь в Куропатах.
Вопрос четвертый: Кто покоится в братских могилах?
Самый трудный вопрос. В той или иной форме он задавался следователями множеству людей, как-то причастных к трагедии в Куропатах. Одни из них невольно стали очевидцами казней, другие с великим усердием допрашивали арестованных «шпионов», добиваясь «чистосердечного» признания, третьи ближе к полуночи привычно садились за руль «черного ворона» и увозили «изобличенных врагов народа» на расстрел.
Следствием достоверно доказано, что многие из репрессированных, содержавшихся в минских тюрьмах, расстреляны в Куропатах. Однако ни одного имени этих невинных жертв, к сожалению, установить не удалось. Поэтому, изучив многие архивные уголовные дела конкретных расстрелянных людей и зная из этих дел, что приговоры приведены в исполнение в Минске, мы все-таки не можем, не имеем ни морального, ни юридического права категорически утверждать, что именно тот или иной человек покоится под куропатскими соснами. В предыдущих разделах мы уже упоминали о том, как нелегко было отыскать людей, которым доводилось бывать там, за высоким дощатым забором, во время казней, сидеть или стоять рядом с обреченными на смерть, видеть их в последние минуты жизни. И не потому, что кто-то препятствовал поиску этих свидетелей — списки бывших сотрудников комендатуры НКВД, а именно этой службе была поручена охрана заключенных и приведение приговоров в исполнение, следствие смогло раздобыть.
Но большинства из поименованных в них людей уже нет в живых. Ведь прошло пять долгих десятилетий. Кроме того, многих сотрудников НКВД постигла горькая участь их недавних жертв. Немало погибло на фронтах и в партизанском тылу. И вы понимаете теперь, сколь желанной для следствия была сама возможность встретиться и побеседовать с очевидцами расстрелов, какую цену приобрел каждый сбереженный ими факт, каждая сохранившаяся в памяти деталь.
Вспомните рассказ бывшего водителя автозака М. Давидсона. То, что он увидел в свете фар своего грузовика, нельзя придумать, сочинить, это можно только запомнить. И, как мы убедились, на всю жизнь.
Сейчас вы прочитаете показания еще одного человека оттуда, «из-за забора», которому, как он утверждает, довелось участвовать в расстрелах всего один раз. Не беремся оспаривать это утверждение, просто приведем фрагменты магнитофонной записи с Сергеем Максимовичем Захаровым — 75-летним пенсионером из Минска. В 1937 году он служил в комендатуре НКВД БССР вахтером.
— Приходилось ли вам участвовать в приведении в исполнение приговоров к высшей мере наказания?
— Один раз пришлось конвоировать. Кажется, один раз…
— Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
— По приказу коменданта я и другие конвоиры, фамилий их уже не помню, часа в 22–23 подъехали на крытой брезентом грузовой машине к «американке» — внутренней тюрьме НКВД. Охрана тюрьмы посадила в кузов несколько арестованных. Если мне не изменяет память, было их не менее 20 человек. Я вместе с другими конвойными тоже сел в кузов. Нам поручалось охранять арестованных в пути следования к месту исполнения приговоров и не допустить их побега.
— Чем вы были вооружены?
— Пистолетами.
— А где ехали те, кто должен был расстреливать?
— Обычно, они садились в кабину или ехали в другом, легковом автомобиле.
— Куда возили на расстрел?
— По Логойскому шоссе от Комаровки километра четыре, потом сворачивали влево и через несколько минут въезжали в лес. Часть его была обнесена забором высотой примерно 2–3 метра…
— Могилу готовили заранее?
— Да, яму копали заблаговременно. Но я не ходил туда, где расстреливали, я сидел в кузове и охранял осужденных… Не помню точно, кто — исполнитель или охранник — пришел, взял одного человека и увел. Раздался выстрел. Потом пришли за другим осужденным, вывели его, опять прозвучал выстрел. Таким образом расстреляли всех.
— Они кричали?
— Нет, криков я не слышал.
— Не было ли среди обреченных на смерть ваших знакомых?
— Нет, не видел.
— Может, кто-то просил передать весточку на волю?
— Это исключено. Арестованным запрещалось разговаривать.
— Имели они при себе какие-нибудь вещи?
— Да, уходя их тюрьмы, они забирали все свое, как мы называли, «приданое». Я сам видел в руках у осужденных свертки и сумки с вещами. Они выходили с ними из машины, а назад никто ничего не возвращал. Как проходили расстрелы, рассказать в деталях не могу — я ведь находился все время в кузове, — но из разговоров с Бочковым, Острейко, Мигно, которые расстрелами занимались постоянно, я знаю, что приговоренного к смерти подводили к яме и стреляли в голову, затем он сам падал или его сбрасывали в могилу. Туда же бросали и все личные вещи.
— Среди арестованных вам не встречались женщины?
— Почему же, встречались. Но очень мало. В конкретном случае, о котором я рассказываю, одну или двух женщин, не помню точно, мне удалось хорошо разглядеть. Но все-таки среди пассажиров нашего «черного ворона» преобладали мужчины. Судя по одежде и особенно по обуви, среди моих подконвойных было немало жителей Западной Белоруссии. Одни одеты богато, другие — попроще. У некоторых на ногах были сапоги ручной работы, такие, я знаю, шили в западных областях.
— Скажите, кто присутствовал при расстрелах — прокурор, врач?
— Прокуроры, кажется, бывали, а вот врачей, вроде, видеть не приходилось…
— А кто акты составлял?
— Не знаю, наверное, когда возвращались в НКВД, там и писали.
— Фамилий осужденных никто не называл?
— Такого не слышал. Всем было известно, что эти люди осуждены «тройкой» как «враги народа, шпионы и диверсанты».
— Как вы считаете, приговоры выносились справедливые?
— Сказать правду, то, мне думается, часть людей погибала невиновных. Во всяком случае у меня такое впечатление сложилось… Разве при таком потоке можно следствию детально разобраться? В 37-м году каждую ночь на расстрел возили…
— Вы в то время не слышали, какая деревня была вблизи того леска с забором?
— Названия не помню. Знаю только, что из этой деревни родом жена Бочкова. Даже когда он получил в Минске квартиру, она часто уезжала домой, к родителям. А во время войны, я слышал, ее немцы казнили за то, что муж работал в НКВД.
Авторская ремарка
Да, Захаров прав. Татьяна Ермолович из д. Цна-Иодково была замужем за Бочковым, у них подрастали сын и дочь. Незадолго до освобождения Белоруссии от гитлеровской оккупации фашисты расстреляли Татьяну за связь с партизанами. Дети долгое время оставались на попечении у ее тети. Затем их забрал отец.
Добавим к этому несколько фраз из показаний Ольги Степановны Комаровской, пенсионерки из д. Цна-Иодково:
— Таня Ермолович — моя племянница. Она часто забегала ко мне со своими заботами, плакала, говорила, что Бочков вместе с Батяном участвуют в расстрелах людей на Броде. Когда он возвращался с работы, ей казалось, что от него пахнет свежей кровью. К тому же он редко приходил домой трезвым…
Понимая реальную опасность наскучить читателю частым цитированием показаний свидетелей, все же решимся привести здесь короткий фрагмент из рассказа Александра Афанасьевича Знака, тоже бывшего сотрудника НКВД, работавшего сначала надзирателем тюрьмы, а затем переведенного заведовать складом комендатуры:
— Обычно заключенным, которых собирались расстреливать, объявляли, что их вызывают из камер с вещами. Они приходили на склад, забирали свои пальто, полушубки, все другие принадлежавшие им вещи и в сопровождении конвоира направлялись к «черному ворону». Машина покидала территорию тюрьмы, увозя людей вместе со всеми их пожитками. Те, кто исполнял приговоры, рассказывали, что вслед за расстрелянными в могилу сбрасывали и вещи. Во всяком случае мне на склад никогда ничего не возвращали.
Подобные свидетельства, а их в ходе следствия добыто немало, важны по двум серьезным причинам: во-первых, они во многом рассеивают искреннее заблуждение авторов некоторых публикаций в белорусской, да и в центральной печати, уверяющих, что присутствие в эксгумированных могилах остатков опасных бритв и фарфоровых кружек, портмоне и деревянных ложек — прямое доказательство того, что сразу после ареста людей, минуя тюрьмы, следствие и суды, везли прямо в Куропаты — под слепые дула энкаведешных пистолетов. Во-вторых, «расстрелянные» и похороненные вместе со своими хозяевами личные вещи, даже не назвав имени, многое могут рассказать о своем бывшем владельце и о времени, в котором ему суждено было жить и погибнуть.
Давайте же еще раз вместе перелистаем один из самых объемных томов дела с коротким названием «Куропаты», вчитаемся в бесстрастные формулировки заключений экспертов, подумаем и поразмышляем над их лаконичными строчками.
Но вначале представим этих талантливых и увлеченных своим делом людей, не для дежурной похвалы, а справедливости ради, сказав, что их роль в расследовании куропатской трагедии, в поиске ответов на множество сложнейших вопросов чрезвычайно велика. А помощь, которую они постоянно оказывали следствию, достойна самой щедрой оценки и искренней благодарности.
Первым назовем Владимира Яковлевича Дащинского, старшего научного сотрудника НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции БССР, которому была поручена экспертиза всех вещественных доказательств, а это в общей сложности более 500 предметов — фрагментов обуви, остатков одежды, зубных щеток, расчесок, гребешков и даже обручальных колец.
Коллеги говорят о нем коротко: настоящий профессионал, который знает и умеет все. И если в этой афористичной формуле есть какой-то элемент преувеличения, то идут они на него сознательно — из чувства любви и уважения к своему старшему и опытнейшему товарищу.
На наш вопрос, когда было трудней работать — над материалами из Брестской крепости или сейчас, «по куропатскому делу»? — Владимир Яковлевич, не колеблясь, ответил: «Работать всегда нелегко, халтурить — просто». И, помолчав, добавил: «В Куропатах мы сделали максимум возможного, использовали практически все методы исследований, которыми сегодня вооружена наша служба. За каждое слово заключения можем поручиться».
Наибольшее впечатление на В. Я. Дащинского и его коллег, много повидавших на своем «экспертном веку», произвела, по их словам, контрастность находок, извлеченных из одного захоронения. Скажем, добротные хромовые сапоги соседствовали в нем с самодельными резиновыми бахилами, сотворенными «находчивым» и предприимчивым народным умельцем. Модные и редкие по тем временам зарубежные портмоне покоились рядом с холщевым узелком, в котором его хозяин бережно хранил несколько серебряных и медных монеток. Изящное пенсне и самодельная деревянная ложка, зубная щетка и простой гребешок.
Все это немые свидетельства всенародности сталинских репрессий, когда шпионами и вредителями одинаково легко объявлялись и видный ученый, и неграмотный крестьянин из забитой белорусской деревни. Не однажды бывавший за границей инженер и никогда не покидавший родного села колхозный сторож.
В одном из захоронений найдено неплохо сохранившееся мужское кожаное пальто красно-коричневого цвета, с боковыми косыми карманами и кокетками, как отмечено в заключении. Эксперты определили размер комиссарской одежки — пятьдесят шестой. Могучим, богатырским сложением, должно быть, отличался его хозяин. Это, к сожалению, все, что сегодня можно сказать об этом человеке.
«Приговор приведен в исполнение в Минске»
Его арестовали в ночь на 14 августа 1937 года. Без санкции прокурора, без предъявления какого бы то ни было обвинения. И только спустя несколько дней, когда из подвалов «американки» его приведут в кабинет следователя В. Быховского, Александр Августайтис — первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии — узнает, что он «презренный враг, главарь молодежного подразделения антисоветской контрреволюционной организации правых», в которую его завербовал не кто иной, а первый секретарь ЦК КП(б)Б Н. Гикало. Что он, Августайтис, и его сообщники «ставили целью проведение подрывной деятельности в области политико-воспитательной, культурной и оборонной работы». Вот так витиевато и одновременно малограмотно было сформулировано следствием выдвинутое против Августайтиса, а поздней и многих его товарищей по комсомолу суровое обвинение.
В нем говорилось также, что Н. Гикало дал Александру задание постоянно вести вербовку новых членов в свою организацию из числа руководящих работников комсомола республики, создавать боевые группы для проведения террористических актов против руководителей партии и Советского правительства, и эту установку Августайтис выполнял последовательно и целеустремленно.
Отвлечемся от этого, с позволения сказать, документа и, пока Александра не пригласили на новый допрос, расскажем о нем, о его корнях, о его короткой и яркой жизни. Вначале несколько слов скажем об отце — Викентии Августайтисе. Выходец из бедной крестьянской семьи, он рано включился в революционное движение в Литве и вскоре из-за преследований властей вынужден был искать укрытия в соседней Белоруссии. Судьба забросила Викентия в д. Зазерье Игуменского уезда (ныне Пуховичского района), где его приютили дальние родственники. В. Августайтис устроился на лесопильный завод, подружился с местной молодежью и вскоре понял, что безнадежно влюбился в 18-летнюю красавицу Ульяну Шелковскую. Молодые люди решили обвенчаться и пошли со своей заботой к местному священнику. Церковный порядок предписывал кроме внесения 300 руб. пошлины еще и предъявление паспорта.
В. Августайтису не хотелось рисковать и он попытался доверительно объяснить попу причину своего нежелания официально предъявлять документ. Поп тут же побежал к властям и сообщил, что в Зазерье скрывается опасный бунтовщик. Викентия арестовали, посадили в тюрьму, а через восемь месяцев у него родился сын, которого мать назвала Александром.
Вернулся молодой отец из неволи тяжело больным и никакие отвары трав, никакие дорогие заморские лекарства ему уже не могли помочь.
Саша остался сиротой, рано познал горький вкус батрацкого хлеба, потом, когда мать во второй раз вышла замуж и переехала в Минск, подростком пошел на стекольный завод выдувальщиком. И в деревне, а затем в городе страстно тянулся к книгам, к знаниям, проявив при этом редкостную память, завидное усердие и целеустремленность.
Когда комсомольской ячейке завода предложили выдвинуть на учебу в совпартшколу своего посланца, выбор единодушно пал на Александра Августайтиса. С этого времени начинается его стремительное восхождение по ступенькам политической карьеры — первый секретарь райкома комсомола в Плещеницах, затем — секретарь Минского окружкома ЛКСМБ, секретарь и первый секретарь ЦК комсомола республики.
…Сломать Александра оказалось делом непростым даже для такого «мастера чистосердечных признаний», как Быховский. Физически мощный, тренированный, Августайтис, по боксерской терминологии, хорошо держал удары, и даже после того, как его уносили в камеру без сознания, через день-два вставал на ноги в прямом и переносном смысле и вновь упрямо твердил: «Это ложь, клевета».
Два месяца продолжалось неравное противостояние изощренного в пытках следователя и вооруженного только волей и мужеством узника. В начале октября он подписал первые страницы продиктованных Быховским показаний. Трудно сегодня сказать, как повел бы себя Александр, знай он, что этот его жест отчаяния, вырванный после долгих и невероятно жестоких пыток, станет началом массовых арестов молодых активистов, а ему будет уготована роль лидера «антисоветской молодежной организации», и всякая даже мимолетная прежняя встреча с ним будет поставлена кому-то в вину, послужит удобным поводом для самых тяжких обвинений и расправ.
Уже на ином, комсомольском уровне, получит развитие идея существования в Белоруссии контрреволюционной, национал-фашистской организации, которую якобы создали руководители республики — «продажные шпионы и вредители», а посему всех их друзей и сторонников необходимо уничтожить, как «бешеных собак». Уничтожать пришлось многих, потому что круг знакомых Августайтиса, без устали мотавшегося по республике, был чрезвычайно велик.
Вскоре после «признания» Александра взяли «за подрывную деятельность» бывшего комсомольского работника, председателя комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме БССР Л. Кузнецова, секретарей Слуцкого, Гомельского, Мозырского и Витебского окружкомов ЛКСМБ И. Галковского, М. Брагинского, А. Бычковского и В. Рогожкина. Четверых приговорили к высшей мере наказания, а М. Брагинскому повезло — он получил «только» 12 лет тюремного заключения с последующим поражением в правах на пять лет. М. Я. Брагинский рассказывает:
— В Минск меня перевезли через три дня после ареста. Поместили во внутренней тюрьме НКВД, в подвале. На допросы, которые сначала вел один следователь, а потом к нему стали подключаться помощники, вызывали исключительно ночью. Мирной у нас была только первая встреча, когда разговор ограничился заполнением анкеты и деликатным выяснением отдельных страниц моей биографии. Правда, завершилась беседа категоричным требованием: «Августайтис дал показания, что ты — член его антисоветской организации. Подписывай протокол, что подтверждаешь!» Я, конечно, отказался, но меня не тронули, отпустили в камеру.
«Веселая» жизнь началась со следующего допроса. Избивали меня втроем, по очереди, будто соревнуясь, кто побольней да изобретательней ударит. В перерывах между «раундами» тыкали пальцем в исписанные заранее листы и все твердили: «Что ты дурака валяешь? Твое упрямство — пустой номер, на тебя же показания есть! Хочешь легко отделаться — получить два-три года, подписывай… Мы знаем, что ты был членом Центральной организации «правых» в Белоруссии, которую по приказу Гикало возглавляли Августайтис и Кузнецов. Так что торопись, не то поздно будет».
Я не торопился, требовал очной ставки с Августайтисом и Кузнецовым. Под разными предлогами следователи отказывали мне. А я, честно говоря, и не догадывался, что все мои товарищи по комсомолу и по несчастью давно уже расстреляны, а следствию нужны только признания.
И вот однажды, когда меня избитого привели в камеру, сосед, профессор БГУ, фамилии, к сожалению, не помню, тихо так говорит: «Сынок, тебя же убьют. Ты лучше подпиши, может, и уцелеешь!».
На следующем допросе я спрашиваю у следователя:
— Скажите, а где будет рассматриваться мое дело — в суде или на «тройке»?
— В Военной коллегии, — отвечает.
— Хорошо, если так, подпишу.
— А в суде ты, часом, не откажешься от своих показаний?
— Зачем же, как договорились…
Словом, все подписал, во всем «признался». А через полтора месяца отдыха от допросов меня вдруг вызвали и повели по коридорам в просторное, светлое помещение. Помню, сразу бросился в глаза длинный стол, за ним — трое военных. Оказалось, что в Минск прибыла выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. Сбоку от стола — мой следователь и писарь.
Зачитали протокол, спрашивают: «Признаете ли себя виновным?» «Нет, — говорю, — не признаю, контрреволюционером никогда не был. Прошу разобраться в моем деле».
«Выведите арестованного. Суд остается на совещание».
Минут через десять вновь называют мою фамилию. Заходим, слышу:
— Учитывая, что Брагинский только состоял в антисоветской террористической организации, но ничего не совершил, — ограничиться 12 годами тюремного заключения…
Вернулся я в «американку», в раздумье стал мерять шагами камеру и вдруг вижу на стене в самом углу чем-то выцарапано: «Прощайте, товарищи, мы ни в чем не виновны. Августайтис, Кузнецов». Значит, здесь, в этой же камере, сидели мои друзья в ожидании смерти! Они знали еще до суда, что им уготовано, и прощались с нами, живыми, надеясь втайне, что нам удастся передать на волю их последнее слово…
24 ноября 1937 года Александр Августайтис был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества. Через день приговор приведен в исполнение в Минске.
Реабилитирован Александр Викентьевич Августайтис в июне 1956 года, а через три месяца решением бюро ЦК КПБ восстановлен в партии.
Архивная справка
В. Э. Быховский, 1909 года рождения, образование высшее, до ареста работал помощником начальника отдела НКВД БССР в звании младшего лейтенанта госбезопасности.
Арестован 10 декабря 1938 года за нарушение социалистической законности при ведении следствия по делам арестованных и 20 апреля 1939 года осужден к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с лишением его воинского звания.
На предварительном и судебном следствиях полностью признал себя виновным в том, что, работая оперуполномоченным следственного отдела, а затем начальником отделения УГБ НКВД БССР в 1937–1938 гг., применял к арестованным физические меры воздействия, избивал их с целью получения показаний о контрреволюционной деятельности.
Так, Быховский в суде показал, что он избивал арестованных: Кузнецова, Арабея, Пивоварова, Августайтиса, Чарота, Балтина, Любовича, Рогатнера, Готовского, Темкина, Шелега и других, которых не помнит. При этом применял изощренные садистские методы, в результате которых арестованные, не выдержав издевательств, признавали себя виновными в совершении тяжких государственных преступлений и давали показания на других, якобы известных им преступников.
Такие «методы», по словам Быховского, применялись в большей или меньшей степени всеми следователями и в центре, и на периферии. Арестованных били также начальники отделов и сам нарком Берман.
Среди следователей, которые избивали арестованных, Быховский назвал Слукина, Перского, Кунцевича, Паремского, Короткевича и других.
В своем заявлении от 27 ноября 1938 года на имя наркома внутренних дел БССР Наседкина Быховский писал:
«Я хочу вам рассказать о тех безобразиях, антипартийных, по существу, фашистских методах следствия, которые в Белоруссии процветали на протяжении последних лет в бытность здесь наркомом Бермана…
Б. Берман и бывший начальник следственного отдела Волчек на официальных совещаниях давали установки совершенно открыто, что, если враг не сдается, надо на него воздействовать физически и сломить его…
Я в числе других стал это делать. Я начал применять при допросах к арестованным самые разнообразные методы издевательств… Бил их руками, сажал на стул, затем вынимал из-под них стул и они падали, клал на пол, сгибал вдвое и ставил сверху табурет, садился на него и сидел до тех пор, пока эти лица не начинали давать показания, плевал им в лицо и пр.
Правда, часть арестованных я не бил, так как они легко начинали давать показания и без этого… Я видел, что вокруг меня все — от мала до велика, все бьют — били и оперативные работники, и неоперативные, привлекавшиеся к следствию».
В суде Быховский заявил:
«Я виновен в применении физических методов воздействия — избиении арестованных. Я бил врагов по распоряжению Бермана и, если бы я не выполнял этого распоряжения, не бил арестованных — меня бы давно сделали польским шпионом и расстреляли».
…А теперь вернемся в тесные лаборатории экспертов, вместе с ними поразмышляем о наиболее характерных, с точки зрения следствия, находках. В. Я. Дащинский, на долю которого, как мы уже говорили, выпало исследование большинства извлеченных из захоронений вещей, не мог не отметить преобладания резиновой обуви. И хотя время не щадит ничего, в сохранившихся фрагментах — чаще всего подошвах и каблуках — можно было разглядеть некогда очень популярные галоши ленинградской фабрики «Красный треугольник» и московской «Красный богатырь», продукцию «Резинотреста — государственного треста резиновой промышленности», на которой стоит престижный знак «Made in USSR». По голенищам, деталям верха, а чаще все-таки по тем же каблукам и подошвам угадываются довольно редкие тогда резиновые сапоги заводского изготовления, иногда — самодельные, не очень изящные, зато прочные, добротные бахилы — непременный атрибут довоенной да и послевоенной белорусской деревни. Множество резиновых изделий с клеймами зарубежных предприятий и фирм. И как тут не вспомнить лихую, таившую в себе немалую опасность и все же передававшуюся из уст в уста, предвоенную горько-веселую присказку: «Спасибо Сталину-грузину, что обул нас всех в резину».
Несколько большее разнообразие обнаружили эксперты в привезенных им пакетах с кожаной обувью. Сапоги и ботинки, туфли и сандалеты, советские и импорные, кустарного производства и фабричные. Владимир Яковлевич подсчитал, что из 195 «предметов обуви» самоделок было 9, продукции кустарей — 24, а импортной обуви — 31 шт. На некоторых подошвах сохранилось клеймо все той же ленинградской фабрики «Красный треугольник», которая, оказывается, специализировалась не только на резине. 48 «предметов» были когда-то женской обувью, все остальные — мужской.
Следует, видимо, заметить, что из захоронения номер 5, которое можно датировать 1940 годом (именно в нем найдена упоминавшаяся ранее расческа с надписью на польском языке), извлечено 12 фрагментов женской обуви.
Мы попросили В. Я. Дащинского обобщить, суммировать свои впечатления, по возможности нарисовать собирательный образ покоящегося в Куропатах неизвестного нам соотечественника:
— Эксперт должен оперировать точными категориями, никакая приблизительность в нашей профессии неуместна. Но, как специалист, я могу предположить, что среди жертв очень много было представителей интеллигенции. Основой для такого вывода может служить обилие очков и пенсне — их найдено более пятидесяти, а также сорок с лишним портмоне, кошельков. Прибавьте сюда редкие и дорогие по тем временам импортные вещи личного туалета. Деревня их в предвоенные годы почти не знала.
Не мог я не обратить внимания и на такую особенность: мужская обувь сплошь 43—45-го размеров, несколько экземпляров даже сорок восьмого. Крепкие, могучие мужчины шли под нож «сталинской гильотины».
И еще одно наблюдение: в захоронениях нет ремней и шнурков, нет перочинных ножиков, без которого обходился редкий мужчина. Отправляя арестованного в камеру, их, как обычно, отнимали, а вызывая «на выход с вещами», видимо, не считали нужным вернуть.
Я могу также утверждать, что, судя по эксгумированным могилам, в Куропатах не расстреливали военных людей. Иначе среди почти 600 предметов нашлась бы хоть одна пуговица от кителя или шинели, армейская кружка, фляга или какой-то другой атрибут походного воинского быта.
Всесторонние, углубленные исследования поднятых из захоронений останков провела очень авторитетная и представительная экспертная комиссия, в которую вошли ведущие специалисты бюро судебно-медицинских экспертиз. Возглавил ее главный судебно-медицинский эксперт Минздрава БССР С. С. Максимов — профессионал высшего класса, за плечами которого 30 лет безупречной экспертной работы.
Не будем подробно рассказывать о выводах комиссии — ее заключение едва вместилось в тридцать очень плотных листов. Выберем из него только некоторые страницы, способные хоть в какой-то мере прояснить ответ на вынесенный в заголовок этой главы вопрос.
Из заключения комплексной экспертизы
«Установление пола проводилось на основании краниоскопической диагностики по методике, предложенной В. Звягиным (журнал «Судебно-медицинская экспертиза», номер 3, 1983 г.)… Из 130 наиболее сохранившихся черепов из всех шести захоронений по двенадцати определить пол не представилось возможным в связи с отсутствием отчетливо выраженных признаков полового диморфизма, разрушением у некоторых из них костей лицевого скелета и отсутствием нижней челюсти. У остальных 118 черепов установлена следующая половая принадлежность: мужских — 97, женских — 21…»
«Возраст захороненных людей определялся по степени облитерации (зарастания) стреловидных, венечных, затылочных швов в 130 наиболее сохранившихся черепах…
Общие результаты исследований приводятся в следующей таблице:
Для установления роста погибших произведена остеометрия доставленных в лабораторию бедренных костей (как неповрежденных, так и их фрагментов).
Получены следующие данные:
Определить рост нескольких десятков человек в связи со значительной фрагментацией костей не представилось возможным».
…Конечно, все это среднестатистические цифры и факты, от которых мы, говоря честно, изрядно устали, постоянно встречаясь с ними в нашей сегодняшней повседневности. Хотелось бы, безусловно, услышать имя, но раз уж его нет, то хотя бы конкретные сведения о некой индивидуальности, личности. И как в утешение эксперты подарили нам такую возможность.
В безликом множестве костей они отыскали одну особенную — правую бедренную кость со старым, давно сросшимся переломом. Судя по тому, что обломки заходят друг за друга почти на шесть сантиметров, этот человек в свое время обошелся без помощи травматолога — нога срослась сама по себе. Был он довольно высокого роста — около 180 сантиметров — и при ходьбе сильно припадал на правую ногу. Трудно в это поверить, но вдруг найдется человек, который скажет: «Это мой отец, он в 1937 году сидел в тюрьме в Минске, затем был осужден на десять лет без права переписки и не вернулся… Да, у него в бедре была сломана правая нога». Маловероятно, но…
И раз уж мы заговорили об индивидуальных приметах, самое время, наверное, вспомнить об обручальных кольцах и медальонах, найденных в захоронении номер 5 вместе с той самой «говорящей» расческой, назвавшей ориентировочное время расстрелов. Заметим, что в этой могиле найдено наибольшее количество вещей иностранного производства. О причинах их появления в Куропатах подробный разговор у нас впереди. А сейчас возьмет в руки три золотых кольца и две серебряные цепочки с медальонами, вглядимся в сохранившиеся на них буквы и цифры, мысленно возвратимся на пять с лишним десятилетий назад.
…Молодые дружно переступили порог костела, и в ту же минуту зазвонили колокола и колокольчики, на хорах заиграл орган и трубачи затрубили в медные трубы, да так громко, что затрепетали в волнении огни бесчисленных светильников и дорогих свеч, озарявших позолоту алтаря и смиренные лики святых.
Так продолжалось довольно долго, но вот ксендз поднял руку и тотчас в храме воцарилась звонкая тишина. Он стал говорить о святости великого чувства, которое соединило молодых, о том, что его надо уберечь от жизненных невзгод и пронести в чистоте и первозданности через многие годы и десятилетия.
Закончив приветственное слово, он подал помощникам едва уловимый знак, и ему тотчас поднесли тяжелое расписное блюдо, на котором покоились два легких золотых кольца. Одно из них он водворил на палец жениха, второе — передал ему, и тот осторожно, нежно надел его на пальчик невесты…
Было ли что-нибудь похожее в жизни или все происходило совсем иначе, без костела и звонких труб, в скромной простоте сельсовета, сегодня сказать трудно. Одно, с согласия экспертов, мы можем утверждать совершенно определенно: свадьба человека, чье обручальное кольцо найдено в Куропатах, состоялась 2 января 1935 года. Эта дата выгравирована на внутренней стороне. Здесь же стоят латинские инициалы: «К» и «О» — владельца кольца и «М» — мастера, его сотворившего.
Увы, не сбылись пожелания ксендза о долгой и верной любви: молодым суждено было прожить вместе — в радости ли, в заботах — всего несколько коротких лет.
На другом кольце цифр нет, есть только заглавные буквы «JВ» — тоже, как говорят эксперты, инициалы имени и фамилии владельца. И, наконец, третье кольцо, судя по клеймам, сделанное зарубежным частным мастером, «украшено» множеством букв — в одном прямоугольнике выбито: «NHRB», в другом — «W» и цифра «3». Что они обозначают, о чем говорят? Даже эксперты от категоричного ответа воздержались.
А теперь о серебряных цепочках. Одна из них очень длинная — 69 см. К ней прикреплен медальон овальной формы диаметром 22 мм. С одной стороны на нем изображена божья матерь с ребенком на руках, известная у католиков «Матка Боска Ченстоховска». Другая сторона, к сожалению, чистая, ни цифр, ни монограмм на ней нет.
Похожий медальон сохранился и при второй цепочке. На нем во весь рост встает Святая Дева Мария в обрамлении строки из молитвы, которая в переводе с польского звучит примерно так: «О, Мария, без греха зачата, молись за нас, которые к тебе придут». На обороте медальона рядом с крестиком есть монограмма буквы «М», а по краям — пятиконечные звездочки.
Владимир Яковлевич Дащинский, чтобы развеять все сомнения и еще раз проверить свои выводы, пошел с этими находками в костел на Кальварии в Минске и получил у его хозяев профессиональную консультацию. Они подтвердили, что медальоны в тридцатые годы изготовлялись за рубежом и государственными, и частными предприятиями, а купить их мог любой, у кого были на то деньги. Монограмма же, как правило, обозначала инициал имени, и очень редко — фамилии.
…Завершая эту главу, мы подозреваем, что у читателей созрел вопрос недоверия: неужели действительно не открыли ни одного имени, не отыскали в архивах ни одного списка отправленных на расстрел в Куропаты, ни одного документа в вещах казненных? Увы, это так. В захоронениях их практически не было, скорее всего отнимали при аресте и затем не возвращали, а те немногие бумаги, которые обнаружены в портмоне или кошельках, к сожалению, никакого текста не сберегли.
Поиск же архивных документов, в которых были бы зафиксированы места расстрелов, фамилии принявших здесь смерть людей, результата пока не дал. Остается верить свидетелям, утверждающим, что такого учета органы НКВД не вели.
Но жизнь продолжается, и кто знает, какие великие вчерашние тайны она откроет завтра.
Вопрос пятый: Сколько жизней оборвалось у края могил?
Николай Васильевич шагал быстро, уверенно, ориентируясь по своим, только одному ему памятным приметам. Чуть в стороне от него, едва поспевая и опасаясь споткнуться и упасть, семенил оператор с кинокамерой в руках — следственный эксперимент снимался на видеопленку. Сзади плотной группой шли следователи и эксперты, понятые, археологи, члены правительственной комиссии, молодые воины, держа наготове свое очень мирное и очень нужное оружие — лопаты и кирки.
«Здесь!» — Н. В. Карпович решительно остановился, потом на всякий случай еще раз внимательно осмотрелся вокруг и повторил: «Я видел ее здесь!»
Теперь настал черед шагнуть вперед следователям и археологам. Они быстро разметили направления будущих траншей, пересекающихся, как обычно, под прямым углом, и предоставили свободу действий воинам.
Пока ребята сквозь корневища, камни и неподатливый слой глины пробиваются к истине, расскажем, что предшествовало этому эксперименту, почему он понадобился следствию.
Из показаний Николая Васильевича Карповича, 1919 года рождения, сторожа:
— До войны я проживал в деревне Цна с родителями, братьями и сестрами. Вместе со мной было нас восемь человек. В лесу, что рядом с деревней, где-то в 1937 году начали ставить забор высотой около трех метров. Доски были подогнаны вплотную, но мы, пацаны, вырезали дырки и подсматривали, что там происходит. Охрану территории вело НКВД. Я сам много раз видел этих охранников.
Завозили людей обычно вечером после 5–6 часов. Расстреливали сразу же. Раза два мне приходилось видеть, как их расстреливали. Часто туда я не ходил, так как родители из дома не пускали. Людей ставили над ямами в ряд. Ямы были большие. Однажды мы с отцом ехали на телеге возле этого леса и встретили сторожа. Фамилия его Шибайло, но он давно умер, тогда уже был стариком. Сторож сказал, что целую ночь не мог выдержать: все возили людей и расстреливали. Он подвел нас к большой яме, заполненной трупами, покрытыми только ветками. Мы подняли ветки — люди лежали как попало, они были одеты в резиновые сапоги, куртки, чаще всего в фуфайки. Я думаю, потом их засыпали.
Подробности расстрелов сообщить не могу, так как смотрел издалека, через дырочку в заборе, могу только сказать, что людей ставили к яме и стреляли. Кто стрелял, не разглядел, видимо, те самые энкаведешники, кому там еще быть…
Один раз был такой случай: вечером я возвращался из школы в Минске. Идти по лесу было опасно, так как водились волки. Я побежал по дороге и догнал мужчину из нашей деревни. Мы пошли вдвоем и вдруг слышим: в лесу кто-то ойкает. Попутчик мой был уже старый, лет 45, фамилия его Боровский, он погиб на фронте. Мы прошли в лес, а там под деревом сидит мужчина в нижней рубашке, голова вся в крови. Мы зажгли спичку, посветили, он ничего нам не отвечал, просто молчал. Сколько ему было лет, сказать трудно, так как голова вся была в крови. Боровский говорит: «Давай сходим на болотную станцию, позвоним в милицию». Только мы отошли немного, как из-за поворота выезжает машина и останавливается. Из кабины вылез мужчина и спрашивает: «Вы не видели никого?» «Там какой-то сидит под деревом», — отвечаем. Они пошли и взяли этого мужчину: один за одну ногу, второй за другую, подтянули к машине и забросили в кузов. Развернулись и поехали, а мы пошли домой. Машина грузовая, тогда все были полуторки. В кузове сидели работники НКВД в военной форме.
…На расстрел привозили людей на грузовых машинах с будкой черного цвета. Привозили их часто, иногда буквально каждый день. Конечно, я каждый раз туда не ходил и не смотрел, но ведь вечером, когда все сидели дома, были отчетливо слышны выстрелы в лесу.
Вот такими убедительными свидетельствами очевидца располагало следствие. Принимая решение об эксперименте, оно учитывало, что в 37-м Н. Карповичу исполнилось уже восемнадцать — весьма зрелый возраст, и что сегодня он — по-молодецки бодр, подвижен, к тому же сохранил ясную, цепкую память.
Был в «портфеле» следствия рассказ и совсем юного в то время очевидца — Николая Антоновича Нехайчика. В 1937 году он пошел в первый класс, но и его память сберегла многие подробности самых, пожалуй, значительных впечатлений детства:
— Название «Куропаты» к лесу Брод не имеет никакого отношения. В Куропатах до войны леса уже не было, его вырубили раньше, выкорчевали пни и поле распахали. Естественно, расстрелов в этом месте не могло быть. В статье «Куропаты — дорога смерти» автор допустил ошибку, так как расстреливали в лесу Брод, он рядом с Куропатами. Расстрелы сначала были, видимо, единичные. Мы ходили за грибами и никаких ям в лесу не видели. А вот осенью 1937 года все стали говорить, что в лесу расстреливают и закапывают людей. Сначала этому не верилось, но потом возле дороги на Заславль мы обнаружили свежие засыпанные ямы, а по вечерам стали раздаваться выстрелы.
Вскоре в лесу поставили забор, сверху протянули колючую проволоку. Вместе с другими детьми летом я постоянно пас в этом лесу коров и мне приходилось подходить к забору. В щели видны были выкопанные ямы, видел я три или четыре такие могилы. Больше ничего не видел.
Огороженную территорию охраняли работники НКВД в форме. Дежурили они круглосуточно, днем оставалось по 2–3 человека.
Я знаю, что охранники выпивали, так как они часто покупали в магазине, где работал мой отец, водку, хлеб и колбасу. Жаловались отцу, что работать им трудно. Я думаю, что тогда уже начались массовые расстрелы.
Как только мы с пацанами видели, что машины поехали в лес, ждали, когда раздадутся выстрелы, и начинали считать выстрелы. Насчитывали обычно 30–40 выстрелов, иногда до 70. Это когда приезжало несколько машин. Обычно же было по 2–3 машины.
О расстрелах зимой я мало что знаю, так как в лесу не был, а из дома было плохо слышно. А вот летом слышно хорошо, особенно если вечер тихий. Летом расстреливали либо рано утром, на рассвете, либо поздно ночью. В 1941 году машины к лесу стали ездить реже. И выстрелов уже слышно не было.
На вопрос следователя, знает ли он что-нибудь о раскопках, которые проводились в урочище после войны, Николай Антонович ответил:
— Я читал в статье «Куропаты — дорога смерти», что после войны с места расстрелов увозили останки людей. Здесь автором также допущена ошибка. Специальных раскопок, я уверен, не было. Я часто ходил в этот лес, водил туда своих детей и ничего похожего не видел.
…Когда, сменяя друг друга, солдаты пробились сквозь лес в одну сторону на 20 м, в другую — на 15 м, стало очевидным, что предполагавшейся могилы здесь нет. Для верности в секторах между траншеями прокопали шурфы на глубину до 2 м и убедились, что слои грунта не нарушены, а, значит, захоронения в этом месте никогда не было.
Николай Васильевич стоял в сторонке, сосредоточенно молчал, и можно было только догадываться, что происходит в его душе. К нему подошел Я. Я. Бролишс, сказал несколько слов, успокоил. В его практике такое бывало не раз: свидетель с точностью до метра указывает место преступления, подробно, в деталях объясняет, где он стоял и что видел, а эксперимент вдруг отменяет все его неотразимые доводы: безжалостно разрушает вполне логичную, не вызывавшую никаких сомнений версию. И это в тех случаях, когда все, казалось бы, еще свежо в памяти, ведь прошло всего несколько недель, может, месяцев. А здесь — более чем полвека.
Язеп Язепович двинулся дальше, но именно в ту сторону, куда показывал Н. Карпович. Исходив Куропаты вдоль и поперек, исследовав каждую выемку, каждый бугорок, он знал, что рядом, на расстоянии всего полутора десятков метров, лежит обширная и глубокая впадина, которая вполне могла когда-то образоваться на месте старой могилы.
Недолго посовещавшись, решили ее раскопать. Как обычно, проложили контрольные траншеи и уже на глубине чуть больше метра обнаружили пласт захоронения.
Из протокола эксгумации останков
«При разработке пласта захоронения (раскоп номер 8) извлечены хаотично располагавшиеся в нем предметы:
50 черепов, в том числе 7 со сводом и основанием. Остальные значительно деформированы, представлены фрагментами свода, основания, лицевого скелета, челюстями. 104 бедренные кости (52 пары), 78 плечевых костей (39 пар), 98 больших берцовых костей (49 пар). Кости тяжелые, с черно-бурым налетом, местами восковой консистенции… На всех 50 черепах имеются повреждения округлой и овальной формы, располагающиеся на различных участках — в теменной, затылочной, височной, лобной областях. Сохранившихся черепов без повреждений не обнаружено.
Кроме перечисленных, обнаружены и извлечены более 200 костей — длинных трубчатых, ребер, предплечий, таза, позвонков, конечностей…»
Приведем данные еще по нескольким раскопам (из 8 в 2 захоронений не оказалось):
Из раскопа номер 5 извлечены: 88 черепов и фрагментов, 107 пар бедренных костей, 45 пар тазовых костей. На 27 черепах определяются дефекты округло-овальной формы. Эти черепа сохранились практически полностью с небольшими дефектами. На 25 фрагментах свода черепа также определяются дефекты аналогичного характера. На 36 фрагментах черепов повреждений не обнаружено, то есть на всех сохранившихся черепах имеются сквозные повреждения округло-овальной формы, располагающиеся преимущественно в затылочно-теменной области. При этом 12 черепов имеют по два указанных повреждения. Кроме перечисленных костей обнаружены и извлечены из ямы более 100 пар больших берцовых и малых берцовых костей и значительное количество — более 500 других фрагментов костей скелета — ребер, ключиц, позвонков.
В верхнем слое пласта захоронения кости сухие, обезжиренные, мягкие ткани отсутствуют, связки, хрящи, твердая мозговая оболочка не определяются. Кости Желтовато-коричневого цвета.
В среднем слое пласта кости покрыты черной, слизеобразной, жирной массой. Связки, хрящи, подкожица не определяются. Кости влажные, черно-бурого цвета. Костная ткань размягчена, на отдельных участках восковой плотности, легко деформируется при нажатии пальцами.
В нижнем слое пласта кости желтовато-коричневого цвета, сохраняют прочность в отличие от обнаруженных в среднем слое.
Кости представлены судебно-медицинским экспертам и эксперту-криминалисту для исследования на месте эксгумации.
В раскопе номер 1 найдено 47 черепов и их фрагментов; в раскопе номер 2 — 62 черепа, другие кости скелета и их фрагменты; в третьем — 31 череп; в шестом — 35 черепов и фрагментов. Обнаружены также 29 фрагментов нижней челюсти, 65 плечевых костей, 72 бедренные кости, 43 фрагмента тазовых костей, около 100 фрагментов длинных трубчатых и других костей скелета.
Мы рискуем утомить вас обилием цифр и терминов, но ведь без этого нельзя получить ответ на вопрос «Сколько жертв покоится в Куропатах?», тем более что привлеченный к раскопкам как археолог 3. Позняк, предупрежденный, как и все их участники, о сохранении тайны следствия задолго до его завершения обнародовал результаты эксгумации, дав им свою, субъективную оценку и произвольное толкование некоторых фактов.
Скажем, такого. Во всех раскопанных могилах останки людей обнаруживались сначала по краям, а в центре с «опозданием» на 10–60 см, а в пятом раскопе даже чуть больше метра. Если мысленно представить себе разрез захоронения, то в его центре будет покоиться своеобразная воронка, заполненная пустым песком, в котором, правда, иногда попадаются случайные вещи — галоши, остатки одежды, очки и т. п.
Это обстоятельство стало, по существу, главным аргументом 3. Позняка, который в газете «Лiтаратура i мастацтва» в статье «Шумят над могилой сосны» 16 сентября 1988 г. пишет:
«…О чем это говорит и почему возникла такая ситуация? Возникла она в результате прежней эксгумации, раскопок могил и выборки костей, когда кто-то… „заметал следы“.
Прежняя эксгумация была проведена небрежно, кое-как. Кости не выбраны до конца, оставлены на дне и по сторонам. Это случилось потому, что контуры могильной ямы и ямы раскопок не совпадали. Раскапывали приблизительно, в основном в центре. Яма раскопок была, как правило, меньше размеров могилы. Кроме того, копая, сходили „на конус“. Потому оставили кости по краям могил. Понятно, что копали без всякой разумной методики, без зачистки пласта захоронения. В таком случае раскопки ведутся вслепую, песок при работе постоянно обсыпается и накапливается на дне, что затрудняет нахождение и выемку костей, создает иллюзию конца захоронения, особенно при заглублении до двух метров, когда становится тяжело бросать наверх лопатой и срабатывает стереотипное представление о стандартной глубине могил (2 м). А они, как видим, были глубже.
Анализ состояния останков пластов захоронения, открытых в наших раскопках, приводит к выводу, что люди, которые непосредственно копали и делали раньше эксгумацию могил в Куропатах, не были заинтересованы в своей работе, делали все кое-как и даже „халтурно“, недобросовестно…
Все археологически исследованные нами захоронения, в которых выявлены следы прежней эксгумации, имели впадины глубиной от 0,18 м до 0,65 м от линии краев могилы. Между тем все существующие на сегодняшний день захоронения в Куропатах характеризуются аналогичными впадинами. Отсюда вытекает, что впадины на могилах образовались после прежней эксгумации и недостаточной их засыпки малым количеством грунта (поскольку в них был выбран значительный объем захороненного пласта покойников). Таким образом, можно сделать заключение, что все выявленные на сегодняшний день захоронения в Куропатах подвергались ранее раскопкам и эксгумации».
Безусловно, очень смелое заявление, хотя нам оно видится излишне категоричным. Ведь следствие после того, как из восьми раскопанных впадин в двух не обнаружило захоронений, стало осторожно именовать их предполагаемыми захоронениями. А уж для того, чтобы утверждать, что все они безусловно ранее раскапывались, нужна просто отчаянная смелость, помноженная на полное игнорирование «неудобных» показаний свидетелей, которые, как и следователям, говорили 3. Позняку, что никогда не видели и ничего не слышали о раскопках на Броде. Но тогда возникает заминка, и уже нельзя объявить, что в Куропатах уничтожены сотни тысяч людей. Как будто десятков тысяч невинных жертв, загубленных на одном только клочке земли и в одном только Минске, мало для изобличения сталинщины и порожденной ею кровавой системы беззакония и насилия?
В этой же статье, в основном повторяющей отчет археологов о раскопках, делается вывод:
«В остатках захороненных пластов, которые сохранились на дне могил после эксгумации 40-х годов, выявлено разное количество покойников. Меньше всего в могиле 3 (31 покойник, если считать по черепам) и больше в пятом захоронении (87 черепов, но 107 покойников, подсчитанных по парам бедренных костей). Несовпадение количества черепов и пар бедренных костей — итог прежней эксгумации.
Сделав обмеры и подытожив все данные, можно приблизительно подсчитать первоначальное количество похороненных в исследованных могилах. Оно колеблется от 150 в „зимней“ могиле номер 1 до 260 в могиле номер 5. Если взять среднюю цифру 200 покойников в могиле и сделать простое умножение на количество выявленных сегодня захоронений (510), то получим 102 тыс. человек.
Однако настоящая цифра похороненных, видимо, больше, потому что существует много могил, больших по размерам, чем те, которые исследованы нами, а некоторые захоронения представляют собой ямы длиной до 10 м. В таких могилах могли быть похоронены тысячи убитых. Кроме того, около сотни (если не больше) могильных впадин было засыпано и потом снивелировано бульдозером во время прокладки газопровода и высечки леса вокруг нее в марте — мае 1988 г.
Множество могил исчезло, когда прокладывали кольцевую дорогу в конце 50-х — начале 60-х гг. и, возможно, в 40-х годах во время вырубок, трелевки и подсадок леса на этом месте. Не учтены захоронения на юг от кольцевой дороги, там, где была южная окраина территории расстрелов. Реальное число захоронений в Куропатах может достигать 900, а может быть и больше, причем о размерах уничтоженных и засыпанных захоронений мы можем судить сегодня только по величине существующих могил».
Безусловно, ученый имеет право на свое оригинальное мнение, собственную интерпретацию тех или иных фактов. Но в данном случае 3. Позняк был приглашен для участия в следствии, которое, как он сам пишет в той же статье, «должно было провести криминалистическую экспертизу, получить безусловные юридические аргументы и доказательства в уголовном деле…» Так не этичнее было бы подождать тех самых «аргументов и доказательств» и не разносить по белу свету свои догадки и предположения?
Говорим об этом потому, что 3. Позняк после публикаций в белорусской литературной газете и многотиражке АН БССР стал щедро раздавать интервью на эту тему — «Московским новостям», журналам «Смена», «Даугава» и «Сельская молодежь», изданиям народных фронтов прибалтийских республик. И от выступления к выступлению число жертв в Куропатах неумолимо росло: в «Смене» оно шагнуло за 200 тыс., а в «Даугаве» достигло просто «страшной цифры»(?).
Следствие для установления истины решило назначить судебно-археологическую экспертизу и поручить ее Институту археологии АН СССР. В постановлении на производство экспертизы следователь Я. Я. Бролишс подробно изложил доводы в пользу прежней эксгумации, приведенные в отчете белорусских археологов, и выразил некоторые возникшие при их изучении сомнения:
«Представляется, что некоторые из перечисленных в отчете признаков эксгумации могут быть объяснены иными причинами, не связанными с раскопкой могил и извлечением останков.
Предметы обуви могли попасть в могилы отдельно от их владельцев во время казни и засыпки ям. Разница в количестве костей скелета могла образоваться в результате разложения черепных костей, имеющих более тонкую структуру, чем бедренные и берцовые кости. Разложению могло способствовать наличие на черепах огнестрельных повреждений. Трупы казненных могли расположиться в основном по периметру могил в результате падения с краев ям.
Анализ этих и других возможных причин, повлекших ситуацию, обнаруженную при раскопках захоронений, в отчете археологов не дан. В связи с этим могут возникнуть сомнения в достаточной обоснованности содержащегося в отчете категоричного вывода о том, что вскрытые в настоящее время захоронения ранее подвергались эксгумации с извлечением части останков».
На разрешение экспертов следствие поставило вопросы:
«Содержатся ли в описательной части отчета группы археологов Института истории АН БССР и в протоколе эксгумации достаточные данные, позволяющие сделать один из следующих выводов:
1) имеющиеся данные достаточны для категоричного вывода о том, что вскрытые в настоящее время шесть могил ранее раскапывались и раскопки сопровождались извлечением части останков?
2) собранные данные достаточны лишь для вероятного вывода о том, что шесть могил (отдельные из шести могил) ранее могли подвергаться раскопкам с извлечением части останков?
3) изложенные в описательной части отчета археологов и в протоколе эксгумации данные указывают на то, что могилы ранее не раскапывались, останки из могил не извлекались?
Если могилы до 6.07.88 раскапывались, то содержатся ли в названных документах данные, позволяющие сделать вывод о количестве трупов, захороненных в каждой из шести могил, до извлечения части останков?»
Из заключения директора Института археологии АН СССР, академика В. П. Алексеева
«В институт поступили документы, связанные с раскопками захоронений в лесном массиве „Куропаты“ вблизи г. Минска.
С целью сбора крониологических и остеологических материалов по близкому к современности населению я раскопал около 1500 могил в разных регионах Советского Союза, датированных XVIII — первой половиной XIX вв. В соответствии с предшествующим опытом и тщательно ознакомившись с отчетом о раскопках, могу сообщить следующее:
- сохранность костей в погребениях во многом зависит от грунта, и несовпадения в их численности составляют скорее правило, чем исключение;
- в коллективных захоронениях неизбежны разнообразные соприкосновения трупов, вследствие чего неизбежны перемещения связанных с ними предметов, в том числе и обуви;
- при заполнении могильной ямы любые слои грунта ложатся более или менее произвольно, и бесспорно установить по ним факт повторной эксгумации крайне трудно, в большинстве случаев даже невозможно.
Вывод:
Повторная эксгумация в свете сказанного выглядит маловероятной».
Тут нам представляется возможным еще раз вспомнить показания водителя «черного ворона» М. Давидсона, к сожалению, единственного свидетеля, наблюдавшего расстрелы не через щели в заборе, а в свете фар своего автомобиля:
«Я включил свет и увидел, что сзади, из кузова, выводят людей. Часть из них уже сидела по краям ямы, ноги свешивались вниз, а руки были связаны за спиной. Когда полностью края ямы были заполнены людьми, их начали расстреливать… Всего расстреляли тогда более 20 человек».
Если предположить, что такая «технология» казней строго соблюдалась, а это более чем вероятно, то легко находится ответ на вопрос, почему останки покоятся ближе к стенкам могилы. Становится понятным и механизм образования «воронок» в центре захоронения — песок легко ссыпался с трупов и постепенно заполнял свободное пространство в середине могилы.
Но все это из области предположений, которое следствие в отличие от археологов позволить себе не может. Ему нужны достоверные, точно установленные факты.
И потому главные аргументы должны были выложить на стол члены судебно-медицинской и криминалистической экспертной комиссии под руководством С. С. Максимова — главного судебно-медицинского эксперта Минздрава БССР.
Из заключения комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы
«Количество захороненных людей определялось непосредственно на месте эксгумации по одноименным бедренным костям, которых сохранилось наибольшее количество по сравнению с другими костями скелета. На основании полученных данных установлено, что в захоронении номер 1 было не менее 55 человек; в захоронении номер 2 — не менее 69 человек; в захоронении номер 3 — не менее 37 человек; в захоронении номер 5 — не менее 107 человек; в захоронении номер 6 — не менее 36 человек; в захоронении номер 8 — не менее 52 человек. Таким образом, общее количество захороненных в исследованных могилах — не менее 356 человек. Более точно установить количество погребенных людей не представляется возможным в связи с тем, что часть костей значительно разрушилась, фрагментировалась…»
Произведем несложные арифметические расчеты: 356:6 = 59. В каждом вскрытом захоронении, не считая тех, что оказались ложными, обнаружены останки в среднем 59 человек. И если эту цифру умножить на количество предполагаемых могил, то можно дать такой ответ на вынесенный в заголовок этой главы вопрос: «На территории урочища Куропаты в захоронениях покоится не менее 30 тыс. граждан». Это строки из заключительного документа, принятого правительственной комиссией. Нам хотелось бы только задержать внимание читателя на словах «не менее».
И в заключение — две коротких выдержки из показаний свидетелей.
Григорий Абрамович Стерлин, пенсионер:
— В 1956–1961 годах я работал главным инженером дорожно-строительного района, который сооружал кольцевую дорогу вокруг г. Минска. Мне следователем предложена схема Минска, на которой нанесен лесной массив Куропаты, и я подтверждаю, что участок кольцевой дороги, проходящий вблизи или частично пересекающий Куропаты, строил наш ДСР. Должен сказать, что при прохождении участка через этот лес возле д. Цна никаких могил, захоронений или останков обнаружено не было. Во всяком случае я о таких находках ничего не знаю. Считаю, что в случае обнаружения костей или захоронений, меня бы об этом обязательно поставили в известность.
Так, например, на другом участке кольцевой дороги возле развязки на шоссе Минск — Москва были обнаружены кости — большое захоронение людей. Но кроме костей там больше ничего не было, ни одежды, ни обуви, ни каких-либо других предметов. А рядом вскрыли второе захоронение, наполненное лошадиными скелетами. Об этом рабочие сразу известили нас, а мы сообщили об этой находке в сельсовет. Захоронения, как мне известно, исследовали ученые Академии наук БССР и пришли к выводу, что они относятся к наполеоновской войне, то есть к 1812 году.
Кроме этого случая, других подобных находок во время прокладки кольцевой дороги у рабочих нашего ДСР не было. Мне бы о них сообщили обязательно.
Александр Петрович Шляхтин, прораб строительно-монтажного управления треста «Белспецмонтаж»:
— Мне пришлось строить газопровод вдоль кольцевой дороги, в районе Зеленого Луга. Маршрут проходил через небольшой лес, примерно по тропинке. После разметки трассы рабочие вырубили и выкорчевали лес, сделали просеку шириной до 20 м.
Траншею копали экскаватором. Ширина ее 2 м, глубина 2,5 м. До начала землеройных работ я прошел по всей трассе будущего газопровода, в том числе и по лесу. Никаких существенных препятствий — траншей, рвов на ней не было, рядовой, обычный рельеф. Были ли какие-либо выемки, лунки или что-то подобное, сказать не могу, не обращал внимания.
Точного числа не помню, но в конце апреля 1988 года наши рабочие обнаружили в траншее человеческие останки. Это было на возвышенности в лесу, если идти со стороны Зеленого Луга. Там трасса делает поворот налево. Примерно в 70 м за поворотом на краю траншеи появился сначала сапог, потом еще один, два черепа и другие кости скелета. Сразу их не видно было, а когда солнце пригрело, они и показались.
Помню, в то время на экскаваторе работал Таран Николай Иванович. Были и другие рабочие, но кто, я уже не помню. Сапоги и кости оказались на глубине примерно 1,5 м. Об этой находке я сообщил руководству СМУ, те в милицию и в военкомат. Звонили и в другие учреждения, потому что никто не хотел принимать никаких мер, а нам надо было продолжать работу. Потом приехали какие-то люди и забрали все наши находки. Помню, что в черепах в области затылка были отверстия, как мы полагали, от пуль.
На месте обнаруженных костей мы никаких работ не проводили в течение дня или даже нескольких дней, точно не помню. Траншеи не расширяли. Когда наши находки увезли, мы продолжили работу, уложили газопровод и засыпали траншею. Больше подобных находок за время прокладки газопровода у нас не случалось.
Вопрос шестой: Почему в могилах так много иностранных вещей?
В начале надо, видимо, убедить читателя, что их действительно много. Для этого возьмем в руки «Протокол эксгумации останков», составленный следователями Я. Бролишсом и его помощниками С. Ковриго и О. Абадовским, подписанный понятыми, экспертами, специалистами-археологами, которые, как мы уже говорили, тоже участвовали в следственном действии. В этот пространный документ занесены все находки, поднятые из вскрытых захоронений. Мы процитируем страницы протокола, относящиеся только к пятому и шестому раскопам, подчеркнув при этом, что в трех предшествующих (в четвертом, напомним, захоронения не обнаружено) попалось всего несколько расчесок иностранного производства. Здесь же вещи с зарубежными «лейблами», как сказали бы наши юные современники, встречались довольно часто.
При разборке пласта захоронения извлечены хаотично располагавшиеся в нем следующие предметы:
…13. Туфель с маркировкой «Gentlman»;
15. Галоша «Rigavarаг»;
29. 4 пластмассовые пуговицы. Одна из них с подсказкой «For gentlman»;
35. 4 зубные щетки. Одна с маркировкой Tip-Тор «Tymentol Select Quality», две — «Marque¢ Deposee B. O.W 305, «ef — ka»;
41, 46. Расчески «Rubonit Prima», «Durabit Garantie», «S.E.P.»;
49—52. Расчески «Matador Garantie», «Tip-Тор», «Minerva Garantie»;
60. Футляр с зубной щеткой. На щетке маркировка «Favorito KT» и две цифры;
65. Белая эмалированная кружка с товарным знаком «Made in Poland»;
66. Мундштук с маркировкой «F»;
67. Зубная щетка… «705 Marque Deposee Hercules»;
85. Нижняя часть каблука с фирменным знаком «Alfa-Sanok»…
И еще почти два десятка расчесок, украшенных надписями: «Minerva», «Popular-Garantie», «Mersedes Garantie», «Valentino», «Patria», «King Halifah Garantie» и другими.
В шестом раскопе галоши, расчески с теми же знаками: «Gentlman», «Pepege», «Rigavar», «Durabit» и т. д. Правда, зубные щетки добавили в список зарубежных фирм еще и «Non-Plus-Ultra», а на одной из металлических кружек встретилось неожиданное «Bing 17». Всего внесено в протокол по двум раскопам более 50 предметов ярковыраженного иностранного производства.
Молодым читателям напомним, что в конце тридцатых годов широких торговых связей с зарубежными партнерами, которые включали бы и закупки простых, обиходных товаров, в нашей стране практически не было. Действовала известная сталинская формула о «вражеском окружении», которая с годами привела к заметной самоизоляции нашей страны, а потом переросла и в пресловутый «железный занавес», как окрестили эту политику на Западе. Естественно, торговому обмену такая политика благоприятствовать не могла. И потому иностранные вещи пересекали границу СССР, как правило, вместе со своим хозяином.
Мы называли уже имя Иосифа Иосифовича Бетанова, который служил в НКВД БССР инспектором по автотранспорту. Он рассказал нам об устройстве «черного ворона», о том, когда и по сколько человек в них возили на расстрел, кто выполнял эту миссию. Тогда же он поведал и о необычном для его нестроевой профессии эпизоде:
— Где-то в июне 1937 года меня и многих других работников различных служб пригласили в клуб НКВД. Собралось нас человек 300. Каждому было приказано провести обыск у иностранцев, преимущественно перебежчиков из Польши. Мне выдали постановление на обыск и арест гражданина, жившего в доме, на месте которого теперь размещается старый корпус Института народного хозяйства.
Помню, жил этот человек в небольшой комнатке с женой, матерью и двумя детьми. Фамилию его я, к сожалению, уже забыл. Обстановка в комнате была скудная, так что обыскивать нам долго не пришлось. Мы с милиционером просто предложили ему идти с нами, подождали, пока женщины соберут ему узелок, отвели и сдали на пункт сбора арестованных в 4-й школе по ул. Кирова.
Людей туда согнали очень много, как мне показалось, самых разных профессий и возрастов, одетых и модно, и попроще. Прямо из школы всех повели в тюрьму на ул. Володарского, разместили по камерам. Что стало потом с этими людьми, сказать не могу, не знаю.
Но был и другой, пожалуй, главный путь иностранных вещей из-за границы под куропатские сосны.
Из рассказа Ивана Варфоломеевича Ковальчука, 1920 года рождения, пенсионера, жителя д. Мазуры Кобринского района Брестской области:
— 14 сентября 1938 года я и мои товарищи Киричук Павел, Денисюк Владимир и Прокопчук Люба, взяв на дорогу немного продуктов, отправились из своих родных деревень к границе, чтобы перебраться в Советский Союз. Шагать до нее надо было 250 км.
Почему мы решили искать счастья по ту сторону кордона? Я и Киричук значились в списках жандармерии, а Денисюк был секретарем комсомольской ячейки. Прокопчук Люба — его невеста. Со дня на день мы ждали ареста.
Советско-польскую границу перешли в районе Давид-Городка в ночь с 18 на 19 сентября 1938 года. Попав на советскую территорию, добровольно обратились в ближайший сельский Совет. Председатель сельсовета куда-то позвонил, приехал грузовик и четверо вооруженных пограничников уложили нас лицом вниз на дно кузова и отвезли в Туров. Здесь каждого по отдельности допросили. Делали это офицеры пограничники. Помню, молодой лейтенант настойчиво выяснял у меня, с какой целью я перешел границу, к кому шел, какие есть родственники в Советском Союзе или за границей, кроме Польши.
Вечером 19 сентября нас покормили и отправили под конвоем на автомобиле на ближайшую заставу. Здесь разместили в камерах тюремного изолятора.
Мне тогда подумалось, что все в порядке, идет обычная проверка. Но вечером я вдруг увидел своего родного брата Ковальчука Никиту, который перешел границу в начале августа. Вместе с ним были Селивончик Максим, Киричук Николай, Киричук Иван. На них страшно было смотреть. Да и узнал я их только по голосам.
На следующий день меня направили в камеру к Киричуку Ивану. Он рассказал, что их подозревают в шпионаже и ведут следствие, а они не могут дать тех показаний, которых требуют следователи.
21 сентября ночью меня вызвали на допрос. Со злостью спрашивали, кто меня завербовал, какое дали задание, с кем я должен встретиться, кличка, пароль? Что я мог ответить на эти вопросы?
Спустя час или два следователь отправил меня назад в камеру, приказал подумать. В камере Иван Киричук рассказал мне, что на допросах его жестоко бьют, издеваются, требуют дать ложные показания. Через два дня меня снова ночью повели на допрос. Задавали те же вопросы, но только более жестко, с угрозами. Когда же я снова стал говорить правду, навалились втроем и хорошенько избили. Затем надели наручники, продели палку между руками и коленями и подвесили головой вниз на двух закрепленных стульях. Так, оказывается, им удобней было бить по пяткам и бедрам моченой веревкой и резиной. Эта пытка называлась «ветряная мельница», потому что человека можно вертеть, как захочется. Когда я потерял сознание, меня облили водой и отнесли в камеру.
На следующую ночь все повторилось: те же вопросы и те же издевательства. Так продолжалось до субботы, всего пять дней. Потом дали передохнуть трое суток и вновь вызвали, только уже к другому следователю. Он интересовался не мной, а моим братом, говорил более спокойно, мирно. Спрашивал, чем занимались дома мой брат и я, были ли мы судимы, знаю ли я кого-нибудь из начальства в польской «дефензиве», в жандармерии, кто нас конкретно завербовал и какое дали задание. Я отвечал, что никого не знаю и никакого задания не получал. Следователь дал мне бумагу, карандаш, провел в отдельный кабинет и сказал, чтобы я все изложил письменно. На все вопросы о вербовке, о задании я ответил отрицательно.
А на следующую ночь мне устроили еще одну «мельницу». Теперь их было трое — к следователю-пограничнику на помощь были мобилизованы еще двое в штатской одежде. Спросили: «Надумал ли ты, контра, давать показания?» Я ответил, что все уже рассказал.
Очнулся только в камере, все тело жгло огнем, одежда промокла от крови. Через два дня отдыха опять вызвали, но не ночью, как обычно, а днем. Спокойно, вежливо следователь, который давал мне бумагу писать показания, снова расспросил меня о брате и других односельчанах, о сокамерниках. Отпустил, как мне казалось, без последствий.
Утром нам объявили, что всех заключенных отправляют по этапу. Меня вывели из камеры во двор, где в колонне стояло человек 200. Я узнал Киричука Павла, Денисюка Володю, некоторых других своих товарищей. Говорю «узнал», потому что все они были черными от побоев, совсем не похожими на прежних молодых парней.
Нас повели на станцию под охраной с собаками. Я попал в один вагон с братом и другими своими знакомыми. Стало на душе чуть-чуть спокойней — все-таки вместе, хлопцы в случае чего поддержат, не дадут в обиду. К нашей всеобщей радости, и в Минске нас определили в одну общую камеру. Каждого предварительно сфотографировали, присвоили номер.
Месяц меня никто не трогал. Допрашивали Киричука и остальных. Каждую ночь с 23 до 5 часов утра из следственного кабинета слышались крики заключенных, ругательства следователей. Туда уводили, а назад приносили без сознания.
Содержались мы без прогулок и без дневного света, воздух поступал через принудительную вентиляцию. Все лежали на полу. Как я потом понял, наша камера относилась к разряду карцеров. А всего их было три вида: первый — «посушить» — в нем давали на день 300 г хлеба и кружку холодной воды; второй назывался «помочить» — держали в воде по колено, кроме того, сверху пускали точно на голову либо холодную, либо горячую струю; третий именовали «смирностойкой» — заключенного облачали в специальную сбрую, он в ней не мог сесть, его совсем не кормили. Срок пребывания в карцере определял следователь. Я прошел через все типы этих «курортов» за полтора месяца следствия.
Однажды, уже после того, как следователь ударом сапога в бок сломал мне ребро, к нам в камеру подсадили Золотухина — он так представился. Сказал, что поможет нам стать «шпионами» и тем самым облегчит нашу участь. Мы знали уже, что иного выхода из тюрьмы, кроме «признания», нет. Под диктовку Золотухина я написал заведомую ложь, придумал фамилию агента, «завербовавшего» меня, — просто назвал старшего урядника нашего села. На вопрос, какое имел задание, ответил: «Устанавливать расположение военных объектов». А вот кому я должен был передавать шпионские сведения, я долго придумать не мог. Тогда Золотухин подсказал мне, что я якобы никому ничего не должен передавать, а, выполнив задание, обязан вновь нелегально возвратиться назад, в Польшу.
Следователь потребовал назвать конкретные объекты, которые меня интересуют, и место, где я предполагал жить на территории Советского Союза. При этом он заявил, что если я не дам этих показаний, то о моей судьбе никто и ничего уже не узнает. С помощью Золотухина я придумал и объект, и место проживания, и кличку. «Следствие» благополучно закончилось, мне прочитали мои показания и дали их подписать. Было это в феврале 1939 года.
А в мае меня неожиданно вызвали из камеры, надели наручники и первый раз вывели в тюремный двор. Здесь стояли товарищи моего брата. Оказалось, конвоиры перепутали — они должны были взять не меня, а моего брата.
Только спустя месяц меня снова вызвали. Пройдя через тюремный двор, я попал в длинный узкий коридор. Здесь мне надели на голову мешок черного цвета и за руку повели в комнату, предупредив, чтобы я ни с кем не разговаривал. Какое-то время мы сидели в тишине, потом открылись двери и кто-то громко назвал фамилию Денисюка Владимира. Затем Прокопчук Любови и Киричука Павла, сына моей родной сестры Феклы. Последним вызвали меня. Взяли за руку, привели в зал и сняли мешок с головы. Я увидел стол, покрытый зеленым сукном, за которым сидел мужчина в военной форме. Мои товарищи по несчастью стояли рядом, и около каждого — конвойный с наганом. С противоположной стороны открылись двери, кто-то крикнул: «Смирно, суд идет». Вошли три человека, сели. Тот, что был в центре, старший по званию, первым допросил Денисюка. Спросил: не отказывается ли он от своих показаний. Денисюк ответил, что подтверждает. Подтвердили все: Прокопчук Люба и Киричук Павел. Когда судья спросил меня, то я молча поднял рубашку и показал огромную ссадину на боку, которая образовалась у меня после удара следователя. Тут вмешался другой судья, резко спросил, подтверждаю ли я свои показания. Я вспомнил угрозы следователя и согласно кивнул головой.
Суд удалился на совещание, а через полчаса нам зачитали приговор военного трибунала: Денисюку Владимиру — расстрел, Прокопчук Любови — 8 лет исправительно-трудовых лагерей, Киричуку Павлу и мне — 10 лет лагерей.
На Володю надели черный мешок, наручники и увели первым. Затем нас по одному, но без мешков и наручников развели по «камерам». Попал я в сокамерники Киричуку Ивану, который поведал о судьбе брата Никиты и его товарищей. Всех их приговорили к высшей мере наказания, долго держали в камере «смертников», а потом вызвали с вещами. Назад никто не вернулся. Ивану буквально накануне этого вызова расстрел заменили десятью годами лагерей.
Отбывал я наказание в Каргополлаге Архангельской области и Вятлаге Кировской области. Рубил лес — сначала «для фронта, для победы», а затем и «для восстановления разрушенного войной хозяйства». В 1948 году меня вызвали в спецотдел и зачитали постановление, по которому освобождали из лагеря, но я должен был отправиться на вечное поселение в Акмолинскую область.
Прибыл на поселение, пошел работать в шахту и, как остался живым, до сих пор не могу сам себе объяснить, ведь условия и работы, и жизни там были невыносимыми. Большинство «поселенцев» остались в той голой степи навсегда.
Реабилитировали меня только в 1965 году. Вот с того времени и живу.
Архивная справка
По постановлению помощника начальника 1-го отделения штаба 18 погранотряда НКВД БССР Сосницкого за переход границы 20.09.1938 г. арестованы: Киричук Павел Артемович… Ковальчук Иван Варфоломеевич… Денисюк Владимир Николаевич… и Прокопчук Любовь Даниловна…
Следствие вели сотрудники НКВД БССР Сосницкий, Лившиц и Ковалев.
Обвинительное заключение по делу названных лиц по ст. 120, 22–68 УК БССР утвердил 9.05.39 г. нарком внутренних дел БССР старший майор госбезопасности Цанава.
Приговором военного трибунала БВО 23.06.39 г. в Минске указанные выше лица были признаны виновными в том, что являлись польскими агентами, тайно перешли Государственную границу СССР с целью сбора шпионских сведений о воинских частях и о строительстве шоссейных дорог. Денисюк, кроме того, будучи конфидентом польской полиции, выдал ей несколько человек.
Киричук и Ковальчук приговорены к 10 годам лишения свободы каждый, Прокопчук — к 8 годам лишения свободы, Денисюк — к расстрелу.
Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 17.09.1939 г. приговор оставлен в силе, а кассационная жалоба Денисюка — без удовлетворения. 17.10.39 г. Президиум Верховного Совета СССР приговор о применении высшей меры наказания к Денисюку оставил без изменений.
В деле есть заключение помощника военного прокурора БВО Новикова от 29.06.1940 г., утвержденное военным прокурором БВО Румянцевым, о том, что необходимо поставить перед Прокурором СССР вопрос об опротестовании состоявшихся решений и направлении дела на новое рассмотрение в отношении всех осужденных. Как реализовано это заключение, сведений в деле нет.
По заключению Главного военного прокурора, определением Судебной коллегии Верховного Суда СССР от 12.02.1955 г. приговор в отношении Денисюка и других изменен, и они оправданы.
Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 27.10.65 г. уголовное дело против названных лиц прекращено из-за отсутствия состава преступления.
Авторская ремарка
Надо сказать, что нашему следствию в какой-то мере повезло: после публикации сообщения о возбуждении дела о Куропатах в Прокуратуру БССР, в редакции газет стало приходить много писем. Были среди них настоятельные просьбы, а иногда и категоричные требования немедленно приехать и записать показания. Люди, из которых «признания» выбивали когда-то с помощью «мельниц», теперь умоляли выслушать их скорбную исповедь, справедливо надеясь в душе, что она добавит один крохотный мазок в общую картину всенародной трагедии, поможет вернуть людям правду о времени их горькой и незабываемой молодости.
Из Чернигова откликнулся Василий Демьянович Волошко:
«Пришлите следователя. Я сидел в Минской тюрьме, все помню и могу рассказать подробно. Готов приехать сам, хотя и не очень здоров».
Из Гродненской области написал Иван Николаевич Рапацевич, из Брестской — Анастасия Игнатьевна Игнатчик. Все они были немедленно опрошены.
В записанных ими рассказах много общего: мечта о радостной жизни в Стране Советов, дерзкий переход границы, а вслед за ним — допросы, пытки, издевательства. Но есть и сохраненные памятью редкие детали, подробности, без которых трудно во всей полноте восстановить истину.
Мы процитируем сейчас наиболее характерные фрагменты из их показаний, в которых, как нам представляется, есть крупицы ответов на многие из уже заданных и еще ждущих нас впереди вопросов.
Василий Демьянович Волошко, 1915 года рождения, пенсионер:
— В 1935 году за принадлежность к Коммунистической партии Западной Белоруссии и «антигосударственную деятельность» польский суд водворил меня на три года в тюрьму. Но через год по амнистии я был выпущен, хотя и лишен всех гражданских прав, поставлен на особый учет как неблагонадежный. В августе 1938 года, спасаясь от очередного ареста, вместе с односельчанами Герасимом и Яковом Красовскими, Сидором Лоско и другими, фамилий уже не помню, перешел советскую границу.
Нас арестовали и привезли в Житковичи. Здесь до октября истязали, выбивали признание в шпионаже, в намерении взорвать какой-то мост. Следователь все убеждал нас, что если подпишем эти показания, то нам дадут по три года, но зато мы получим потом советское гражданство. Мы поверили, подписали…
В Минской тюрьме следствие продолжалось до февраля 1939 года. Затем состоялся суд военного трибунала БВО. Помню, что судьей был Лернер, заседателями — Сологуб и Савицкий. Я категорически отрицал свою вину. Мне не дали говорить и увели в камеру смертников. Через час принесли приговор: высшая мера наказания. Вскоре мне стало известно, что из 11 человек нашей группы восьмерых приговорили к расстрелу, Павлу Волку дали 20 лет лагерей, а двум женщинам, фамилий их не помню, — по 3 года. Поздней четверым, в том числе и мне, расстрел заменили 10 годами заключения.
…В то время в Минской тюрьме находились в основном перебежчики из Западной Белоруссии. В каждой камере содержалось не менее 20 человек. Ночью приговоренных к смерти увозили на расстрел. Куда — не знаю. Да, рядом с нами, белорусами, были и литовцы, латыши, но не так много.
Анастасия Игнатьевна Игнатчик, 1915 года рождения, пенсионерка:
— В нашей деревне Гошево, что в Брестской области, существовала подпольная комсомольская организация. Я в нее вступила, ходила на сходки, платила взносы по 10 грошей в месяц.
Под воздействием агитации группа молодежи решила уйти в Советскую Россию, надеясь на лучшую жизнь. Из нашей деревни тогда вместе со мной пошли мой кавалер Красовский Яков, его брат Герасим, Волк Павел, Лоско Михаил, его жена Аксения, несколько человек из других деревень.
Сразу после перехода границы нас арестовали, отвезли в районный центр и три месяца продержали в тюрьме. Часто вызывали на допросы, обвиняли в шпионаже в пользу Польши, заставляли подписывать протоколы. Нас, женщин, хотя мы отказывались от этого, не били.
Через три месяца перевезли в Минск, поместили в Центральной тюрьме. Я сидела в женской камере, которая находилась в конце коридора. Всего в ней было 13 человек. Здесь я познакомилась с Микитчук Антониной Григорьевной — женой секретаря подпольного комитета компартии Западной Белоруссии. Он сидел несколько лет в тюрьме в Картуз-Березе за коммунистическую деятельность. После освобождения вместе с женой и детьми перешел границу и попал сюда, в тюрьму НКВД.
С нами сидели еще две женщины из Новогрудка, но фамилий их я не помню. А были или нет еще женские камеры в тюрьме, мне неизвестно.
Женщин на допросах не избивали. Правда когда заставляли подписывать готовые протоколы, то угрожали, что будут избивать, если не подпишем. Мы слышали крики мужчин и не могли не бояться, потому все подписывали.
Иван Николаевич Рапацевич, 1911 года рождения, пенсионер:
— Прочитав в газете статью о трагедии в урочище Куропаты, я решил не оставаться в стороне и сообщить следственным органам все, что мне известно по этому поводу.
Я родился и проживал в д. Крево Сморгонского района, которая находилась до 1939 года на территории Западной Белоруссии. Мы, белорусы, были недовольны польским режимом. Я сам, правда, в подпольной организации никакой не состоял, но был противником этого режима.
Летом 1939 года польские власти объявили призыв молодежи в армию, так как Польша готовилась к войне с Германией. Я тоже получил повестку. Должен заметить, что, уклоняясь от службы в польской армии, многие уходили через границу в Советскую Россию. Я знаю, что тогда буквально не было деревни, из которой бы кто-нибудь не отправился в Союз. Из нашей деревни перешло границу человек пятнадцать, фамилий которых я сейчас не помню.
После войны, когда я вернулся домой, ко мне почти каждый день приходили родственники этих людей и спрашивали об их судьбе. Но до сих пор о них ничего не известно, и я считаю, что все они расстреляны в Куропатах. Вообще, если проверить все наши местные деревни, можно установить тысячи людей, которые тогда перешли советско-польскую границу и больше не вернулись.
Вместе со мной через границу пошел такой же, как и я, призывник Гринкевич Викентий Осипович. Пересекли мы ее в районе Радошковичей 21 августа 1939 года, на рассвете. Сами пришли на пограничную заставу, где нас сразу же взяли под стражу, и после короткого допроса повезли в Заславль, а через семь дней в Минск, в «американку». Меня поместили в камеру, которая находилась в подвале. Гринкевича увели дальше по коридору, и больше я его не видел, о его судьбе до сих пор ничего не знаю.
Камера наша была небольшая, а находилось в ней 22–23 человека. Все не могли сразу лечь спать, поэтому отдыхали по очереди. В этой клетке я просидел до суда — 1 ноября 1939 года.
…Условия содержания были ужасные. За все время меня только два раза водили на прогулку, в баню не водили, бриться не разрешали. На допросы вызывали раза два-три в неделю и только ночью. Причем все было настолько засекречено, что конвойные, когда открывали окошко, называли только начальную букву фамилии и, если требовалось, имя или отчество.
При допросах меня подвергали изощренным пыткам и издевательствам. Допрашивали ночью при синем свете лампочки сразу человек пять следователей. Задавали одни и те же два вопроса: сколько денег получил от польской разведки и какое задание должен был выполнить. Я, конечно, сразу говорил как было, убеждал, что никакой я не шпион. Но потом под воздействием пыток я вынужден был себя оговаривать и подписывал все, что мне предлагали. Что конкретно мне вменялось в вину, сейчас уже точно не помню, следователи писали все, что хотели.
1 ноября 1939 года меня судил Военный трибунал. Фамилий судей не помню, адвоката не было. Помню, правда, что дело рассматривалось при Государственном обвинителе Тарасенко. Свидетелей никаких на суд не вызывали. Меня приговорили к 15 годам лишения свободы. Отбыл в лагере только два года, освобожден был по амнистии в результате договора между СССР и эмигрантским польским правительством. В 1944 году ушел в армию, воевал, получил солдатскую медаль «За отвагу» и несколько медалей за освобождение городов.
Вместе со мной в камере сидел Бессараб Матвей Иванович, он родом из Новогрудского района. Остался жив, я его встречал после войны, проживает где-то в Москве. А вот Якимович Серафим Григорьевич из Гродненского района уцелел ли, не знаю. Сидели с нами два польских пограничника, они тоже перешли границу. Одного фамилию я запомнил — Ермашевич из Брестской области.
Были два латыша, но фамилий их я не помню, и один румын, который от допросов «свихнулся». А так в основном в камере были все западные белорусы, все молодые мужчины.
Мы знали такое правило: если конвойный говорит собираться с вещами, значит, этот человек к нам в камеру уже больше не вернется. Среди заключенных шли тогда разговоры, что тех, кто выходил «с вещами», увозили на расстрел в Зеленый Луг. Конкретное место казней я не знаю.
Иван Тарасович Киричук, 1917 года рождения, пенсионер:
— Мы решили уйти в Советскую Россию, потому что надеялись на лучшую жизнь. Вместе со мной переходили границу Ковальчук Никита Варфоломеевич, Киричук Николай Изосимович и Силивончик Максим Фомич, а также Залещук Степан и парень по имени Иван, фамилию его я не знаю. Все они были старше меня, уже служили в армии, а меня должны были призвать осенью.
…Следователь взял ножку стула и стал неистово бить меня по ступням ног. Боль была нестерпимая, и я потерял сознание. Очнулся в коридоре: возле меня стояли два солдата, и один из них говорил: «Думали, что он мертв, а он еще живой». Меня бросили в камеру, а через дней десять снова вызвали на допрос. Следователь дал мне чистый лист бумаги, который я подписал с двух сторон внизу. Он сказал, что сам напишет мои показания.
Через несколько дней вызвал и зачитал, что якобы я польский шпион, должен был установить расположение воинских частей. Следователь три раза прочитал мои показания, чтобы я их получше запомнил и мог повторить на суде. Я сказал, что постараюсь, так как деваться мне некуда. К этому времени у меня оторвались «подошвы» — на ступнях выросла молодая кожа взамен старой, сбитой.
В октябре 1938 года нас повезли в Минск. Со мной ехали и все мои друзья, которые переходили границу. Определили в центральную тюрьму, в разные камеры. На допросы долго не вызывали, и только перед самым судом меня пригласил какой-то следователь НКВД, фамилии его, к сожалению, не знаю. Он сказал, что ознакомился с моими показаниями, и спросил, так ли было на самом деле. Я ему ответил, что это все неправда, что подписывал чистый лист бумаги. Он подошел ко мне совсем близко и тихо сказал, чтобы я на суде говорил правду, отказался от показаний, написанных в протоколе. Тут же предупредил, чтобы в камере о нашем разговоре я никому не рассказывал, так как там могут быть их люди. «Тогда будет мне и тебе», — сказал он.
Суд состоялся 10 марта 1939 года. Меня в зал привели последним, все мои друзья уже были там. За столом сидели трое в форме НКВД, да рядом что-то писал секретарь. Судья спросил, подтверждаю ли я свои показания. Я сказал, что не подтверждаю, потому что подписывал чистый лист бумаги. Тогда он вскинул брови: «Что, хочешь, чтобы дело направили на новое расследование и тебе опять поломали ребра?» На что я ответил: «Больше, чем поломали, уже не поломают…»
Суд удалился на совещание. Приговор у них, видимо, уже был заготовлен, так как они быстро вышли и зачитали его: все приговорены к расстрелу.
После суда нас посадили в одну камеру номер 19 в подвале. В ней находился только один человек — мужчина лет 40. Он сказал, что работал инженером на каком-то минском заводе и осужден к расстрелу за вредительство. Стал расспрашивать о нашем суде. Когда мы ему все рассказали, он подошел ко мне и попросил запомнить его фамилию — Щуцкий. «Ты останешься, — заверил он, — а друзей твоих расстреляют, потому что они признали вину».
От моего имени Щуцкий написал жалобу на имя Прокурора СССР, затем написал такие же жалобы и от имени моих друзей, но сказал, что это им не поможет.
На следующий день Щуцкого вызвали из камеры с вещами, он попрощался с нами — знал, видимо, что идет на расстрел.
20 апреля 1939 года меня вызвали к начальнику тюрьмы и объявили новый приговор: расстрел заменить 10 годами исправительных лагерей. Меня вымыли в бане и перевели в «американку». Перед тем взяли расписку, что я никому не скажу, что сидел в камере «смертников». Вскоре в «американке» появился и Михович из д. Мотыль Ивановского района. Он прежде сидел вместе со мной. Ему расстрел заменили 15 годами тюрьмы. Михович рассказал, что в ночь с 12 на 13 мая из Центральной тюрьмы многих увозили на расстрел. В том числе и из нашей девятнадцатой камеры. Значит, можно предположить, что и мои друзья, с которыми я перешел границу, расстреляны в ночь на 13 мая 1939 года…
А теперь мы совершим короткое путешествие в… сталинщину. Для этого нам надо сесть в троллейбус и поехать в один из молодых микрорайнов Минска — «Запад». Выйдем на остановке «Универсам „Таллинн“», поднимемся на второй этаж быстро потерявшего первозданную покраску панельного дома и нажмем черную кнопку звонка.
Дверь открывает некогда высокий, а теперь сгорбленный, сутулый человек в цветастой засаленной рубашке, долго смотрит на нас воспаленными красными глазами, наконец, узнает и упавшим голосом роняет: «А, это опять вы. Проходите…»
Небольшая узкая комната кажется просторной — в ней почти нет мебели, у самой стенки стоит старый, видимо, послевоенных лет круглый стол и рядом с ним обшарпанный, с разбитым стеклом сервант тоже далеко не первой молодости. Есть еще два стула, но нужно, как минимум, три, и с кухни приходится нести табуретку. Да, без особого лоска живут сегодня бывшие следователи НКВД.
А то, что мы пригласили вас в гости к одному из таких «бывших», вы уже, наверное, догадались. Фамилия его Саголович, служил в органах без малого семь лет, завершив свою довольно удачно складывавшуюся карьеру в начале 1940 года неожиданным увольнением с весьма странной формулировкой — «За невозможностью дальнейшего использования». Пришлось ему вернуться к своей прежней профессии сапожника, обувщика.
На фронт ушел на второй день войны, попал в саперные войска, был тяжело ранен и контужен. По этой причине многое из своей довоенной биографии помнит плохо, хотя яркие фронтовые эпизоды вспоминает охотно и в подробностях. Что ж, это еще раз подтверждает, насколько избирательна человеческая память.
Разговор записываем на магнитную ленту:
— Скажите, пожалуйста, почему именно вас коллектив фабрики им. Кагановича рекомендовал на работу в органы ОГПУ?
— Не знаю, думаю, что заслуживал такого доверия. Я был честным человеком и активным коммунистом, хорошо работал. К тому времени окончил уже семь классов.
— Что входило в ваши служебные обязанности?
— Меня приняли на должность практиканта оперуполномоченного особого отдела. Были еще политический и экономический отделы. Наш занимался в основном делами так называемых перебежчиков из Западной Белоруссии. В них видели, как правило, шпионов. Так руководство НКВД считало: раз перебежчик, значит, потенциально можешь быть шпионом. Поэтому все они проходили специальную проверку.
Мне, как практиканту, два года не доверяли самостоятельно вести дела. Я в основном учился у опытных следователей и был как бы у них на подхвате — присматривал за обвиняемыми, когда следователь отлучался, работал в картотеке, оформлял некоторые документы. Начальниками нашего отдела в разное время были Литвинов и Серышев, но кто когда, припомнить не могу.
— За годы безупречной службы вам пришлось решить немало судеб. Может, запомнился кто-нибудь из подследственных?
— Не помню никого.
— Но уже с 1937 года вы вели дела больших руководителей, например, Прокурора республики Кузьмина, своих недавних коллег — работников НКВД, обвинявшихся в нарушениях законности или по привычке — в шпионаже…
— Не припоминаю… А шпионаж записывали всем, у кого были какие-то связи с заграницей…
— Что значит «записывали», надо же провести следствие, доказать вину…
— О чем вы говорите, никто ничего не доказывал, достаточно было получить признание… А если кто отказывался, руководство отдела и НКВД требовало, чтобы мы, допрашивая перебежчиков, били их, угрожали расправой, не давали спать, устраивали конвейер…
— Как это делалось, поясните, пожалуйста…
— Очень просто: допрос идет непрерывно много часов, а то и дней подряд. Следователи сменяют друг друга, как на конвейере, до тех пор, пока обвиняемый не подпишет показания…
— И многие выдерживали такую атаку?
— Нет, не многие. Но некоторые больше месяца сопротивлялись. Тогда приходилось идти к прокурору, продлевать срок следствия…
— Может, хоть одного такого упрямца запомнили?
— Никого не помню.
Авторская ремарка
Тут мы выключим на время диктофон и расскажем вкратце, как следствие, говоря профессиональным языком, вышло на Саголовича. Одному из нас позвонила читательница Евдокия Захаровна Такушевич и довольно строго отчитала за беспомощность и близорукость: «У вас под носом сидят бывшие палачи и истязатели честных людей, а вы на всю страну жалуетесь, что никого можете отыскать. Смешно…»
И назвала фамилию Саголовича, который якобы вел дело ее мужа. После XX съезда муж обращался с заявлением в горком партии. Имея такую информацию, отыскать бывшего следователя, конечно же, не составило большого труда.
Свидетельствуют документы
Из книги Героя Советского Союза, одного из организаторов партизанского движения в Белоруссии в гражданскую и Отечественную войны С. Ваупшасова «На тревожных перекрестках»:
«…Проинструктировав Балаенко, я отправился в д. Тужно, где проживал еще один бывалый вожак повстанцев — Константин Николаевич Такушевич. Его группа, созданная в 1920 году, вновь развернула напряженную деятельность. Много внимания уделяли агитации. Рассказывали крестьянам о значении Великой Октябрьской революции. О созидательной жизни трудящихся в Советской России. Такушевич проводил со своими ребятами боевые учения, привлек в партизанские ряды много сельской молодежи» (М., 1975, с. 97).
И еще одна небольшая цитата. Из «Истории Белорусской ССР»:
«В 1923 году партизанское движение распространилось на большую часть территории края. Общая численность партизан в это время составляла около 6 тысяч. В числе наиболее известных руководителей партизанских отрядов и групп были К. Орловский, С. Ваупшасов, В. Корж, А. Рабцевич, Ф. Яблонский, К. Такушевич и другие» (Минск, 1975, с. 64–65).
А теперь возьмем в руки архивно-следственное дело К. Н. Такушевича, полистаем собранные в нем документы.
В особое совещание при НКВД Союза ССР,
гор. Москва. От подследственного
Минской тюрьмы УГБ НКВД БССР, камера 26,
младшего лейтенанта УГБ НКВД запаса,
члена ВКП(б) с 1926 года, бывшего Красного партизана
Такушевича Константина Николаевича
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я арестован 1 сентября 1937 года. Следствие якобы закончено 19 марта 1939 года, и мне устно объявлено, что материалы направлены на рассмотрение особого совещания.
Таким образом, несмотря на то, что я никогда не совершал преступления по ст. 68 УК БССР и никогда не было причин косвенного или прямого характера, чтобы я мог стать на путь этого гнусного, позорного преступления, мое следствие (которое нельзя назвать следствием) проводилось с начала до конца при самых грубых нарушениях ревзаконности. И вдруг оно оказалось законченным и передано на особое совещание для привлечения меня к ответственности за никогда не совершенное преступление.
Для ясности разрешите привести факты о нарушении ревзаконности, как, например:
Следствие, не имея никакого материала, которым можно было бы изобличать, подвергало меня систематически самым ужасным, нечеловеческим, зверским избиениям и пыткам. Это проявлялось со стороны всех следователей, ведущих мое дело: Цейтлина, Саголовича и Писарева.
С первого вызова на допрос у меня стали вымогать ложное показание. Едва я переступил порог кабинета следователя, как Цейтлин мне заявил: «Пиши о шпионской деятельности». Предложил бумагу и карандаш. Когда я ответил, что шпионажем никогда не занимался, тут же посыпались тяжелые удары трех человек, и я через 3–5 минут был в обморочном состоянии. А привели в чувство — и все повторилось снова.
Меня били палкой, кулаками, носками и каблуками сапог, мраморным прессом; четверо суток секли скрученным шнуром от настольной лампы, пока не изорвался шнур; несколько суток я сидел на ножке табуретки; до последних сил стоял на полусогнутых ногах с вытянутыми руками; по 4–5 часов заставляли делать приседания, при этом надевали шинель, натягивали на уши шапку и ставили около горячей батареи; сажали на край стула, на второй клали ноги, затем стул выдергивали, и я всей тяжестью ударялся об пол. Над почками была опухоль… Подвешивали вверх ногами и били. Между пальцев закладывали карандаши и сжимали, причиняя ужасную боль. Рвали волосы на голове, на бороде, и они долгое время не отрастали. Однажды всю ночь продержали в противогазе, периодически зажимали выдыхательный клапан, а когда задыхался, его временно открывали. Не раз надевали смирительную рубаху и избивали до обморочного состояния.
На протяжении всего времени ходил в ранах, одновременно было более 50 ран на теле, и сейчас имеется 6 рубцов. И, несмотря на то, что обливался кровью, меня били по ранам, а потом смазывали йодом, но не в смысле лечения, а чтобы придать больше боли.
От избиения на ногах сошло пять ногтей, на руках два. Весь верх головы превратился в единый ком от ран и царапин. Лежал два раза в тюремной больнице всего более сорока дней. Перенес тяжелую операцию на левом плече.
В марте после 10-дневного конвейерного допроса я был доведен до полного безумия, являлся не человеком, а манекеном и пошел на самооговор.
…Я со всей искренней справедливостью заявляю особому совещанию, что никогда поляками не вербовался, никогда ни польской разведке, ни кому бы то ни было шпионских сведений не передавал, а оклеветал себя в силу ужасно тяжелых избиений и пыток, применяемых ко мне… Никогда я не был и не буду врагом Соввласти, Коммунистической партии, а был, есть и останусь предан Соввласти, компартии, делу Ленина — Сталина.
Неограниченную преданность им я доказал 15-летней работой (в разведупре около двух лет и более 13 лет в ОГПУ — УГБ — НКВД). За все время работы не имел ни одного взыскания. И это была не маскировка врага, а честное, преданное отношение к советской и партийной работе. Неоднократно, работая в разведупре, геройски жертвовал своей жизнью при выполнении оперативных заданий. За это польскими властями был наказан по всей строгости их закона. А сейчас меня сделали искусственным врагом и заставили написать, что я работал в пользу Польши. Какая бессмыслица!
Еще раз заявляю, что я никогда шпионажем не занимался и никогда никакого преступления не совершал, а являюсь невинной жертвой, выкованной руками следователей Цейтлина, Саголовича и Писарева.
Ответа на это заявление Константину Николаевичу пришлось ждать три года. Он был освобожден из-под стражи только в марте 1942 года. В послевоенное время реабилитирован и восстановлен в партии. К сожалению, встретиться нам не довелось, так как Такушевич умер еще до начала «куропатского дела».
Продолжение диалога:
Извините, мы снова включаем диктофон и продолжаем нашу невеселую, тягостную для обеих сторон беседу:
— Скажите, вам ничего не говорит фамилия Такушевич…
— По его письму меня исключили из партии.
— Вы его осуждаете?
— Нет, он добивался своего…
— А если это ответ на то, как избивали его?..
— Я не помню, чтобы мы его били. Хотя не исключаю, что такое могло быть. Нам ведь все время говорили, что товарищ Сталин лично дал приказ не церемониться с врагами народа. А мы свято верили вождю…
— Вы говорили, что многих арестовывали по письмам, точнее доносам. Представьте, что кто-то бы написал, что вы, Саголович, немецкий шпион…
— Меня сразу же посадили бы и через пару недель расстреляли. Поймите, время было такое, в каждом видели шпиона. А если он еще пришел с той стороны…
— Случалось ли вам прекращать дело, отпускать арестованного?
— Однажды я написал такое постановление, понес на визу Цанаве. Он разорвал его на моих глазах и, швырнув мне в лицо, пригрозил, что я займу в камере место того перебежчика.
— Где в основном рассматривались «шпионские» дела?
— Точно не помню, но скорее всего в «тройках». Какие приговоры выносились, тоже не знаю, но не исключено, что многие перебежчики были расстреляны…
Из показаний Василия Никитича Михаевича, 1928 года рождения, пенсионера:
— Когда я в 1952 году пришел работать в МГБ БССР, мне дали для общего ознакомления архивные дела (уголовные). Они хранились в большом шкафу прямо в отделении. Все полки были забиты этими делами, каждое представляло собой тоненькую папку, в которой лежало несколько листков машинописного текста. Это были протоколы допросов. Обвиняемые все были из Западной Белоруссии, молодые люди, которые переходили границу в 1937—38-м годах.
Повторяю, дел было очень много, даже не сотни, тысячи. Все обвиняемые признавались, что состояли на службе у зарубежных разведок. Но меня поразило: в протоколах допросов даже не указывалось, в чем заключалась их разведывательная деятельность. Все они были написаны по шаблону. В конце многих дел значилось «ВМН» — высшая мера наказания. Иногда в них указывалось, что человек осужден к 10 годам лишения свободы. Приговоров в папках не было. Все дела рассматривал не суд, а «тройка».
Где приводились в исполнение приговоры о высшей мере наказания, в делах не указывалось.
Продолжение диалога:
— Скажите, Саголович, приходилось ли вам участвовать в расстрелах заключенных? И где осуществлялись эти акции?
— Мне ничего не известно. Лично я участия в них не принимал. Однажды, правда, Литвинов сказал мне, чтобы я приготовился вместе с другими работниками отдела выехать на расстрелы. Я почистил пистолет — у меня был «Браунинг», — взял запасную обойму патронов, но за мной никто так и не зашел. Потом Литвинов объяснил, что обошлись без меня.
— А часто следователи ездили на расстрелы?
— Нет, не часто. Для этого были специальные люди в комендатуре. Из отделов привлекали, только когда те не справлялись.
— Вам объявляли благодарности за службу?
— Да, объявляли.
— Значит, вы были хорошим работником?
— Конечно. У меня многие быстро признавались.
— А почему Арнольдов не признался?
— Я такого не знаю.
Авторская ремарка
На этом разговор закончен. Теперь возьмем в руки документ:
Секретарю ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко
от подследственно-арестованного
Арнольдова Леонида Михайловича
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Арнольдов Л. М., родился в 1911 году в д. Боровка Дриссенского р-на, в семье стрелочника.
После срочной службы в РККА возвратился домой и как комсомолец, выходец из рабочих, был принят в Бигосовский опер. пункт НКВД БССР на должность пом. оперуполномоченного, где и прослужил до 12/VIII—1937 г., т. е. до дня ареста. Вот уже кончается 20 месяцев, как я совершенно невинно лишен свободы и являюсь жертвой врагов, пролезших в НКВД БССР.
1 ноября меня вызвали оперуполномоченные Зайчиков и Саголович и предложили подписать постановление о предъявлении обвинения по ст. 68 УК БССР без допроса и никем не утвержденное, без указания, шпионом какого же государства я являюсь.
15 декабря мне учинил первый допрос оперуполномоченный Цейтлин. Этот предатель, вызвав меня в кабинет, предложил писать показания. Когда я ему заявил, что я никогда шпионом не был, достал из дивана резиновую палку и стал избивать меня по голове.
15 января 1938 года меня совместно с быв. зам. нач. III отд. НКВД БССР Козловским Анатолием Сергеевичем перевели в камеру номер 32. Эта камера отличалась тем, что в ней замерзала вода, стены текли, спать было холодно даже в одежде. У нас от сырости и беспрерывного холода опухали ноги.
Всю ночь с 16 на 17 февраля меня продержали на полусогнутых ногах и, когда я падал, били носками сапог по моим отекшим ногам. В этом особенно отличался оперуполномоченный Саголович. И только утром, всего избитого и мокрого от пота, с опухшими ногами привели в сырую холодную камеру.
16 марта весь день Саголович продержал меня снова на полусогнутых ногах, и, когда я падал, удары носков сапог Саголовича заставляли меня подниматься.
2 апреля меня вызвали пом. нач. отделения Михайлов и оперуполномоченный Юдин. Поставили в угол и предупредили, что будут мучить до тех пор, пока я не напишу показания такие, какие им нужно. Эти предатели продержали меня, не пуская в камеру, до 12 апреля. Все время они дежурили на смену. Меня держали стоя. И когда пошла опухоль, заставляли приседать. Как результат, опухоль дошла до груди, кожа на ногах потрескалась, кровь просачивалась через кожу. Ночью мне не давали спать, а сами спали на диване. И во время их сна я только рукой мог упереться в стенку и этим облегчал свое стояние. А когда они это замечали, били меня кулаками по лицу, как они выражались, «по морде».
Простояв 10 суток на ногах, без сна, с сильной болью сердца, я понял, что нахожусь в руках фашистов и от них избавиться не могу. Я предупредил старшего следователя-провокатора Михайлова, что я не враг, не шпион, но, чтобы избежать пытки, буду сочинять показания. Он ответил: «Пиши, по твоему делу все сойдет».
После того как провокаторы добились от меня ложных показаний, мне запретили писать куда бы то ни было заявления. Сколько я ни добивался от администрации тюрьмы бумаги, мне ее не давали. Требовал бумагу на заявления в ЦК ВКП(б), товарищу Сталину, Прокурору СССР и т. д., но всегда получал отказ. И я вынужден был прибегнуть к крайним мерам. С 1 по 6 сентября 1938 года я голодал, требовал свидания с наркомом или прокурором. Но предатели перевели меня в одиночную камеру и, видимо, ожидали моей смерти.
Сколько я ни просил свидания с прокурором, но до настоящего времени не видел его ни разу, а прокурор БВО штамповал свои визы: «С показанием ознакомлен». Неужели этот человек не мог найти 5 минут, чтобы спросить у обвиняемого, как он писал эти показания, возможно, это провокация?
Я верю в справедливость, но меня удивляет, почему следователи-провокаторы с партийными билетами Саголович, Юдин и другие до сего времени работают в следственной части наркомата. Разве этим «людям» можно доверить объективный разбор дел? Эти провокаторы должны быть привлечены к самой строгой уголовной ответственности.
Я еще молод, беспредельно предан своей Родине и могу работать на любом участке социалистического строительства, но этой возможности мне не дают.
Авторская ремарка
К сожалению, мы не можем сказать, чем закончилось это неравное противостояние — судьбу Леонида Арнольдова выяснить так и не удалось. По картотекам МВД и КГБ БССР среди осужденных он не значится. Не исключено, что ему все-таки помогло обращение в высокую инстанцию, если оно, конечно, дошло до адресата.
Хотим остановить ваше внимание на фамилии Михайлова, она у нас уже встречалась. Помните, он заслужил благодарность Т. В. Матусевич за доброе, сердечное отношение к ее беде. И как тут не вспомнить о мифическом двуликом Янусе — классическом символе лицемерия и подлости, которыми природа столь щедро одаряет иные человеческие натуры. Но мы прекрасно понимаем, что, говоря о том времени, вряд ли можно что-нибудь объяснить только пороками или достоинствами отдельной личности. Все эти михайловы, саголовичи, литвиновы, по существу, палачи и жертвы одновременно, они порождение своего времени, когда в борьбе за грядущее счастье человечества не щадили ни себя, ни других, жили в атмосфере тотального насилия, взвинчивали его своими эгоистичными действиями, напрочь забыв и опрокинув вековую заповедь: «Не убий!»
Так было — задним числом этого не поправишь. Сегодня важно другое: сделать все, чтобы не вернулось такое время, когда высокими целями оправдывалось любое насилие, чтобы на этой почве не вырастали подонки и садисты, упивающиеся своей властью, готовые на любые гнусные дела и поступки.
…Мы быстро, почти бегом спустились вниз по лестнице, вышли в забитый машинами двор и с наслаждением, полной грудью вдохнули пропахшего бензином и разогретым асфальтом воздуха. На скамейке в тени молодой березки о чем-то судачили бабушки, зорко следя за своими сладко посапывающими в колясках внуками. Не исключено, что ждали соседа со второго этажа — некогда высокого, а теперь сгорбленного, сутулого мужчину, который так складно умеет рассказывать войне, о своем саперном взводе, об атаках и потерях, о том, что помнится.
Завершая разговор о путях иностранных вещей в куропатские могилы, мы не можем не сказать и о тех жертвах репрессий, которые обрушились на население воссоединенных в сентябре 1939 года областей Западной Белоруссии. По свидетельству бывших сотрудников НКВД, им приходилось неоднократно выезжать в освобожденные районы для «очистки» их от нелояльно настроенных к Советской власти элементов, а чем сопровождались такие «рейды», известно: людей арестовывали, пропускали через конвейерные допросы и, «разоблаченных», «сознавшихся» в потенциальном шпионаже или вредительстве, отправляли в минские тюрьмы, откуда, как мы знаем, открывалась прямая дорога под куропатские сосны.
Вопрос седьмой: Кто стрелял в затылок?
На кладбище не принято говорить громко. Даже если к нему вплотную подступили городские кварталы и сюда сквозь зеленый заслон деревьев нет-нет да и пробьется басовитый голос грузовика, испуганный крик «скорой помощи» или дружное веселье беззаботной детворы. Никаких звуков здесь просто не замечаешь. И невольно подчиняешься самой природой заложенному в каждом из нас инстинкту беречь, не нарушать тишину вечного покоя тех, кто ушел раньше нас.
Но в этот раз нам хотелось кричать. От горечи, обиды и недоумения. Мы стояли у могилы, увенчанной строгим мраморным памятником, на котором крупно красовалось: «Коба Степан Григорьевич (1908–1953)», и думали о том, что бога, видимо, действительно нет, иначе разве допустил бы он, чтобы вчерашний палач, ретивый «исполнитель приговоров» лежал в десяти шагах от праха многих выдающихся людей — писателей, ученых, государственных деятелей, героев Советского Союза, воинов-освободителей. И это в то время, как у сотен, может быть тысяч, расстрелянных им людей не оказалось на этой земле даже скромного последнего пристанища. Рядом с казенно-приторным: «Память вечно скорбящей жены», склонив тяжелые головы, увядали тюльпаны. А нам виделись тысячи вдов, сыновей и внуков тех, кто принял в Куропатах мученическую смерть, и сегодня не знающих, куда им нести вместе с цветами свою неугасающую с годами боль и память.
Признаемся, по-человечески очень хотелось ворваться за кованую ограду, схватить за горло изящную вазу с цветами и размолотить ее о тяжелые мраморные плиты. Но мы вспоминали о могиле покоящегося у Кремлевской стены другого Кобы, чьей жестокой волей и коварством направлялась рука его белорусского тезки и холуя, о миллионах безымянных могил, разбросанных по всей нашей многострадальной земле, и порыв наш медленно угасал, потому что никакие жесты отчаяния и протеста не заменят общественного суда над сталинщиной и ее вдохновителями, не помогут освобождению многих нравственных ценностей, все еще погребенных под руинами того сурового времени, в которое мы сегодня пристально вглядываемся, пытаясь не только понять и оценить, но и сделать реальные правовые шаги, исключающие повторение чего-либо подобного в будущем.
Трезвый, беспощадный анализ прошлого нам представляется одним из важнейших условий очищения, возрождения и реального развития нашего общества. Думается, что признание исторической вины сталинщины, принятие связанных с этим юридических актов только укрепляет нашу демократию, помогает упрочению правовых основ государства. И надо сказать, многое уже сделано — миллионы людей реабилитированы, им возвращены добрые имена, установлены льготы. Идет поиск палачей, — хотя и медленней, чем хотелось бы и чем они того заслуживают. Из истории, из своего прошлого общество извлекает трудные уроки, которые очень нужны для его самопознания и самосовершенствования.
Но вернемся к Степану Кобе. Был он, конечно, заметной в НКВД БССР фигурой, не очень стремительно, но уверенно поднимался по должностной лестнице, оставаясь в почете у каждого из быстро сменявшихся наркомов. А Цанава, говорят, просто души в нем не чаял и, чтобы в любое время суток сподручней было навещать закадычного друга, распорядился оборудовать кабинет начальника комендатуры прямо напротив собственных служебных апартаментов. Под благодатным дождем наркомовской щедрости Коба вырос до полковника госбезопасности и закончил свой многотрудный путь прямо в кабинете, всего на два месяца пережив «великого вождя и учителя» и не дожив года до ареста и смерти своего обожаемого патрона.
О его непосредственном участии в расстрелах следствию показали многие свидетели.
Бывший вахтер НКВД И. Кмит:
— Приводили приговоры в исполнение начальник комендатуры Коба, его заместители Ермаков и Бочков, другие люди, фамилий которых, к сожалению, не помню. Меня, в то время еще молодого работника, к этому делу не привлекали.
С. Хаританович, бывший выводной внутренней тюрьмы — «американки»:
— Могу сказать, что участвовали в расстрелах многие работники комендатуры — Никитин, Коба, Ермаков, Яковлев… Возвратившись поздно ночью в НКВД, они затем в столовой распивали спиртные напитки, которые им выдавались по приказу… За что, не знаю. Может, и за вредность работы… Активно выезжал на расстрелы кладовщик Абрамчик Фома, отчества не помню. Я у него несколько раз интересовался, как это делается, и он рассказывал, что людей ставят к яме и стреляют из наганов. Помню, Абрамчик говорил, что перед расстрелом некоторые кричали: «Да здравствует Советская власть!», «Да здравствует Сталин!»
А. Знак, бывший надзиратель внутренней тюрьмы НКВД:
— Когда Коба стал начальником, меня назначили заведовать складом комендатуры. Я выдавал сотрудникам оружие и боеприпасы к нему. В частности, работники комендатуры, как правило, пользовались револьверами «Наган». Хорошо помню, что такое оружие было у Бочкова, Абрамчика, Кобы, Острейко, Мигно, Дубровского… По их словам, этим оружием они расстреливали приговоренных к смертной казни «врагов народа». Как часто они получали у меня боеприпасы и сколько, сказать не могу, не помню.
С. Захаров, бывший вахтер комендатуры НКВД:
— Расстреливали людей Бочков, Острейко, Ермаков, Коба и другие работники комендатуры из наганов. Возможно, использовались и пистолеты «ТТ», которыми тогда были вооружены некоторые наши сотрудники… Когда и кто готовил могилы, я сказать не могу, так как меня к этой работе не привлекали. Думаю, этим занимались Мигно и Острейко, которые, судя по их разговорам, постоянно находились на месте расстрелов.
И еще с одним авторитетным мнением мы хотим вас познакомить. Иван Макарович Стельмах начинал службу в органах НКВД стажером следственного отдела, а завершил ее заместителем министра государственной безопасности БССР. Свидетелем многих сокрытых от простых глаз событий довелось ему быть, встречаться с десятками людей, чьи биографии представляли для следствия исключительный интерес. К счастью, память у Ивана Макаровича, несмотря на его семьдесят семь лет, оказалась цепкой и надежной, сберегла немало интересных деталей и фактов.
Из показаний Ивана Макаровича Стельмаха, пенсионера:
— После срочной службы в РККА меня по комсомольской путевке направили в НКВД БССР. На первых же допросах, куда нас, стажеров, приглашали «для учебы», я увидел, что из арестованных просто выбивают признания в шпионаже, вредительстве и других преступлениях, о которых они, судя по всему, в большинстве случаев просто не имели представления. Но после изощренных пыток вынуждены были «чистосердечно признаваться», называть сообщников и руководителей их «шпионских, террористических, антисоветских» и прочих мнимых организаций.
Это буквально потрясло нас и мы, несколько молодых новобранцев, написали наркому Б. Берману возмущенное письмо и попросили отпустить нас из органов.
Вызывал он к себе в кабинет по одному, долго и грязно материл, затем, пригрозив суровой карой за коллективное «чистописание», отправил на гауптвахту, а через некоторое время появился приказ командировать меня в Харьков на учебу.
Вернулся я в Минск весной 1939 года, когда Берман был уже расстрелян, а сменивший его ненадолго Наседкин сидел в городской тюрьме в блоке для особо опасных преступников. У руля стоял друг Лаврентия Берии — Цанава, которого шепотом у нас называли «Лаврентий-второй».
Архивная справка
На XVI съезде КП(б)Б в июне 1937 года при обсуждении кандидатур в состав ЦК Берман выступил с рассказом о своем жизненном пути.
В его биографии присутствовали такие факты, которых для других было бы достаточно, чтобы их исключили не только из партии, но и из жизни.
Б. Берман родился в 1901 году в Забайкалье в буржуазной семье. Отец его имел кирпичный завод, однако в 1913 году разорился и с тех пор, по словам сына, работал служащим. Сам Берман с 11 лет служил мальчиком в магазине в Чите. В 1918 году закончил городское училище, вступил в Красную гвардию. В конце 1918 года уехал вместе с семьей в Маньчжурию.
Вернувшись в 1920 году, работал в органах ЧК, где вступил в партию. В 1924 году, когда он учился в институте в Москве (в каком — Берман не сказал), его исключили из партии как выходца из буржуазной среды, но затем восстановили.
В ответ на поступивший вопрос о братьях Берман пояснил, что один его брат работает в Москве, другой — в Свердловске. (Известно: один из них М. Д. Берман — был в 30-е годы начальником Главного управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ).
Из протокола осмотра архивно-следственного дела по обвинению бывшего наркома внутренних дел БССР Бермана Бориса Давидовича, 1901 года рождения… до ареста состоявшего в РКП(б) с 1923 года
Берман Б. Д. арестован 24 сентября 1938 года на основании показаний бывшего начальника УНКВД Свердловской области Дмитриева о том, что он является участником заговорщической организации правых, существующей в НКВД, которая свою преступную работу ведет в направлении ограждения основных кадров право-троцкистских элементов от их разоблачения и ареста.
На предварительном следствии Берман показал, что в 1933 году, будучи в командировке в Германии по линии разведупра, при выполнении строго секретного специального задания он был расконспирирован и пойман с поличным, после чего сотрудником германской разведки Протце завербован в качестве агента. По возвращении в СССР вся дальнейшая деятельность Бермана, вплоть до ареста, была связана с выполнением заданий разведорганов фашистской Германии.
Берман признал, что он действительно состоял в антисоветской заговорщической организации правых, действовавшей в органах НКВД, совместно с ярыми врагами народа: Ягодой, Мироновым, Слуцким и другими, вел враждебную работу в НКВД по сохранению в СССР правотроцкистских формирований.
На допросе 20 января 1939 года Берман показал, что в период 37—38-х годов бывшим наркомом внутренних Дел СССР Ежовым и его заместителем Фриновским давались явно враждебные указания о решительной борьбе с мнимыми врагами народа, что повсеместно приводило к массовым арестам ни в чем не повинных советских граждан.
Однако Берман показаний о своей враждебной деятельности за период работы наркомом внутренних дел БССР, в частности о необоснованных арестах, не дал, никаких материалов о проводимых им незаконных арестах в деле нет…
22 февраля 1939 года в судебном заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР Берман виновным себя признал «в пределах данных им на предварительном следствии показаний». Не отрицая своей связи с германской разведкой, в суде категорически отрицал ту часть своих показаний, где он признавался в передаче шпионских сведений. Свою вражескую работу в период службы в НКВД Берман признал полностью.
Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Б. Бермана к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение на следующий же день в городе Москве.
Авторская ремарка
Конечно же, в списке тех, кто «стрелял в затылок», имя Бермана должно стоять одним из первых, хотя у нас нет доказательств, что он «привел в исполнение» хоть один приговор. Но именно он был главным режиссером того кровавого спектакля, который с благословения Центра (и тут можно верить его показаниям) разыгрывался в Белоруссии в 37—38-х годах.
Монстр беспринципности и угодничества, Берман, копируя сценарии московских процессов, одно за другим проводил в республике громкие судилища то в Гомеле, Лепеле, то в Жлобине, Минске, в других городах. Не успевал завершиться один процесс, как сразу же разворачивался другой. Режиссер и его послушные ассистенты без устали творили «премьеры» шпионских, вредительских, террористических дел-спектаклей, фабрикуя обвинения, порой, превосходящие интригой и сенсационностью детективы Конан Доила.
Сегодня можно даже по опубликованным документам проследить, как последовательно под началом Бермана разворачивалось санкционированное «сверху» грандиозное дело «о контрреволюционном заговоре» в Белоруссии. Как опричники из НКВД оплетали густой сетью клеветы, лжи и подтасовок руководство республики. Мы уже касались этой темы в предыдущих разделах. Скажем только, что до сих пор остаются неясными обстоятельства гибели председателя Совнаркома БССР Н. Голодеда. Некоторые свидетели, проходившие по «куропатскому» делу, утверждали, что видели, как он выбросился из окна кабинета следователя, другие столь же уверенно говорили, что его убили во время допросов.
Из материалов архивно-следственного дела Н. М. Голодеда нельзя установить даже дату его ареста, который, кстати, был учинен без санкции прокурора. Своеобразным ордером послужила подготовленная Берманом справка на четырех страничках машинописного текста, в которой утверждалось, что показаниями ранее арестованных «врагов народа» (приведен длинный список) Голодед изобличается как один из организаторов и руководителей контрреволюционной организации Белоруссии и поэтому подлежит аресту. На справке черной тушью начертана резолюция Ежова: «Арестовать».
Из бумаг, хранящихся в деле, видно, что Николай Матвеевич был арестован в Москве, «этапирован» в Минск и 21 июня 1937 года «покончил жизнь самоубийством». Ни протокола допроса, ни других следственных документов, кроме куцей справки Бермана, в деле нет.
Столь же загадочно выглядит и «самоубийство на почве семейного разлада» А. Г. Червякова в перерыве XVI съезда КП(б)Б. Рассказывая об этом факте в одном из предыдущих разделов, мы не располагали еще некоторыми свидетельствами, обнародованными некоторое время назад. Речь идет о копии предсмертного письма Александра Григорьевича съезду, объясняющего мотивы его самоубийства. Подлинника в материалах секретариата съезда нет, и специалисты высказывают в связи с этим серьезные сомнения: существовал ли он вообще.
Чем они объясняют свои предположения? Неожиданны такие внешние атрибуты письма: в правом верхнем углу его выделено слово «копия», в левом — резолюция, наложенная, очевидно, рукой В. Шаранговича, — «Приложить к материалам съезда». Заметим, что и другие записки, письма, поступившие в президиум съезда и хранящиеся в материалах секретариата, тоже имеют машинописные копии, но ни на одной из них нет резолюций слова «копия». Кроме того, все они сделаны в нескольких экземплярах, а копия письма А. Червякова только в одном.
Конечно, эти детали можно объяснить тем, что автор письма был далеко не рядовым участником съезда, да написано оно по исключительному поводу. Но уж очень непривычен, как отмечают историки, для А. Г. Червякова, всячески уклонявшегося от восхваления вождя и прямых обвинений «врагов народа», приторно-жестокий стиль письма, особенно его финала:
«Я ухожу с именем партии и вождя т. Сталина в сердце. Я ухожу, проклиная всех врагов народа, я проклинаю белорусских фашистов, агентов польского империализма».
Однажды Берман, постоянно ощущавший в себе нерастраченный талант трибуна, публично назвал имя еще одного человека, который тоже «стрелял в затылок». Выступая в ноябре 1937 года перед избирателями Россонского района, где он баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР, нарком со свойственным ему солдафонским красноречием изрек:
«Выродки, заклятые враги и палачи белорусского народа долгое время вели свою гнусную предательскую работу. Потребовалось вмешательство в белорусские дела лично тов. Сталина. Никто другой, как тов. Сталин, по одному письму, по одному сигналу из Белоруссии сказал, что в БССР есть враги, которые мешают народу наладить культурную жизнь. Тов. Сталин дал указание громить врагов, и мы начали их громить».
Какую «культурную жизнь» наладил Берман белорусскому народу, повинуясь высокому указу прозорливого вождя и учителя, мы знаем. Его изобретательность и усердие были щедро вознаграждены: «За образцовое и самоотверженное выполнение важных правительственных заданий» в конце 1937 года Берман получил орден Ленина. Через пять месяцев он отбыл на повышение в Москву, а через год появился другой документ: «за шпионаж и враждебную работу в органах НКВД приговорить…»
…Но спустимся с вершин крутой и, как оказалось, не очень устойчивой лестницы палачей и послушаем дальше рассказ Ивана Макаровича Стельмаха:
— Вы, конечно, знаете, что приговоры приводили в исполнение работники комендатуры. Когда я вернулся из Харькова, ее, помню, возглавлял Никитин, а заместителем у него был Ермаков. Коба Степан занимал должность поменьше, но, как и они, активно участвовал в расстрелах. Где они проводились, мне тогда никто не говорил, ибо это считалось серьезным секретом.
Я и в те годы понимал, а сейчас абсолютно уверен, что расстреливали много невиновных людей, однако воспрепятствовать этому беззаконию было невозможно — в любой момент сам мог стать под дуло пистолета.
Помню такой случай. Однажды мне и еще одному молодому сотруднику, фамилию его, к сожалению, не помню, поручили арестовать начальника одного из отделов — Будкова. Мы зашли в его кабинет, и я дрожащими руками протянул ему ордер. Он несколько мгновений глядел на нас остановившимися, стеклянными глазами, потом выхватил пистолет и выстрелил себе прямо в висок. Пыткам и издевательствам, которые вершил сам, он предпочел скорую и легкую смерть.
После войны, когда я уже работал заместителем министра МГБ, мне пришлось заниматься разбором писем родственников тех людей, которых в тридцатых годах приговорили к 10 годам лишения свободы без права переписки. Я решил прибегнуть к помощи Кобы, который был уже начальником комендатуры, и спросил его, каковы судьбы этих людей. Он хитро улыбнулся, а потом охотно поведал, что такие приговоры означали расстрел. Тогда же, помню, Коба сообщил мне по секрету, что акции эти проводились в лесном урочище под Минском, но где конкретно находилось и как называлось это место, Коба не сказал. Может, потому, что Куропаты тогда не имели еще своего громкого названия, а может, по другой причине.
Не стесняясь, Коба рассказал, что расстрелы он проводил сам вместе с другими работниками комендатуры, среди которых были Никитин и Ермаков.
Стреляли в голову из наганов, так как, по словам Кобы, это самое надежное оружие. За ночь, как правило, расстреливали не менее 10 человек. После «операций» их участникам обязательно выдавали спирт. Может, с этого ритуала и начался путь многих из них к хроническому алкоголизму, а у некоторых — и к самоубийству.
Коба рассказал мне тогда об одном памятном для него случае — однажды местные жители, собиравшие в лесу грибы, обнаружили свежую могилу и раскопали ее. Пришлось, говорил Коба, выехать в эту деревню, она была рядом с местом казней, отыскать этих людей и строго предупредить, чтобы молчали, иначе несдобровать. Могу предположить, что именно о Куропатах мне и рассказал Коба. Умер он в звании полковника и похоронен на городском кладбище. Была ли у него семья, не знаю. А если была, то я ей не завидую — дома он появлялся не часто, все время проводил на работе, еще реже его видели трезвым. Но Кобе все прощалось — он был личным другом Цанавы и подчинялся только ему. Да, друг Кобы Ермаков еще до войны из-за нервных перегрузок застрелился, а Никитин, если мне не изменяет память, уехал куда-то на повышение.
Авторская ремарка
Нет, память не подводит Ивана Макаровича. Ермаков Действительно застрелился в марте 1940 года из именного пистолета «Браунинг», как рассказал следствию его сын, слесарь одного из минских заводов. В ту пору ему уже исполнилось 16 лет — возраст достаточно зрелый, чтобы кое-что понять и запомнить.
«Отец работал сначала ответственным дежурным, а потом заместителем начальника комендатуры. По характеру был очень замкнутым, нелюдимым человеком. О своих делах никогда ничего не рассказывал. В 37—40-х годах часто не ночевал дома, но никогда не объяснял ни матери, ни нам, детям, своего отсутствия, говорил просто, что находился на службе. В последние годы редко приходил домой трезвым».
Об упоминавшемся И. Стельмахом и другими свидетелями Никитине мы расскажем позже, а сейчас давайте в вопросе «Кто стрелял в затылок?» выделим два последних слова и с весомыми аргументами в руках докажем, что действительно стреляли (есть ведь и другие методы казней), и стреляли именно в затылок. Для этого нам вновь придется призвать на помощь экспертов.
Из заключения комплексной судебно-медицинской и криминалистической экспертизы
«Всего исследовано 311 черепов и их фрагментов, извлеченных из всех шести захоронений. На 222 выявлены огнестрельные повреждения, которые характеризуются наличием дефекта ткани, круглой или овальной формой, диаметром около 7–9 мм, формой усеченного конуса в толще костной ткани, наложением меди и свинца по краям повреждений, установленным при спектрографическом исследовании.
На 188 черепах и их фрагментах выявлено по одному входному огнестрельному отверстию, на 29 черепах — по два входных отверстия и на 5 черепах — по три входных огнестрельных отверстия.
В 192 случаях выстрелы были произведены в затылок, в 26 — в висок (правый или левый).
Общее количество огнестрельных повреждений из каждого захоронения приводится в следующей таблице:
Следует отметить, что при очистке черепов и их фрагментов от песка костная ткань на большинстве исследуемых объектов по краям огнестрельных отверстий даже при осторожной обработке кисточкой легко крошится, что делает детальное измерение огнестрельных отверстий малоэффективным и дает лишь относительные результаты, не соответствующие требуемой точности измерения для установления калибра пули.
На некоторых фрагментах черепов признаки огнестрельных повреждений отсутствуют. Следует учитывать, что они представляют собой мелкие изолированные части отдельных костей свода и основания черепа (например, части затылочной кости, височной, лобной, теменных и др.). Эти обломки хрупкие, легко крошатся, что делает невозможным их сопоставление.
На других изолированных костях скелета, извлеченных из указанных захоронений, огнестрельных повреждений не выявлено.
Исследовано также 177 гильз и 28 пуль, найденных в захоронениях. Поверхности гильз сильно коррозированы, оболочки и сердечники пуль окислились. Отдельные части гильз и пуль отсутствуют, некоторые гильзы и пули деформированы, находятся в полуразрушенном состоянии.
При микроскопическом исследовании установлено, что на донных частях гильз есть маркировочные обозначения завода-изготовителя: «38», «Т», «ПТЗ». Цифры обозначают год выпуска продукции. Все гильзы и пули изготовлены заводским способом в СССР.
Судя по конструктивным особенностям и маркировочным обозначениям, 164 исследуемые гильзы и 21 пуля являются частями револьверных патронов, предназначенных для стрельбы из револьвера системы «Наган». Одна гильза является частью патрона для пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. Остальные гильзы и пули сильно коррозированы, и установить их характеристики не представляется возможным.
При микроскопическом исследовании гильз установлено, что на них есть следы от деталей оружия, образовавшихся при выстреле: на капсюлях вмятины округлой формы диаметром 1,3 мм расположены эксцентрично относительно центра — это след бойка. На гильзе патрона для пистолета «ТТ» четко отобразился след бойка грушевидной формы.
Выводы:
Установленные при исследовании черепов и их фрагментов форма и размеры повреждений, их количество, локализация и относительное расположение, наличие по краю отверстий следов меди и свинца дают основание утверждать, что повреждения на черепах и их фрагментах являются огнестрельными. Они причинены оболочечными пулями, в состав оболочки которых входит медь.
В связи с тем, что на костях черепа в области огнестрельных повреждений имелось частичное выкрашивание, связанное с длительным пребыванием костей в земле, а также учитывая значительное высыхание костей, изменившее их первоначальные размеры, и принимая во внимание, что размеры огнестрельных повреждений даже на «свежих» костях не всегда соответствуют калибру пули, установить в данном случае калибр оружия, из которого были произведены выстрелы, можно только ориентировочно: 7,0–7,65 мм.
Количество повреждений, их направление и относительное расположение свидетельствуют о том, что они причинены одиночными выстрелами.
В связи с отсутствием на исследуемых костях черепа мягких тканей, на которых могли бы отобразиться признаки, свидетельствующие о дистанции выстрела, определить ее не представляется возможным.
Представленные на исследование гильзы изготовлены в СССР в 1928 году — 3 шт., в 29-м — 2, в 30-м — 6, в 31-м —13, в 32-м —1, в 33-м — 12, в 34-м — 6, в 35-м — 9, в 36-м — 1, в 37-м — 8, в 39-м — 74 штуки.
164 револьверные гильзы стреляны из револьвера системы «Наган», 1 гильза — из пистолета «ТТ». 8 патронов, обнаруженных в захоронениях номер 5 и 6, являются патронами калибра 7,62 мм и предназначены для стрельбы из револьвера системы «Наган» образца 1895 года».
Нам остается только добавить, что, как утверждают свидетели, большинство сотрудников комендатуры НКВД БССР были вооружены наганами. Помним мы и рассказы очевидцев, какими способами они приводили приговоры в исполнение: один предпочитал усаживать арестованных по краям могилы и стрелял сверху, как правило, в темя. Другой подходил вплотную к стоявшему спиной к нему арестованному и посылал пулю в затылок снизу вверх. Поэтому на черепах, как отмечают эксперты, множество выходных отверстий расположено в «лобной части».
Теперь вернемся к слову «кто». Думается, называя имена рядовых палачей и тех, кто корректировал прицелы их наганов, мы не имеет права не посвятить несколько абзацев одиозной фигуре «Лаврентия-второго», хотя бы потому, что Цанава в отличие от своих предшественников, продержавшихся в кресле наркома НКВД от двух месяцев до года, восседал в нем с конца 1938 до начала войны и затем еще семь послевоенных лет.
На совести этого услужливого подручного Сталина и Берии — тысячи человеческих жизней. По опубликованным недавно в журнале «Коммунист Белоруссии» подсчетам историков, в первый год пребывания Цанавы в Белоруссии по политическим обвинениям было арестовано 27 тыс. человек. Одного за другим убирал «Лаврентий-второй» руководителей республики. И не только контролировал, направлял следствие, но и не гнушался лично допрашивать арестованных, используя весь арсенал опробированных ранее методов и средств.
Из анкеты генерал-лейтенанта Л. Ф. Цанавы
1900 года рождения, отец — крестьянин-бедняк, образование — окончил сельское начальное училище, общеобразовательные курсы в Тифлисе. До назначения в Белоруссию — на чекистской, партийной и хозяйственной работе в Грузии, в том числе заместитель председателя лимонно-мандаринового треста, начальник «Колхид-строя»…
Награды: три ордена Ленина, три — Красного Знамени, орден Суворова I степени, два ордена Кутузова I степени, боевые ордена Монголии, Польши, медали — всего около 30 наград.
Сохранился в архиве список депутатов Верховного Совета БССР первого созыва. Напротив фамилии Цанавы карандашом помечено: «Друг Берии», который, добавим, был еще и «крестным отцом» «Лаврентия-второго» — однажды посоветовал Л. Ф. Джанджгаве поменять его труднопроизносимую фамилию на более благозвучную. А еще раньше он спас Цанаву от тяжкого позора. В 1922 году во время партийной регистрации тому не возвратили партийный билет, что фактически означало его исключение из партии. Позже Цанава сам напишет об этом эпизоде так:
«В бытность начальника политбюро ЧК в г. Телави в 1922 году, в период разгара борьбы с национал-уклонистами — последними было выдвинуто против меня обвинение якобы в незаконном уводе девушки. Дело было расследовано органами ЧК, и в 23 году я был оправдан вовсе».
Девушку он действительно «умыкнул», и несдобровать бы Цанаве, если бы не выручил выдвинутый в заместители начальника ЧК Грузии Л. Берия. Цанаву в партии восстановили и с этого времени стал он верным слугой Лаврентия Павловича, его правой рукой.
Поднимался вверх по ступеням политической карьеры патрон и тащил за собой единомышленника и холуя. Теперь понятно, почему всего через неделю после назначения Берии наркомом внутренних дел СССР в декабре 1938 года такой же пост в Белоруссии получил Цанава. Правда, для этого ему самому пришлось арестовать, как мы уже говорили, своего предшественника — А. Наседкина, в хорошем темпе провести следствие и через месяц отправить на расстрел. В полном соответствии с выдвинутой великим вождем формулой об обострении классовой борьбы.
Этот лозунг, судя по всему, стал для Цанавы подлинным откровением, потому что наилучшим образом отражал понимание им действительности, которая делилась просто и без нюансов — на «своих» и «врагов». А врагов, естественно, надо уничтожать и одновременно бояться.
Наверное, этой логикой руководствовался Цанава, когда настойчиво вдохновлял своих подчиненных (помните показания Саголовича?) на выбивание «чистосердечных признаний», а затем подписывал смертные приговоры многочисленным «шпионам» и «террористам», и когда создавал вокруг своей персоны завесу секретности, подозрительной настороженности, а каждый выход «в люди» — будь то на футбольный матч или предвыборную встречу с избирателями — обставлял как боевой поход с привлечением множества переодетых и в форме сотрудников НКВД, готовых жизнь положить во здравие родного шефа, уберечь от любого посягательства или даже намека на него.
В наркомате всех держал в «ежовых рукавицах», насаждал жесткую палочную дисциплину. Многие бывшие его коллеги, дававшие показания нашему следствию, охотно и подробно рассказывали о его грубости и жестокости, о том, что ему ничего не стоило прилюдно оскорбить, унизить человека, плюнуть ему в лицо и даже ударить. Малейшее ослушание расценивалось не иначе как «вредительство» и чревато было непредсказуемыми последствиями.
Свидетели привели такой факт: Цанава отдал под суд и «упек» на 10 лет сержанта из личной охраны, отказавшегося поливать деревья в его саду. Крутой, деспотичный норов превращал работу с ним в настоящую пытку. За пять послевоенных лет у него сменилось 22 секретаря — угождать Цанаве было большим искусством. И в то же время он откровенно раболепствовал перед «сильными», «вышестоящими». Очевидцы вспоминают, что, отвечая на московский звонок, непременно вскакивал и стоял, вытянувшись «в струнку», в течение всего разговора.
Суммируя сегодня факты, анализируя детали поведения этого тирана и плебея, приходишь к выводу, что служил он не делу, а лицам, стараясь во всем подражать им, неукоснительно следовать их советам.
Как и Берия в Москве, Цанава «внедрял» в партийные органы и государственные учреждения своих соглядатаев. Осведомители, как правило, всю собранную информацию, весь компромат поставляли лично ему. Множились «досье» на руководителей республики, и хотя о 37-м годе некоторые втайне только вздыхали, процветали те же методы тотальной слежки, доносительства и оговоров. По-прежнему в ходу были откровенно сфабрикованные материалы, лжесвидетельства, инсинуации.
Подтвердим этот вывод на примере «Дела Саевича», получившего в республике широкий резонанс. Нарком просвещения БССР Платон Васильевич Саевич был арестован по приказу Цанавы как «ярый троцкист, имевший связи с белой эмиграцией». Возьмите том Белорусской Советской энциклопедии и вы прочтете, что П. В. Саевич — член партии с 1917 года, участник Октябрьской революции и гражданской войны, ректор сельскохозяйственной Академии и Коммунистического университета Белоруссии, член ЦК КП(б)Б и ЦИК БССР, известный ученый. И как же, оказывается, легко было сломать, уничтожить человека, абсолютно беззащитного перед необузданной силой бесконтрольной власти и беззакония.
Выбить из Саевича нужные показания оказалось делом техники, которую поздней в реабилитационных документах назовут «применением недозволенных методов следствия». Правда, наркома не расстреляли, повторяем, не то было уже время, но надолго упекли в далекие лагеря. Вернулся он оттуда уже после смерти Сталина, больной, изможденный и вскоре умер.
На «личном» счету Цанавы дела таких известных некогда в республике людей, как министр коммунального хозяйства БССР Жолнерчук, секретари Полоцкого и Гомельского обкомов партии Пархимович и Демченко, долгая и яростная атака на первого секретаря Гродненского обкома КП(б)Б, а поздней — президента республики, легендарного революционера и подпольщика С. О. Притыцкого. Только решительная защита ЦК КП(б)Б помогла уберечь Сергея Осиповича, проведшего не один год в тюрьмах Пилсудского, от суровых казематов Цанавы.
Признаемся, что все долгие месяцы следствия — и во время нелегких бесед со свидетелями, и в многочасовых бдениях в архивах, и в дни горьких раскопок куропатских могил — нам страстно мечталось отыскать хоть одного живого исполнителя, взглянуть ему в глаза, попытаться понять. Хотя бы одного из десятков или сотен тех, кому палачи рангом повыше доверяли нажимать на спусковой крючок нагана — «приводить приговор в исполнение».
И вдруг звонок минчанки Марии Прокофьевны Семеновой:
— Вы что, и вправду никак не можете найти того, кто расстреливал людей в Куропатах? Записывайте адрес: Москва, проспект Мира…
Через сутки один из нас уже входил в подъезд высотного дома в центре Москвы, осторожно звонил в обитую черным дерматином дверь. Глухо щелкнул ключ в замке, дверь широко распахнулась — крупный, немолодой уже человек пригласил в прихожую, охотно представился: «Никитин…»
Узнав причину визита, вежливо уточнил:
— Вам надо к отцу, он лежит в соседней комнате… Жаль, но настоящего разговора у вас, видимо, не получится — старику ведь уже 91 год, серьезно болен. Хотя всего месяц назад прекрасно говорил и здраво рассуждал, даже сердился, если мы не очень внимательно слушали его размышления…
Помолчали, поговорили о житье-бытье, затем снова незаметно вернулись к Никитину-старшему, к его прошлому.
— Я знаю, что отец в 37—38-х годах служил комендантом НКВД БССР, а заместителем у него был Ермаков, перед войной он застрелился. Мы дружили с его сыном. Часто бывали у нас в гостях Коба, Ягодкин, Кауфман… Это все папины сослуживцы, а жили мы в одном доме по ул. Кирова в Минске… У отца от второго брака было двое детей — я и мой старший брат Владимир. Он погиб в 1942 году под Одессой, юношей девятнадцати лет. Я по молодости на фронт не попал, всю взрослую жизнь отработал в Череповце на металлургическом заводе… Из Минска отца перед войной направили в Ставрополь, в областное управление НКВД. Всю войну он служил в «смерше», затем в Вильнюсе, Краснодаре, Вологде работал на руководящих должностях в органах НКВД. В отставку вышел в звании полковника, поселился в Москве. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и Красной Звезды, орденом Знак почета и медалями. Правда, в 70-х годах одного ордена Красной Звезды его лишили — он его получил за выселение ингушей и чеченцев с Северного Кавказа… В просторной комнате с наполовину занавешенным окном на широкой тахте покоился худенький седой старик, безучастный взгляд его был устремлен куда-то вверх, в потолок, сухие руки неподвижно лежали вдоль туловища.
Услышав, что гость из Минска, он заметно оживился, повернул голову и, казалось, взгляд его стал осмысленным, живым.
— Не вспомните ли вы о расстрелах «врагов народа» под Минском, в лесу по Логойскому шоссе?
Сын повторил ему вопрос громко, в самое ухо. Он натужно, с трудом выдавил несколько слов, из которых удалось разобрать только: «… на горке».
— Скажите, по сколько человек обычно расстреливали?
Все его тело вновь судорожно напряглось, губы зашевелились: «… дцать». И больше, как ни старались помочь сын и его жена, услышать от старика ничего похожего на слова не удалось. Родившаяся было надежда посмотреть в глаза человеку из того, бериевского и цанавского, мира умерла. Может быть, навсегда.
…Мы возвращались с кладбища, от закованной в мрамор могилы Кобы и медленно шли мимо шеренги белых бетонных плит со словами: «Гвардии сержант…», «Рядовой…», «Партизан…», «Неизвестный». Слышен был ровный гул машин, веселый смех ребятишек на зеленой поляне, а мы невольно думали об увиденном, о том, что на кладбище, как и в жизни, рядом соседствуют герои и злодеи. Ни тех, ни других нельзя вычеркнуть из истории. Но пусть имена героев служат для нас нравственным примером, фамилии подлецов — предостережением.
Вместо послесловия: Приговор вынесет время
Мы завершаем не очень веселое и, поверьте, нелегкое для нас повествование. Не исключено, что разочаровали тех, кто ждал увлекательного, детективного сюжета, где все разыгрывается по непреложным законам жанра: зло, как бы оно ни изворачивалось и ни хитрило, настигает справедливая кара, а добро, пройдя через все испытания и невзгоды, все-таки торжествует.
Не знаем, можно ли в нашем случае считать торжество истины победой добра и справедливости, но следствие, а вслед за ним и мы, стремилось отыскать максимально объективные, правдивые ответы на очень длинную цепочку вопросов, которая потянулась вслед за первыми горькими открытиями в Куропатах.
На большинство из них удалось дать ответы — найдены веские аргументы и доказательства, сказана, наконец, правда о событиях, многие десятилетия скрывавшихся от народа за плотным пологом секретности. Это особенно важно, если вспомнить, что возрождение истины для тысяч родных и друзей павших — людей старшего поколения — это то, чего они терпеливо и с надеждой ждали долгие годы, и дождались.
Важно и другое — не меньше отцов правда о прошлом нужна их детям, потому что позволяет прояснить главный вопрос: как жить сегодня и что взять с собой в завтра. Что сделать, чтобы никогда больше на нашей земле не попирался закон, не погибали невинные люди, чтобы потомки наши, вглядываясь в прошлое, видели в нем не приторную сказочку, именуемую историей, а летопись преодоления, борьбы, ошибок и побед.
Следуя нашему правилу — чаще давать слово документу, живому свидетельству, нежели собственным эмоциям, мы, подводя итог, хотим предложить вам фрагменты из постановления о прекращении уголовного дела под условным названием «Куропаты». Напомним, что по истечении пяти месяцев после начала расследования, когда были собраны весомые доказательства, подтверждающие главное — а именно: что «в лесном массиве на восточной окраине Минска в 37—41-х гг. НКВД производились массовые расстрелы советских граждан…», что «…на территории урочища в захоронениях покоится не менее 30 тыс. граждан…», дело в ноябре 1988 г. производством было прекращено.
Но затем по решению правительственной комиссии в январе 1989 г. возобновлено с целью установления имен конкретных людей, расстрелянных в Куропатах, и выявления виновных в массовых репрессиях, непосредственных исполнителей приговоров. К сожалению, как мы уже говорили, назвать хотя бы одно имя из многих тысяч покоящихся в братских могилах людей пока не удалось. Но обнародованы другие имена…
Дополнительное расследование продолжалось еще полгода. Его итогом стало открытие многих ранее неизвестных страниц куропатской трагедии. Сейчас мы выборочно познакомим вас с последним процессуальным документом по делу, в котором упоминавшиеся нами и оставшиеся за рамками рассказа факты приведены в логической последовательности, а за сдержанно-строгим, протокольным слогом легко угадываются и боль, и сострадание к невинным жертвам, и искреннее презрение к палачам.
Из постановления о прекращении уголовного дела о захоронениях в лесном массиве Куропаты
…В ходе дополнительного расследования установлено следующее:
Проведенными по делу стоматологической и криминалистическими экспертизами зубных протезов, коронок и пломб, извлеченных при эксгумации могил, определено, что большая часть протезов и коронок изготовлена в нашей стране, так как методика, по которой выполнены протезы, применялась раньше и используется сейчас. Время производства протезов можно отнести к периоду после 1933 года. Этот вывод подтверждается тем, что нержавеющая сталь в зубном протезировании начала применяться в начале 30-х годов. Применение для эстетических облицовок зубов фарфора и изготовление базисов съемных протезов из каучука свидетельствуют об отсутствии пластмассы, которая в отечественном зубопротезировании начала применяться с 1946 года.
Искусственные зубы седловидной формы в послевоенные годы не изготавливались.
Эта информация согласуется с ранее добытыми доказательствами о времени расстрелов граждан в Куропатах, которые осуществлялись не ранее 1933 года и не позднее июня 1941 года.
Об этом же свидетельствуют показания Антилевского Б. И., 1921 года рождения, который, будучи трактористом колхоза «Свобода», выполнял в 1936–1940 гг., сельскохозяйственные работы неподалеку от лесного массива «Куропаты». Из этого леса, в основном по ночам, слышались одиночные выстрелы и крики людей. Участок лесного массива был огорожен высоким забором и охранялся людьми в военной форме.
В послевоенные годы расстрелы в названном лесу не осуществлялись и какие-либо раскопки в нем не производились.
Как видно из протокола допроса Бетанова И. И., 1915 года рождения, он с 1936 года и до начала Отечественной войны работал в автотранспортном отделении административно-хозяйственного управления (АХУ) НКВД БССР. В АХУ входили также комендатура и ряд других подразделений.
И. И. Бетанов вспомнил 5 фамилий водителей гаража — это братья Могдалевы, Козловский, Давидсон, Перельман и Перников.
Некоторые шоферы рассказывали ему, что на расстрелы заключенных возили чаще всего по ночам в автозаках из внутренней тюрьмы НКВД БССР. Расстрелы осуществлялись в лесу, расположенном недалеко от Логойского шоссе. Более точное место казней свидетель не назвал, сославшись на то, что ему об этом водители не говорили, потому что эта информация считалась секретной.
Согласно архивным данным Могдалевы, Перельман, Перников, Козловский и ряд других в довоенные годы действительно работали водителями автотранспортного отдела АХУ НКВД БССР. Однако допросить их об обстоятельствах перевозки осужденных к месту расстрела не представилось возможным, так как, по сообщениям адресного бюро, КГБ и МВД БССР эти лица прописанными на территории республики не значатся и неизвестно живы ли в настоящее время. Установлено, что Перельман умер в 1986 г., Могдалев Мефодий — в 1954 г., а Могдалев Афанасий — в 1979-м.
…Согласно показаниям Антончика С. И., 1922 года рождения, в 1936–1937 гг. из западных областей Белоруссии на территорию СССР переходило много членов КП Западной Белоруссии, которых пограничники задерживали, а затем как польских шпионов отправляли в тюрьму. Многие из них были осуждены и расстреляны недалеко от Минска. Однако точного места казней С. И. Антончик не знает.
Свидетель Лукашенок В. Г., 1902 года рождения, пояснил, что с 1926 по 1937 гг. он служил сначала в органах ОГПУ, а затем НКВД БССР.
По его словам, приговоры о высшей мере наказания осуществляли работники комендатуры, которые ночью на машинах выезжали в неизвестное ему место и производили там расстрелы.
Допрошенный в качестве свидетеля Вертеев Григорий Спиридонович показал, что, работая с 1935 года в милиции г. Борисова Минской области, он видел, как работники местного районного отделения УГБ НКВД БССР арестовывали руководителей города, которые сначала содержались в местной тюрьме, а затем перевозились в Минск.
По словам Вертеева, дальнейшая судьба этих людей ему не известна, но в Борисове и его окрестностях в довоенные годы приговоры в отношении осужденных к высшей мере наказания в исполнение не приводились.
В процессе расследования установлена и допрошена Такушевич Е. 3., 1916 года рождения, — вдова Такушевича К. Н., который в 30-х годах работал в органах ОГПУ — НКВД БССР.
В 1937 году муж был неожиданно арестован, находился под стражей до 1940 года, после чего выслан в Тобольск, где в 1942 году добился освобождения.
Такушевич Е. 3. пояснила также, что, возвратившись домой, муж ей рассказывал о применении к нему во время расследования дела сотрудником НКВД БССР Саголовичем физического воздействия и других незаконных методов следствия.
…Согласно данным учетно-архивного отдела КГБ БССР, Саголович в июне 1938 года совместно с Писаревым учинил «конвейерный» допрос арестованного Андреева 3. Д., который продолжался 43 часа. После этого Андреев признался, что является агентом польской разведки, и по постановлению особой тройки НКВД БССР 3 ноября 1938 года расстрелян.
Будучи допрошенным, Саголович, 1909 года рождения, показал, что, работая с 1933 по 1939 гг. в органах ОГПУ — НКВД БССР, применял по указанию руководства к подследственным, в том числе и Такушевичу, такие незаконные методы расследования, как избиения, угрозы, многочасовые изнурительные допросы.
Саголович пояснил: «Наш отдел в основном занимался делами так называемых перебежчиков из Западной Белоруссии… В таких перебежчиках в то время видели, как правило, шпионов… Во время их допросов (с применением физических методов воздействия) многие признавались в том, что они были завербованы польской разведкой, называли своих знакомых и родственников, проживающих в БССР, говорили, что они тоже завербованы дефензивой. Таких людей также арестовывали. Многие из них во время применения вышеуказанных методов сознавались. Мы верили таким признаниям, хотя объективно перепроверить их было нельзя».
По словам Саголовича, большинство таких перебежчиков, а их в 1937–1938 гг. арестовывалось очень много, было осуждено «тройками» и расстреляно. Расстрелы осуществляли охранники тюрьмы и работники комендатуры, вооруженные наганами, но где именно, Сагаловичу неизвестно.
Как установлено расследованием, в ноябре 1938 года после постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» ряд работников НКВД БССР за нарушение социалистической законности были привлечены к уголовной ответственности, осуждены, а затем некоторых из них расстреляли.
Так, согласно архивно-следственным делам, в декабре 1938 года был арестован следователь Быховский, которому вменялось в вину грубое нарушение революционной законности, систематическое, с применением садистских методов, избиение на допросах арестованных — бывшего председателя СНК БССР Темкина, начальника особого отдела 24 кавдивизии Готовского и других.
По приговору Военного трибунала пограничных войск НКВД БССР Быховский осужден к 10 годам лишения свободы.
26 декабря 1938 года арестованы бывший начальник отдела УГБ НКВД БССР Гепштейн и его заместитель Серышев, обвинявшиеся в том, что, «являясь активными участниками контрреволюционной заговорщической организации, существовавшей в НКВД, проводили активную контрреволюционную вредительскую работу в этих органах, направленную на создание провокационных дел, осуждение невиновных граждан, что достигалось производством массовых необоснованных арестов…
…В целях поощрения к применению физических мер воздействия к арестованным, Гепштейн давал установку о „разоблачении“ следователями одного-двух, а то и трех арестованных в сутки».
Гепштейн был приговорен к расстрелу, а Серышев к 5 годам лишения свободы.
За аналогичные преступления, а также за незаконный расстрел бывшего секретаря Паричского РК КП(б)Б, необоснованные аресты 60 человек, которые впоследствии были освобождены, убийство во время допроса одного из задержанных колхозников — Шелега Якова — и «садистские избиения подследственных» приговорены в мае 1939 года к высшей мере наказания бывший начальник следственного отдела УГБ НКВД БССР Ермолаев, его заместитель Кунцевич и начальник Руденского РО НКВД Кулешов.
Впоследствии эта мера наказания им была заменена на длительные сроки лишения свободы.
В январе-феврале 1939 года к уголовной ответственности за самоуправное распоряжение о приведении в исполнение отмененных приговоров к высшей мере наказания в отношении 371 осужденного были привлечены помощник наркома Стояновский, начальник учетно-архивного отдела Розкин и еще 5 ответственных работников органов НКВД республики.
Стояновский, Кауфман и Ягодкин приговорены к расстрелу, остальные к 10 годам лишения свободы.
К уголовной ответственности в этот период были привлечены, а затем осуждены также Цейтлин, Слукин, Волчек, Перевозчиков и другие.
В связи со смертью большинства названных бывших работников НКВД и отсутствием в адресном бюро, КГБ и МВД БССР данных о месте жительства возможно оставшихся в живых, допросить их об обстоятельствах расстрелов граждан в лесном массиве «Куропаты» не представилось возможным.
Таким образом, из показаний свидетелей явствует, что в 1937–1941 гг. к уголовной ответственности привлекалось значительное количество работников партийно-хозяйственного актива, так называемых перебежчиков, а после 17 сентября 1939 года жителей западных областей Белоруссии, бывших работников НКВД БССР и других правоохранительных органов, многие из которых были осуждены к высшей мере наказания.
Как видно из вышеприведенных доказательств, расстрелы осужденных осуществлялись работниками комендатуры в лесном массиве по Логойскому шоссе.
Объективность и достоверность этого вывода подтверждается также показаниями свидетелей Михайлашева Н. А., 1917 года рождения, и Стельмаха И. М., 1912 года рождения, которые в довоенные годы служили в органах НКВД БССР, а после окончания Великой Отечественной войны занимали в аппарате МГБ республики руководящие должности.
Так, Михайлашев пояснил, что в 1939–1941 гг. органами НКВД арестовывалось большое количество «врагов народа». Многие из них после содержания в подвалах наркомата и внутренней тюрьмы приговаривались к высшей мере наказания. Расстрелы осуществлялись работниками комендатуры…
Осужденных привозили ночью на автозаке в лес, где заранее была вырыта могила. Выстрелы производились в затылок из наганов или пистолетов. Рядом с трупами бросали принадлежавшие расстрелянным личные вещи, после чего яму закапывали. При расстреле, кроме конвоя, из работников НКВД присутствовал начальник учетно-архивного отдела (до войны, как выше отмечалось, им был впоследствии репрессированный Розкин), который составлял акт о приведении приговора в исполнение.
Розкин, как установлено следствием, и другие работники 1-го спецотдела на основании таких актов делали выписки о приведении приговора в исполнение в г. Минске без указания конкретного места и подшивали их в уголовные дела.
Свидетель Стельмах, дополняя показания Михайлашева, показал, что в 1937 году был стажером в следственном отделе НКВД БССР и видел, как его работники применяли к арестованным физические меры воздействия, иными словами избивали их, принуждая сознаться в шпионаже, вредительстве и других преступлениях, которых они не совершали.
В начале 1939 года, по показаниям Стельмаха, начали возбуждаться уголовные дела в отношении работников НКВД, нарушавших социалистическую законность. В этот период начальником комендатуры НКВД БССР был Никитин, его заместителем Ермаков. В этом отделе служил также Коба Степан. Приведение в исполнение приговоров в отношении осужденных к расстрелу осуществляли названные лица. Осужденные расстреливались Кобой, Ермаковым, Никитиным и другими работниками комендатуры. Выстрелы производились из револьверов «Наган» в голову. Происходило это в лесном урочище под Минском.
Аналогичные показания о месте расстрелов и участии в них Кобы и других сотрудников комендатуры дали Бармаков М. Т., Кресик С. В. и Захаров С. М., который, в частности, пояснил, что, будучи работником комендатуры НКВД БССР, однажды конвоировал в лес близ д. Цна-Иодково 20 приговоренных к высшей мере наказания. Они были расстреляны из наганов в голову Бочковым, Кобой и Острейко. Место казней было огорожено высоким забором и постоянно охранялось сотрудником НКВД. В этом лесу в довоенные годы систематически расстреливались вышеназванными лицами, а также Ермаковым и Никитиным так называемые «враги народа», из которых Захарову никто знаком не был.
Принимая во внимание показания Захарова, а также Стельмаха о случаях раскапывания могил местными жителями и пояснения о том же ранее допрошенных жителей деревень, примыкавших к Куропатам, и анализируя протоколы допросов сотрудников тюремной охраныи комендатуры Харитоновича, Кмита и других, можно сделать достоверный вывод о том, что расстрелы осужденных производились в лесном массиве неподалеку от д. Цна-Иодково, т. е. в «Куропатах».
Факт расстрелов осужденных из револьверов «Наган» подтверждается, кроме ранее изложенных доказательств, свидетелем Ивановым В. Н., 1909 года рождения, который показал, что в 1934–1941 гг. он служил оружейным техником управления погранвойск НКВД БССР и снабжал оружием и боеприпасами к ним охранников тюрем, конвойные войска и работников наркомата, в том числе винтовками, пистолетами и наганами.
В целях установления фамилий работников комендатуры и охраны тюрьмы в Центральном Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства БССР (ЦГАОР) изучены документы НКВД БССР. Установлено, что в этих подразделениях в 1940 году служило более 90 человек, в том числе комендант комендатуры Никитин, его заместитель Ермаков, инспектор Абрамчик, дежурный комендант Бочков, старшие вахтеры Кмит, Батян, Коба и другие.
По данным адресного бюро и информации КГБ и МВД БССР, указанные лица (за исключением Кмита И. А., который был допрошен), проживающими на территории республики не значатся либо выписаны в связи со смертью.
Установлено, что Бочков и Батян к моменту возбуждения настоящего дела умерли.
…Таким образом, хотя достоверно доказано, что расстрелы осужденных осуществлялись сотрудниками комендатуры НКВД БССР, однако допросить их о том, кто именно был расстрелян в урочище «Куропаты», по вышеизложенным причинам оказалось невозможным.
Принимая во внимание, что виновные в этих репрессиях руководители НКВД БССР и другие лица приговорены к смертной казни либо к настоящему времени умерли, на основании изложенного, руководствуясь ст. 208, п. 1, и ст. 5, п. 8, УПК БССР, уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения захоронений в лесном массиве «Куропаты», прекращено.
Обнаруженные при эксгумации захоронений предметы одежды, обуви и т. п. как не имеющие ценности уничтожить.
На этом можно было бы и закончить разговор. Но перед нами лежит последний — самый толстый том «Куропатского дела», целиком состоящий из читательских посланий и ответов на них следствия. Писем сотни — благодарных, доброжелательных, содержащих конкретные советы и просьбы, и злых, ругательных, исполненных не убывающей с годами любви к великому вождю, восхищения его историческими деяниями и откровенной ненависти к тем, кто смеет сомневаться в сталинском величии, а тем более пытается доказать невиновность «врагов народа». Мы сочли необходимым сказать несколько слов об этой переписке, потребовавшей от следователей и душевного такта, и сострадания, а в некоторых случаях — и выдержки, терпения.
«…Зачем вы копаетесь в прошлом? Если бы тогда не расстреляли многих правокаторов, то не было бы и Советской власти. Куропаты — это продолжение революции. Значит, вы против того, что победила революция? …Сталин, несмотря на все трудности, удержал Советскую власть, под его руководством добыта победа в войне. Он умными речами призывал выдержать, выстоять, преодолеть все трудности. За ним шел народ.
В тяжелые послевоенные годы регулярно снижались цены на товары, а вы Сталина оклеветали, опозорили. Какое о нас мнение будет за рубежом, подумали бы хорошенько! Вы считаете, потомки скажут вам спасибо за то, что врагов Советской власти обелили, поставили им памятники? Сталин правильно делал, когда держал народ в „ежовых рукавицах“. А вы распустили всех, наплодили воров, проституток и наркоманов. Не лучше ли заняться этими делами, чем искать дырочки в черепах?»
Ветеран труда А. И. Осипова, г. Донецк
Что ж, по крайней мере откровенно, без оговорок и экивоков. Человек не кривит душой, не открещивается от той веры, которую пронес через всю жизнь и от которой, как от тяжелой болезни, так просто и легко не излечиваются. Очень не хотелось бы, чтобы молодые люди, прочитав письмо, сразу, не раздумывая, зачислили Анну Ивановну и других полпредов ее поколения, откликнувшихся на куропатские заботы следствия, в ярые сталинисты. Просим вас, не спешите. Ведь чувства, не важно, правильные они или неправильные, нельзя отменить даже самым мудрым постановлением.
А не любить его они не могли. Ну, хотя бы потому, что он самый верный и близкий соратник Ленина, что прошел через тюрьмы и ссылки, что не щадя себя трудился на благо народа и что не страшась разоблачал вредителей, оппортунистов и других «врагов народа». В непоколебимой твердости и не знающей границ безжалостности этих разоблачений им виделась какая-то особая, величайшая его правота.
Их души рвались к возмездию, когда газеты сообщили об убийстве Кирова, а затем об отравлении Горького. Никто из них ни секунды не сомневался в заговоре Бухарина и шпионаже Тухачевского… Они верили свято и безоговорочно, ведь все было так очевидно. А всякие сомнения казались неуместными, преступными, даже наедине с собой, без свидетелей…
И вот сейчас, еще и еще раз вчитываясь в строки письма А. И. Осиповой, невольно размышляешь: вправе ли мы судить их за то, что не хотят, а может, и просто не могут расстаться с прежней любовью к вождю, которая освящала большую часть их сознательной жизни? Это, пожалуй, не вина их, а беда. Беда, если умом понимаешь, что то, во что верил, чему поклонялся, недостойно твоей веры и поклонения, но душа противится. Уступаешь душе, а сознание, разум привычно изворачиваются и находят какой-то иной, удобный и успокоительный аргумент.
Вот несколько строк из письма, которое мы условно отнесли к разряду рассудительных, горько-исповедальных. Именно они дают возможность заглянуть в душу человека, оказавшегося на «перекрестке эпох», и наглядно подтверждают, что перестройка, в первую очередь сознания, не может произойти в одночасье, а многое из того, что подталкивает некоторых к сопротивлению ей, заложено генами прошлого. Надежда Петровна Коваленко из Черниговской области пишет:
«Я отношусь к поколению, родившемуся и окончившему школу при Сталине. В нас воспитывали преклонение перед вождем, веру в его непогрешимый гений. Потом был XX съезд, за ним последовал волюнтаризм, потом почти на два десятилетия много слов при видимости дела — застой.
Мы знаем все это не из газет и телевидения, оно прошло через наши руки, сердца, умы. Это — в нас. Нас учили разоблачать врагов народа, и мы их разоблачали. Учили славить Сталина, и мы, соревнуясь в красноречии, славили. Поздней взахлеб хвалили начальство, подхалимничали, врали. Через все это мы прошли. И нас не выкинешь за борт, не отодвинешь в сторону, не закроешь глаза. Мы есть».
Что и говорить, образ мыслей — не мода на прическу: носил завивку, завел стрижку… Но перемены возможны только там, где к ним готовы, ждут их, а не сопротивляются. Ведь есть вещи, которые не откроются человеку нетерпимому, несвободному от стереотипов и предубеждения, неспособному от них избавиться.
Разве не видели они, некоторые дорогие наши ветераны, что число репрессированных день ото дня растет? Что вчерашний закадычный друг, который вместе с тобой ходил в атаку, не щадя жизни, воевал за Советскую власть, сегодня вдруг объявлен ее ярым врагом, а через месяц расстрелян? За что? За какие преступления? Неужели не рождалось в их душе таких вопросов? И отчего сегодня, получив, наконец, исчерпывающие ответы, они не хотят их принять, поверить?
Повторимся, огромное число ругательных писем свидетельствует, как много среди нас еще людей, которых совсем не смущают обнародованные в последнее время огромные и, к сожалению, еще далеко не окончательные цифры расстрелянных, умерших в лагерях, неведомо как и где сгинувших в ссылках. Они по-прежнему, как и полвека назад, упорно твердят: «Правильно», «Нечего было либеральничать», «Мало их ставили к стенке». Пытаются под это свое непреклонное упорство подвести «теоретический» фундамент, по старой привычке, привлекая в союзники мысли и слова великих людей. Не пожелавший назваться автор письма, пришедшего из Краснодара вопрошает:
«Кто они, эти расстрелянные? Сколько среди них оклеветанных и неоклеветанных, т. е. сколько шпионов, кулаков и подкулачников, саботажников, террористов, идеологических диверсантов, сколько вредителей, троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, партийных и беспартийных? И сколько честных, невинных людей?
В Крыму местное население в годы войны загнало партизан в заснеженные горы, ни один из них не мог появиться в населенном пункте — его тут же бы схватили и выдали гитлеровцам. А в Белоруссии все население помогало партизанам. Почему? Не потому ли, что в Белоруссии была добросовестно и качественно проведена санация (очистка, оздоровление. — Авт.) территории от фашистских шпионов, антисоветских и антипартийных элементов, а в Крымской АССР некачественно? И что было бы, если бы столь же некачественно провели санацию еще и в РСФСР, на Украине? Вы можете себе представить?»
До знакомства с этим письмом мы, признаться, и думать не могли, что может быть и такое оправдание репрессий, которое иначе как кощунственным не назовешь. Ведь если следовать логике автора, то и геноцид гитлеровцев на советской земле можно назвать необходимой им санацией — они исправно очищали ее от коммунистов и их детей, людей «низших рас» всех возрастов и профессий, антифашистов и просто жителей тысяч «нецивилизованных», забитых белорусских деревень. Дальше автор размышляет:
«Если среди этих расстрелянных в Куропатах 30 тысяч есть действительно невиновные люди, то они являются жертвами классовой борьбы в нашей стране. Борьбы жестокой, не на жизнь, а на смерть, где стоял вопрос: быть или не быть единственному в мире социалистическому государству. И за невинные жертвы несут ответственность замаскировавшиеся враги трудового народа. Вспомните, В. И. Ленин писал в „Очередных задачах Советской власти“, что ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без грязной пены, без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов».
Вот и цитата авторитетная найдена, и вроде к месту пристроена. Только нет в ней желанного для автора указания, что этих жуликов и авантюристов непременно надо расстреливать. Тогда сегодняшним разоблачителям и авантюристам вовсе крыть было бы нечем. Тогда, как говорится, поднимай руки, прекращай всякие расследования и бегом неси тюльпаны на могилу Кобы.
Еще одно категоричное суждение. Бывший военнослужащий, член КПСС с 1939 года С. А. Бугорский из Симферополя пишет:
«…В последнее время столько запестрело всяких публикаций, что Сталин — сущий изверг, ничем другим не занимался в государстве, лишь ощипывал кур, прятался от охраны, да приказывал Ежову, а потом Берии беспощадно уничтожать советских людей. А органы НКВД — НКГБ — МГБ только и занимались тем, что постреливали…
Надо бы знать некоторым критикам, что после февральско-мартовского пленума 1939 года в стране соблюдалась строжайшая законность и с той поры органы государственной безопасности, как и сейчас, без прокуратуры, суда не арестовывали и тем более не расстреливали невинных людей».
Очень хотелось бы, уважаемый Степан Аникеевич, согласиться с вами. Но, увы, не можем — следствие располагает документами, беспристрастно подтверждающими, что и арестовывали без санкции прокурора, и расстреливали после выбитых пытками «признаний». И не только в тридцать девятом, но и позже — до самого начала войны и даже после ее завершения. Впрочем, об этом мы уже говорили выше.
Несколько особняком от всей почты стоит письмо И. Т. Шеховцова из Харькова. Он одним из первых откликнулся на сообщения в прессе о расследовании «Куропатского дела». Иван Тимофеевич обрел всесоюзную известность после участия в транслировавшемся по Центральному телевидению процессе, где он выступил в защиту Сталина, его чести и достоинства от посягательств писателя А. Адамовича и газеты «Советская культура».
В Прокуратуру БССР И. Т. Шеховцов написал:
«Как бывший следователь и прокурор понимаю, что дело возбуждено для установления истины предусмотренными законом средствами в связи с большим общественным значением фактов, вокруг которых людьми, менее всего заинтересованными в установлении исторической правды, развязана кампания, приобретающая, как это видно из публикации «Огонька», опасный характер.
…Это одно из проявлений развязанной нашими средствами информации кампании по дискредитации Сталина в отечественной истории, всего „сталинского периода“ и тех, кто пытается призвать к разуму, честности и порядочности распоясавшихся ниспровергателей. Я — один из тех, кто пытался это сделать, за что решением суда был признан „торжествующим защитником палачей“ (Известия, 1989, 23 сент.).
Сейчас еще рано предполагать возможные результаты расследования. Трудно представить, что дело будет направлено в суд, так как нет обвиняемого. Думаю, пожелание А. Адамовича судить наше государство останется всего лишь пожеланием. Возможно, „обвиняемым“ будет Сталин. Но тогда необходимо соблюдение всех предусмотренных законом процессуальных гарантий его права на защиту, начиная с „предъявления обвинения“ с участием защитника (в таком деле участие защитника в процессе необходимо именно с этой стадии) и кончая ознакомлением защитника с материалами законченного уголовного дела, а затем — участием его в судебном разбирательстве. Но до этого, как я понимаю, должен быть издан союзный законодательный акт, устанавливающий возможность расследования уголовного дела в отношении умерших…
Скорее всего по материалам дела будет организован „общественный суд“. Но и в этом случае следственные материалы должны быть такими же убедительными, как если бы они направлялись для рассмотрения в судебные органы. Должен быть назначен и общественный защитник, который имел бы право на заявление ходатайств, вплоть до возвращения дела для производства дополнительного расследования и его прекращения.
С учетом характера развязанной в Белоруссии, а теперь уже и в общесоюзном масштабе кампании вокруг обнаруженных в Куропатах захоронений этому защитнику придется очень трудно. И тем не менее, предлагаю свою кандидатуру. (Сейчас не осуждается предложение себя)…»
Это письмо вряд ли нуждается в пространном комментарии. Позиция его автора предельно обнажена, он не может допустить «дискредитации Сталина в отечественной истории» и готов не пощадить «живота своего» в отчаянной схватке с «распоясавшимися ниспровергателями». Но одно хотелось бы заметить уважаемому Ивану Тимофеевичу. Настойчиво требуя в будущем процессе над Сталиным, если такой состоится, соблюдения «всех предусмотренных законом гарантий», он почему-то напрочь забывает, что именно с повеления «великого и мудрого вождя» в середине тридцатых годов было отменено всякое право подсудимого на защиту, а «тройкам» и «двойкам» даровано безграничное право карать, отправлять в ссылку, в лагеря и в Куропаты. О том, как они использовали этот изуверский мандат, немало примеров дано в предыдущих разделах.
В одном из писем приведена пространная цитата из выступления штатного государственного обвинителя, Прокурора СССР Вышинского. С присущим ему напором и пафосом он воскликнул однажды:
«Пройдет время. Могилы ненавистных изменников зарастут бурьяном и чертополохом, покрытые вечным презрением честных советских людей, всего советского народа.
А над нами, над нашей счастливой страной по-прежнему ясно и радостно будет сверкать своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш народ, будем по-прежнему шагать по очищенной от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нашим любимым вождем и учителем — великим Сталиным — вперед и вперед, к коммунизму!»
Не вступая в полемику с автором, скажем, что главный обвинитель страны все-таки ошибся. Нет у его жертв могил и нечему зарастать бурьяном и чертополохом.
Но пройдет совсем немного времени и в Куропатах, в других местах народной боли и горечи встанут обелиски, будут сооружены мемориалы и пантеоны. На мраморных плитах напишут имена павших, чтобы возвратить их из небытия в историю и в будущее. А суд над палачами — большими и маленькими — состоится, и будет вынесен приговор. Это сделает время. Оно — главный судья.
…Каждый день почта приносит новую пачку писем с лаконичным адресом на конвертах: «Минск, Прокуратура БССР, „Куропаты“». Из всех уголков страны люди обращаются к следствию с надеждой узнать что-нибудь о судьбе своих близких, осужденных когда-то «без права переписки», «на поселение…», «в ссылку». Хотя жизненные дороги тех, о ком они и через полвека помнят и желают получить весточку, проходили далеко от Белоруссии, они обращаются сюда, в Минск, потому что надежда не ведает границ.
Открываем конверт: «Умоляю, ответьте, не встречалось ли вам имя моего отца…» Кто знает: а вдруг этот крик исстрадавшейся души поможет заполнить хотя бы одну из пустующих пока строк в скорбной повести о Куропатах? Вдруг поможет… И уходят в архивы, в суды и Прокуратуру СССР, в КГБ и МВД СССР, по многим адресам запросы и просьбы, несущие надежду на возвращение истины. Выходит, и через год следствие не закончено, оно продолжается…
Примечания
1
Не исключено, что именно оно помогло на время отсрочить расправу.
(обратно)
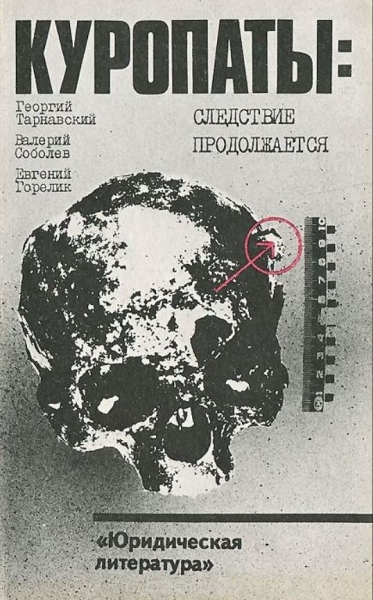

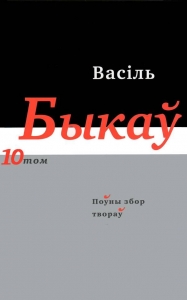
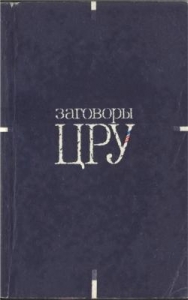
Комментарии к книге «Куропаты. Следствие продолжается», Георгий Тарнавский
Всего 0 комментариев