ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Книга известного польского писателя и журналиста Веслава Гурницкого «Песочные часы» не может никого оставить равнодушным. В ней рассказывается о безмерно трагическом периоде в жизни кампучийского народа — кровавом правлении террористической клики Пол Пота — Иенг Сари — Кхиеу Самфана, трудной борьбе кампучийских патриотов против преступного режима, их исторической победе 7 января 1979 года, открывшей перед истерзанной Кампучией светлые горизонты строительства новой жизни.
В. Гурницкий был в числе зарубежных журналистов, которым довелось одними из первых побывать в Кампучии вскоре после ее освобождения от полпотовского режима. Поэтому его книга, написанная как репортаж с места события, что называется, «по горячим следам», захватывает своей исключительной достоверностью, она напоминает рассказ человека, идущего через еще не рассеявшийся дым только что отгремевшего кровопролитного сражения. Автор стал непосредственным очевидцем того, во что превратилась Кампучия за 3 года и 8 месяцев хозяйничанья палаческого режима, и с присущим ему мастерством писателя-публициста нарисовал потрясающую картину чудовищных преступлений полпотовских временщиков и их бесславного падения.
Вместе с тем человек, пишущий «по горячим следам», при всех достоинствах этого метода всегда сталкивается и с рядом трудностей, главная из которых — недостаток историко-документального материала, в частности в нашем случае — документов полпотовского режима, анализ которых позволил бы с научной точностью определить движущие пружины и мотивы вдохновителей этого современного варианта средневекового варварства. В. Гурницкий, несмотря на эту трудность, тем не менее предпринял весьма интересную, на мой взгляд, попытку выявить генезис, полпотовщины как конкретно-исторического явления, обнаружить ее корни и истоки, проследить процесс ее возникновения и эволюции. Однако недостаток документального материала, что в первые недели после падения этого антинародного режима было вполне объяснимо, не позволил автору избежать некоторых неточностей или спорных утверждений.
В настоящее время мы располагаем значительным количеством достоверной документальной информации, воссоздающей в довольно полном объеме картину развития событий в Кампучии в течение последнего, самого бурного десятилетия ее истории. Наиболее впечатляющие разоблачительные документы были оглашены на открытом судебном процессе над Дол Потом и Иенг Сари, который состоялся в августе 1979 года в Пномпене. В результате тщательно проведенного расследования и на основании многочисленных документов полпотовского режима, показаний свидетелей, вещественных доказательств был составлен Обвинительный акт, раскрывающий действительно противоправный характер правления Пол Пота и его камарильи и всю «механику» их чудовищных преступлений против человечности. В мае 1981 года состоялся IV съезд Народно-революционной партии Кампучии, в документах которого содержится глубокий анализ «полпотовского периода» в истории партии и страны. Наконец, в Советском Союзе, в самой Кампучии, во Вьетнаме, других зарубежных странах за прошедшие три года появилось немало работ научного и политического характера, в которых дана развернутая характеристика полпотовщины как чудовищного социально-политического явления.
Основываясь на этих материалах, я хотел бы предложить вниманию читателей небольшую историческую справку, чтобы с самого начала пролить свет на причины и истоки кампучийской трагедии, о которой повествует книга В. Гурницкого «Песочные часы».
До 1953 года Кампучия, так же как Вьетнам и Лаос, являлась частью французского «Индокитайского союза», Вьетнамский, лаосский и кампучийский народы плечом к плечу вели трудную борьбу против колонизаторов за свое национальное освобождение.
Этой борьбой до 1951 года руководила Коммунистическая партия Индокитая (КЛИК), созданная в феврале 1930 года великим сыном вьетнамского народа Хо Ши Мином. К 1951 году обстановка в Индокитае изменилась. Национально-освободительные революции во Вьетнаме, Лаосе и Кампучии находились на различных этапах развития, что, естественно, ставило перед коммунистами трех стран различные по своему характеру, масштабам и методам решения задачи. В феврале 1951 года на П съезде КПИК было принято решение о разделении этой партии на три самостоятельные. Так возникли Партия трудящихся Вьетнама (ныне — Коммунистическая партия Вьетнама), Народная партия Лаоса (ныне — Народно-революционная партия Лаоса) и Кхмерская народно-революционная партия (ныне — Народно-революционная партия Кампучии — НРПК).
Действуя со дня основания в глубоком подполье, НРПК последовательно выступала в роли политического авангарда патриотических сил Кампучии, поддерживала тесные отношения с вьетнамскими и лаосскими соратниками, координируя с ними борьбу против колонизаторов, за национальное и социальное освобождение. До 1960 года во главе НРПК стоял ветеран национально-освободительной борьбы Сон Нгок Минь. В сентябре 1960 года на II съезде партии ее руководителем был избран коммунист-интернационалист Ту Самут. Съезд принял новую программу, которая соответствовала обстановке, изменившейся после подписания в 1954 году Женевских соглашений и ухода французских колонизаторов из Индокитая.
Но эту программу кампучийским коммунистам не суждено было осуществить. В конце 1953 года в Пномпень из Франции вернулись Пол Пот, Кхиеу Самфан и ряд Других «левых». Лучше ориентируясь в городских условиях, чем ветераны партии, проведшие много лет в партизанских отрядах в джунглях, ловко манипулируя ультрареволюционными лозунгами, они вскоре захватили в свои руки руководство Пномпеньской партийной организацией.
Затем им удалось навязать партии острую дискуссию по жизненно важным вопросам тактической линии. Какая форма борьбы партии после достижения Кампучией национальной независимости должна быть главной — вооруженная или политическая? Поддерживать ли антиимпериалистическую политику тогдашнего правительства Кампучии или бороться против него? Оставаться ли НРПК в составе единого фронта патриотических сил Индокитая или под флагом «независимости и самостоятельности» вести борьбу обособленно? На все эти вопросы Пол Пот давал однозначные ответы: только вооруженная борьба, никакой поддержки правительству, партия должна идти «независимым» курсом.
После II съезда партии Пол Пот стал личным секретарем Ту Самута и, пользуясь своим положением, начал сколачивать антипартийную группу. 27 мая 1962 года Пол Пот и его единомышленники тайно совершили злодейское убийство Ту Самута и некоторых других членов руководства. В 1963 году Пол Пот встал во главе партии и начал перестраивать ее деятельность на левоэкстремистский лад. Ветераны КПИК, все, кто выступал за тесную солидарность с Вьетнамом, Советским Союзом, физически уничтожались. Так, в 1972 году был отравлен находившийся в госпитале Сон Нгок Минь.
18 марта 1970 года к власти в Пномпене в результате государственного переворота пришла проамериканская военная группировка во главе с генералом Лон Нолом. НРПК приняла активное участие в создании Национального единого фронта Кампучии, который возглавил борьбу кампучийского народа против американских ставленников. Вооруженные отряды НРПК стали костяком созданной Армии национального освобождения. Большую помощь в ее формировании, в создании на территории Кампучии освобожденных районов и опорных баз оказали НРПК вьетнамские братья. Патриоты Кампучии нуждались в материальной и политической поддержке Вьетнама, стран социализма, по этой причине до окончания войны Пол Пот и его сторонники не решались открыто демонстрировать свои антивьетнамские, антисоциалистические настроения.
После освобождения Кампучии в апреле 1975 года перед кампучийским народом открылась возможность мирного строительства новой жизни. Однако события в стране стали развиваться вразрез с чаяниями народа. Узурпировавшая абсолютную власть в стране и партии клика Пол Пота — Иенг Сари — Кхиеу Самфана попыталась вырвать у народа плоды завоеванной победы.
Полпотовские временщики приступили к строительству невиданного в истории общества — без городов, без собственности, без рынков и денег, без семьи. Первой же «радикальной» акцией полпотовцев в освобожденной Кампучии стало насильственное выселение в течение 72 часов из Пномпеня и других городов всех жителей. Только в ходе этого чудовищного эксперимента погибли от голода, жары, эпидемий сотни тысяч людей.
Из горожан и сельских жителей, пересортированных и рассеянных по всей стране, создавались «сельскохозяйственные коммуны», которые в действительности являлись замаскированными концлагерями. Вместе с частной собственностью была ликвидирована и личная. Всякая свобода личности, уважение элементарных человеческих прав отсутствовали. Было ликвидировано денежное обращение. Учебные заведения были закрыты а их здания превращены в тюрьмы и казармы. Не работали кинотеатры, телевидение. Страна была изолирована от внешнего мира.
Кампучийцы были разделены на три категории по степени лояльности режиму. Представители второй и третьей категорий квалифицировались как «недочеловеки» и подлежали «перевоспитанию» или истреблению. Жестоким преследованиям и физическому уничтожению подвергалась прежде всего образованная часть населения — творческая и техническая интеллигенция, студенчество, служащие, духовенство. Истреблялись также целые народности, религиозные группы населения. Полпотовские вандалы осуществляли небывалый по масштабам геноцид в отношении собственного народа. За 44 месяца их правления было уничтожено, замучено, погибло от голода и болезней около 3 миллионов человек.
Крайне жестокий удар обрушили полпотовцы и на НРПК, уничтожив 90 процентов верных марксизму-ленинизму членов партии. Как указывается в сегодняшних документах НРПК, полпотовская клика «разрушила партию, заставила ее отступить от позиций рабочего класса, изменить принципам марксизма-ленинизма», навязала ей «реакционный экстремистский национализм» и в конечном счете превратила партию в «контрреволюционную организацию, организацию палачей и убийц… для проведения в стране массового террора, равного по жестокости которому не знала история человечества».
С первых же дней своего существования полпотовский режим взял курс на подрыв традиционных уз солидарности народов Индокитая, развязав кровопролитную войну против социалистического Вьетнама. Объектом вооруженных провокаций стал не только Вьетнам, но и другие соседние с Кампучией страны.
Таким образом Кампучии была навязана настолько чудовищная «модель» политического устройства общества, такой антинациональный, бесчеловечный режим, что это не могло не вызвать всеобщего гнева и возмущения в стране. Борьбу кампучийских патриотов за свержение преступной антинародной клики возглавили оставшиеся в живых истинные коммунисты, которые осознали смертельную опасность полпотовщины для дела кампучийской революции. Важнейшее значение для успешного развертывания борьбы имел тот факт, что революционно-патриотическим силам удалось установить тесные связи с братским Вьетнамом, получить поддержку прогрессивной мировой общественности.
2 декабря 1978 года в одном из освобожденных районов страны был создан Единый фронт национального спасения Кампучии во главе с видным патриотом Хенг Самрином. Революционно-патриотические силы сумели превратить агрессивную войну, развязанную полпотовцами против Вьетнама, в революционную гражданскую войну. 7 января 1979 года Пномпень, а вслед за ним и вся Кампучия были освобождены Революционными вооруженными силами. 10 января была провозглашена Народная Республика Кампучия. В Кампучии победила народно-демократическая революция.
В своей книге Веслав Гурницкий пишет, что полпотовцы «не были импортированы извне, не были шайкой подосланных убийц, абсурдной исторической случайностью». В принципе с этими утверждениями можно согласиться. Можно даже предположить, что на заре своей политической деятельности это были честные люди, искренне стремившиеся к скорейшему национальному и социальному освобождедию своего народа и в силу этого страдающие симптомами болезни «левого экстремизма», вполне простительной для людей, чьи сердца переполняют ненависть к угнетателям и мечты о ниспровержении существующего строя. Но когда после победы революции экстремизм возводится в ранг государственной политики, это неизбежно приводит к тому, что даже истинные, но политически невежественные революционеры постепенно становятся фанатичными разрушителями и хладнокровными убийцами. «Невежество, — писал К. Маркс, — это демоническая сила…оно послужит причиной еще многих трагедий»[1].
Пол Пот, хотя он не стеснялся именовать себя коммунистом, имел, как показывает анализ его биографии и печатных трудов, крайне смутное, более того — совершенно превратное представление о теории научного коммунизма. В юности он шесть лет провел в буддийском монастыре, из них два года соблюдал обет монашества. В студенческие годы в Париже примкнул к троцкистской группе, где познавал азы ультрареволюционной «науки». Впоследствии эклектическая мешанина из левоэкстремистских лозунгов и религиозно-мистических представлений трансформировалась в его сознании в идеологию мелкобуржуазного утопического псевдосоциализма и воинствующего национализма. Пол Пот и его окружение стали ревностными сторонниками теории «крестьянской революции», проповедниками «особого пути» кампучийского освободительного движения. В силу объективных конкретно-исторических условии Кампучии демагогия Пол Пота о том, что «город — это средоточие контрреволюции», а «главная революционная сила — крестьянство», падала на благодатную почву, особенно в годы борьбы за освобождение Кампучии от проимпериалистического режима, когда происходил бурный рост рядов партии за счет притока неграмотной крестьянской молодежи из наиболее отсталых в экономическом и культурном отношении районов страны.
Подобно бланкистам, которых высмеял В. И. Ленин, полпотовцы считали, что «раз они хотят перескочить через промежуточные станции и компромиссы, то и дело в шляпе, и что если… на этих днях «начнется», и власть очутится в их руках, то послезавтра «коммунизм будет введен»[2]. Очутившись у кормила власти, Пол Пот первым делом громогласно объявил, что он покажет «всем этим ревизионистам», как Кампучия успешно осуществит «стопроцентную, полную революцию», быстрее всех построит «радикальный, чистый социализм». Полпотовцы не принимали в расчет никаких общественных отношений, они не располагали какой-либо собственной конкретной программой переустройства общества.
На формирование идейно-политических взглядов Пол Пота большое влияние оказало непосредственное знакомство с «культурной революцией», которая в середине 60-х годов потрясла Китай. По его же собственным словам, он был пленен этим мощным разгулом «революционного духа масс», физические расправы и духовное глумление над миллионами людей он называл «очищением организма от болезненных явлений». На родину он вернулся убежденным поборником насаждения опыта «культурной революции» в Кампучии.
То, что руководящей идейно-политической доктриной полпотовского режима был этот опыт, показывает даже самый поверхностный анализ.
Кампучийский вариант «культурной революции» превзошел все мыслимые масштабы злодеяний. Физическое уничтожение инакомыслящих; навешивание ярлыка «враг», со всеми вытекающими отсюда последствиями, на представителей наиболее передовой в культурном отношении части населения; ликвидация системы просвещения; искоренение «наследия прошлого», сопровождавшееся разрушением памятников древней культуры и сожжением на кострах научных, учебных и художественных изданий, — все это стало в полпотовской Кампучии нормой жизни.
В своей книге В. Гурницкий, стремясь проникнуть глубже в суть происшедшей в Кампучии трагедии, много размышляет сам и заставляет размышлять читателя о вещах и явлениях, хотя подчас и не имеющих прямого отношения к теме книги, но помогающих найти ответ на поставленные автором вопросы. Эти размышления, своего рода философские раздумья автора, представляются весьма интересными, они свидетельствуют о творческом, нестандартном подходе даже к тем явлениям, которые кажутся ясными, о попытках автора по-новому, по-своему осмыслить сложные проблемы века. Именно такую оценку можно дать рассуждениям автора относительно доктрины китайской «культурной революции», где он стремится разобраться, в чем причина того, что этот в общем трагический зигзаг в истории современного Китая находил все-таки своих приверженцев и почитателей в самых разных странах мира. Хотелось бы только добавить к этому, что представленный автором анализ, скорее всего, мог бы быть несколько иным, если бы его книга была написана после появления решений VI пленума ЦК Компартии Китая (июнь 1981 г.) и других политических документов КПК, в которых «культурная революция» подвергнута суровому осуждению, а порядки, существовавшие при ней, названы «жесточайшей военно-феодальной диктатурой».
Оригинальны, но вряд ли правильна мысль автора о роли автомата в развитии революционных движений в Азии. Мне кажется, это упрощенческий подход к важным социально-политическим проблемам современности, сводящийся в конечном счете к перефразированию известного лозунга «винтовка рождает власть». О начале «пробуждения Азии» В. И. Ленин писал еще в 1913 году. После Великой Октябрьской социалистической революции этот объективный исторический процесс в Азии, как и на других континентах, развивается вширь и вглубь, национально-освободительные войны сменяются социальными революциями. Кстати сказать, великие освободительные революции в Азии — в Монголии, Вьетнаме, Корее, Китае — победили тогда, когда основным видом оружия была винтовка. Кроме того, автоматами, да и не только ими, вооружены до зубов также и те, кто подавляет «азиатские революции», и, если эти революции все-таки побеждают, значит, дело вовсе не в автоматах. Что же касается полпотовцев, от которых автор отталкивается в своих рассуждениях о роли автомата, то они-то как раз, творя свои кровавые преступления, больше доверяли не автомату, а более простому в обращении орудию — обыкновенной крестьянской мотыге.
Веслав Гурницкий — из тех писателей, кто уютной кабинетной тиши предпочитает передний край бурных социально-политических событий, потрясающих планету. Он изъездил чуть не весь мир, особенно много бывал в азиатских странах. Его можно встретить практически везде, где идет или шла борьба не на жизнь, а на смерть между силами добра и зла, свободы и угнетения, за лучшее будущее людей. Закономерно поэтому, что он оказался и среди летописцев кампучийской драмы.
Думаю, что книга В. Гурницкого «Песочные часы» будет с большим интересом встречена советским читателем. Хотя после освобождения Кампучии от кровавого полпотовского режима прошло уже четыре года, эта тема не потеряла своей злободневности. Нагнетая сегодня враждебную кампанию против Народной Республики Кампучии, отдельные деятели в Вашингтоне и столицах ряда других стран начинают забывать или же делают вид, что забывают, о вопиющих преступлениях полпотовских палачей, стремятся обелить их в глазах мировой общественности, придать им респектабельность. И все это делается ради того, чтобы использовать остатки полпотовских банд в вооруженной борьбе против новой Кампучии, в хитроумных политических комбинациях, направленных на ликвидацию народной власти, установление в этой стране порядков, угодных силам империализма и реакции. Книга В. Гурницкого — гневное напоминание всем тем, кто вольно или невольно хотел бы гальванизировать политические трупы полпотовских убийц и мракобесов, отвергнутых своим народом и навсегда вышвырнутых из Кампучии.
Е. Васильков
I–X
I. В четверть шестого мы уже были на границе. Еще не рассвело. Подернутый дымкой, еле заметный, месяц из последних сил держался над сухим, изуродованным снарядами приграничным лесом. Над сетью траншей, над разрушенными бункерами царила тишина, нарушаемая лишь чуть слышным плеском уклеек в придорожной канаве.
Начальник охраны решил переждать до утра. Смущенно улыбаясь, он сказал, что на той стороне еще опасно бродить в потемках. «Вредные элементы» иногда напоминают о себе. Разумеется, не слишком часто. Скорее редко. Можно сказать, лишь время от времени. Однако он отвечает за нашу безопасность, а потому просит нас примириться с этой маленькой заминкой. Впрочем, это ненадолго. Через двадцать минут взойдет солнце.
Моторы выключены. Солдаты охраны закинули за спину автоматы. Лишь около головной машины, притаившись за капотом, как молодой тигр, солдатик в легком, похожем на шляпу шлеме нацелил автомат в вязкую тьму. Его карие глаза терпеливо обшаривали ночной мрак.
Позевывая, ругаясь, что-то бормоча, мы разбрелись по дороге. Все были согласны в одном: вовсе ни к чему вскакивать в три часа ночи. Откуда-то появилась бутылка вьетнамской водки под названием «луа мой», что значит в переводе «новый рис». Пять утра — это прекрасное время для борьбы с горечью бытия, тем более что последний бой завершился далеко за полночь в ожесточенных спорах, в чаду взаимоисключающих мнений. Только переругавшиеся небритые мужчины со стаканами в руках могут понять, что такое эти дурные и дурацкие ночи.
Я лениво поплелся вперед, шатаясь от усталости, отшвыривая носком ботинка пустые гильзы и засохшие лепёшки буйволиного помета.
Впрочем, встать в три часа утра — это в некоторых отношениях неплохо. Я люблю эти часы, сонные, злые, полные беспорядочных, грубоватых сновидений, часы каждодневного искупления грехов. В эти часы хорошо думается: дерзко, небрежно, без оглядки на логику, на дневные страхи и притворство. Со всей откровенностью. Быть может, только в такие минуты с человека слетает вечное его беспокойство по поводу манер и прически, желание всем нравиться и никого не задевать.
II. Итак, решено. Не буду писать никакой книги. Мне уже осточертело «собирать материал», заниматься болтовней, поправлять, подгонять, читать внутренние и внешние рецензии, ходить на «авторские вечера», делать горькие сравнения, подсчитывать ошибки. Хватит. Довольно. У меня есть на что жить. По какому, собственно говоря, поводу я должен участвовать в наращивании словесного потопа и притворяться, что собираюсь сообщить нечто важное? Ничего важного сказать я не в состоянии.
Это становится смешным и неприличным. Все вокруг что-то наперебой строчат, в поспешности и горячке, словно завтра навек пропадут типографская краска и бумага. По всей стране разносятся оголтелый стук пишущих машинок и пронзительный скрип авторучек. Молодые польские прозаики со значительным видом уведомляют нас, что одна дама отказала им в прелестях своего тела и по этому поводу они приняли повышенную дозу алкоголя. Бумажные поручики тиражом в сто тысяч экземпляров победно расправляются с негодяями-преступниками. Сатирики хлещут своими бичами но четыре тысячи семьсот пятьдесят злотых с листа. Люди отправляются в научную командировку для изучения божьих коровок, полярных или тропических, и лотом годами строчат столбцы насчет цвета и вкуса касторового масла. Польские собственные и специальные корреспонденты тоже хороши: что ни выезд, то книга. Весь мир, от Шпицбергена до пустыни Гоби, описан уже сто шестьдесят восемь раз. Спецкоры побывали даже на Фолклендских, Триобрандских и Андаманских островах. Космос, полюс, пустыня — Пожалуйста! У вас, мистер Г., тоже много кое-чего на совести.
В обычное время этот кинематограф засасывает по инерции. Все превосходно: ставятся проблемы, формируются точки зрения, биржа работает, сверху снисходительно взирают на эти игры, жизнь течет. Но иногда проектор гаснет во время сеанса. В зале загорается свет. И мы с удивлением смотрим друг на друга, вспотевшие от писания, запыхавшиеся в толкотне, с налитыми завистью глазами. Тогда хочется заорать, что все это мы выдумали, что подлинные проблемы нашего века совсем не таковы и решаются они в совершенно других местах планеты. Но вот через минуту вновь закрутилось кино, и все сомнения вылетают из головы. Лишь бы вперед. Если даже кто-то испытывает потребность привести в порядок свои мысли, то он не обратится за помощью к трудам аккредитованных за рубежом корреспондентов. Да и немногие в этом нуждаются.
Бумажный мир, жевательная резинка, пластмассовые души, усталые глаза корректоров и библиотекарш, нехватка целлюлозы, падающие сосны, тоска такая, что не обойтись без ста граммов пшеничной.
Видно, так и должно быть. Каждый подготовил рассказ и хочет прокричать его, пока можно. Некоторые рассказы даже недурны. Да и мои иногда тоже.
Но это не занятие для мужчины.
III. Обойдись я даже без этих язвительных и плоских замечаний, которые родились в полусонном мраке как следствие нарушения в подкорковых центрах химических процессов, все равно пришлось бы принять к сведению, что мы давно говорим на разных языках. Кого убеждать, кого обращать? Что бы я ни написал, меня обязательно на чем-то поймают или покажут, как обо многом я умолчал, не коснувшись таких-то и таких-то не относящихся к делу вопросов.
Вот уже двадцать лет я убежден, что по-настоящему жгучие проблемы рода человеческого решаются в Азии, и больше нигде.
Но как я могу это доказать? Что есть у меня, кроме чисто субъективной уверенности, которую легко счесть одержимостью, безобидной манией? Кого по-настоящему интересуют отдаленные уголки Азии как полигон, где испытываются на прочность элементарные понятия? Писатель, который ищет незамутненной человечности среди живущих под Варшавой люмпенов, никогда не примет моего предложения перенести изучение доли человеческой на тринадцать тысяч километров юго-восточнее Краковского Предместья[3]. И если я ему скажу, что знаю наших люмпенов не хуже его и не вижу смысла отыскивать в них человечность, умалчивая о судьбе тех, далеких людей, тогда он спросит (и не без оснований), что же я предлагаю, коль скоро не все хорошо переносят тропики. Тут дискуссия и оборвется, поскольку моя азиатская одержимость не выдержит испытания теми строгими критериями зла и добра, которые устанавливаются каждый день в полдень начитанными и впечатлительными людьми, с чистыми или почти чистыми руками. Если сказать им, что каждый молчит о чем-то своем и у двух молчаний разная цена, а подлинная мера бедствий человеческих объективна и легко проверяется, они со значительным видом продемонстрируют мне свой приватный космос, не выходящий за пределы четырех варшавских улиц, и иронически спросят: неужели я не вижу здесь ничего интересного? По их мнению, именно здесь всего чувствительнее действие повседневных и экзистенциальных терзаний, достойных увековечения на бумаге. Элементарный опыт всегда является наилучшим исходным пунктом для созидания мира, абсолютной истины и нравственности. Остальное — это газетная писанина лучшего или худшего качества. Как правило — худшего. Я на это сердито отвечу, что по мне лучше та подлинность, которая присуща, скажем, народу Зимбабве, чем та модель социальной впечатлительности, которая импортирована и перенята совсем не от тех, кто может сказать нечто новое. Они саркастически фыркнут и спросят (опять-таки не без повода), какой способ мышления представляется мне более распространенным и не степень ли распространенности должна быть в конце концов надежным ориентиром для лиц, которые с такой охотой выступают от имени народов и континентов.
Это не имеет смысла. И никогда не будет иметь. Существует непреодолимый барьер, воздвигнутый воображением и опытом, масштабом сравнений, исключающими друг друга образами мышления, один из которых наверняка ложен. Когда-то я думал, что множественность подходов содействует познанию истины и красы мироздания. Затем лишился иллюзий. Поскольку это превращается в разговор слепого с глухим, который никогда ни к чему не приведет.
Убедившись в наличии таких расхождений, разумно хранить молчание.
IV. Нет, конечно, я напишу, что мне положено, Процедура мне прекрасно известна. Надо просто сориентироваться, как выглядит положение в Кампучии три недели спустя после свержения Пол Пота. Надо объяснить, как получилось, что «красные кхмеры»[4], о которых не так давно писались доброжелательные статьи, из друзей превратились во врагов. И наконец, мне надо удостовериться, насколько соответствуют истине сообщения мировой печати о невиданной жестокости только что свергнутого режима. И как это вышло, что все четыре года никто действительно не имел достоверных сведений о Кампучии. Этого хватит на пять, может быть, на шесть серьезных статей.
И хорошо. Большего не требуется.
V. Вдруг из-за молчаливого холма брызнуло рыжее солнце и начало карабкаться по восточной стороне небосвода с такой скоростью, словно его тянула стрела подъемного крана. Восход солнца в тропиках — это всегда дурно срежиссированный спектакль: становится просто неловко за дилетантскую беспомощность постановщика. Мир становится невсамделишным, искусственным, каким-то неухоженным. Барахло вылезает из-за каждого дерева. Дома покачиваются на курьих ножках. На человеческих лицах, словно бы сделанных из папье-маше, видны следы уродливого грима.
В одну минуту заголосили птицы. Из-за уплывающих облаков полились струи светлого сухого жара. В придорожных зарослях начали раздаваться шуршание и чавканье, шелест и сопение. Заворчали моторы. Охрана подбежала к машинам. При дневном свете открылась взгляду испепеленная солнцем земля, на которой росли редкими клочьями пырей и пыльный лопух. На солнце поблескивали брошенные каски и фляги, обгоревшее брюхо бронетранспортера, неразорвавшиеся снаряды, одна сандалия из автопокрышки и обломки военной техники неизвестного назначения.
Десять с липшим лет ходит по этой земле война. Район «Клюва попугая»[5] — это одно из самых разоренных мест в Азии. Где-то поблизости легендарное индокитайское шоссе № 1 пересекается с давней «тропой Хо Ши Мина». Уже нельзя установить, кто подорвал эти железобетонные бункера и перепахал бомбовыми взрывами стрелковые окопы, где полно гильз, осколков и окровавленных тряпок. На ящиках из-под артиллерийских снарядов — китайские иероглифы. На пулеметных лентах — американская нумерация и отчетливо видное название фирмы: «Brunswick Mfg. Co, USA». У искореженной противотанковой установки знакомые очертания, напоминающие о немецких фаустпатронах сорокалетней давности.
Партизаны воевали здесь с войсками сайгонского режима, американцы — с вьетнамцами, «красные кхмеры» — с войсками Лон Нола, штурмовые бригады Пол Пота — с народной милицией объединенного Вьетнама, новые кхмерские партизаны — с карательными экспедициями полпотовцев. Стреляли и по солдатам в мундирах, и по босоногим крестьянам, по беженцам, женщинам и маленьким детям.
Ни одно преступление, ни одно бедствие не обошли этого закоулка Азии, так как эта территория — ключ ко всему Индокитаю. В силу этого вопрос о судьбе небольшого кусочка земли переносится в высокие сферы мировой политики. Достаточно глянуть на карту: две драконьи челюсти, которые охватывают Сиамский залив, не могут не оказывать ошеломляющего воздействия на умы генштабистов. Здесь пересекаются воображаемые траектории ракет средней дальности, которые идут от Синьцзяна к Молуккскому проливу, от острова Диего-Гарсия до Сахалина. Здесь пролегают кратчайшие воздушные пути. Здесь находятся стратегические акватории дальневосточных флотов и районы, где шныряют подводные лодки, которые вскоре будут вооружены ракетами с ядерными боеголовками мощностью в десять с лишним килотонн и снова будут вынуждены держаться поближе к мелким прибрежным шельфам Южной Азии. Мимо пасти дракона проплывают суда, груженные малайским оловом, корейским вольфрамом, индонезийской нефтью.
Уже несколько десятилетий здесь сталкиваются глобальные интересы, стратегические расчеты, полученные с помощью компьютеров, идеологические принципы, упрощенные до примитивизма, насилие, выступающее без всяких покровов, и народные революции, грозные и чистые, словно пламя. Это относится ко всему данному региону, но здесь, на выгоревших полях «Клюва попугая», все это можно увидеть сразу же, в такой конденсированной форме, которую может создать в своей лаборатории только сама история. Достаточно пройти десять шагов. Здесь рвались авиабомбы и гаубичные снаряды. Раздавались залпы корабельных орудий. Стреляли замаскированные пулеметы. Но больше всего следов оставило автоматическое стрелковое оружие.
VI. Ни хлеб, ни деньги, ни лекарства не имеют ныне столь универсальных свойств и применения в таком поистине общепланетном масштабе, как огнестрельное автоматическое оружие с соответственным запасом патронов. Пятизарядная винтовка, вроде маузера 08/15, была все-таки оружием слишком сложным для партизана-крестьянина. Требовалось иметь представление о разбросе пуль, пользоваться прицелом с изображенными на нем цифрами, заниматься утомительной чисткой длинного ствола. Винтовка была неудобна. Ее трудно было спрятать. Для джунглей она не годилась. А из автомата сумеет выстрелить любой, даже десятилетний ребенок. Меткость стрельбы не имеет большого значения, потому что, выпустив патроны только из одного магазина, можно на минуту прижать к земле целый взвод отборной пехоты. Автомат можно изготовить в любом месте земного шара и успешно использовать в совершенно другом конце земли — везде, куда можно доставить ящики с грузом. Для умения пользоваться этим оружием не требуется ни длительного обучения, ни знания иностранных языков, ни даже умения читать и писать. Пользование автоматом — дело простое и легкое, доступное даже неграмотному. Достаточно вставить магазин и нажать на спуск.
Великое, замечательное изобретение. Тот, кто служил в какой-либо из армий мира, наверняка запомнил, как медленно сгибается указательный палец правой руки и одновременно напрягаются мышцы левого предплечья, чтобы смягчить отдачу. После первых выстрелов это ощущение навсегда остается в мускулах, нервах и в мозгу.
У нас, в Европе, после стольких лет мира автомат вызывает ассоциации исключительно с мундирами регулярных армий. Но за эти же десятилетия в мире произошло примерно двести освободительных войн, восстаний, мятежей и партизанских сражений, в которых автомат играл самую важную роль.
Автомат сделался крестьянским, простонародным оружием, оружием примитивным, точно так же, как некогда им были пики и топоры. Он дал азиатским крестьянам то, чего у них не было за всю долгую их историю, а ведь это была история бесчисленных бунтов и отчаянных выступлений, почти всегда кончавшихся поражением: он дал им во много раз большую убойную силу. Силу, которая в двадцать четыре или семьдесят два раза (в зависимости от числа патронов в магазине) результативнее, чем укол пики или удар мачете. Позвякивание пустых гильз в кармане — это сегодня примерно то же, что в давней Европе оседланный конь и хорошо наточенная сабля.
Нет, это, пожалуй, нечто большее,
Автомат нынче стал самым действенным средством преображения мира для тех, у кого есть повод его переделывать или защищать, если он изменился согласно их пожеланиям. Автомат стал самым надежным и абсолютно универсальным мерилом для идеологии, власти, политической линии, системы правления. Если во многих районах Вьетнама почти у каждого едущего на велосипеде крестьянина за спиной автомат, то вывод из этого может быть только один: вооружить народ может в Азии только такая власть, которая в ежедневном молчаливом всеобщем голосовании получает от основных слоев общества одобрение своей деятельности. Наличие оружия у масс и всеобщее умение вести партизанскую борьбу исключают какое бы то ни было манипулирование, являются проверкой каждого отдельно взятого пункта любой программы.
На Азиатском континенте это совершенно новое явление, последствия которого пока трудно предвидеть. Явление необратимое, которого нельзя не учитывать, если речь идет о ближайшем и отдаленном будущем.
Об этих вопросах редко пишут с полной откровенностью. Наши европейские души не все способны переварить. Требования протокола и рассудительности во внешней политике обедняют краски Азии и зачеркивают ее драмы. Мы почти ничего достоверного не знаем об отчаянных выступлениях в Мадиуне[6] и Телингане[7], о борьбе, которую вела армия «Хукбалахап» на Филиппинах, о многолетних боях малайзийских партизан, о бирманских «Белом Флаге» и «Красном Флаге». Но не детали тут важны. Важна сущность происходящего.
В перспективе здесь не удастся ни остановить, ни подавить автоматную стрельбу, пока существуют причины, вследствие которых крестьянин готов стрелять из автомата. Воронки рано или поздно зарастут травой. Джунгли пожрут бетонированные укрепления. Над горными ручьями повиснут новые мостки из лиан. И крестьянин с автоматом в руках станет последней инстанцией, которая выскажет свое суждение о ходе азиатской истории.
Будущее этих трех миллиардов людей определят четыре фактора: производство риса, уровень прироста населения, идеология, которая понятна массам, — и крестьянин с автоматом. И никто другой. И ничто иное.
VII. В этом уголке мира приходится воспевать автомат. Нельзя не воспевать, потому что уже полвека, начиная с шанхайского восстания 1927 года, здесь происходят столкновения принципов столь противоположных, что нет места для каких-либо дискуссий. Точку зрения тех, кто считает нормальной вещью двенадцатичасовой рабочий день для шестилетних детей на прядильных фабриках, что еще по сей день имеет место во многих странах этого региона, нельзя Примирить с позицией людей, стремящихся насильственным путем изменить такое положение дел, невзирая на рентабельность местной текстильной промышленности и на необходимость расстрелять, если придется, владельца прядильни. Не существует способа мирным путем, без применения силы, посредством одного лишь убеждения привести в гармонию интересы яванского ростовщика, у которого в кабале на ближайшие полсотни лет половина деревни и который своих должников оставит в наследство сыну, вместе с домашней скотиной, и взгляды тех, кто полагает, что призывать крестьян к бунту против ростовщика допустимо и оправданно с точки зрения морали, хотя это и может стоить ростовщику головы (без чего, кстати, ни один азиатский крестьянин в реформы и перемены никогда не поверит).
Есть возможность свободного выбора между отрубленной головой помещика или ростовщика и моралью шестисот калорий в день, моралью, навязанной не природою и не одним лишь перенаселением, а такими социальными структурами, существование которых само по себе оскорбляет какую бы то ни было мораль. Неизвестен какой-либо гарантирующий полную объективность критерий, который позволил бы решить, что более соответствует человечности и, следовательно, достойно одобрения: квартал десятилетних проституток в Калькутте, которых в вонючие публичные дома привозят прямо из деревень на всю оставшуюся жизнь, или же потопление барж с несколькими тысячами шанхайских проституток, которых, несмотря на все усилия, не удалось перевоспитать. Оба эти факта поддаются проверке, и каждый может дать им оценку согласно собственным моральным критериям.
Масштабы людских страданий и обид в этой части мира не может воспроизвести никакое описание. Они никогда не становятся предметом широкой гласности, пока дело не дойдет до вооруженного восстания и не будет пущен в ход автомат. Тогда самым интересным вопросом становится вопрос, откуда это оружие, а не причины, которые заставили народ за него взяться. Более чем в ста книгах описывается существовавший в Китае на рубеже двадцатых-тридцатых годов ад для людей. Но ни одна из них не привлекла внимание лощеных клерков Запада ко всему тому, что творили их посланцы в шанхайских международных концессиях. Только успехи Восьмой армии вызвали внезапный придав сочувствия к маленьким китайским сироткам, который, однако, быстро сменился бойкотом, продолжавшимся четверть века. Есть еще триста книг, где описываются послевоенные разновидности того же самого ада в других частях Азии. Но это не удержало французов и американцев от интервенции во Вьетнаме и не помешало англичанам резать головы в Малайзии.
Величие автомата состоит в том, что если превосходство в технике позволило когда-то до конца подавить восстание тайпинов или шанхайское выступление, то ныне крестьянскую партизанскую войну можно в лучшем случае на время пригасить.
Примерно с начала нашего столетия никто из тех, кто углядел в Южной Азии что-то еще, кроме пальм и хижин на сваях, не смог освободиться от восприятия происходившего в категориях решающего выбора. В этих странах человек может быть или моральным сообщником угнетателей, или же поддерживать азиатские революции, если не политически, то по крайней мере нравственно. Эта закономерность, не имевшая в Европе слишком широкого применения (всегда находились какие-либо побочные решения), в Азии не обошла никого, начиная с Джозефа Конрада и Андре Мальро. Свободными от нее были лишь люди, лишенные ума и сердца. В таких недостатка никогда не было. Хватает их и сегодня.
Мы инстинктивно стремимся обходить слишком крайние ситуации, веря в то, что должно же существовать какое-то половинчатое решение, какие-то разумные реформы без применения силы, некий еще неизведанный путь, на который надобно переставить страшную махину нищеты, бесправия и жестокости. Может быть, что-то в этом роде и существует. Но последние тридцать лет не дали достаточных доказательств того, что законность и уговоры приведут здесь к лучшему результату, чем грубая сила.
Я слишком хорошо знаю Юго-Восточную Азию и не могу позволить себе иметь в этом вопросе какие-то иллюзии. Конечно, они у меня случаются. Время от времени я прихожу в восторг при виде ростков прогресса, начинаю вдруг верить в мирную эволюцию, славлю рост урожайности на рисовых полях стран АСЕАН. Но достаточно поехать туда еще раз, чтобы устыдиться этих детских надежд. Другое дело, что есть такие люди, которые потеряли стыд и громко кричат, что голод и несправедливость подходят в Азии к концу. Их совесть спокойна. Я жду, когда они скажут, что леность азиатов — главная причину их бедствий. Это вечно модная песня европейско-американского мещанина, которая воскресает в каждом поколении, как «Танго Милонга» или «Унесенные ветром».
А ведь все это неправда. В несоциалистических странах Юго-Восточной Азии ничего не меняется. А если и меняется, то только в крупных промышленных центрах, в жизни относительно обеспеченных групп населения и в столь мало ощутимой степени, что такие перемены не могут быть аргументом идеологического характера.
Чему, собственно говоря, служит вся эта юридически-дипломатическая болтовня, ЮНИДО и ЮНКТАД, Борлог и Мюрдаль[8], конференции и симпозиумы? Все это игра в прятки, хорошая мина при плохой игре, все равно что мертвому припарки.
Уж сотни раз об этом говорилось.
VIII. Поэтому и стоит, быть может, написать о Кампучии нечто большее, чем простой отчет. Здесь, если я верно понял, произошло столкновение двух различных между собой принципов. Возник первый в регионе конфликт между революционными силами, причины которого необходимо понять, ибо возможны выводы, важные для будущего. Надо внимательнее приглядеться к судьбам известных нам лозунгов, а этого, пожалуй, нельзя сделать в цикле коротких корреспонденции.
Столкновение бедных с бедными, гражданская война, в которой крестьяне стреляют из автоматов, расхождения в понимании одних и тех же слов — все это в сто раз интереснее и важнее, чем описывать конфликты, о которых все известно уже много лет. Сам тот факт, что среди новых руководителей страны преобладают люди, недавно занимавшие офицерские должности у «красных кхмеров», склоняет к тому, чтобы поглубже изучить причины падения Пол Пота. Ведь и у меня до недавнего времени были поводы к тому, чтобы поддерживать «красных кхмеров». Если теперь я вынужден буду отречься от солидарности с ними, это следовало бы как-то выразить, хотя бы ради приличия. В наше время это не самая нужная вещь, большинство людей не испытывают такой потребности. Впрочем, и я провожу эту операцию лишь на бумаге, в то время как в декабре 1978 года британский профессор Малколм Колдуэлл заплатил жизнью за перемену во взглядах по вопросу о «красных кхмерах». Что касается меня, я вижу, что имеющийся здесь воинский эскорт достаточно многочислен для того, чтобы можно было обстоятельно рассуждать в обстановке полной безопасности.
IX. А и то сказать: кому, в сущности, до этого дело? Кто у нас будет забивать себе голову спорами и столкновениями внутри так называемой «желтой расы»? Те, кого это интересует, имеют свое мнение. Мою точку зрения, крайнюю, непримиримую, подчас на грани неуместного ныне догматизма, им трудно принять. Полпотовец, если на него смотреть с варшавской улицы Новый Свят, кажется скорее нелепым, нежели страшным. Впрочем; у нас, в Польше, все эти рассуждения по-настоящему интересны примерно пятнадцати уважаемым «азиатам»-востоковедам. Многим они покажутся материей скучной и их не касающейся. У некоторых вызовут, по всей вероятности, самодовольную усмешку. Я не должен себе внушать, что дело обстоит иначе. Очередной специальный корреспондент рассказывает истории, не поддающиеся проверке. Какое нам до всего этого дело? Что мы можем? Наша хата с краю. Пусть они не размножаются, как кролики. Пусть лучше работают. И вообще оставьте нас в покое, хватит спасать человечество за наш счет.
Конечно, культурная публика любит знать, что за игра ведется, кто берет верх, кому всыпали, «крепко ль держатся китайцы»[9], будет ли война, из-за чего все началось и что дальше. Это желание глубокоуважаемой публики я должен выполнить. Это моя профессия — и как это делается, мне известно.
X. Итак, решено. Никаких сомнений, никаких сложных рассуждений. Ne sutor supra crepidam[10]. Это Простое изречение внезапно наводит порядок в спутавшихся мыслях. Припадок безграничной неприязни к равнодушным людям проходит. Я снова вижу сложность проблем, их обусловленность, горький опыт истории и многое другое.
XI–XX
XI. Я поднял с земли четыре китайских патрона 7,62 калибра и украдкой спрятал в карман. Если на границе Не прицепятся таможенники, будет что показать по возвращении.
XII. Пограничный пост находился всего в ста пятидесяти метрах от нас, но только сейчас, в тусклом блеске солнца, удалось его рассмотреть. Дорогу перегораживал длинный, небрежно отесанный бамбуковый ствол, укрепленный в бамбуковых рогатках на шарнирах из заостренных бамбуковых клиньев. Продырявленная осколками канистра из-под масла, наполненная камнями и привязанная лианой к длинному концу шлагбаума, использовалась в качестве противовеса. Будка была сооружена из бамбуковых стволов, связанных бамбуковыми корневищами, и увенчана крышей из сухих листьев саговой пальмы.
От одной гранаты это все в одну секунду разлетится. Глядя на немудреную постройку, я пришел к выводу, что на вьетнамо-кампучийской границе царит спокойствие, хотя еще шесть недель назад, до конца декабря 1978 года, выстрелы здесь не умолкали ни на минуту. Это значит, что в районе «Клюва попугая» Произошло военно-политическое событие, которое будет иметь важные последствия. Здесь каждый бамбук о чем-то говорит и чему-то служит.
Это стоит отметить. Первый конкретный факт для записи в блокнот.
Мой блокнот был почти пуст и терпеливо ожидал, когда что-либо произойдет. Пока что в нем хранилась вырванная из журнала «Ньюсуик» маленькая карта Кампучии с некоторыми деталями военного характера, которые следовало бы уточнить. Были также записаны шесть слов на кхмерском языке. Мне подумалось, что их на всякий случай следует заучить: «сибай» — есть, «пхэк» — пить, «Полонь» — Польша, «нэак касаэт» — журналист, «самамыт» — товарищ, «сам лоук» — пожалуйста.
Я записал в блокноте, что на вьетнамо-кампучийской границе царит спокойствие. Внутри пограничной будки два молодых человека в мягких шапках китайского покроя, серьезные и сосредоточенные, по-боевому настроенные, сжимали в руках автоматы со спущенными предохранителями. Я показал им, как поставить автомат на предохранитель, а потом окинул взглядом все хозяйство. Полевой телефон, вроде тех, пользоваться которыми я учился двадцать пять лет тому назад. Артиллерийская гильза, используемая в качестве вазы для полевых цветов, вещь немыслимая на любом военном посту в Европе. На скамеечке — шесть гранат, одна без взрывателя и чеки. Помятое ведро с питьевой водой. Пара сандалий, по-видимому дежурная, так как оба солдата были босы. Мешочек с рисом, закоптелый котелок и соль в тряпочке. Плакат с текстом манифеста на кхмерском языке и фотографией Хенг Самрина.
Хенг Самрин — председатель Единого фронта национального спасения Кампучии. Еще год назад он был командиром дивизии у «красных кхмеров» и занимал высокий партийный пост[11].
XIII. Над пограничным постом развевается знамя новой Кампучии: пять золотых башен на красном фоне. Это очень важно, что их пять, об этом я уже слышал. По причинам, которые мне никто не мог объяснить, при режиме Лон Нола в гербе были только три башни, к тому же на бело-синем фоне, который, надо полагать, был заимствован у американцев. При режиме Пол Пота поначалу изображались четыре башни, но вскоре от них вовсе отказались, заменив кошмарной мазней: там были намалеваны звезды, рисовые поля, серпы, светлое будущее народа и что-то еще. А имелись все время в виду одни и те же башни священного храма Ангкор-ват. Кажется, со всем этим была связана какая-то сложная символика, на грани астрологии или магии. Но не осталось в живых никого, кто мог бы это объяснить.
Постойте, что это значит: никого не осталось в живых? Ведь герб страны должен быть Понятен, наверное, каждому?
О нет! Дело обстоит совсем иначе. От границы нас сопровождает молодой человек из ведомства информации и культуры (министерств пока еще нет, должности меняются, распределение обязанностей еще не установлено). Он хотел ответить на мой недоуменный вопрос, но после нескольких попыток сдался: его школьные познания во французском языке подвели, как неисправная зажигалка. На помощь бросились переводчики. Воздух наполнился щелканьем и щебетом, порхали придыхания, звенели носовые гласные. В результате выяснилось, что люди, которые понимали символику кхмерского герба, действительно истреблены все до единого.
Речь идет о «кру сангкриэч», высшем буддийском духовенстве, которое более тысячи лет выполняло в государстве кхмеров примерно те же функций, что и жрецы в Древнем Египте. «Кру сангкриэч» были стражами традиций, хранителями тщательно оберегаемых секретов, знали тайны звезд и муссонов. Они были вечным, непрерывным и неизменным дополнением к истории народа. Только они могли прочесть старые кхмерские пергаменты, спасенные в тысячах пожаров, оправленные в золотую парчу, запрятанные в потаенные уголки храмовых сокровищниц. Это от них Андре Мальро, странствуя своей «королевской дорогой», узнавал такие вещи, которых не знали археологи.
Потому что только они могли без труда расшифровывать буддийские антифоны на извлеченных из земли колоннах, насчитывающих одиннадцать веков, и безошибочно находили в джунглях места, где следует искать священные храмы прошлого. А сейчас их нет. И никогда уже не будет.
Как ты говоришь, товарищ: они все были уничтожены? Все? Может, кто и остался? Установить трудно? По какой причине? Когда? Где? Как такое вообще возможно? Именно так, говорит молодой, человек из ведомства культуры (белая рубашка, черный галстук, черный костюм, бежевые ботинки). Их уничтожили. Пол Пот решил, что буддийское духовенство — это особо опасные враги народа. Les ennemis du peuple, vous savez[12].
XIV. Мне всегда было чуждо умиленное отношение к буддизму и ламаизму, столь распространенное в Европе и Америке. Я достаточно наслышан о монгольских и тибетских ламах, погрузившихся в сытое сифилитичное мужеложество. Меньше интересуют меня переселение душ, мантра[13] и бесконечные молитвы, гораздо больше — отвратительная система суперрабства, которая настойчиво и с успехом создавалась десятками поколений. Я хорошо знаю их безграничную алчность к золоту и земле. Я видел этих святых аскетов на парчовых подушках в Канди на Цейлоне. В долине реки Тяо-Прая я лицезрел «Изумрудного Будду», который устами верховных жрецов приказывает терпеливо сносить страдания детей и мучения животных. Я глядел в мертвые глаза «Черного Будды», который никогда не призывал к борьбе угнетенных жителей Аннама, Тонкина и Кохинхины. Я был за Чойбалсана, разгонявшего святых грязнуль и забиравшего у них оружие, оставленное, по-видимому, еще бароном Унгерном. Я не буду строить из себя потрясенного гуманиста.
Почему, собственно говоря, я не могу во всеуслышание сказать, что считаю более правым делом ликвидацию бессовестных паразитов, нежели сохранение созданной ими системы? Может, я должен еще сожалеть о судьбе четырнадцатого далай-ламы, выехавшего из золотого дворца в Лхассе?
У меня нет повода оплакивать судьбу буддийского духовенства. Но все-таки мне кажется несколько невероятным — уничтожить, как крыс, мудрецов, благодаря которым кхмерская культура пережила одиннадцать веков нашествий, разгромов, завоеваний, чужеземного колониального рабства. Действительно ли существовали какие-то предпосылки, которыми обосновывалась столь широкая операция? Я слишком мало знаю о странах Индокитая, чтобы уже сейчас иметь свою точку зрения по атому вопросу. Может, они просто оказывали вооруженное сопротивление проведению аграрной реформы?
XV. О нет, говорит молодой человек из ведомства культуры. В Кампучии у монастырей никогда не было столько земли, сколько в Тибете. Наш буддизм был иным — простонародным, более склонным к созерцанию, нежели к накоплению богатств. Духовенство жило очень скромно, пользовалось уважением населения, делило с ним все несчастья. А «кру сангкриэч» вообще не имели никакой собственности, жили подаянием и возделывали небольшие огороды при пагодах. Клика Пол Пота — Иенг Сари уничтожила буддийское духовенство по соображениям исключительно идейного порядка. Они не собирались терпеть никаких конкурентов, никаких претендентов на власть над умами. Духовенству поменьше рангом велели собственноручно сжечь оранжевые одежды и направили в колонны, отнеся их к третьей или четвертой категории. Высших рангом расстреляли немедленно, в первую же неделю после захвата власти. Им еще повезло, что их расстреляли: это быстро и без страданий, а многих убивали мотыгами, что длится дольше и очень мучительно.
Молодой человек похлопывает по автомату часового, потом указывает себе на грудь и, наконец, ребром ладони бьет себя по затылку.
Пожалуйста, выясним как можно точнее: неужели в Кампучии нынче действительно нет никого, кто сумел бы объяснить разницу между тремя, четырьмя и пятью башнями в государственном гербе?
Не знаю, говорит молодой человек. Кажется, никого. Пять башен мы взяли потому, что они были когда-то в старом государственном гербе, еще до французского владычества. Кажется, кто-то из высшего духовенства случайно уцелел, его зовут Лонг Сим, он подписал манифест ЕФНСК. Но он еще молод, ему не больше пятидесяти. А эти гербовые тонкости знали только старики, как раз те, кто был уничтожен. Впрочем, мы постараемся это узнать.
Тут молодой человек вынимает великолепный блокнот в оправе из телячьей кожи (карманный календарь на 1974 год, который выдавался в подарок клиентам «Banque Militaire Khmer») и записывает, что надо выяснить вопрос насчет башен. В скобках: pour le camarade polonais[14].
XVI. Мы предъявили пограничникам наши визы, выданные в Ханое посольством нового правительства. Поначалу они разглядывали визы очень внимательно, пожалуй, чересчур даже сосредоточенно, а затем на их юных лицах появилась широкая, дружелюбная улыбка, потом всех нас скопом пропустили, одним жестом руки.
Мы въехали в Кампучию. Я записал время: 4 февраля 1979 года, 5 часов 48 минут утра.
Итак, здесь действительно убивали людей мотыгами, делили на категории, объявили войну истории? Чему здесь служили автоматы крестьян, простого народа? Я не раз читал об этом, но чего не пишут в западной прессе. Слишком часто приходилось сталкиваться с выдумкой «made-by-you-know-whom»[15], чтобы я так сразу и поверил! Надо быть очень внимательным. Это может оказаться труднее, чем казалось четверть часа назад.
XVII. Вскоре выяснилось, что путешествовать по Кампучии армейским вездеходом — настоящая пытка. Полпотовские саперы вывели из строя практически все дороги с твердым покрытием, не только постоянным, но и временным. Каждые семьдесят или сто метров проезжую часть пересекает узкая канава глубиной в двадцать сантиметров. Пробитая киркой до самой нижней глиняной подушки, канава напоминает рубленую рану после удара топором.
Уничтожение дорог только отчасти можно мотивировать военными соображениями. В основе же лежали, как нам было объяснено, главным образом идеологические постулаты, доктрина повсеместной прикрепленности населения, ненависть ко всем механическим средствам передвижения, ставшая уже философией. Народ, как твердили полпотовские идеологи, получает в коммунах все необходимое для жизни и, следовательно, не имеет никаких поводов передвигаться по стране. Если же кто и ощутит такую потребность, то это желание неестественное, извращенное, порожденное капиталистическими общественными отношениями, которые всегда заставляли думать, что где-то в другом месте дело обстоит лучше или по крайней мере иначе. Впрочем, такое желание было абсурдно, не имело смысла: самовольный уход из коммуны карался чаще всего смертью, как дезертирство с трудового фронта, а разрешения принципиально не выдавались, так как не было такой необходимости. Почта перестала существовать. Медицинское обслуживание было ликвидировано. Товарообмен прекратился. Поиски родных, а тем более поездки к ним не допускались — ибо узы крови не входили в число понятий словаря «революционных» терминов.
Разрушение дорог началось во второй половине 1975 года. Оно продолжалось до последних месяцев 1978 года, в заключительной фазе уничтожению подлежали мосты и насыпи. Трех лет более чем достаточно для страны со столь редкой сетью дорог. Еще долго каждая автомобильная поездка по Кампучии будет почти непереносимым физическим испытанием. Легковым автомашинам здесь вообще делать нечего, а вездеход — это выносливая фронтовая машина для людей, привыкших к неудобствам. Неизвестно, есть ли у нее какие-либо рессоры или амортизаторы. В таком транспортном средстве по кампучийским дорогам передвигаться куда сложнее, чем по лесным чащам: сцепление, пepвaя скорость, резкое торможение, подскок, барахтанье в щели, опять первая скорость, опять тормоз до упора. Я высчитал, что средняя скорость ни разу не превысила пятнадцати километров в час.
Это важная подробность. Если хочешь выполнить здесь какую-нибудь полезную работу, надо помнить, что передвижение по Кампучии — это, в сущности, переползание. Через несколько часов езды начинают болеть почки, плечи, шея, мышцы живота. Во сне я все время чувствовал удары собственного тела о борт вездехода, голова стукалась о брезентовую крышу, спина вспухла от беспорядочных ударов об автоматы охраны. Этому не было конца.
XVIII. На восемнадцатом километре от границы мы увидели первых жителей. Вообще-то нет, не жителей, это слово содержит в себе понятие оседлости, постоянства, стабильности. Те же, кого мы встретили, являлись квинтэссенцией движения, перемещения, устремленности. Крестьяне из провинции Свайриенг возвращались к своим очагам, которые наверняка не уцелели: мы-то ехали от границы и прекрасно видели, что в этой выжженной, развороченной пустыне не осталось ни одной хижины, вообще ничего, кроме разрушенных пагод и кучек пепла. Пепелищ было столько, что мы вскоре перестали их фотографировать. Даже ощеренные зубы демонов во дворах быстро потеряли новизну.
Но крестьянам было все равно. Они хотели уйти как можно дальше от ада, из которого удалось вырваться, и как можно ближе к той стороне, которую по-прежнему считали родной.
Они походили бы на пестрый цыганский табор, если бы не шли в полном молчании, под пронзительный скрип колес, без единой улыбки, как на похоронах, вяло, чуть ли не машинально. Старые женщины в лохмотьях, с коротко остриженными головами толкали перед собой какие-то невероятного вида повозки, собранные из остатков велосипедов, прутьев, поломанных приводных колес, влекомые на одном ободе и ободранных полозьях из пандануса. Время от времени попадался старый буйвол с влажными, полными скорби и отчаяния глазами, он тянул высокую, с одноэтажный дом, пирамиду всякой старой рухляди, обломков, барахла, помятых чайников, дырявых стульев, свернутых циновок. Внутри такой пирамиды мелькали иногда нахохленные куры или испуганный щенок с мокрым брюшком. Но пирамиды принадлежали местным крезам, группам человек из двадцати, где каждый что-то по дороге собрал, положил, добавил. А подавляющее большинство в этом призрачном шествии составляли понурившиеся бедняки, все имущество которых умещалось на маленькой тележке. Иногда они тащили его на бамбуковом коромысле, переступая с ноги на ногу, стремясь, чтобы тяжесть равномерно распределялась между руками, ключицей и позвоночником.
У голых апатичных детей вздулись животы от маниоки, волосы выцвели от голода, лица почернели от пыли и грязи. Они шли и шли; казалось, что колонна бесконечна, что молчаливое шествие тянется от самой таиландской границы, может, даже с тибетских нагорий, из каких-то вековечных глубин «мертвого сердца» Азии. Некоторые тележки издавали раздирающий уши скрип, другие громыхали и резко наклонялись у каждой перерезавшей дорогу щели, были и такие, что катились только на одном колесе, а ступицу второго поддерживали чьи-то руки. Толкали, тянули, упирались в дышла, несли узелки на голове, на руках, на спине и опять на плоских гнущихся коромыслах, на голове, на животе.
Я заметил, что в толпе очень немного молодых мужчин, но это было понятно, и разъяснений не требовалось. Не было и маленьких детей, меньше четырехлетнего возраста. Бесшумно вибрирующая толпа, бесконечная, шаркающая босыми ногами, состояла главным образом из женщин: у одних головы закутаны в аккуратные тюрбаны, у других коротко острижены, и из детей, начиная с шести-семилетнего возраста. Дети бежали, поддерживали рожны телег, подпихивали бамбуковые плетеные кузова, подпирали голыми спинами полукорзину арбы, собирали у дороги ветки высохших каучуковых деревьев, иногда погружались по пояс в густую зеленую жижу придорожных канав, чтобы голыми руками ловить тонких, как прутики, уклеек.
Мы остановили наши машины. Операторы побежали вперед, выбирая подходящую точку съемки. Защелкали затворы, началась компоновка кадров, определение направления движений, чтобы путники не смотрели прямо в объектив. Зритель и читатель очень любят хорошие кадры из жизни экзотических стран.
Никто не закрывал лица и не приглаживал поспешно лохмотьев, но никто и не улыбался во весь рот, не издавал односложных выкриков, как это часто бывает в Азии. Мы ни в ком не возбуждали сколько-нибудь заметных эмоций. Тележки с бумажными флагами новой Кампучии не останавливались ни на момент, проплывали и уплывали в монотонном скрипе и стуке, будто нас вообще не было. Даже дети не проявляли к нам должного интереса, подозрительно и недоверчиво стреляли глазами, нанизывая на нитки уклейки, наловленные к полуденному завтраку. Старики, тащившиеся из последних сил, держа палки искореженными руками, смотрели на нас пустым взглядом, в котором где-то притаился и страх.
Потом мы пригласили переводчиков и начали путникам задавать вопросы. Множество вопросов, беспорядочных, назойливых, подсказанных той ранней порой, которую мы все переносим по-своему, той четвертью часа горьких размышлений о скверных сторонах нашей профессии.
XIX. Почти каждая деталь, характерная для этого шествия изможденных призраков, имела свое объяснение, социологический смысл и политическое значение.
Маленьких детей не было потому, что все эти четыре года они вообще почти не рождались. Супругов при переселении разделяли, новые браки без разрешения властей были запрещены, каждая попытка сближения между мужчиной и женщиной наказывалась, и, как правило, очень жестоко. В 1976–1979 годах показатель рождаемости упал в Кампучии почти до нуля.
Женщинам стригли волосы после климактерического периода, когда они уже не угрожали миру рождением потомства. Стрижка наголо, как и везде, была здесь для женщины знаком позора и унижения или символом аскетизма. Такого рода представления как раз надлежало в народе полностью искоренить. Стриженых женщин легче было различать во время полевых работ. Им уже позволялось бывать в обществе мужчин.
Вздутые животы детей, их тоненькие ножки и апатичные лица были результатом хронического дефицита животного белка в течение трех последних лет. «Демократическая Кампучия» добилась, правда, некоторых успехов в производстве риса, который был превращен в тотальную, не имевшую эквивалента монокультуру. Но во время страшного голода 1976 года, связанного с переселением и всеобщим хаосом, крестьяне забили крупный и мелкий скот почти целиком. Большинство кочевавших с места на место людей не имели во рту вот уже три года ни кусочка мяса или рыбы, хотя озеро Тонлесап — самый богатый рыбой водоем на свете.
Немногочисленные буйволы, плетущиеся в упряжках, были либо взяты в покинутых всеми коммунах, либо пойманы на придорожных пастбищах. При полпотовском режиме никому нельзя было иметь собственного буйвола.
Отсутствие интереса к нам проистекало попросту из страха. В глухих деревнях Кампучии белые появлялись редко, в сущности, на памяти нескольких поколений здесь бывали только французы или американцы. Ни от тех ни от других не приходилось ожидать ничего хорошего. Крестьяне рассудили, что если свергли власть полпотовцев, то, значит, опять вернулись американцы или французы; мы наверняка выглядели как очередной форпост этих ненавистных угнетателей. У кхмерской деревни не было никаких оснований нас приветствовать и поздравлять. О существовании европейских социалистических стран тут, надо думать, никогда не слышали.
Бумажные флаги, прикрепленные над каждой, даже самой невзрачной повозкой, выдавали на контрольных пунктах военные. Это был знак молчаливой солидарности с новой властью, осторожное, но явственное свидетельство того, что на людей, которые бредут в свои несуществующие дома, полпотовцы не могут больше рассчитывать. И армия тоже будет знать кого ей защищать от коварного нападения на привале у дороги, от внезапного обстрела из джунглей.
Ни у кого из мужчин, шагавших в этой колонне, не было при себе огнестрельного оружия.
XX. Люди, которые уже три недели бредут по опустошенной стране, были выселены из своих жилищ между декабрем 1975 и маем-июнем 1976 года.
Поначалу выселение коснулось только горожан, но потом, когда с ними управились — что было не так-то просто, ибо в общей сложности речь шла приблизительно о трех миллионах человек, — настала очередь крестьян. В отличие от жителей городов, которых выгоняли из домов в чем застали, крестьяне получили много важных преимуществ, особенно в тех случаях, когда они были совершенно бедны и полностью неграмотны, ибо только такие являлись в глазах полпотовцев единственной во всем народе по-настоящему здоровой и полноценной социальной группой, с которой предстояло начать строительство «нового общества». Их предупреждали о выселении за целую неделю. Разрешали собрать рис и взять с собой столько личного имущества, сколько могло поместиться на арбе или тележке, с тем условием, что каждая семья сама доставит его, не используя живой тягловой силы. Буйволов, коров, свиней и птицу нельзя было брать с собой, «живой инвентарь» вместе с хижинами был предназначен для других крестьян, которых поселят в покинутой деревне.
Именно этот замысел лежал в основе всего плана принудительного всеобщего переселения, который был разработан лично Пол Потом. Крестьян постановили переселить с востока на запад, с юга на север, с Кардамоновых гор на границу с Лаосом, из дельты Меконга в Баттамбанг. Их решили перемешать между собою, разложить на атомы, растереть в порошок, чтобы раз навсегда уничтожить сформированную столетиями социальную структуру, до основания искоренить систему местных взаимосвязей и окаменевшую кастовую иерархию бедных и богатых.
Жители деревни шли вместе только до ближайшего распределительного пункта, который помещался обычно в уездном центре. Там разделяли супружества и семьи, проверяли, кто умеет читать и писать, определяли категорию социальной пригодности, отбирали все памятные вещи и документы, иногда сразу же меняли фамилии, которые были заведены в Камбодже лишь в нынешнем столетии нетерпеливой французской администрацией. Фамилии меняли не везде, но это в огромной степени облегчило процесс перемолки. Единственным знаком, удостоверявшим личность, явилось с той поры нечто, что в Китае с 1949 года именуется «ху коу пу». Это что-то вроде «книжки лояльности» или подробной личной анкеты. Там содержатся сведения о классовом происхождении до третьего поколения, полный перечень провинностей и самокритичных выступлений, трудовых достижений, а также результаты очередных проверок классовой сознательности. К анкете прилагался любой донос, даже самый пустячный. Экземпляры китайских «ху коу пу» попали за границу, и содержание их известно; нет оснований предполагать, что в Кампучии они выглядели иначе. Различие, может быть, в том, что, кроме них, жители «коммун» не имели ничего другого, удостоверяющего личность, а перечень провинностей хранился у шефа службы безопасности в «коммуне». По всей вероятности, на этой основе составлялись списки приговоренных к смерти.
Затем с распределительных пунктов отправлялись длинные колонны людей, которые никогда до этого не были знакомы и имели все основания друг другу не доверять. Цель была как раз в том, чтобы они стали частицами аморфной социальной суспензии, молекулами в суперколлективе, изолированными ячейками той магмы, которая, по мнению Пол Пота, всегда играла определяющую роль в подлинной мировой истории.
Крестьян заставляли идти пешком сотни километров в далекие, незнакомые им «коммуны», причем предусматривалось, чтобы в одной «коммуне» не оказалось больше двоих земляков, жителей одной деревни, поскольку они могли бы вступить в сговор. В некоторых «коммунах» на севере и востоке страны, где бедняки поддерживали партизан во время войны с режимом Лон Нола, поступали сперва как раз наоборот. Выселяли только зажиточных крестьян и тех, кто умел читать, а остальные оставались на прежнем месте и получали коллективную полноту власти над «новыми жителями». Таковыми были главным образом выселенные из городов чиновники, учителя, фельдшеры, буддийские священнослужители низших рангов, квалифицированные рабочие, домашняя прислуга, иногда мелкие купцы или перекупщики, все имущество которых умещалось в один узелок. Неграмотным крестьянам поручалось научить «новых жителей» уважению к физическому труду и отучить их от вредных привычек. Они должны были подвергнуться глубокому, всестороннему перевоспитанию, чтобы быстро и полностью уподобиться народным массам. Полпотовский комиссар следил за ходом перевоспитания и поучал, как надо добиваться, чтобы оно приносило плоды. Те, кто не поддавался перевоспитанию, однажды ночью исчезали навсегда.
XXI–XXX
XXI. Я ухватился за эту тему. Это было первое доказательство, что сообщения в печати имели под собой основания.
Молодая женщина, лет двадцати пяти, с которой мы начали разговор, выглядела интеллигентной и деловой. Она не скрывала своей неприязни. Ее имя — Нуан Вань Онг, хотя не ручаюсь, что оно настоящее: женщина назвала себя быстро и неразборчиво, а повторить не захотела. Она местная, из провинции Свайриенг, из одной деревни, название которой не имеет значения. С июня 1976 года до января 1979 года работала в «коммуне» Каньлен в провинции Кратьэх. Теперь она возвращается домой.
Нашла ли она кого-либо из родных?
Да. Младшего брата. Он стоит вон там, с палкой в руке.
Была ли она замужем?
Да.
Где муж?
Женщина пожала плечами и отвернулась.
Были ли дети?
Ответа нет.
Что с родителями?
Умерли. А может быть, еще живы.
Знает ли она кого-нибудь, кто был родом из деревни, работал в «коммуне» и был убит полпотовцами?
Переводчики повторили вопрос. Женщина посмотрела мне в глаза со смешанным чувством страха, злости и недоверия, потом быстро сказала что-то шепотом, что вызвало замешательство среди переводчиков.
Да, сказали в конце концов переводчики, она знает такие случаи, но не хочет о них говорить.
Почему не хочет говорить?
Она говорит, что боится «красных кхмеров», но пусть товарищ этого не пишет, это простая женщина, она до сих пор не понимает, что Кампучия освобождена и что преступная клика Пол Пота — Иенг Сари никогда уже не вернется.
Хорошо. Я не буду об этом писать в газете.
ХХII. Потом переменилось и это: неграмотных крестьян лишили монополии на воспитание «новых жителей». Этим занялись кадровые работники, которых каждый квартал перебрасывали из одной «коммуны» в другую. Беспрерывная мобильность, кручение жерновов, бесконечные замены, текучесть, неопределенность, неустойчивость являлись основами полпотовской власти. Все это давало относительно надежную гарантию, что вырванный из земли человеческий пырей не начнет пускать корни заново.
Человек — это несносное создание. Ему достаточно на минуту задержаться, осесть, пожить, и он уже пускает корни, обрастает предметами, начинает сплетать вокруг себя тонкую ткань новых отношений, добивается самореализации своей неповторимой личности, даже если не может употребить эту формулировку. Одно он любит, другое нет, мешает общему маршу, ищет счастья по своему разумению. Из таких людей нельзя создать в будущем «новое общество».
Пол Пот когда-то писал под псевдонимом Салот Сар (некоторые утверждают, что это была его настоящая фамилия) небезынтересные эссе по проблемам, возникающим на стыке антропологии и социологии. Негативная, с его точки зрения, сторона человеческой природы была им подвергнута обстоятельному анализу. Именно неистребимая потребность оседлости и постоянства подверглась резкому осуждению со стороны Пол Пота, ибо ведь все мы начали свою историю с кочевой жизни, со случайных и непрочных связей. Нельзя создать ничего по-настоящему нового с- людьми, у которых первая забота — вырыть себе норку и которые большую часть энергии тратят на то, чтобы устроиться лучше и удобнее. Человек — это часть природы, он не должен идти против ее законов. У природы же нет такого закона, из которого следовало бы, что должно быть лучше.
По интеллектуальному уровню эссе Пол Пота гораздо выше теоретических работ Линь Бяо, одного из главных идеологов китайской «культурной революции». Линь Бяо по очевидным причинам не мог затмевать «солнца», был к тому же примитивной натурой и в умственном отношении уступал не только образованным деятелям революции вроде Чжоу Эньлая, но и всем видным лидерам «яньаньского периода». Он не знал ни одного иностранного языка, кажется, не выезжал из Китая, кроме периода 1939–1941 годов, его начитанность равна почти нулю. Может быть, именно поэтому Мао выбрал его на роль пророка новой эры. Когда бьет урочный час, интеллектуалы ни на что не годятся. В нашумевшей статье Линь Бяо, опубликованной в августе 1965 года и провозглашавшей новое деление мира — на «город» и «деревню», содержится четырнадцать географических, исторических и прочих фактических ошибок, чего прежде не случалось в китайской партийной публицистике.
Другое дело — Пол Пот. Мне неизвестно, действительно ли он получил, как сам неоднократно заявлял, степень доктора политических наук в «Эколь де сьянс политик»[16]. Некоторые вообще сомневаются, что он получил в Париже высшее образование. Но это не так уж важно. Сообщение, опубликованное в газете «Монд», будто бы Пол Пот закончил во Франции лишь радиотехническую школу, по-видимому, не соответствует действительности. Пол Пот, несомненно, был человеком, получившим образование выше среднего уровня азиатской интеллектуальной элиты. В его работах видны следы серьезного чтения, довольно много ссылок на сторонников неофрейдизма и новейшей антропологии, без труда можно заметить увлеченность Бакуниным и классиками анархизма.
Если даже докторская степень Пол Пота — плод вымысла, то его близкий приятель Ху Ним, убитый им в 1977 году по причине идейных разногласий, наверняка был доктором Сорбонны, что без труда можно установить по годовым записям. Диплом он получил в мае 1965 года, писал также совсем неплохие стихи, был лично знаком с Тристаном Тцара, Арагоном и Сартром. Иенг Сари изучал социологию. Кхиеу Самфан, тоже доктор Сорбонны, публиковал в «Революционном знамени» небезынтересные статьи и трактаты. Когда на рубеже 50 — 60-х годов эти люди вырабатывали в Париже первый вариант своей концепции кхмерской революции, они не слишком отличались по своим взглядам от других приверженцев социального радикализма в Азии. Они не были горсткой социал-патологических громил и крикливых посредственностей вроде тех, кто когда-то основывал НСДАП или маршировал на Рим. Наоборот. Исходные пункты их рассуждений поддавались проверке, выводы были логичными, идейность побуждений очевидной. Они знали иностранные языки, путешествовали по Европе и Азии и, по всей вероятности, не одну ночь провели в спорах о Сореле[17] и Прудоне. Они были начитанны и далеки от мистицизма, сознавали необходимость действовать и руководствовались мотивами, мимо которых нельзя пройти, пожав плечами.
«Великое переселение» в Кампучии не было проявлением безумия, глупости варваров или солдатского произвола. Оно явилось осуществлением глубоко продуманной и выношенной доктрины, следствием отчаяния перед лицом неизменного убожества мира и недовольства слишком медленными темпами происходивших ранее революций. Оно родилось из тоски по обществу с чистым и ясным обликом, свободному от бремени неравенства, от всех бед, которые ежечасно творит испорченная человеческая натура. Люди из окружения Пол Пота не были в этой тоске одиноки. Начиная с Робеспьера, видения такого рода время от времени побуждали восторженных идеологов стремиться к катарсису с помощью слепого террора. От Бакунина до Штирнера мотив «очищения» путем террора то и дело повторяется в истории политической мысли нового времени. Различия лишь в масштабах. И трудно согласиться с тем, что террор славили только умственно больные люди. Группа Пол Пота сформировалась из умов на свой лад незаурядных, по крайней мере в местном масштабе.
Пятнадцать лет назад было бы неверно видеть в этих людях лишь китайскую агентуру. При подобном подходе китайскими агентами могли бы оказаться Гевара, Руди Дучке, Фельтринелли, Герберт Маркузе, люди из организации «Черные пантеры», чилийский «MIR», аргентинские «монтонерос». Это было скорее идейное воздействие, родство позиций и взглядов на истинный характер «доли человеческой». Последовательный и неподдельный социальный радикализм без оговорок, компромиссов и иллюзий, рассматривавшийся как интегральный способ мышления об окружающем мире.
Если группа Пол Пота самоотождествилась впоследствии с концепцией китайской «культурной революции», увидела в ней заповедь подлинно нового общественного порядка и не колеблясь клюнула на примитивные агитки Линь Бяо, она поступила так не из-за оппортунизма; это пришло несколько позже. Она сделала это по сознательному и добровольному выбору, исходя из тех представлений, которые во второй половине шестидесятых годов нашего века увлекли не только небольшую кучку интеллектуалов из Кампучии.
ХХIII. «Великое переселение» не могло остаться единичным актом. Хаос непрерывной переброски, перемещения кадров, усиленного круговорота социальной материи стал правилом в полпотовском государстве. Вскоре дело дошло до того, что неграмотные крестьяне, не слишком сведущие в географии собственной страны, даже не знали, где они находятся. Везде, куда б они ни попали, были похожие друг на друга рисовые поля, которые надобно было возделывать. Везде были такие же нары под первой попавшейся крышей, какой-нибудь комиссар «коммуны», молчаливый взвод охранников и карателей, общий котел, бесконечные собрания, посвященные самокритике и перевоспитанию. И работа. Работа до потери дыхания, граничащая с полным превращением в животное.
Нам подробно рассказывали, как эта работа выглядела, сколько и кому давали риса, какие наказания грозили нерасторопным, какова была судьба стариков и детей, которые с пятилетнего возраста обязаны были собирать травы и хворост, а также мыть посуду.
В течение одной недели, между 2 и 9 января 1979 года, эта система развалилась полностью, во всяком случае на территории, где новая власть осуществляла полный военный контроль. Ее не отменяли и не объявили недействительной: на это не было времени. Она просто бесследно распалась, будто ее никогда и не было. Крестьяне отправились обратно в свои старые деревни, не ожидая никаких инструкций и не требуя никаких разъяснений. У них это в крови от многих поколений. Они пережили сотни войн, карательных экспедиций, переворотов, феодальных распрей, непонятных им конфликтов. Они знают, что надо все пережить и все перетерпеть. Кхмерская пословица гласит: лодка переплывет, река останется.
XXIV. Они снова проходят сотни километров, кочуют по запыленным дорогам, по утрам глядят на солнце, чтобы по нему определить направление дальнейшего шествия, ночами расставляют часовых вокруг стоянок, чтобы отгонять палками прожорливых змей, мускусных крыс и выдр. Идут, шагают, семенят, подталкивают, передвигают нагруженные тележки, погоняют измученных буйволов, на ходу чинят колеса повозок, успокаивают перепуганных петухов, дергают постромки, а на привале заботливо собирают сухие ветки чтобы женщины с высохшими грудями могли на костре у дороги сварить горсточку риса. Вот соль земли, наивные темные братья, первые из первых, простые, как земля, вода и солнце. Вот точка отсчета всех нелживых мыслей и исчерпывающее, надежное мерило для всех идей и концепций современного мира. Только на них следовало бы подвергать проверке мотивы, которыми руководствуются государства, классы и отдельные личности, отцеживая чистую субстанцию от вымыслов и произвольных предположений, отыскивая истины, столь же неизменные и неопровержимые, как законы природы.
Только неизвестно, о чем они думают. В их глазах голод, страх и страдания всей Азии; их плоские изнуренные лица, неподвижные, словно высеченные из камня, — самое верное зеркало не рассказанной еще истории поколений, племен, народов. Только как прочесть это немое послание, как осуществить синтез, который не был бы очередной разновидностью бланкизма и абстрактной игрой не поддающихся проверке понятий?
XXV. Это молчаливое шествие напоминает фильм, прокручиваемый в обратном направлении. Крестьяне сами не знают, как дойти до прежних жилищ. Они никогда не держали карты в руках и не понимают, что дороги могут идти наискосок по отношению к сторонам света. Снова временный сбор, разъединение, распределение, соединение, внезапные встречи оставшихся в живых, известия о тех, кто не дожил. Военные объясняют, куда возвращаться: отсюда и досюда, направо, по солнцу, прямо, перед джунглями налево. Снова кто-то умирает в дороге и остается лежать под торопливо насыпанным холмиком, снова кто-то рождается в кремнистой пыли, под грязным брезентом военного грузовика. Снова стремление, цель, напор, странствие, бесконечное, как китайское «тао», У них это закодировано в генах тысячелетия назад, в давние-давние пра-времена, когда кочевые племена с Алтая и безбрежных степей Центральной Азии перешли через Памир и впервые вступили в плодородные тогда долины юга, чтобы найти место на земле. С каждым их шагом вперед, с каждым оборотом скрипучих колес история этих четырех лет обращается вспять, возвращается к своей исходной точке, самоликвидируется. Нет уже никакого «нового общества». Племена, роды, семьи и деревни возрождаются каждый час, на каждом перекрестке дорог, на каждом привале.
Тайфун утих, волны схлынули, восстанавливается неколебимость. Вечная, страшная, неистребимая азиатская неколебимость.
Так решаются дилеммы.
XXVI. Безусловно, ни в каком другом районе мира семейные узы не крепки в такой степени, как здесь, в Юго-Восточной Азии. Численность семейного клана — это относительно надежная экономическая гарантия на случай увечья или старости. Обязанность помогать друг другу и оказывать услуги укоренилась настолько, что не слабнет даже у образованных и самостоятельных людей. Пятидесятивековой опыт научил азиатских крестьян, что нельзя рассчитывать на чужих, соседей, друзей. Полагаться можно только на семью.
Принудительное разделение семей было самым тяжелым, решающим ударом по социальной структуре кхмерского народа. Удар был нанесен точно и умело людьми, которые хорошо знали данное общество и ведали, к какой цели идут.
XXVII. Выселение крестьян с мест, где они проживали с незапамятных времен, — это не такая вещь, которая встретит безусловное одобрение, особенно в Европе. Стоит, однако, внимательнее приглядеться к тому, что за этим скрывалось и что в конце концов вышло. Ведь даже теперь я вижу среди возвращающихся таких людей, которые имеют буйвола, нагруженную повозку, вдобавок еще петуха и собаку, а рядом с ними и таких, которые все свое достояние несут в одном узелке за спиной. Но, может быть, эти четыре года выработали в них какие-то новые, устойчивые привычки? Может быть, грубость методов вовсе не означала, что цель была ложной?
Азиатская деревня всегда была адом в миниатюре, средоточием всех несправедливостей мира, если как следует присмотреться. Она расслоена по множеству принципов, бесчеловечна к слабым и бедным, жестока к детям и животным, беспощадна к калекам, иноплеменным, инакомыслящим, закоснела в неписаных законах рабства и иерархичности. Азиатская неколебимость, которая нас иногда восхищает, — это чаще всего бессмысленная, кататоническая неподвижность и гораздо реже — сохранение субстанции. Кто может гарантировать, что в этом шествии призраков нет больше подлых арендаторов, бессердечных ростовщиков, ярых и неисправимых грабителей, которые тремя месяцами позже, немного отдышавшись после пережитых неприятностей, снова начнут морить голодом и унижать других, поскольку это предписано непостижимым законом мироздания? Крупный помещик, важный чиновник, владелец фабрики — это в Азии фигуры недосягаемые, на пограничье абстракции или теологии. Основные фронты социальных битв проходят, как правило, через каждую деревню, разделяют людей, которые ежедневно видятся, и семьи, многие поколения которых жили рядом.
Понятное дело, сейчас все они вызывают сочувствие, исхудавшие, оборванные, изможденные, голодные. Но сочувствие никого не избавляет от знания азбучных истин. В среде таких, как они, брали свое начало все беды Азии до эпохи колониального владычества. Именно голод, не исчезающий во многих поколениях, превращал сердца и умы в мертвый кусок гранита; хронический дефицит белка и недостаток энергии в организме способствовали безграничной темноте населения, возводимой жестокими старцами в ранг добродетели и моральной нормы. Может, и правда не было другого выхода, нельзя было иначе сокрушить эту гранитную скалу неколебимой апатии?
Нужен долгий разговор с этими людьми, чтобы избежать скороспелых суждений.
Стричь старых женщин — да, это отвратительно. Но ведь не все острижены. Может быть, те, с которыми мы разговаривали, просто пали жертвой чрезмерного усердия начальника какой-то одной из «коммун»?
Ограничение рождаемости… Не надо быть мальтузианцем, дабы знать, что это за проблема для Азии и не только для нее. Применявшиеся до сих пор методы ограничения демографического взрыва в Азии либо полностью провалились, либо дали лишь локальные, частичные результаты. Впрочем, несколько лет тому назад в Индии приступили к полупринудительной стерилизации, и мир от этого не рухнул.
Я должен сохранить рассудок, если хочу понять, что здесь действительно произошло.
XXVIII. «Метафизики считают, что вещь может лишь бесконечно воспроизводить самое себя, но не может превратиться в иную, отличную вещь». (Мао Цзэдун. «Относительно противоречия». Эта работа написана в Яньани в 1937 году.)
XXIX. Мы ехали дальше, трубя, тормозя, продираясь в густеющих клубах желтой пыли, которая лениво оседала на тянущихся по обочине упряжках, головах, тележках, буйволиных рогах. Пыль с каждым километром все более сгущалась, покрыла борта машины и оружие сопровождающих солдат, набилась уши и нос, осела в горле, разъела веки. В конце концов пришлось остановиться, чтобы стряхнуть с рубашек толстый и липкий слой пыли. Раскаленный воздух куснул нас, словно пес из-за угла, он был сухим и острым, как клинок мачете. Не было еще восьми утра, но за минуту остановки мы пролили целые ручьи пота, которые, поспешно извергаемые потрясенным организмом, потекли по лбам и штанинам. Даже на руках и на веках перемешанный с пылью водянистый пот превращался в жгучее месиво.
Никогда прежде я не испытывал подобного климатического шока. В ста двадцати километрах на восток, в городе, откуда мы выехали пять часов назад, температура в полдень не превышает тридцати двух градусов, влажность держится в границах шестидесяти процентов. Февраль там — самое легкое для европейца время года. А здесь мы внезапно оказались средь пустыни и попали в разъяренный зной, в облака пыли, невидимые частички которой, словно миниатюрные линзы, собирали солнечные лучи и наращивали их губительную силу. Влажность, надо полагать, приближалась к нулю. На расстоянии всего лишь ста двадцати километров разница температур составила больше двадцати градусов. Это внезапное открытие отняло все силы; во время езды встречный воздух смягчал жгучую силу зноя, а после минутной остановки нам стало трудно дышать. Это граничило с невероятностью. Ведь в тропиках не бывает таких больших скачков температуры и влажности при столь незначительном расстоянии.
Нет, мы не сделались жертвами галлюцинации. Наши ощущения соответствовали действительности. Организм не ошибается. Причина была настолько невообразима, что переводчикам пришлось трижды повторить объяснение, которое дал нам молодой человек из ведомства культуры. В этой части Кампучии полпотовцы убили климат.
Убили? Ah, oui, ont assassiné[18].
XXX. Точнее говоря, они убили сперва землю. Два года назад специальные полпотовские отряды взорвали гранатами дамбы на рисовых полях в трех юго-восточных провинциях страны: Свайриенг, Прейвенг и Кампонгтям. В течение нескольких месяцев были уничтожены десятки, если не сотни тысяч каналов, шлюзов, водозадерживающих прудов, водоотводов, запасных террас и двухъярусных плотин. Ирригационная система на рисовых полях Азии — это дело рук множества поколений, итог миллионов проработанных дней, творение вековой мудрости, передаваемой от отца к сыну. Циркуляция воды, приносимой муссонными дождями, налажена так, что каждая терраса получает свою порцию как раз тогда, когда соответствующая стадия вызревания риса требует изменить уровень орошения. Даже в годы засухи или при чересчур обильном урожае, когда помещики оставляли поля незасеянными, чтобы уменьшить количество риса на рынке и поднять цены на него, система орошения действует без перерыва, поскольку используются три закона природы, действия которых приостановить нельзя: сила тяжести, регулярность муссонных периодов и закон Бернулли, предусматривающий в данном случае непроницаемость плотно утрамбованных плотин из жирной глины.
Пришелец никогда не разберется в этой путанице каналов и террас. Но тот, кто в ней ориентируется, прекрасно знает, как вывести ее из строя. Хватило нескольких сот гранат и ящиков взрывчатки, подложенных в самые уязвимые места системы, чтобы в трех провинциях вода стекла с полей в дельту Меконга. Кое-где еще валяются забытые мешочки с тротилом, виднеются ручки невзорвавшихся гранат. Без орошения остались двести тысяч гектаров. Целыми километрами тянутся полосы посеревшего, несжатого риса, в котором шуршат змеи и заливаются птицы. Операция производилась в спешке, как и все у полпотовцев, в пору вызревания риса, без уборки урожая с уже колосившихся полей.
Лишенная влаги и оставленная под ничем не смягчаемыми лучами солнца, почва постепенно начала превращаться в пыль. Ветры разнесли ее верхний слой по зарослям, рисовые поля заполонили дикий сахарный тростник и карликовые банановые деревья. Кое-где буйные заросли кустарников поднялись до высоты человеческого роста. Из-за отсутствия влаги и нормального кругооборота воды в атмосфере изменился и микроклимат. Влажные тропики отступили перед степью, а степь перед пустыней. Экологическое равновесие на этом пространстве было нарушено так резко, что сухая смерть, словно чума или проказа, может распространиться на соседние районы. В провинциях Такео и Кратьэх есть уже первые признаки бедствия.
Трудно сказать, как много времени потребуется, чтобы восстановить разрушенную систему. Налицо определенный географический факт. Это памятник полпотовцам куда более долговечный, чем все их лозунги и брошюрки. Залатать прорванные дамбы довольно просто: в усердных рабочих руках здесь, как и прежде, нет недостатка. Но для наполнения водохранилищ и каналов нужно по крайней мере пять, а может быть, и семь муссонных периодов. К тому же стекавшая вода размыла множество частей ирригационной системы: разного рода шлюзы, подземные трубы, пруды и водоотводы. Это придется, без конца проверять, когда наберется первый запас воды, затем искать утечку, исправлять, переделывать — и так в течение многих лет. Скольких лет? Неизвестно. Никто пока определить не может.
Несколькими днями позже я увидел эту землю с воздуха. Обширная приграничная равнина выглядела как гнойная язва посреди густой, буйной зелени по обоим берегам Меконга. Туча ядовито-желтой пыли поднималась вертикально в воздух на высоту нескольких сот метров, словно облако ядовитого газа.
Одна шестая обрабатываемых земель Кампучии была разорена так, чтобы исключить возможность быстрого восстановления. Это было воистину «убийство земли».
Причины преступления не вполне ясны. Нам были предложены два объяснения. Первое из них: полпотовцы решили превратить всю провинцию Свайриенг и часть двух прилегающих провинций в базу для нападений на Вьетнам, где не будет никаких населенных пунктов. Эта территория расположена слишком близко к границе, а побеги из «коммун» стали повседневным делом. На востоке целая полоса земли была разбомблена и выжжена американцами во время их интервенции во Вьетнаме.
Второе объяснение звучало так: Пол Пот решил, что Кампучия перенаселена и следует навсегда и необратимо ограничить количество обрабатываемой земли, дабы воздвигнуть естественный барьер чрезмерному приросту населения. По причинам, названным выше, больше всего годились для этой цели три юго-восточные провинции.
Я воспринял это объяснение с недоверием. Когда полпотовцы захватили власть, в Кампучии было, по-видимому, около восьми с половиной миллионов жителей (единственная перепись населения здесь проводилась в 1962 году, и на ее основе демографы делали ежегодные подсчеты). Площадь страны составляет сто восемьдесят одну тысячу квадратных километров, то есть пятьдесят семь процентов территории Польши. Получалось приблизительно сорок семь человек на квадратный километр, что является одним из самых низких показателей в Юго-Восточной Азии. Даже если допустить сильное преувеличение и половину территории страны счесть непригодной для земледелия и постоянного жительства, показатель плотности населения все же и так ниже европейских норм, не говоря уже об азиатских. Это ни в коем случае нельзя назвать перенаселением, даже относительным.
XXXI–XL
XXXI. Только несколькими днями позже мне удалось найти доказательства того, что теория о перенаселенности Кампучии действительно лежала в основе действий полпотовского режима.
Первый принцип маоизма, сформулированный еще в Яньани, отброшенный в 1944–1957 годах и опять торжественно провозглашенный в годы «большого скачка» и «культурной революции», состоит в том, что следует полагаться исключительно на собственные силы. Не рассчитывать на чью-либо помощь. Не зависеть ни от врагов, ни от друзей. Отказаться от импорта, кредитов, от международной помощи и вообще от всего, чего нет под рукой. Это была не только экономическая доктрина для тех, кто беден и не питает иллюзий. Это была и психологическая профилактика, которая имела целью укрепить веру в свои силы и выявить имеющиеся, но не использованные ранее резервы. Нет страны или территории, отдельных людей или групп, которые не могли бы дать больше, чем кажется на первый взгляд.
В условиях Кампучии это означало в первую очередь необходимость возвращения к примитивному сельскому хозяйству, гораздо более примитивному, нежели то, которое было при режиме Сианука, а затем Лон Нола. С момента завоевания независимости в 1954 году страна добилась значительного прогресса в сельском хозяйстве главным образом благодаря помощи из-за границы. Предстояло поэтому отказаться от минеральных удобрений, которых Кампучия не производит; от дорогостоящей механизации, основанной к тому же на постоянном импорте машин, горючего и запчастей; от новых, более урожайных сортов риса, так как они требуют применения сложных агротехнических методов, а значит, и постоянного увеличения числа специалистов, иностранных или подготовленных за границей, ибо кхмерский крестьянин не умеет выращивать этот новый рис. Поэтому было решено вернуться к объему производства полувековой давности, не выше полутора тонн риса с гектара при двух урожаях в год.
Быстро выяснилось, что такое хозяйство может прокормить в Кампучии самое большее четыре с половиной миллиона человек. Легко, подсчитать, что четыре миллиона оказались лишними. А точнее сказать — пять миллионов. Четыре миллиона уже живущих и миллион тех, которые должны были родиться в течение ближайшего десятилетия.
Это меняет дело. Частный вопрос, в котором неспециалисты не имеют права голоса, приобрел черты кардинальной дилеммы, имеющей историко-философское значение. В таком вопросе никто не может ссылаться на некомпетентность или счесть его малоинтересным. Если кто-либо публично заявляет, что где-то людей слишком много, надо внимательно прислушаться ко всему, что он хочет сказать. Как бы ни определять цели азиатских революций, они во всяком случае должны быть задуманы и осуществлены так, чтобы не подвергалась сокращению существующая численность населения. В противном случае термоядерное оружие или, допустим, газовые камеры оказались бы единственным инструментом действенного переустройства мира. Никто не спорит, что относительное перенаселение Калькутты, Сурабайи или Бангкока — это ужасная вещь, никто не склонен пренебрегать предостережениями демографов. Но тезис об абсолютном перенаселении целых стран провозглашался в XX веке лишь теми, кто требовал «жизненного пространства», — и результаты нам известны. Не было примера, чтобы революция, начатая во имя народа, ставила целью истребление этого народа.
XXXII. Около одиннадцати мы доехали до города Свайриенг, столицы провинции с таким же названием. Когда-то здесь было восемь тысяч жителей. Это был шумный и относительно, для этой части мира, богатый торговый центр. Сейчас улицы города пусты, завалены мусором, всякого рода хламом, сожженными мотоциклами, поломанной мебелью. На каждом углу главной улицы — военный пост, оплетенный проводами полевых телефонов. Проезжают грузовики с солдатами: Вдалеке то и дело гремят одиночные автоматные выстрелы. Поток возвращающихся домой крестьян идет по окраине, около какого-то разбитого памятника сворачивает вправо, чем еще сильнее подчеркивается абсурдность пустоты и странной тишины, окутавшей город.
Казалось, что из распахнутых настежь магазинов вот-вот выйдут купцы, зазывая глянуть на их товары, что на немых балконах появятся девушки в узорчатых юбках, что по улице проедет веселый велосипедист или раздастся крик торговца, расхваливающего пирожки, бусы или фрукты. Но дома были мертвы, магазины пусты. Дворы заполнила листва диких бананов, на тротуарах выросла трава.
Все жители этого города были выселены и до сих пор не вернулись. Никто не знает, сколько осталось в живых, где они и на что живут. Во всяком случае, молодой человек из ведомства культуры этого не знал.
Нас повезли прямо на пресс-конференцию к начальнику провинции, которого по-польски следовало бы назвать воеводой, хотя, строго говоря, должность его называется иначе: председатель исполнительного комитета народно-революционного совета провинции Свайриенг. Это был невысокий тридцатилетний мужчина в военной форме без знаков различия, щербатый, усталый до смерти, охрипший, с глазами, которые давно не знали сна. Он вынул из кармана засаленный листок бумаги и торопливо прочитал приветственную речь, которая переводилась с кхмерского на вьетнамский, с вьетнамского на испанский, русский, французский и немецкий языки.
Он приветствовал нас от имени властей освобожденной Кампучии, от имени Народно-революционного совета, от имени всех жителей провинции, разумеется тех, которым удалось уцелеть. Визит товарищей из социалистических стран — большое событие в жизни провинции Свайриенг, проявление солидарности, пролетарской солидарности и истинно революционного духа. Это позволяет надеяться, что правда о страданиях народа Кампучии и о преступлениях клики Пол Пота — Иенг Сари станет известна международному общественному мнению. Победоносная борьба героического народа Кампучии увенчалась свержением преступной клики Пол Пота — Иенг Сари и разоблачила зловещие махинации пекинских гегемонистов и экспансионистов. Перед страной открывается новая жизнь, задачи стоят огромные. Предстоит трудиться среди развалин и могил, преодолевать невиданные трудности. Вся страна находится в тяжелых условиях, народ Кампучии успешно восстановит всю страну, но здесь, в провинции Свайриенг, трудности особенно велики, исключительно велики. Кровавая клика Пол Пота — Иенг Сари уничтожила тридцать процентов жителей нашей провинции…
Сколько?
Одну треть, а может быть, и больше.
Это составляет…
Около семидесяти тысяч человек.
Сколько?
Семьдесят тысяч.
Минуточку, товарищ, повторите еще раз, мы должны это записать. Сколько жителей насчитывалось в провинции Свайриенг в 1975 году?
Около четверти миллиона.
Сколько их сегодня?
Мы считаем, около ста пятидесяти тысяч, но цифра каждый день меняется, движение населения продолжается.
На чем основан ваш подсчет, когда вы говорите о семидесяти тысячах убитых?
Это легко проверить. Есть могилы. Поступила информация от старост. В некоторых «коммунах» составлялись списки.
Аудитория заволновалась. Никто не хотел слушать очередных речей и приветствий. Мы потребовали, чтобы нам представили доказательства преступлений, открыли могилы, позволили пересчитать черепа. К ужасу переводчиков и сопровождающей нас охраны, мы вышли из зала, отказались фотографировать и снимать на кинопленку пустой город. Но председатель не выказал никакой растерянности. Разумеется, нам покажут могилы, это совсем недалеко. Но сначала мы поедем в деревню Анг, по-кхмерски Пхум Анг, чтобы увидеть новую жизнь. La vie nouvelle.
Садясь в машину, я подумал, что не верю в семьдесят тысяч убитых. Мне известна присущая жителям Азии слабость к большим цифрам. Раз сто я обжигался на этом беззаботном оперировании нулями.
XXXIII. В едкой пыли, изнывая от зноя, обливаясь потом, ударяясь головами в брезентовую крышу вездеходов, стукаясь то об один, то о другой борт, мы поехали в Пхум Анг, чтобы увидеть новую жизнь.
Слово «пхум» значит по-кхмерски «деревня», но по причинам не очень понятным оно стоит перед каждым местным названием, подобно тому как и «срок», то есть «уезд». Режим Пол Пота вычеркнул из словаря оба эти слова, вероятно потому, что они напоминали о той территориально-социальной структуре, которая подлежала ликвидации. Такова же была судьба и слова «мекхум», означавшего «староста» или «глава общины». Ныне новая власть возвратила жизнь этим словам. Слова можно воскресить.
«Новая жизнь» в деревне Анг выглядела так: пять оборванных и изможденных женщин молотили цепами рис, а другие пять просеивали рис через решето. Рис доставила армия, и поэтому, наверное, такое важное значение придавалось нашему присутствию. Армия защищает и кормит. В деревне жило уже сорок пять семей. Из них двадцать пять — это давние жители. Остальные были пришлыми, о которых ничего нельзя точно узнать. Вероятно, они не могли еще вернуться домой или застали свои деревни полностью уничтоженными. Не думаю, чтобы переселение кончилось на наших глазах.
На главной площади между обшарпанными хижинами на сваях галдели голые дети со вздутыми животами, беспокойно носились исхудалые псы, стриженые старухи разжигали небольшие костры, смуглые девушки в плетеных шляпах теребили коноплю и сучили нитки. Рядом другие красили их в кипящем растворе индиго и какого-то красителя растительного происхождения, похожего на кошениль.
Конечно, это можно было назвать жизнью. Но только здесь и только в данный момент.
Операторы прикидывались, что снимают женщин, молотящих рис. Они слишком хорошо знали своих зрителей, чтобы тратить пленку на кадры, которые могут быть восприняты как невольная насмешка. Впрочем, некоторые, помня о строгих требованиях редакторов, для которых слово важнее, чем картина, взаправду вели съемку — максимально крупным планом, так чтобы кадры не пугали пустотой или зрелищем, которое можно наблюдать, скажем, в Бомбее или в местности, разрушенной землетрясением.
Мы узнали, что Пхум Анг была одной из последних действующих «коммун» в провинции Свайриенг. Ее давно хотели ликвидировать, вместе с соседней «коммуной» Пхум Такхи, так как не хватало воды для питья и поливки овощей и климат делал тут жизнь невозможной. Но по какому-то недосмотру обе «коммуны» просуществовали до самого освобождения, то есть до 7 января 1979 года. Не прошло и месяца, как отсюда выгнали палачей Пол Пота. И Иенг Сари, разумеется.
А что же случилось с заправлявшими здесь полпотовцами?
Ничего. Часть бежала в джунгли, но шеф безопасности попал в руки новых властей. Его зовут Санг Пхи. Он собственноручно убил в обеих «коммунах» сорок пять человек.
Сколько?
Сорок пять, ведь староста ясно сказал. Впрочем, этот человек здесь, мы можем сами его спросить.
Как же так, почему этот человек находится в коммуне, где он убил сорок пять человек?
Ну да, спешит объяснить нам незнакомый офицер народно-революционного совета провинции. Его отдали крестьянам на перевоспитание.
Но ведь он убежит.
О нет. Не убежит. Это исключено.
В чем состоит перевоспитание?
Крестьяне разъясняют ему его ошибки.
И долго это будет длиться?
Неизвестно.
Товарищ староста, можно увидеть этого Санг Пхи?
Староста молча кивает. Он направляется к дальнему, невзрачного вида бараку. Операторы вставляют новые кассеты и поспешно измеряют экспонометрами освещенность в тени пальм. Мы достаем блокноты. Вдруг офицер что-то резко говорит старосте. Переводчики забывают язык. Староста стоит и утирает лоб, он тоже вспотел.
Нет. Санг Пхи нельзя видеть. Гораздо важнее заснять новую жизнь, рис, доставленный армией, привезенные утром матрацы для детей, а также ящики с китайскими патронами, которые остались после полпотовцев.
Конечно, остались, хотя большинство из них — это уже ящики из-под патронов. Они валяются в поле, рядами стоят у стен хижин, занимают северный край центральной площади. На каждом из них стоит надпись: 800. Нам это уже много раз объясняли. Это обращение «великого китайского брата» к «красным кхмерам», которое означает, что восемьсот миллионов китайцев на их стороне.
Я спрашиваю старосту, имеются ли поблизости свидетельства преступлений полпотовцев и можно ли их видеть.
Староста молча кивает и указывает на линию горизонта. Эти люди лежат на плотине, но там уже территория Пхум Такхи, надо будет поискать кого-нибудь, кто откопает и покажет.
Вызвались два беззубых старика с мотыгами и молчаливый парень в накинутой на плечи коричневой хламиде, И стайка полуголых детей. Выходим.
XXXIV. Был уже полдень. Земля, с которой четыре года назад стекли последние капли воды, пылала жаром, как внутренность доменной печи. Еще никогда в жизни я не испытывал столь чудовищной жары: временами мне казалось, что кожа у меня начинает покрываться пузырями ожогов. Сердце и легкие жили остатками кислорода. Голова была как свинцовая.
Мы прошли около полутора километров среди желтого сухого ада, на каждом шагу поднимая тучи пыли. На мертвом рисовом поле между двумя дамбами высился бесформенный бугор, заросший клочьями рыжей травы. Длина его была метров восемьдесят, а ширина — шесть, местами восемь метров. Крестьяне указали пальцами: здесь. Но прибежавшие следом дети лучше запомнили, где это происходило, и показали место на два метра правее. Два старика начали ковырять мотыгами ссохшуюся красную землю, затвердевшую, как бетон. Раскаленный воздух был неподвижен. Жара достигла пятидесяти градусов. В мутном небе кружили птицы. Полуденной тишины не нарушал ни один звук, кроме металлического скрежета мотыг. Старики быстро выбились из сил. Их сменил парень в коричневой хламиде, лицо которого все более и более мрачнело. Операторы прильнули к видоискателям.
Через двадцать минут, когда пот, смешанный с пылью, залепил нам веки слоем жгучей грязи, окаменевшая земля внезапно поддалась. Из-под мотыги пошел невообразимый смрад: я не предполагал даже, что нечто подобное может существовать в природе, хоть и принадлежу к поколению, которому запах разлагающихся трупов знаком с ранней юности.
В этом климате достаточно, как правило, двух недель, чтобы у зарытого в землю человека не осталось ни малейших следов мягкой органической ткани. Хотя местами попадаются тяжелые лессовые почвы, в которых трупы как бы консервируются. Так было и здесь.
На глубине сорока сантиметров показалась сперва коричневая берцовая кость, затем осколок голени и тазобедренная кость с остатками одежды. Человеческие кости, к сожалению, не фотогеничны. Даже на чувствительной пленке «Кодахром» они сливаются с фоном. Операторы покачали головами: нет, это не то, копай дальше, дружище, это нельзя заснять. Парень начал копать немного выше. Внезапно острие мотыги отвалило порядочную груду земли и из темноты на секунду выглянуло женское лицо. Длинные черные волосы, лишь местами засыпанные пылью, обрамляли неплохо сохранившиеся щеки, остатки век и носа. Белые, здоровые зубы сидели на совсем розовых деснах. Но облако смрада отбросило от могилы даже парня в коричневой хламиде. Он машинально взмахнул мотыгой, и женское лицо снова скрылось под грудой земли.
Операторам нужно было не меньше пятнадцати секунд на кадр: иначе никто в Европе и обеих Америках не поверит в реальность сцены, участниками которой мы были. Истинный профессионал не портит кадров и не расходует зря импортную пленку.
Парень в коричневой хламиде еще раз поднял мотыгу. Острие с размаха рассекло груду земли, ударило мертвую женщину по подбородку и раскололо челюсть пополам. Старик что-то крикнул. Парень отшатнулся, чтобы набрать воздуха, а потом осторожно самым краешком острия начал расчищать комья земли вокруг лицевых костей.
Только тогда я заметил, что верхняя часть черепа в нескольких местах проломлена и пряди длинных черных волос вдавлены внутрь. Эта женщина была убита при помощи металлического стержня или мотыги. Ударов было несколько, потому что одно отверстие было вблизи виска, трещина шла от другого виска до самого затылка, а еще одно отверстие виднелось в верхней части черепа.
Увидев выражение наших глаз, дети один за другим начали изображать, как это происходило. Они ударяли друг друга по шее, закрывали головы руками, потом били себя кулаками по голове или ребром ладони в висок. Они видели это много раз и запомнили все жесты убитых и убийц.
Босоногие старики засыпали тела убитых красной землей, которая казалась забрызганной кровью. Кто-то из ребятишек толкнул меня под локоть, и все началу показывать, где еще похоронены люди. Черноглазая девочка принесла сандалию со следами крови. Мальчик в гимнастерке, от которой остались одни лишь лохмотья, показал торчавший из земли обрывок пояса. Дети надеялись, что мы будем долго всем этим заниматься. Во всем мире детям нравится, когда кто-то чужой приезжает и начинается движение, шум, треск камер, особенно нравятся моменты, когда можно проявить свою осведомленность. Дети из Пхум Анга были явно огорчены. Пытаясь нас заинтересовать, они показали небольшую ямку, там лежали три посеревшие берцовые кости и череп, наполовину зарытый в песок.
Но мы один за другим двинулись вперед — в Кампучии из-за обилия мин и неразорвавшихся снарядов можно передвигаться только гуськом, по хорошо вытоптанным тропам — сквозь море зноя, рассекая его, как кипящее масло.
Мы направились в деревню Такхи, где должны были ждать наши машины. Нас приветствовал староста, рослый сильный мужчина в изодранном американском френче, вокруг бедер он обмотал кусок черной ткани. Я попытался узнать что-нибудь о женщине, которая была наполовину скелетом, а наполовину — мумией. Но переводчики теряли сознание от жары, и продираться сквозь три языка было им не по силам.
Я записал лишь, что эта женщина проживала в «коммуне» Такхи и была убита, по всей вероятности, в конце декабря 1978 года. За что — староста не мог объяснить. Я стал добиваться, чтобы мне назвали хотя бы фамилию. Нет, староста не знал. Он не был тогда старостой, у него была третья категория, требовалась большая осторожность, и лучше было не интересоваться делами, которые его не касались. А женщина, если он не ошибается, была убита потому, что слишком много разговаривала.
Что такое?
Именно так. Elle a parle trop, еще раз повторил переводчик.
Сколько же всего человек убили полпотовцы в Пхум Такхи?
Староста прибыл сюда с колонной сравнительно поздно. Он думает, что при нем убито примерно тридцать человек. Вместе с другими, из Пхум Анга — шеф службы безопасности был один на две «коммуны», — будет пятьдесят человек или несколько больше. А может, и шестьдесят. Или семьдесят. Это трудно установить, так как в «коммуне» Пхум Такхи людей становилось все меньше и меньше, и как узнать, кого выселили, а кого отправили на дамбу. Из восьмисот пятидесяти жителей в деревне осталось всего сто семьдесят пять человек, в их числе только сорок мужчин.
На вопрос, что стало с остальными, староста описал рукою круг, охватив горизонт и землю.
Жара стала вовсе нестерпимой. Операторы осторожно уложили в машины свою ценную аппаратуру. Мы принялись за пиво и «луа мой».
Неизвестно, кто выдумал, что в тропиках не следует пить водку. Этот человек, как видно, никогда не сидел в полдень среди океана сухой пыли. И уж во всяком случае, не был в деревне Такхи.
Только у некоторых из нас хватило сил осмотреть в деревне Такхи, как нам было сказано, «запасы живой силы». Переводчики, конечно, ошиблись, ибо речь шла всего лишь о восьми свиньях, серых, как графит, и тощих, как скелеты. Они в отчаянии метались по своим загонам в поисках какой-нибудь пищи. В том климате свиней никогда и ничем не кормят. Они сами бегают в зарослях и по рисовым полям, упорно роются на свалках. Но сейчас в Пхум Такхи нет вообще никакой еды. Риса, доставленного армией, того самого, который так бодро обмолачивался на глазах наших кинооператоров, не хватит даже на то, чтобы прокормить стариков и детей. Остальные запасы кончаются. Свиньи не могли рассчитывать ни на какие отходы, и поэтому их заперли в загоны, чтобы они не потоптали костров, на которых как раз варили суп из какой-то зелени и вонючую маниоку. По приказу последнего начальника «коммуны» были вырублены заросли, кокосовые пальмы в плодоносящем возрасте, хлебные и даже манговые деревья, горькие корни которых не раз служили пищей для свиней. Здесь создавалась зона смерти, тотальной, всеохватывающей смерти.
С конца усадьбы послышался тонкий вибрирующий звук. Я пошел в ту сторону с фотоаппаратом, поставив его на самую короткую выдержку. Неизвестно ведь, что это за звук. Но я увидел всего лишь тощую большую свинью, издыхавшую от голода. Ее пустые, иссохшие сосцы были покрыты желтой пылью. По ее брюху ползало пять двухнедельных по виду поросят — косточки, обтянутые изъязвленной кожей. У шестого поросенка уже не было сил дотащиться до матери. Он завяз в пыли в полуметре от ее пустых сосцов, поминутно, задирая окровавленное рыльце. Это он издавал тот вибрирующий тонкий звук. Седьмой поросенок, уже мертвый, лежал под забором, скрюченный и бесцветный, как комок грязи; его застывшие ножки торчали вертикально вверх.
В трех метрах от издыхающей матки сидел на страже тощий желтый пес и внимательно наблюдал за моими шагами. В Азии собаки панически боятся людей: у них есть к этому основания. Видно, он ждал, пока я отойду на безопасное для него расстояние.
Мы уложили вещи. Машины зафыркали и снова подняли кучу едкой пыли. Мы перезаряжали пленку, положив на колени блокноты, помечали, какие кадры и в какой последовательности засняты, начали искать сигареты, утирать лбы и шеи. Кто-то сказал, что чертовски жарко.
Так мы выехали из Пхум Такхи, где я впервые одновременно увидел смерть людей, животных, растений и земли.
XXXV. Мы возвратились в бывший город Свайриенг и, прежде чем перейти к очередным делам, поели, пища была привезена на последнем в нашей колонне вездеходе. Меню состояло из крутых яиц, пива, помидоров, пшеничного хлеба и мясных консервов без этикетки, когда-то известных под названием «свиная тушенка».
XXXVI. Лишь теперь я осознал, что до сих пор не видел ни одного уличного торговца, никаких выставленных на продажу товаров, никаких признаков торговли вообще. Я спросил об этом наших переводчиков. Они обратились к офицеру охраны; разговор занял пять минут, не хватало слов, то и дело повторялись жесты отрицания, утверждения, удивления, и наконец выяснилось, что в Кампучии нет никаких денег, а следовательно, нет и торговли.
Как это: нет никаких денег?
Ну да, никаких. Четыре года назад Пол Пот объявил все деньги недействительными, а новая валюта до сих пор не введена.
Ну хорошо, а зарубежные валюты?
Не имеют хождения.
Но ведь за границей их никто не отменял.
А здесь они ничего не стоят, потому что покупать нечего.
Я занес объяснение в блокнот, отказавшись от дальнейших расспросов. Я еще не видел страны, которая могла бы четыре года обходиться без денег. У меня в кармане были вьетнамские донги, таиландские баты и американские доллары. Мне трудно поверить, что я вожу с собой попросту некоторое количество ярких бумажек.
Я незаметно выбрался из здания местного совета, где нас кормили. Подошел к группе сидевших на камнях солдат, вынул банкнот с изображением короля Пумипона достоинством в двадцать батов, что равняется одному доллару, и жестами показал, что хочу купить пачку сигарет, вот такую. Солдаты смущенно улыбнулись и отрицательно покачали головами. Я вынул однодолларовый банкнот. То же самое. Когда я искал в кармане донги, появился молодой человек из ведомства культуры, заинтригованный моими контактами с войском. Я объяснил ему, в чем дело, продираясь сквозь трясину французской грамматики, которую мы оба преодолевали с одинаковым трудом.
Нет, сказал молодой человек. Это невозможно. Здесь никакие деньги ценности не имеют. В крайнем случае — старые медные индокитайские пиастры с дыркой посередине, которые выпустили французы в начале века и изъяли из обращения в 1930 году. Но и они не помогли бы делу, ибо нет ни одного магазина и никаких товаров на продажу. Что касается сигарет, то во всей провинции наверняка нет ни одной пачки. Пол Пот запретил курить и возделывать табак.
А если бы я захотел купить чего-нибудь съестного?
Еще хуже. У людей так мало продовольствия, что нет такого товара, на который они согласились бы его поменять, а что уж говорить о несъедобной бумаге, пусть даже с самыми красивыми картинками.
XXXVII. Мы поехали осматривать госпиталь в Свайриенге. Это старое здание в колониальном стиле, воздвигнутое в 1909 году французами для местного населения, с множеством галерей, укромных уголков и прохладных веранд. Стены покрыты пятнами лишайников, кусками отваливается штукатурка, из углов сыплется выветрившаяся известка.
В госпитале не было ни одного врача. Старый фельдшер, неплохо говорящий по-французски, три молоденькие медсестры, пять босоногих женщин на кухне и в прачечной — вот и все. Больные и раненые лежали на голых досках. Через рамы без стекол были видны их лица, окаменевшие в безмолвном страдании. Мы хотели увидеть их поближе, сфотографировать, снять на кинопленку. Перед этим фельдшер рассказал нам историю госпиталя за время, когда у власти был только что свергнутый режим.
Она была краткой и исчерпывающей. В начале мая 1975 года в больницу был назначен полпотовский комиссар, который велел, впрочем, именовать себя начальником. Это был неграмотный тринадцатилетний мальчик по имени Кхун или Кхен, никогда не расстававшийся с автоматом. По первому его приказу все больные, способные передвигаться, должны были выйти из госпиталя и пешком отправиться к месту своего жительства. Тех, которые не могли подняться, было запрещено лечить, дабы сама природа распорядилась их судьбой. За неделю умерли почти все, их похоронили вон там, за уборной. Бывшему главному врачу госпиталя, который окончил медицинский факультет университета в Тулузе, начальник приказал ежедневно, с рассвета до темноты, подметать и чистить больничный двор, а кроме того, голыми руками убирать содержимое выгребной ямы. Шесть других врачей сразу были отправлены в отдаленные «коммуны», разумеется получив четвертую категорию. Такая же участь постигла медсестер, кроме тех, кто вступил в армию «красных кхмеров». Осенью госпиталь совсем опустел. Оставшийся персонал был выселен. Вызванный из города взвод полпотовцев уничтожил весь запас лекарств, хирургические инструменты, а также единственный на юге Кампучии рентгеновский аппарат. Затем ворота больницы закрыли, ее территорию заминировали американскими минами. Стены начала постепенно съедать буйная, прожорливая растительность. 8 января 1979 года госпиталь открылся снова, и мы должны это видеть, дабы засвидетельствовать, что жизнь в стране возрождается.
Командир охраны предостерег насчет мин, так как наверняка не все они обезврежены. Он пробовал уговорить нас осматривать здание целой группой, но это ему не удалось. Отправившись в первый самостоятельный поиск, мы разбрелись по коридорам, палатам и кабинетам.
XXXVIII. Из блокнота. Умирающий мальчик, три года(?), по всей вероятности у него горячка от голода, живот, ребра. Мать в окровавленной кофте бесслезно рыдает, припав к его ножкам. Другой мальчик, рваная рана на левой ноге, мина или снаряд, тряпичная повязка вся в крови, нет бинтов, нет йода, глаза открыты, в сознании, смотрит. Девочка, покрытая струпьями, не оспа ли это? Две женщины рожают на голых нарах, раскорячившись, упершись босыми ногами в не ободранные от коры стойки, молча, в поту, волосы взлохмачены. Раненый солдат, пятна на животе увеличиваются, долго не проживет. Ждут перевязочных средств. (Так говорит фельдшер.) Пока нет ничего. Болеутоляющего тоже нет. Вся комната завалена разбитыми ампулами. Амер. ксилокаин. Франц. кардиамид. Стекло, стекло. Старая крестьянка, язвы, струпья. Медсестры носят воду. До колодца 300 м, но вода плохая (трупы, мелко), надо долго кипятить, не на чем. Кухня разгромлена, кафель разбит, котлы продыряв., женщины разожгли огонь, котелок висит на пулеметной ленте. У окна женщина с голым ребенком на руках, кивает, бормочет Психически больная(?). На дворе: окровавленные матрацы, вспоротые ножом, штыком, погнутые ланцеты, стетоскоп разлом, напополам, снова ампулы, баночки. Витамин «В-6», произв. «Циба», лейкозол «Джей-джи», от чего? Растоптаны. Расколоты. Мусор. Рентгеновский аппарат, цена 300 тыс. долл., англ. производства «EMJ»; для томограмм, табличка: donne par Croix Rougé Franç.[19], стоит показать французам, но здесь темно, фотография не получится. Разбит молотком, камнями. Панель с индикаторами разб. и порезана, вероятно, зубилом, провода вытянуты, перерезаны. Свинц. экран тоже разрезан, даже сетка, наверное, автогеном, интересно, откуда взяли ацетилен? Этого уже не исправить, лом. Зачем уничтожили?! Первый этаж. Некоторые палаты пусты, грязные миски, драные матрацы. Желтая собака что-то ищет, убегает. Снова больные. Юноша, длинный шрам через грудь и живот, как от сабли, чуть затянулся, без перевязки. Рядом старый крестьянин, тихо стонет, глаза остекленели, видно, умирает. Кого-то несут на носилках. Торчат только босые ступни, оч. грязные, лицо закрыто курткой. Выносят во двор. Медсестра говорит: tué, tué[20]. Кем? Во дворе. Мужчина лет 40, лицо раздулось, сегодня «кр. кхм.» выстрелили ему в шею, размозжило. Когда стреляли? Возвращаемся. Фельдшер: напишите.
XXXIX. Мы опять встретились с председателем совета и его сотрудниками. Председатель вынул из кармана засаленный листок бумаги и зачитал прощальное приветствие. Он благодарил нас за визит, выразил убеждение, что мы осознали весь масштаб кровавых преступлений клики Пол Пота — Иенг Сари и что собственными глазами увидели, как возрождается в Кампучии новая жизнь. На этот раз его слова не были восприняты с досадливой иронией. Своеобразный язык передовых статей и брошюр прозвучал чисто и горько. По крайней мере для некоторых из нас.
Председатель готов был ответить на все наши вопросы. У нас был только один: сколько в действительности людей погибло в провинции Свайриенг в период правления полпотовцев?
Офицер из местного совета (по-видимому, комендант района или начальник военного отдела) сообщил нам следующее.
Число жертв преступной клики Пол Пота — Иенг Сари в провинции Свайриенг не может быть пока установлено с полной точностью в связи с непрерывным передвижением населения, а также в связи с тем, что часть прежних жителей провинции по-прежнему находится в других районах страны, в то время как в Свайриенге имеется в данный момент большое количество временно проживающих. На основе абсолютно точных данных следует констатировать, что число жертв преступной клики Пол Пота — Иенг Сари составляет не менее 50 тысяч убитыми и от 20 до 25 тысяч человек умершими вследствие голода и нечеловеческих условий труда в «коммунах».
Кампучия делится на девятнадцать провинций. Если данные по Свайриенгу соответствуют средней цифре по стране в целом, то следует считать, что за время правления Пол Пота около миллиона людей было казнено и полмиллиона умерло от истощения. Это совпадает с минимальной цифрой человеческих жертв, какую нам предварительно сообщили.
У нас не было больше вопросов. Мы хотели увидеть массовые захоронения.
Тут возникло неожиданное препятствие. Командир нашей охраны решительно запротестовал против каких-либо новых поездок. Скоро три часа, до границы целых пять часов езды, о том, чтобы ехать после наступления темноты, и речи быть не может. Мы должны немедленно возвращаться в Сайгон. То есть в город Хошимин.
Поднялся разноязыкий галдеж. Мы понимаем, что ехать в темноте небезопасно, но ведь можно переночевать здесь, в Свайриенге.
Польская группа, ссылаясь на традиции партизанской борьбы, выразила готовность провести ночь в машине или на голом полу в здании совета.
Нет, сказал начальник охраны. Кончается запас воды и продовольствия. Надо возвращаться.
Советская группа заметила, что воду можно смешать с водкой «луа мой». Амебы и бактерии бесследно исчезнут, что многократно проверялось.
Нет. Фильтрованной воды нет во всей округе. Колодцы отравлены трупным ядом. У нас нет ни хлеба, ни консервов. Выезд был рассчитан на один день.
Зачем хлеб? Мы можем есть рис, как солдаты.
Нет. Риса нет. У солдат точно отмеренные порции, их нельзя лишать питания.
Хорошо: мы ничего не будем есть. Сорвем во дворе немного бананов. Воду прокипятим на уличном костре. Тут полно рухляди, которую можно сжечь, хворосту и листьев.
Нет. Жечь ночью костры запрещено.
Но ведь население, которое возвращается, разводит у дорог костры.
Дороги усиленно охраняются. А здесь опасная зона.
Товарищ, здесь есть две жестяные банки. В пустых лавках мы найдем молоток и зубило. В полчаса смастерим бездымную бензиновую печь.
Нет. Мы не имеем достаточного запаса бензина.
Мы должны увидеть массовые могилы. Нам надо иметь снимки, фильмы, материал для газеты.
Нет. Надо возвращаться. Может быть, мы приедем сюда еще раз. Поехали, товарищи. Сопровождающие — по машинам!
Во втором часу ночи мы добрались до Хошимина.
XL. Еще день в ожидании очередного выезда, все зависит от того, насколько безопасно там, в Кампучии. Ходим, наблюдаем, осматриваем, безуспешно пытаемся отчиститься от желтой пыли, выбиваем сумки и трясем блокноты, стираем рубахи и штаны. Долгие дискуссии. Спирт с пепси-колой, купленной за доллары на местном базаре: тут еще много американских запасов. Наброски статей, но в них больше вопросов, чем ответов. Опять споры, давно известные шутки, которые никого уже не смешат. Новые встречи, поездки в Шолон за тигровым бальзамом, служебные и партийные разговоре. Сбор документов, который каждую минуту приходится прерывать, так как собранное рождает еще больше неясностей.
И отель «Рекс», который ныне называется «Бентхань».
Забыл спросить, что это значит. Жаль. Каждый из знаменитых ранее сайгонских отелей нынче получил другое, местное название. «Палас», например, — это «Хыунги», то есть «Дружба», а «Мажестик» — это «Кыулонг». Буквально это значит «девять драконов», а в переносном смысле — девять рукавов реки Меконг, которые составляют дельту.
Гостиница, в которой живем мы, десять телевизионных групп и пять корреспондентов, расположена на углу улицы Ты Зо, что означает «Свобода». Прежнее название, «Каравелла», изменено на «Доклап», то есть «Независимость». Это, может быть, самая знаменитая гостиница в истории мировой печати. Некоторые прямо утверждают, что именно в «Каравелле» американцы проиграли вьетнамскую войну. С 1961 по 1975 год здесь вырабатывались взгляды и позиции, которые в конце концов вызвали в американском обществе самое сильное в его новейшей истории смятение. Здешняя журналистская биржа была описана в почти двухстах книгах. Бар на десятом этаже был ключевым информационным пунктом для многих разведок мира.
Именно сюда запыхавшийся корреспондент Эн-би-си когда-то принес секретное сообщение о том, что американское командование задумало свергнуть Сианука, чтобы посадить в Пномпене своего человека и перерезать в конце концов эту проклятую «тропу Хо Ши Мина». Если перерезать эту проклятую дорогу, победа будет наверняка обеспечена. Поначалу сплетне никто не поверил: она была похожа на тысячи других, которые каждый вечер стекались сюда из самых необычных источников. Когда же она подтвердилась, из отеля «Каравелла» понеслись в мир комментарии, в которых свержение Сианука рассматривалось исключительно в контексте дальнейшего хода американо-вьетнамской войны. Мало кому пришло тогда в голову, что свержение Сианука даст начало целому ряду событий, которые станут вехой в современной истории Азии.
Надо бы, однако, воскресить в памяти более широкий фон тех событий, свидетелем которых я здесь стал.
XLI–L
XLI. Вечером в небольшом зале местного телецентра нам показали два документальных фильма, о существовании которых мы слышали и раньше. Это был совершенно неофициальный показ, в чисто информационных целях. Фильмы не будут демонстрироваться публично, не будут в порядке обмена переданы телевидению какой-либо из братских стран или проданы на валюту за границу Причин не назвали, но о них уже через минуту после начала показа можно было легко догадаться. Газетный фоторепортер работает совершенно иначе, чем полицейский фотограф при осмотре трупа и места убийства; кинокамера — мертвый предмет, но по характеру ее употребления можно без труда установить, с какой целью производилась съемка. Это был фильм для служебного пользования в полном смысле этого слова. Он почти целиком состоял из крупных планов и множества таких деталей, которые оператор, работающий в кино или на телевидении, наверняка бы опустил.
Крупный план. Труп женщины примерно лет тридцати: открытый рот, сведенные челюсти, лицо, скривившееся в гримасе боли, черные волосы раскинуты вокруг головы и местами засыпаны высохшей грязью. Камера медленно опускается вниз, появляется левая грудь, и хорошо видна рана, нанесенная, по-видимому, ножом или штыком. Правая грудь закрыта измятой окровавленной тряпкой. Задран неестественно смятый подол крестьянского платья. Следующий кадр, который в первый момент непонятен: в промежности у женщины торчит заостренный бамбуковый кол диаметром в десять сантиметров, другой конец которого на полметра ниже босых ступней. Кровавая каша в паху и на лонном бугорке. Лужа потемневшей крови на бедрах.
Еще труп женщины с точно таким же бамбуковым колом в промежности. Третий. Четвертый. Пятый.
Шестой. Только седьмая женщина лежит около обтесанного бамбукового кола совершенно нагая, свернувшись в клубочек. По израненной спине ползают стаи мух и полчища муравьев. Голова обмотана тряпками.
Женщины лежат в зарослях. Солнце просвечивает сквозь кусты и железные обломки. Меж трупов прогуливается курица, поклевывающая червяков и муравьев. Оператор снимает валяющиеся возле трупов сандалии и клочья одежды, китайские ящики из-под патронов, следы колес бронетранспортера, китайские канистры из-под бензина, которым поджигали деревни. Переход на средний план: сожженные дотла крестьянские дворы. Зарезанные буйволы с раздвинутыми в корчах копытами и хвостами как дубовая палка. Искореженная в огне кухонная утварь. Собака с размозженной головой. Человеческая нога, нелепо торчащая из-за угла.
Общий план: солдаты с оружием на изготовку обыскивают развалины деревни. Местами еще пробивается дым. Опять крупный план. Двое мертвых молодых крестьян с широко раскинутыми руками. Посреди груди одинаковые глубокие надрезы, обнажающие доли розового легкого и кровавые ямы околосердечных сумок. У одного из мужчин широко открытые карие глаза, в которых скорее удивление, чем боль. Второй вцепился зубами в собственный кулак.
Это немой фильм, снят на цветную пленку «Орвохром», его показывают без комментариев, ибо составлено служебное донесение, где сообщаются все необходимые подробности.
Далее сожженный амбар с рисом, подорванный гранатою плуг и скорченный, едва заметный труп какого-то старика, маленький, как бугорок рыжей земли. И еще желтая собака с высунутым языком, повешенная на пальме с помощью петли из стальной проволоки.
Конец фильма.
Он снят 28 апреля 1978 года во вьетнамской деревне Лон, в провинции Тэйнинь, киногруппой вьетнамской службы безопасности, которая прибыла на выручку через шесть часов после нападения полпотовцев. Деревня Лон расположена в двадцати восьми километрах от вьетнамо-кампучийской границы.
Второй фильм сделан этой же группой, но пополнен кадрами, снятыми операторами кубинского телевидения. Именно здесь, в деревне Суайтхангмо, полпотовские бригады устроили самую крупную из известных на сегодняшний день резню на вьетнамской территории. Первая имела место в январе 1978 года и длилась около полутора суток. Вторая произошла полугодом позже, 28 июня.
На сей раз фильм звуковой, и поэтому документальность его трудно переносима. Вьетнамские кадры черно-белые и датируются январем. Кубинские — цветные, относятся к июню.
Черно-белые кадры. Молодая, лет восемнадцати, женщина, беременная, срывает с шеи косынку, размахивает ею перед объективом и рыдает так отчаянно, что уровень записи не выдерживает резких колебаний амплитуды и в репродукторах время от времени слышится сухой треск. Она уцелела чудом, одна из всей семьи, насчитывавшей четырнадцать человек. Полпотовцы появились в час ночи, подожгли деревню, перебили скот и собак, а потом принялись убивать людей. У нее убили родителей, братьев, сестер, мужа. У женщины приступ истерики.
Теперь — цветные. Та же женщина, уже не беременная, ведет операторов в заросли, кружит в каких-то оврагах и лощинах. Крупным кадром мотыга, звуковой фон — плач и приглушенные голоса. В разрытом рву полно костей и черепов. Женщина показывает один из черепов: это дедушка. Она начинает плакать, громче и громче. Внезапно наклоняется, берет другой череп и протягивает его в сторону камеры. Это ее мать.
Опять черно-белые, январские кадры. Дым над пепелищем. Шестнадцать, если я верно сосчитал, мужчин, которые лежат один возле другого на каком-то дворе. Пробиты головы, отверстия в груди, лужи густой черной крови. Разваленный плетень, за ним огород, перед сожженной хижиной… Что это такое? Двое, нет, трое совсем маленьких детей, примерно четырех лет… Нет, этого же не может быть!
Я прошу остановить пленку и снова показать этот кусок.
Нет, глаза меня не обманывают. Эти дети насажены на бамбуковые острия, словно мухи, проколотые булавкой. Заостренные стержни введены в прямую кишку. Мальчик, который находится в правой части кадра, выглядит как тряпка на вешалке: почерневший от крови кол торчит сантиметров на пять из его правого, плеча.
Еще двое детей. Еще один ребенок. Камера начала покачиваться. Снятые в волнении, кадры все короче. Обрыв. Показывают средний план: на фоне пышной растительности примерно сорок трупов разного возраста и пола.
Цветные кадры, июнь. Солдат ведет кубинцев к другому рву. Черепа с отчетливо видными трещинами в затылке, некоторые с круглыми отверстиями наверху. Маленький, как кулачок, череп ребенка, вероятно младенца. Берцовые кости перевязаны колючей проволокой. Тазовые кости прикрывают кости голени: видимо, этих людей убивали, поставив на колени.
Январь. Старик, который во время нападения сошел с ума, пространно рассказывает, как десять с лишним часов назад производились расправы с жителями Суайтхангмо. Он смеется. Плачет. Потом закатывает рукав и подсовывает к объективу исхудалую руку, на которой овальная кровавая рана с рваными краями.
Конец фильма.
С февраля 1977 года до конца декабря 1978 года полпотовцы совершили восемьсот тридцать три нападения на вьетнамскую территорию. В результате погибло более тридцати тысяч вьетнамцев. В приграничной полосе разорено более половины хозяйств. В одной лишь провинции Тэйнинь материальный ущерб оценивается в двадцать миллионов донгов (средняя месячная зарплата не превышает 60 донгов).
Вьетнамская армия немногим могла помочь. Борьбу с налетчиками вели главным образом небольшие силы народной милиции и крестьянской самообороны, на вооружении которых были в лучшем случае автоматы. Чтобы поддерживать спокойствие в пограничной полосе длиною в 700 километров, надо было бы разместить там не меньше двадцати дивизий. Вьетнам не мог себе этого позволить. Только когда полпотовские диверсанты были схвачены на подступах к городу Хошимину, когда начали взлетать в воздух плотины в провинции Виньлонг, а обстрелом кампучийской артиллерии был средь бела дня разрушен город Тэйнинь, были предприняты серьезные меры военного характера.
XLII. У нескольких полпотовских комиссаров из тех бригад, которые совершали налеты на Вьетнам, были обнаружена печатные инструкции, в которых определялась цель операции. Ее полагалось громко зачитать перед строем каждой роты. Стиль ее напоминает тибетскую молитву. Текст состоит главным образом из повторений, перифраз и восклицательных знаков. Как видно, он должен был вызвать транс наподобие мантры. По-видимому, в этом состоит пресловутое азиатское «промывание мозгов».
Заключительный, одиннадцатый раздел инструкции звучит так:
Вьетнам — это враг.
Вьетнам — это извечный враг.
Вьетнам — враг каждого кхмера.
Вьетнам предал революцию.
Вьетнам — это тысячелетний враг.
Вьетнам надо уничтожить.
Вьетнам надо обуздать.
Вьетнам — это исконный враг.
Вьетнам надо ненавидеть.
Зуоны, вон из Сайгона!
Аннамиты, прочь на север!
Долой зуонов!
Долой аннамитов!
Вьетнам — это враг.
Вьетнам надо уничтожить.
Слово «зуон» — это оскорбительное для вьетнамцев прозвище. Оно китайского происхождения и до самой середины XIX века в Кампучии не было известно.
Пренебрежительное прозвище «аннамит» взято из словаря кличек французских колонизаторов. Французы заимствовали его из китайского языка.
Я записал в блокнот, что для любой революции самая большая опасность — это перерождение националистического характера. Но сразу же зачеркнул эту фразу. Я вспомнил о детях, насаженных на бамбуковые колья, и мне стало стыдно вписывать сюда теоретические обобщения.
ХLIII. В отеле «Рекс», который теперь называется «Бентхань», по субботам и четвергам танцы… Плата за вход — пять донгов, эквивалент трехдневного труда, но это не имеет большого значения, так как гостиница посещается в принципе только иностранцами, чьи заработки и суточные во много раз выше. Оркестр в белых смокингах играет «Arrivederci, Roma»[21] и «Green Leaves of Summer»[22]. Трио акробатов демонстрирует чудеса ловкости. Жонглеры колдуют в воздухе с помощью ста или пятисот разноцветных колец. Девушки, которые еще недавно пели в этом зале для американских офицеров сентиментальную балладу «Red River Valley»[23], переодеты в народные костюмы и исполняют стилизованные песни, которые должны дать иностранцам представление о вьетнамском фольклоре. Разумеется, есть и «Подмосковные вечера», и что-то из репертуара Карела Готта.
Это неплохо организованное предприятие, в сущности, даже милое, но есть в нем какой-то забавный, нэпмановский душок. Здесь можно без труда заказать виски «Джонни Уокер», прекрасно поджаренный соленый миндаль и внушительного вида вазу с мороженым, которое взбивается на работающей по-прежнему американской машине. Окна клуба на втором этаже старательно закрыты портьерами. Вечернее небо лимонного цвета сюда никогда не заглядывает.
Гостей с Запада немного. Какие-то французы, чьи предупредительность и вежливость по отношению к местным жителям мне противны и несносны; какие-то почтенные шведские инженеры с лицами до ужаса деловыми.
Больше всего в «Бентхане» специалистов из социалистических стран, не склонных к расточительству, но готовых полюбоваться ориентальной экзотикой. Тула и Эрфурт, Петрков и Брно, Пловдив и Первоуральск. Эти люди прибыли сюда по службе, по важным делам, о которых нет нужды говорить и писать. Они действительно нужны здесь и по мере сил хотели бы помочь Вьетнаму. И конечно, приезжим необходимо отдохнуть и немного развлечься после целого дня трудной работы. Только поэтому в центре Хошимина сохранен этот подозрительный реликт прошлого, чья атмосфера напоминает времена погибшего Вавилона. Это для европейцев сохранен оркестр в белых смокингах, жонглер, который с успехом мог бы возделывать рис, и официанты, владеющие четырьмя языками. «Тогда» каждый из этих официантов наверняка работал на сайгонскую разведку, полицию и жандармерию, а кроме того, на ЦРУ, французов, японцев и Пекин. Иначе он долго бы здесь не продержался.
Не надо быть психологом, чтобы ощутить создавшуюся вокруг «Рекса» атмосферу молчаливого упрека и неловкости.
Всеобщее самоограничение, рационирование продовольствия, строгость нравов, культ труда, занятия по политпросвещению, опустевшие ювелирные магазины, заброшенные ресторанчики, вывешенные на улицах лозунги с призывами бороться за единство, свободу, независимость и социализм. Это уже не тот Сайгон, вздыхают старожилы: как тут сейчас бедно, серо и скучно! В шестьдесят третьем… в шестьдесят пятом…
Я терпеливо слушаю эти вздохи и смотрю старожилам прямо в глаза. Разумеется, я верю, что Сайгон был тогда «Парижем Азии», или «жемчужиной тропиков», или «столицей света». Любой публичный дом занятнее фабрики. Всякая хорошо сложенная стриптизерка доставляет больше эмоций, чем склонившиеся на рисовом поле девушки в остроконечных шляпах, как бы красивы они ни были. Надо просто выбрать точку зрения.
Когда отсюда выгнали американцев, в четырехмиллионном Сайгоне было 285 тысяч проституток, 92 тысячи бездомных сирот и 350 тысяч наркоманов. На одной только улице Катинат выстроились один за другим шестьдесят публичных домов, и среди них такие знаменитые, как «Орион», где персонал состоял из двенадцатилетних мальчиков, или «Звезда», где самой старшей из обитательниц было тринадцать лет. Президент Южного Вьетнама Тхиеу зарабатывал сто двадцать тысяч долларов в день на торговле наркотиками. В одном из кварталов возле доков жила под открытым небом целая колония детей от пяти до восьми лет, без какой-либо опеки, промышляя воровством или нищенствуя. Знаменитая мадам Ню велела соорудить для себя висячие сады, для которых еженедельно доставляли самолетом из Бразилии самые редкие сорта орхидей. Проститутка со знанием английского языка зарабатывала за ночь столько, сколько портовый рабочий за четыре месяца. Под конец шестидесятых годов здесь ежедневно умирало 25 человек в результате отравления наркотиками, 11 человек — от незалеченных венерических болезней и 38 — из-за хронического недоедания. Один китайский предприниматель из Шолона по имени Ли Чан, который контролировал третью часть публичных домов города, накопил у себя шестнадцать тонн золота в слитках, имел четыре «кадиллака» и четыре «мерседеса», а персонал его домов чаще всего попадал к нему прямо из деревни, и уже в первый день каждая получала порцию героина. Все это творилось шесть-восемь лет назад, когда центр Сайгона освещали прихотливые неоновые вывески, по нынешней улице Ты Зо прогуливались девицы, прелестные, как бабочки, а в ресторанах «Мажестик» и «Рекс» подавались омары, приготовлявшиеся сорока двумя различными способами.
Проще говоря, существуют разные мерки для таких понятий, как свобода, радость, краски жизни, красота города. В этом нет ничего нового. Странно даже, что столь очевидные вещи приводится время от времени повторять. А надо. Некоторые открыто жалуются на монотонную серость этого города, еще немного — и спросят: стоило ли разгонять поднимавшуюся здесь когда-то милую и веселую дымку?
Сайгон был в американские времена наверняка самым страшным городом Азии, обиталищем зла в конденсированной форме, вызовом человечности. Здесь лучше, чем где-либо в другом месте, можно было бы уразуметь безграничную ненависть группы Пол Пота к большим азиатским городам.
XLIV. Мы попали в «Рекс» спустя полтора часа после просмотра документальных фильмов о провинции Тэйнинь.
Я не переношу ночных ресторанов и всего, что с ними связано: тусклого полуночного освещения, восхитительных женщин с накрашенными лицами, внезапных восторгов и водочных дружб, которые не доживают до утра. Мне неприятно смотреть, как на паркете топчутся слегка хмельные пары и ловят друг у друга в глазах обещания, которые навеяны близостью экватора и мечтательной тропической ночью. Мне смешны эти кривлянья и волокитство, которое ни к чему не обязывает и выглядит одинаково жалко под любым градусом широты. Я заглядываю за занавеску, где отдыхает после номера усталый жонглер в пропотевшем трико, смотрю в полураскрытую дверь кухни, где из треснувшей чашки прихлебывает зеленый чай утомленный акробат, примостившийся на плетеном табурете между дверью и кухонным столом. Я всегда так делаю, я всегда в союзе с персоналом против клиентов. Сейчас я на стороне «товарищей из сектора обслуживания», которым разрешено работать в этом зачумленном месте. Я мысленно подсчитываю их скромную зарплату и чаевые, в которых они наверняка должны теперь отчитываться. Я представляю себе, как под утро они вернутся в свои бедные жилища на далекой окраине. Мне хочется им сказать, что европейские товарищи — это не просто очередной набор клиентов «Рекса», что отсутствие размаха, привычки швырять деньгами, некоторая сдержанность в развлечениях свидетельствуют о принесенных нами сюда совершенно новых нравах.
Но ничего такого я не говорю. Слишком часто мне приходилось отказываться от такого рода поспешных заверений.
Не прийти сюда с коллегами я не мог. Останься я в гостинице, пришлось бы как-то прокомментировать, хотя бы в дневнике, реальный смысл увиденного час назад на экране. А я не знаю, как это все можно объяснить. Крестьяне убивают крестьян. Обездоленные сажают на кол детей обездоленных. Недавние друзья и союзники ведут себя хуже самых жестоких оккупантов. Неискоренимое мировое зло пожирает революцию? Тьма побеждает свет братства? Лучше уж я посижу в этом говоре и дыме, потягивая виски, бутылка которого стоит столько, сколько в месяц зарабатывает рабочий, погляжу, как жонглер крутит свои кольца.
Нет такого правила, которое обязывало бы меня иметь мнение по каждой проблеме. Впрочем, я, по-видимому, старею и все меньше и меньше разбираюсь в вопросах, которые еще недавно мне казались совершенно ясными. Если и вправду в этом состоит зрелость суждений, то так можно дойти до мысли, что любые человеческие деяния ради намеченной заранее цели заведомо обречены на полную неудачу, так как неминуемо, раньше или позже, разобьются о недвижный, жестокий, лишенный логики материальный мир. Не хотел бы я дожить до такой минуты.
Я знаю таких, с кем это случилось, и не питаю к ним никаких чувств, кроме презрения и досады.
Ах, европейские девушки, заброшенные сюда по воле случая и капризу судьбы, наши славянские и мадьярские красотки, статные, сытые, веселые, обаятельные! Я пью за ваши пышные формы и длинные ноги, от земли до неба. Товарищи инженеры, полковники и торговые работники! Пью и за вас, побратимы, знающие свое дело, деловые и добросовестные.
XLV. А чего я, собственно говоря, прицепился к людям, которые здесь отдыхают? Ведь в самом желании потанцевать или послушать легкую музыку нет ничего безнравственного. Наоборот. Совсем наоборот. Мы написали на своих знаменах, что человек имеет право на лучшую жизнь, а в это понятие входят и развлечение, и отдых, и всякие невинные удовольствия. Никто здесь не оскорбляет революцию, не ведет себя скандально или вызывающе. Надо к тому же иметь чувство меры, чтобы не впасть в одержимость и фанатизм. Нельзя страдать за весь мир сразу; нельзя за всех отвечать и всех вести за ручку в утопический рай; крайности в понимании равенства вредны и чреваты опасными последствиями; справедливость — это понятие историческое; у каждой страны есть свои проблемы, безусловно поддающиеся изучению; опасно опережать события: это пахнет бланкизмом; диспропорции в развитии социалистических стран достойны сожаления, но обусловлены различиями в их истории; нельзя прикладывать к Азии европейскую мерку; существуют разные концепции счастья; у всех у нас только одна жизнь, которую мы должны прожить достойно, в достатке и весело. Черта с два!
XLVI. Шестого февраля в четыре тридцать утра мы прибыли на военно-воздушную базу Тхансоннют. Я уже не помню, сколько раз писал я из Нью-Йорка, будучи спецкором ПАП, об этой базе, налеты на которую партизаны совершали чуть ли не каждую ночь, упорно обстреливая ее из всевозможных огневых средств, не исключая бамбуковых катапульт. До настоящего времени стоят здесь длинными рядами тяжелые бомбардировщики Белла и Сикорского с белыми звездами американских военно-воздушных сил и бортовыми номерами, давно уже вычеркнутыми из перечней. Стартующий самолет несется меж ржавеющих машин оливкового цвета, мимо бетонных противогранатных ограждений и приземистых бункеров охраны. По мере того как машина набирает скорость, сливаются в одну серо-зеленую полосу обломки вертолетов, а затем под крылом появляется уродливый крест бетонных взлетных дорожек, уменьшающиеся ангары и разбросанные, утопающие в зелени здания мастерских.
Для многих тысяч молодых американцев это была одна из последних картин, которую они в своей жизни видели. Сразу после приземления на базе Тхансоннют они отправлялись в «лагерь адаптации», а оттуда на фронт, в джунгли, в жирную грязь рисовых полей, во враждебно молчащие деревни, где на каждой тропе подстерегает мина или волчья яма. И десяти лет не прошло с тех пор, когда это кончилось.
До Пномпеня всего сорок минут полета. Взлетев, мы вскоре увидели ядовито-желтое пятно, которое выжгло солнце в трех пограничных провинциях Кампучии. Затем самолет начал снижаться, под крыльями появились дороги, поселения, отдельные кучки домов, пустых, как макеты, без людей, без транспорта.
В шесть мы приземлились на аэродроме Почентонг.
Это один из красивейших аэропортов в мире, великолепный по своим пропорциям, удобный, нарядный. Я на минуту забежал в зал для отлетающих пассажиров и зал ожидания. Они были совершенно пусты. На стойках валялись печати и бланки, в открытых шкафах лежали пачки денег, вытянувшись в ряд, молча стояли пишущие машинки, весы для багажа, стулья для посетителей. Последний самолет китайских авиалиний вылетел отсюда пятого января на рассвете. Королевский салон в павильоне для отлета выглядел так, будто отсюда только что вышли: фарфоровые кувшинчики стояли на богато украшенных столиках, дорогие ковры были чисты, в углу салона раскланивалась перед отсутствующими гостями статуэтка кхмерской танцовщицы.
В аэровокзале не было никого. Солдаты несли караул снаружи здания. Два зенитных орудия выставили дула из-за отдаленной ограды. В пустых помещениях аэропорта посвистывал ветер, разбрасывая незаполненные билеты и бирки китайских авиалиний «СААС».
Нас ждали удобные новенькие легковые машины: «шевроле», «пежо», «мерседесы». Ни на одной не было регистрационного номера, к чему поначалу мне трудно было привыкнуть. Как только возникла надобность, их взяли прямо со складов, где они хранились. У шоферов-солдат были определенные трудности с автоматическими коробками скоростей и с чересчур мощными моторами. На обивке сидений виднелись пятна от ружейного масла.
Мы двинулись через город, который с первых же минут привел нас в изумление. Чем ближе к центру, тем он становился красивее. Широкие аллеи и бульвары, где растут редкие породы деревьев и высятся статуи. На каждом повороте открывается новая панорама. Роскошные виллы с белыми стенами и просторными террасами, до самой крыши оплетенные яркими пурпурными цветами. Маленькие дворцы, которые многократно реставрировались со вкусом и старанием. Великолепные здания Высшего технического института, чистые, разумно спланированные, покоряющие простотой линий и благородством материала. Я еще не встречал в Азии города, столь гармонично застроенного, с таким количеством красивых зданий. Не видно лачуг, мусорных свалок, я не заметил и безвкусных сооружений. В какой-то момент подумалось, что, вероятно, лишь южная Калифорния могла бы соперничать своим очарованием и архитектурными достоинствами с этим городом. Из-за каждого поворота появлялись новые и все более удивительные виды, с башнями пагод или пятнами цветущего кустарника, похожего на мимозу.
Но город был пуст. Совершенно, абсолютно пуст. Лишь на перекрестках, в наспех сооруженных будках, выпрямившись, стояли часовые. Только у самого аэродрома нам попалась группа крестьян, волочивших на повозке свой скарб. А потом уже никого не было. Это похоже на дурной сон или галлюцинацию. Мостовые — пусты. На тротуарах толстый слой засохших пальмовых листьев. Ветер разносит мотки перекрученных магнитофонных лент и кинопленки. У заборов груды утвари и бумаг. Перед домами стулья, диваны, швейные машины.
И ничего больше. Ни одного прохожего. Ни одной собаки. Никаких средств передвижения. Как после взрыва нейтронной бомбы. Как после эпидемии, истребившей всех обитателей города.
Опять ряды белых домов, тонущих в буйной зелени и пестрых цветах. Картина в духе сюрреализма: стулья посреди улицы, перевернутые мотороллеры, заросшие сады, мотки пленки, статуэтки Будды, валяющиеся животами кверху.
И ни одного живого человека.
Такое было недоступно нашему воображению. Операторы опустили камеры, мы перестали разговаривать между собой, напрягали зрение, стремясь удостовериться, не привиделся ли нам этот залитый солнцем пейзаж.
17 апреля 1975 года, в момент вступления в город «красных кхмеров», столица Кампучии насчитывала два миллиона двести тысяч человек. В шестидесятые годы город был перестроен французскими архитекторами, перестроен заботливо, с редким вкусом, украшен огромным количеством тщательно оберегаемых зеленых насаждений. Он развивался быстро, но относительно гармонично. Ныне на протяжении пяти километров, отделяющих аэропорт Почентонг от центра города, мы не встретили ни одной живой души, если не считать группы крестьян, украдкой пробиравшихся по окраине.
Нас привезли на какую-то улицу в центре города. Я хотел узнать ее название, но на углах не было табличек. Полпотовцы сорвали с домов все таблички, уничтожили указатели, разбили вывески, соскребли надписи на стенах. Лишь теперь я осознал, что призрачность этого города основана не только на полном отсутствии жителей. Может быть, еще поразительнее царящая в нем тишина и отсутствие того, что следовало бы назвать пиктосферой.
Город — это не только улицы и дома. Это также буквы, стрелки, реклама, дорожные знаки, объявления, вывески, витрины. Достаточно это уничтожить, и самый прекрасный город превратится в каменную пустыню вроде тех, которые изображал Кирико[24], в обитель страха и одиночества. Это все равно, что у человека стереть лицо.
Нелегко уничтожить лицо двухмиллионного города. Надо было выполнить, вероятно, больше десяти миллионов операций и израсходовать баснословное количество энергии. И все-таки полпотовцы видели смысл в такой работе. Пномпень сохранил в неприкосновенности свои стены и великолепные бульвары, но потерял жизнь. Этого они и добивались.
XLVII. Тишина, царящая в Пномпене, не поддается описанию. Нет сравнений, с помощью которых можно передать ее всепроникающую глубину. Ни одно деревенское кладбище, ни одно убежище в горах не дают даже приблизительного представления о тишине, которая оплела этот город. Я провел в Пномпене в общей сложности шесть дней и три ночи, видел вещи, описать которые трудно, но самым прочным, самым неизгладимым моим воспоминанием навсегда останется тишина.
Достаточно приостановиться на какой угодно улице, заглушив звук собственных шагов, и ты осознаешь, что ни из одного подъезда, ни из одной лавчонки, сада, магазина не донесется никакой, пусть самый слабенький звук. Пробегающую через улицу крысу слышишь за четыреста метров. Шорох змеи, ползущей по водосточной трубе пустого дома, воспринимаешь как грохот подъезжающего грузовика. Скрип открытого окна разносится на километр. Даже самый дальний акустический фон не содержит никаких ощутимых вибраций, хотя бы приглушенных отзвуков уличного движения или человеческих голосов. Нулевой уровень фона полностью разрушает нормальное восприятие: отброшенный ногой горшок гремит, как разорвавшийся снаряд, подхваченная ветром бумага наводит ужас. Такая тишина страшна и в полдень, и посреди ночи.
Только время от времени, два-три раза в час, срывается с деревьев или кустарников оглушительный, судорожный рев цикад. Иначе назвать его нельзя. Никогда раньше, даже в сердце цейлонских джунглей, даже в тропическом лесу на Борнео, я не слыхал ничего подобного. Цикады — большие, тучные, длиной в двадцать сантиметров, ядовито-зеленые, не боящиеся человека — четыре года были главными жителями города. Вместе с людьми исчезли отсюда птицы, которые когда-то уменьшали количество цикад. Землю захватили крысы и змеи, воздухом завладели цикады. Когда они начинают свой сумасшедший концерт, уже на расстоянии пяти метров не слышно человеческого голоса.
А потом они смолкают, и на город вновь опускается тотальная, безбрежная, космическая тишина.
XLVIII. Улица, куда нас привезли, была, по-видимому, местным торговым центром для наиболее состоятельных жителей целого квартала особняков. Я вылез из машины и понял, что стою перед шеренгой магазинов, до краев набитых товарами. Это не метафорическое выражение: лавки и впрямь были во всю длину и ширину завалены разными предметами, и содержимое их длинными языками вываливалось на тротуар.
Я встал у распахнутого настежь входа и навел объектив фотоаппарата, но минуту спустя передумал. Никакой снимок не передаст этой сюрреалистической картины. Тюбики крема для бритья марки «Colgate» лежали на роскошной бумаге с монограммами на европейских и кхмерском языках. Еще не распечатанная игра «Monopoly» — среди флаконов с духами Ланвена, Коти, Арпежа и Елены Рубинштейн. Тушь для печатей и оправленные перламутром кисти для бритья, растоптанные скрепки и мыло «Palmolive», блокноты в позолоченной оправе и гигиенические пакеты. Сверху валялось несколько сверкающих, только что использованных гильз 7,62 калибра, окровавленная тряпка и заплесневевший подсумок.
Нас звали на пресс-конференцию, но я пошел вдоль улицы, чтобы осмотреть продолжение выставки. Рядом с магазином писчебумажных и аптекарских товаров был магазин радиоаппаратуры. Я заглянул внутрь. Полки были пусты, но на полу лежала груда разбитых магнитофонов фирмы «Нэшнл панасоник», разбитые транзисторные радиоприемники, пластинки, батареи, кассеты. Тут же рядом, в антикварной лавке, стоял ящичек с палочками старой китайской туши. Я не мог совладать с любопытством и сунулся туда, не обращая внимания на крики охраны и переводчиков.
С прилавка свисал, словно негодная тряпка, шелковый свиток, на котором неизвестный мандарин выписывал столетия назад какие-то мысли или изречения. Сверху, меж золотых и пурпурных кистей, виднелась этикетка с ценой: 3500 американских долларов. Это была не подделка. Почти никто не владеет ныне таким искусством каллиграфии, нет такой туши и кистей.
Нижняя часть полотнища лежала на каменном полу лавки. На ней человеческие испражнения. Правый угол почти совершенно истлел, и легко было понять почему. На шелковом свитке почти тысячелетней давности лежал перевернутый автомобильный аккумулятор с открученными пробками. Серная кислота вытекла и разъела шелк и золотое шитье.
В глубине лавки, среди разбитых полок с выбитыми стеклами, виднелась груда старательно разбитых фарфоровых статуэток улыбающегося Будды, какие-то раздавленные миски и облитые мочой манускрипты.
XLIX. Нашим первым собеседником был Ван Сон, мэр Пномпеня, член народно-революционного совета. Он сердечно приветствовал нас от имени совета и выразил удовлетворение по поводу того, что товарищи из социалистических стран смогут собственными глазами увидеть, какой страшный вред причинила народу Кампучии кровавая клика Пол Пота — Иенг Сари. Население столицы составляет в данный момент восемьсот человек. Руководство страны призывает прежних жителей города постепенно, именно постепенно, возвращаться. Город понемногу оживает, но это неимоверно трудное, неимоверно сложное дело. Преступная клика Пол Пота — Иенг Сари практически уничтожила городское хозяйство: почти всю электрическую сеть, водопроводные фильтры, водозаборные станции на Меконге и обоих рукавах реки, телефонную сеть, автобусный парк, промышленность. Немногочисленные колодцы отравлены трупным ядом, есть трудности с водой. Продовольствие рационируется, но в данном кругу можно сообщить, что администрация лишь распределяет запасы, оставленные полпотовцами, а их немного, и вскоре власти столкнутся с проблемой снабжения. Поэтому разрешено вернуться только тем жителям, которые необходимы городу и имеют свой запас продовольствия. Разумеется, они могут поселяться только в тех районах города, где им можно гарантировать полную безопасность. «Вредные элементы» еще укрываются в пустых домах, случаются перестрелки. Это, разумеется, не для печати. Удалось частично восстановить уличное освещение в районе проспекта Монивонг: один из генераторов исправили вьетнамские саперы. К сожалению, не хватает горючего, поэтому генератор работает по два часа в день. Час утром, чтобы дать энергию заводу безалкогольных напитков, который мы сейчас покажем товарищам, и час вечером, чтобы хоть частично осветить главную городскую магистраль, скорее, впрочем, ради безопасности, чем для удобства. Настроение жителей хорошее, очень хорошее. Самая трудная наша проблема — это водоснабжение. Водопроводная сеть разрушена, и, когда работает генератор, даже в центре города трудно поддерживать напор воды до уровня второго этажа.
Потом мы задавали вопросы.
Выходит ли в Пномпене какая-нибудь газета?
Нет. Ни одна газета не выходит. Нет типографского оборудования: оно уничтожено или вывезено в Китай. Нет людей, которые могли бы печатать.
Открыта ли в Пномпене хоть одна школа?
Нет. Осенью мы собираемся открыть начальную школу, но пока нет ни одного учителя.
Какова дневная норма продовольствия на одного жителя?
Ван Сон быстро совещается с Ханг Сарином, командиром дивизии, которая освободила столицу.
Небольшая, отвечает мэр Впрочем, положение меняется.
Ну а сколько приблизительно?
О, трудно сказать. Есть трудности, товарищи. Огромные трудности.
Имеют ли хождение какие-нибудь деньги?
Нет. Никаких денег.
Когда они будут введены?
Неизвестно. Может быть, товарищ Хенг Самрин это знает.
Кто взорвал мост через Меконг?
Преступная клика Пол Пота — Иенг Сари за неделю до освобождения города.
Это был единственный мост на территории Пномпеня?
Да. Единственный.
Планируется ли его восстановление?
Ван Сону трудно не улыбнуться. Может быть, через пять или через пятнадцать лет.
Не грозят ли городу эпидемии?
Мы стараемся этого не допустить.
Товарищ Ван Сон, мы видели здесь сотни великолепных, богатых домов. Как вы намерены поступить, если объявятся их владельцы?
Если объявятся, они смогут вернуться в свои дома. Но сомневаюсь, что это случится. Подавляющее большинство этих людей было истреблено кровавой кликой Пол Пота — Иенг Сари.
Но у вас ведь есть какая-то концепция социальных и экономических реформ?
Нет. У нас нет программы, кроме той, что изложена в 11 пунктах Единого фронта национального спасения Кампучии. Проблема эксплуататорских классов была решена путем полного уничтожения собственников. У нас не было времени даже для того, чтобы рассмотреть этот вопрос.
Есть ли здесь правительственная радиостанция?
О да, есть, и неплохая. Ею заведовала жена Иенг Сари. Она китаянка, это вы знаете. А ее сестра была женой Пол Пота. В Пекине знали все, что они оба говорили, даже ложась спать. Да, радиостанция у нас есть. Сперва ее оснащением занимались французы, затем, при Лон Ноле, ее переоборудовали американцы. Ежедневно мы передаем пятичасовую программу. Весь народ нас слушает. Накануне освобождения преступная клика Пол Пота — Иенг Сари повредила там какую-то лампу или еще что-то в этом роде, но товарищи помогли, исправили.
На каких волнах вы ведете вещание?
Ван Сон консультируется с советниками, идут в ход записи. Выясняется, что «Голос Свободной Кампучии» работает в диапазоне 31 и 41 метров на коротких волнах, то есть на частотах, которые меньше всего подходят для тропической зоны, а также на волне 230 метров в средневолновом диапазоне, то есть на частоте, которая особенно чувствительна к атмосферным помехам. Какова мощность передатчика, установить не удалось. Кроме того, для приема коротковолновых передач нужны либо приемники, работающие на электропитании, а электросеть выведена из строя, либо приличного качества транзисторы, которых нет, так как их уничтожили полпотовцы, а если бы и были, к ним все равно нет батарей.
Товарищ Ван Сон, что вы можете сказать о передачах так называемого «Радио Демократической Кампучии», то есть радиостанции полпотовских недобитков? Они вещают целые сутки в диапазоне 16 и 59 метров, их хорошо слышно. Они передают зашифрованные инструкции и сообщения.
Мне говорили, что они ведут передачи и с китайской территории, но подробностей я не знаю. Это не имеет значения.
Не имеет значения? Ведь полпотовские недобитки еще воюют с освободительной армией?
Не имеет значения.
Вы не слушаете этих передач?
Нет. Ни у кого на это нет времени. Есть дела поважнее.
L. Минутный разговор с Ханг Сарином, начальником гарнизона, командиром Первой дивизии ЕФНСК, солдаты которой 7 января в 12 часов 36 минут заняли королевский дворец. Он в мундире без знаков различия и в мягкой кепке китайского покроя, неразговорчив, с напряженным и строгим лицом. До апреля 1977 года он был комиссаром IV военного округа у «красных кхмеров», затем бежал в джунгли, командовал соединением и обучал партизан.
Правильно ли я понял, товарищ командир, что вы дважды освобождали Пномпень?
Да. Первый раз 17 апреля 1975 года, второй раз месяц назад.
По какой причине вы порвали с «красными кхмерами»?
Революция кхмерского народа была предана крова-
вой кликой Пол Пота — Иенг Сари.
Что здесь конкретно случилось в 1977 году? С этого момента начались массовые дезертирства, расстреляли, как говорят, Ху Нима.
«Ангка»[25] оказалась во власти кровавой клики Пол Пота — Иенг Сари. Народ Кампучии не мог примириться с гнетом.
Но ведь Пол Пот возглавлял «Ангку» с самого начала?
Ханг Сарин пожимает плечами и говорит кхмерскому переводчику нечто, понятное и без слов.
LI–LX
LI. Снова пустые улицы, немые бульвары и проспекты, магазины, набитые товарами, многоэтажные дома с мертвыми окнами, скомканная кино- и магнитофонная пленка, тысячи брошенных ботинок, бесчисленное количество стульев и диванов. Маленький прямоугольник правительственного, по всей вероятности, или занятого военными квартала со всех сторон огражден баррикадами или ежами с колючей проволокой. Рыльца автоматов, укрытых за мешками с песком, переплетенные кабели полевых телефонов, антенны радиостанций. Пагода на холме заросла внутри тамариском и ржавыми побегами лопуха. Город-призрак, город-привидение.
LII. Мы поехали смотреть «новую жизнь», то есть первое пущенное в ход промышленное предприятие Пномпеня. Промышленное — слишком громко сказано. Это просто лимонадный цех, который был частью прежнего пивоваренного завода. Он работает один час в сутки, собственно говоря, на нужды армии, потому что нет никого, кто бы мог покупать его продукцию. По-видимому, заводу придается символическое значение. Главное, чтобы в чанах сдвинулись мешалки, зафыркали автоматы, наполняющие бутылки, заработал скрипучий конвейер. Завод набирает воду из рукава Меконга и сам ее фильтрует. Система фильтров расположена в подземных камерах и только поэтому не была уничтожена.
Пивоваренный завод практически перестал существовать. В течение двух недель в июле 1975 года здесь в поте лица трудилась специальная бригада полпотовцев, которая получила задание уничтожить все оборудование без использования взрывчатки. Кроме пивоваренного завода, здесь были цех по разливу виски и пепси-колы, большая вулканизационная мастерская и авторемонтная — для грузовиков. Осмотр этого объекта, оборудованного на современный лад, заставляет, что ни шаг, не верить собственным глазам. Шведские котлы и бродильные чаны аккуратно продырявлены автоматными очередями. Латунная аппаратура демонтирована, выпускные клапаны брошены в реку, прокладки и манометры уничтожены при помощи штыков. Вырваны проводка, ламповые патроны, выключатели. Распределительные щиты сорваны со стен. Из амперметров вытянуты даже катушки и магниты. Баки для солода вытаскивали во двор и давили их машинами, пока не превратили в нелепые рогатые лепешки. В лаборатории следы буйного помешательства, ибо никто, будучи в нормальном состоянии, не смог бы все так добросовестно уничтожить. Не уцелели ни одна колба, ни один химический стакан. Аптекарские весы прогнуты и разбиты. Реактивы рассыпаны на столах. Сосуд с соляной кислотой разбит о стену. Рецептура, торговые документы, результаты проб, копии заказов выброшены из шкафов и свалены в кучу в административном здании, частично сожжены. Несмотря на возражения сопровождающего, я проскользнул в глубь фабричных построек и попал в заводскую столовую, которая также не избежала разгрома. Гора разбитых мисок и фаянсовых ложечек доходила почти до потолка. Разворочена кухонная плита, продырявлены суповые котлы. Сохранилась только длинная полка с фамилиями служащих, где лежали их миски, палочки и ложки. Во дворе разбросаны ботинки, истлевшая одежда, бумага, ампулы, заклепки, инструменты.
Я попал в ремонтную мастерскую, где стоял токарный станок, похожий на творение Дюшана[26] или Сальвадора Дали: ведущий вал и направляющие станины были для ускорения коррозии политы азотной кислотой или хлористым железом. На месте задней бабки виднелся бачок из-под масла. Суппорт был размонтирован на составные части. Корпус суппорта каким-то образом, вероятно при помощи молота, смещен с вертикального положения. В развороченной коробке передач одиноко сверкали валики. По полу были разбросаны шестеренки.
В стороне, между берегом реки и заросшим полотном железнодорожной ветки, стояло двухэтажное строение без окон, видимо, нечто вроде элеватора для хмеля и ячменя. Я заглянул туда через сорванные с петель двери и сразу отшатнулся как ошпаренный. Среди остатков зерна извивались змеи, числом около пятнадцати, длинные, метровые, с коричневой полосой на спине и бело-зеленой подбрюшиной. Кажется, я появился, когда шла охота, потому что вокруг с писком носились десятки ошалевших черных крыс, в темноте завязывались схватки, одна змея лежала неподвижно, прямая как палка.
Битву между змеями и крысами я до сих пор видел только в индийских зоопарках, где за две рупии показывают отчаянную гибель крысы и триумфальное шипение кобры. Сейчас я увидел это зрелище в натуре, в центре красивейшего города Азии.
LIII. От рабочих цеха безалкогольных напитков мы узнали, что до апреля 1975 года на пивоваренном заводе вместе с примыкающими к нему предприятиями работало 720 человек. По местным масштабам это много. В настоящее время на уборке территории и в лимонадном цехе работает 41 человек, из них только 17 работали здесь раньше. Что стало с остальными? Выселили, как и всех. Рабочих тоже выселяли? Да, выселяли. Вернутся ли? Неизвестно. Никто этого не знает.
Пивоваренный завод принадлежал второму, после Лон Нола, богачу Кампучии. Это был китайский бизнесмен по имени Сянь Тай, мультимиллионер, завсегдатай Монте-Карло и Лас-Вегаса, советник Лон Нола, личный друг американского посла в Пномпене и, как говорят, родственник высокопоставленных персон в Тайбее. Он монополизировал торговлю горючим и стал фигурой, крупной до такой степени, что во времена монархии одалживал Сиануку деньги на постановку его сумасшедших балетов и на производство фильмов с Сиануком в главной роли. Надо полагать, что, согласно каталогу «красных кхмеров», Сянь Тай совершил все прегрешения, какие только можно вообразить.
Его, конечно, расстреляли?
Рабочие, которым мы задали этот вопрос, лишь чуть улыбнулись. Нет, Сянь Тай не был расстрелян. У его дворца была выставлена охрана. Двадцатого апреля, через три дня после взятия города, за Сянь Таем прислали из Пекина «очень большой самолет». Очень большой. В течение целого дня на борт грузили ящики с золотыми слитками (если быть точным — шестнадцать ящиков), наиболее ценные из антикварных вещей, дорогую одежду, старые книги, телевизоры, даже кое-что из мебели поценнее. Наконец появилась семья Сянь Тая, которую один из рабочих хорошо знал, так как какое-то время служил во дворце Сянь Тая помощником садовника. Прибыла и жена, молодая танцовщица, трое сыновей и три невестки, четыре дочери с тремя зятьями и семеро внучат, а сверх того — камердинер и старшая прислуга. Город в те дни изнемогал в конвульсиях эвакуации. Улицы были заполнены перепуганными, отчаявшимися толпами, В какой-то из колонн шли босиком дочь и внучка Сианука. Беспрерывно расстреливали офицеров армии Лон Нола, буддийское духовенство, крупных капиталистов. Но семья господина Сянь Тая спокойно проследовала на «мерседесах» в аэропорт Почентонг, а затем вылетела в Китай.
LIV. Мы отправились завтракать, но машины вдруг остановились посреди какой-то пустынной замусоренной аллеи. Солдаты выскочили из машин. Метрах в трехстах протрещала короткая автоматная очередь. Потом наступила тишина, и мы двинулись дальше.
LV. Прием в нашу честь дал Кео Ченда, который занимается в новом правительстве вопросами культуры и информации. Прием происходил в бывшем королевском дворце Сианука. Это довольно-таки аляповатое, банальное и безвкусное здание, построенное в XIX веке каким-то мастером на все руки. После свержения Сианука здесь находился Лон Нол, а затем дворец стал резиденцией «Ангки». Но ни Пол Пот, ни кто-либо из его приближенных здесь не жил: они скромно расположились в хорошо охраняемых виллах, а во дворце только заседали или принимали важных гостей из-за границы, то есть практически из Китая. Интерьер выглядел точно так же, как в день свержения Сианука: столики, не слишком изящные, но зато инкрустированные перламутром, стол красного дерева на тридцать шесть персон, этажерки, вазы, разные финтифлюшки. Довершала картину кошмарная мазня, вероятно кисти Сианука, который стремился быть избранником сразу всех муз.
Но все-таки это был настоящий королевский дворец, Шестого февраля у меня день рождения. Никогда еще не доводилось отмечать его в подобном месте,
Хозяин — он был в ранге министра — приветствовал нас от имени руководства Единого фронта национального спасения Кампучии и извинился за скромное угощение. Солдаты внесли жестяные миски с рисом, который одновременно с нами был доставлен из Хошимина, а также котелки с ручками, в которых были кусочки говядины с зеленым перцем, капустными листьями и соевыми макаронами. Мы накладывали обильные порции на позолоченные тарелки из королевского сервиза. Если точнее, тарелки были сделаны из листового серебра, покрыты довольно толстой позолотой и укреплены ободком из золота пятьдесят восьмой пробы. В хрустальные бокалы ручной работы нам налили чистой холодной воды, тоже доставленной самолетом.
Потом на столе появились бутылки. И тут мы на минуту смолкли от удивления. Виски «Чивас ригл» двадцатилетней выдержки, одна из самых дорогих марок. Белые мозельские вина из первоклассных погребов. Восьмилетней выдержки «Блэк знд уайт». Коньяк «Наполеон», пять звездочек. Португальское черри-бренди. Ямайский ром. Какой-то редкий французский сотерн, бургундское, настоящий бенедиктин. Все это было извлечено из нетронутых погребов Сианука. Видимо, сочли, что наш визит — достаточный повод для уменьшения этих запасов.
Сюрреализм этой сцены не поддается описанию: у кхмерских солдат, с автоматами за плечами, на руках были белые перчатки. Город за стенами дворца был пустыней, кладбищем, призраком, а мы пили вина, которые редко случается попробовать в Европе,
В шум беседы за королевским столом врывались эхо выстрелов и бешеное, бесшабашное пение цикад.
LVI. Чуть погодя в комнате рядом за горячим зеленым чаем Кео Ченда отвечал на наши вопросы. В Кампучии, сказал он, сегодня не хватает практически всего: you name it and we haven't got it, назовите что угодно, а мы ответим, что этого нет. Но наиболее тяжелы, ибо невосполнимы, потери в области культуры. Полиотовцы уничтожили практически все памятники национальной культуры, за исключением, к счастью, всемирно известных храмовых комплексов Ангкорват, Ангкортхом и Байон, которые были обнесены колючей проволокой, заминированы и сохранены как заповедники, чтобы показывать заграничным туристам. Да, правда, сохранились «прокаженный король» и семиглавая Нага, богиня змей. Но это, собственно говоря, и все. Мы думаем, что снесено или разрушено не менее 90, может быть, даже 95 процентов пагод, зданий, являющихся памятниками старины, буддийских монастырей… Уничтожены, по сути дела, все книги..
Что такое?
Да. Уже осенью 1975 года полпотовцами были созданы специальные отряды, которые разыскивали и сжигали не только книги, но и все печатное: исторические документы, старые журналы, хроники, счета, учебники. Вы сами сможете в этом убедиться.
Но зачем?
Преступная клика Пол Пота — Иенг Сари решила уничтожить все документы, чтобы строительство, как они говорили, «нового общества» начиналось с нуля, без груза прошлого. Поэтому была полностью ликвидирована и система просвещения.
Правильно ли перевели ваши слова? Действительно полностью?
Да. Я уже сказал. Большинство школ было превращено в тюрьмы или казармы, остальные, оснащенные современным оборудованием, разрушены. Учителей разослали по «коммунам», как правило, с низшими категориями. Учить чему-либо было запрещено. Пол Пот планировал создание новой школьной системы лишь на вторую половину восьмидесятых годов, когда появятся новые учительские кадры.
Значит ли это, что последние четыре года не учили даже читать и писать?
Нет, не учили. Товарищи, наверное, знают, что наша письменность очень трудна. Существуют, собственно говоря, четыре разных алфавита. Чтобы овладеть искусством чтения, а тем более письма, требуется много лет. Мы предварительно подсчитали ущерб, который нанесен делу образования, и пришли к выводу, что процент неграмотных в нашей стране вырос с 60 процентов в 1975 году по меньшей мере до 92, а может быть, и 95 процентов. В данный момент у нас всего лишь двадцать учителей…
Сколько?
Двадцать.
На шесть миллионов населения?
Численность населения мы точно определить пока не можем. По последним подсчетам ООН, основанным на переписи 1962 года, население Кампучии должно составлять в 1975 году чуть больше восьми с половиной миллионов… Поскольку людские потери составляют два с половиной миллиона…
Два с половиной? Мы слышали, что полтора миллиона.
Нет, нет, это исключено. Минимальная из возможных цифр — два миллиона. Например, в провинции Стынгтраенг осталось в живых не больше пятнадцати процентов жителей.
Хорошо, примем два миллиона. Иначе сказать, полпотовцы сократили численность населения почти на четверть, но увеличили процент неграмотных с 60 до 95 процентов?
Да. Именно так.
Но ведь в это трудно поверить. В двадцатом веке?
Нам приходится верить. Мы здесь живем.
Правда ли, что истреблены «кру сангкриэч»?
Да. Уничтожены также почти все старые книги и рукописи. Действительно, товарищи, мы стали народом без истории, культуры, без памятников. Не осталось ничего от нашего когда-то великолепного искусства, и никто не может сказать, возродится ли оно когда-нибудь.
Каковы ваши планы на ближайшие месяцы?
Мы хотим спасти то, что еще можно спасти. Прежде всего людей, людей с образованием. Есть проект постановления, согласно которому им устанавливается повышенный рацион риса. Мы стараемся привести в порядок школы. Может быть, осенью или на будущий год нам удастся открыть хотя бы несколько в крупных городах.
А в деревнях? В маленьких городках?
Этого я не знаю. В самом деле, не могу ответить.
Нужна ли вашему ведомству какая-либо международная помощь?
Мы нуждаемся практически во всем. Но наш язык так мало знают в мире. У нас нет достаточных запасов продовольствия, нет транспорта, есть трудности с питьевой водой… Вы окажете нам самую большую услугу, товарищи, когда сообщите миру о том, что произошло. И о том, что народ свободной Кампучии со всей энергией приступает к восстановлению страны.
LVII. Мы уже собрались уйти, когда Кео Ченда внезапно вызвали в одну из комнат рядом, вокруг засуетились, и наконец кто-то сказал, что нас ждет председатель Единого фронта национального спасения Кампучии Хенг Самрин. Должность его в общепринятой терминологии соответствовала бы должности премьер-министра.
Хенг Самрину сорок пять лет, он родился в бедной крестьянской семье в провинции Прейвенг. В 1959 году стал членом Народно-революционной партии. У партизан, сражавшихся против Сианука, он командовал ротой, потом батальоном. С частями «красных кхмеров» вступил в Пномпень 17 апреля 1975 года. Вскоре был назначен комиссаром, а затем командиром Четвертой дивизии. В 1976 году занял пост заместителя начальника штаба Восточного военного округа, одновременно являясь членом парткома Восточного района. В мае 1978 года возглавил самое крупное восстание против Пол Пота: восстание охватило двадцать бригад и несколько десятков «коммун» в пяти пограничных с Вьетнамом провинциях. После подавления восстания верными Пол Поту частями Хенг Самрин вместе с несколькими тысячами солдат ушел в джунгли в северо-восточной части страны и командовал там партизанским соединением, на этот раз против «красных кхмеров». В декабре 1978 года стал во главе Единого фронта национального спасения Кампучии — политической организации, которая объединила противников Пол Пота из всех классов и групп населения. 8 января 1979 года, на следующий день после взятия Пномпеня, Хенг Самрин был избран председателем Единого фронта национального спасения Кампучии.
Он невысокого роста, с лицом, на котором заметны легкие следы оспы, неразговорчивый, осторожный в выборе слов, у него хмурый, проницательный взгляд. Двадцать лет в армии, из них семнадцать — в партизанском отряде. После майского восстания 1978 года его портрет был роздан всем солдатам Пол Пота вместе с подробным перечислением провинностей.
Было приказано доставить Самрина живым или мертвым.
LVIII. Из блокнота. Хенг Самрин (заявление). Кампучийский народ вытерпел больше, чем можно перенести. Сперва под гнетом амер. имп., затем при китайцах. (Так он говорит: ничего о феодализме!) За то, что произошло в Кампучии, ответственно исключительно только китайское правительство. Они доставляли оружие, боеприпасы, инструкторов, определяли вместо ПП — ИС внешн. политику. Эти люди не представляли народа Кампучии, ненавидели его, вели себя хуже любого оккупанта. Правили китайцы. Повторяет. Клика ПП — ИС довела до того, что страна перестала функционировать. Нашу страну разорили. Уничтожены все объекты, важные для жизни и экономики. Население страны истреблялось. Он говорит, что убито 3 млн. (Выяснить точно!) В Кампучии происходили настолько страшные вещи, что мы сами не можем еще поверить. Что ни день, новые массовые захоронения. У нас огромные, неисчислимые нужды. Не хватает всего. В первую очередь — лекарств, он призывает дать лекарства, перевяз. средства. Мы стараемся возродить страну к жизни. Это очень трудно. Страшно не хватает людей. Нет транспорта, нет горючего, продовольствия, машин. Сперва надо восстановить жизнь в столице. Спасибо за ваш приезд. Вопросы. (Спраш. венгры.) Каково воен. положение в Кампучии? Х.С.: Мы контролируем положение в стране, полпотовские недобитки в некоторых городах, на границе с Таиландом. Заключительная фаза операции. Венгр (настойчиво): Порт Кампонгсаом? Х.С.: Частично под контролем, не имеет значения (?). Венгр (В камеру! Так нельзя!): Какова роль вьетнамцев? Х.С.: Вьетнамские товарищи оказали помощь, очень важную помощь. СРВ оказала братскую помощь, но освобождение Кампучии совершено кхмерским народом, его лучшими силами. Советские корр.: Какова роль китайцев? Х.С.: Не 20, а 30 тыс. китайских инструкторов и советников. Они знали все. Это делалось по их указаниям. — И физическое уничтожение тоже? Х.С.: C'est sûr[27]. Вопрос польск. телев.: Чего больше всего недостает? Х.С.; Все надо строить сначала, по всей стране, не хватает всего, но главным образом лекарств, перевязочных средств, медикаментов… Полпотовцы уничтожили весь запас лекарств. — Угрожают ли эпидемии? Х.С.: Нет, народ Кампучии — мужественный народ, он выдержит. Операторы просят Хенг Самрина выйти к подъезду дворца, там лучше освещение. Охрана берется за оружие. Далекая пальба, пулеметы, возм. минометы (?). Опять венгр, вопрос о международном признании ЕФНСК. Х.С.: Нас признали 13 стран, друзья, социалистические страны. Венгр: Есть соц. страны, которые не признали, как это объяснить? Х.С.: Важнее всего признание братских стран, остальные убедятся, что ПП — ИС преступники, разбитые, отвергнутые народом. Я говорю Андрею: сплошная журналистика. Андрей: что поделаешь, потом привыкнет. Хенг Самрин уходит, три человека охраны. Черный костюм, белая рубашка.
LIX. У въезда в королевский дворец нас ждал японский автобус «Изусу», со стертыми покрышками, без тормозов и стартера. Ему предстояло стать нашим верным товарищем и участником нашей работы. У солдата-шофера на поясе настоящий кольт в американской кобуре, фляга с чаем, финский нож и отвертка. На носу — солнечные очки, «made in Italy».
Осмотр города предстояло начать с Центрального рынка, но в трехстах метрах от королевского дворца операторы подняли крик. Они хотели наконец-то заснять пустые улицы, засыпанные листьями тротуары, мертвые окна многоэтажных домов.
Водитель затормозил скоростью. Мотор заглох. Начальник охраны загородил единственный выход из автобуса и снова напомнил, что город заминирован, что кое-где притаились диверсанты, что он, командир, который за нас отвечает, просит соблюдать дисциплину. Нельзя ходить в одиночку. Нельзя чересчур отдаляться от автобуса. Нельзя входить в пустые дома и магазины. Нельзя поднимать или трогать какие-либо предметы. Стоянка — десять минут, и ни секундой дольше.
За двадцать секунд мы разбежались во все стороны, как можно дальше от автобуса. Ни у кого не было ни малейшего желания следовать полученным указаниям.
От круглой площади расходились лучами восемь улиц. Я пошел прямо по узкой невзрачной улочке, которой не выбрал никто из моих коллег. У перекрестка машинально глянул на табличку, чтобы записать название, но таблички, разумеется, не было. Миновал длинную стену, из-за которой была видна крутая заостренная кровля пагоды, и зашагал по середине улицы. На полопавшемся асфальте росли высокие, сантиметров в двадцать, кустики травы и лопуха. На тротуарах валялись новенькие мотороллеры без колес, граммофонные пластинки фирмы «Колумбия» и «Полидор», очки, ботинки, бутылки, французский ключ, шариковые ручки, календари на 1975 год.
Было около половины третьего. Улица была совершенно пуста. На восточной ее стороне уже ложились резкие черные тени. С минуту я прислушивался к оглушительной тишине. Потом вошел в первый попавшийся магазин.
Когда-то здесь торговали красками и химикатами. На прилавке сваленная набок разбитая автоматическая касса марки «NCR». В выдвинутых ящиках — штампики, скрепки, мелкие монеты. На стене — запыленные электрочасы. Их циферблат разбит ударом приклада. Погнутые стрелки показывают 9 часов 46 минут. Провод питания оборван, розетка вырвана из стены. В одном из ящиков я увидел штемпельную подушечку. Поставил штамп на упаковочной бумаге. После текста на кхмерском языке следовала англофранцузская надпись: «Lo So Kheu. Paint Suppliers, 12, rue Onalhon, Phnom Penh, Cambodge»[28].
Теперь я знал, как называется улица, где я нахожусь.
Банки сброшены с полок, из некоторых тянутся длинные яркие языки засохшей краски. Разбитые бутылки с кислотой черны и покрыты пылью. Баночки с реактивами столпились в тесную кучку на покосившейся полке, которую, как видно, пытались сорвать со стены. Пахло нашатырным спиртом, скипидаром и нитроэмалью.
Я не мог противостоять любопытству. Перескочив через груду банок, разорванных мешков и запыленных коробок, прошел в заднюю часть магазина. Это была небольшая полутемная комната. Опрокинутый холодильник с разбитым агрегатом и вывороченной дверью. Сброшенные с плиты горшки. Поломанные водопроводные краны. Какие-то миски, тазы, черепки.
Я прошел еще дальше, в небольшой садик, помня все время, что вернуться должен тем же путем. Внезапный луч солнца на момент ослепил меня, а потом я увидел в траве сразу два предмета: снежно-белый собачий скелет и горку аккуратно сложенных 76-миллиметровых артснарядов. Все они лежали ко мне боеголовками. Я сосчитал их: четырнадцать.
Пора было возвращаться, но, глянув направо, я вдруг заметил деревянную лестницу, которая вела на второй этаж.
Осторожно ступая, я поднялся наверх. Двери салатного цвета были приоткрыты. На пороге лежала какая-то тряпка. Я осторожно переступил через нее, высоко поднимая ноги, и попал в жилую комнату. Она выглядела так, словно вот-вот появятся ее обитатели. Стол накрыт: шесть мисочек для супа, фарфоровые ложки, расписанные цветочками, корзиночка из рафии, небрежно разбросанные палочки для риса. Стулья отодвинуты от стола, один повален набок. Я огляделся вокруг. На выкрашенных наспех и запыленных стенах отчетливо видны светлые пятна от уничтоженных картин или портретов. Небольшой сервант распахнут настежь. Нижняя полка засыпана фаянсовыми осколками. На полу я увидел детские ботиночки, какой-то ремешок и свадебную фотографию двух молодых людей. Я наклонился поднять ее, но мне стало вдруг жарко. Ничего, в сущности, не случилось — ни звука не послышалось, ни тени не мелькнуло, — но я ощутил, что я не один. С полминуты я стоял выпрямившись, готовый отступить, ища какое-нибудь неуклюжее объяснение. Но по-прежнему ничего не происходило. Я наклонился еще раз и спрятал фотографию новобрачных в карман. После этого ко мне вернулось самообладание. Из столовой я вышел через другую дверь. Звук моих шагов был так отчетлив, как никогда раньше.
Соседняя комната была спальней. Низкая, очень широкая постель, на ней полиуретановый матрац, груда грязных тряпок, каких-то лохмотьев, пустых кассет, изодранных альбомов. В углу что-то похожее на шкаф, с занавеской из узорчатой ткани, на никелированных прутьях. Я отодвинул ее. На вешалке висели дамские платья и саронги, два мужских пиджака, зонтик, какая-то сумка. В картонной коробке — чистое дамское белье. У людей, которые ушли из квартиры над магазином, было мало времени. Видимо, им пришлось выселяться, не кончив еды.
Я заглянул в альков, отделенный от спальни пластиковой занавеской. Там стояли два раскрытых кофра с какими-то непонятными вещами, что-то вроде колыбели или детской кроватки. На полу я заметил яркую шляпку и смешные синие штанишки с широкими помочами. Этот ребенок, наверное, уже мертв. Семья Ло Со Кхеу принадлежала к классу эксплуататоров; торговала красками и наверняка выписывала что-то из-за границы.
Осенью 1942 года, после того как было ликвидировано «малое гетто» в Варшаве и снесена стена вокруг него, я видел на Лешно похожие комнаты. С той разницей, что оттуда грабители вынесли все ценные предметы. А здесь уцелело, в сущности, все. Кроме людей.
Вдруг я заметил такое, от чего снова застыл на месте. Кровать была слегка отодвинута от окна. В пространстве между подоконником и изголовьем торчало нечто неопределенное, такого большого размера, что сердце у меня опять часто забилось. Рядом лежали новенькая солдатская кепка китайского покроя, шомпол для чистки ствола и около двадцати стреляных пистолетных гильз. Промелькнула мысль, что бежать поздно и прыгнуть ему на спину тоже поздно. Я машинально пошевелил пальцами правой руки, как бы снимая предохранитель, но пистолета у меня не было. Впрочем, я давно не брал в руки оружия. Он, верно, следил за мной с первой минуты, слышал мои шаги и теперь знает, что из спальни мне не выйти.
Все это заняло не больше пяти секунд. Кепка действительно лежала на кровати. Гильзы мне тоже не почудились. Видно, совсем недавно кто-то вел отсюда огонь. А непонятной фигурой была просто груда каких-то лохмотьев, засунутых за спинку кровати, их натолкали, как капусту в бочку. Может, это использовалось как укрытие.
В доме не было никого.
Орудие 76-миллиметрового калибра стояло двумя домами дальше. У него не было замка. Его тонкий ствол, похожий на жало, высовывался через забор прямо на улицу.
Возвращаясь к автобусу, я заметил, что оба тротуара были засыпаны сотнями блестящих пулеметных гильз. Я шел назад, и солнце высветило из мутного хлама, завалившего улицу Онналоум, следы недавнего боя.
LX. Все, кроме меня, стояли у автобуса, шофер нетерпеливо гудел. Мы уже собирались толкать наш «Изусу», и вдруг Карлос возбужденно сообщил, что минуту назад ходил по золоту. Каждый имел что рассказать: двадцать минут пребывания в этом городе, и рассказов будет черт знает сколько и еще малость.
Но золото нас заинтересовало. Где оно? Рядом, в пагоде? Мы заявили начальнику охраны, что нужно еще десять минут.
Это была как раз та пагода, мимо которой я прошел, направляясь к москательной лавке. Уже несколько сот лет она называлась Онналоум (отсюда и наименование улицы). Самый знаменитый храм в этой части страны. Была построена, как полагают, в золотой век кхмерского королевства: может быть, во времена короля Джайявармана VII. Ее, как это бывало в Кампучии, жгли, разрушали, восстанавливали и снова жгли. Нынешний ее облик восходит к середине XV века, поскольку пагоду возвели вскоре после того, как столица страны (ввиду того, что тайские войска сожгли Ангкорват) перенесена была в Пномпень. Боковые пристройки относятся к более позднему времени и не слишком удачны, но главный храм, высотой в пять этажей, с драконьими хвостами на гребнях кровель, — достопримечательное сооружение. Он упоминается уже в азиатских хрониках XVI века как место поклонения Золотому Будде и резиденция «кру сангкриэч». Государство кхмеров в ту эпоху включало в себя также Лаос, восточную Бирму, треть нынешнего Таиланда и южную часть Вьетнама.
Лишь в нескольких местах стены пагоды Онналоум продырявлены артиллерийскими снарядами малого калибра. Это, вероятно, одна из немногих, а может, и вообще единственная буддийская пагода в этой стране, стены которой не разрушены.
Но зато ее внутренний вид воистину ужасает.
Статуи Золотого Будды нет вообще, и мы никогда не узнаем, действительно ли она была вся из чистого золота, во что верили десяток с лишним поколений пилигримов. Деревянные алтари, перегородки и тайники разломаны с такой яростью, что трудно найти хотя бы одну доску, из которой не торчали бы желто-коричневые щепки. Купол из толстых панданусовых балок в нескольких местах обгорел. Подпаленные стропила разъехались. Пониже распорки и затяжки изрублены топорами. На месте давней святыни — следы от костра, человеческие испражнения, какие-то холщовые полотнища, ремни, грязные туфли, пустая обойма, кости животных.
На полу толстым слоем (намного выше щиколотки) навалены всякие предметы, за которые любой европейский или американский антиквар без колебаний заплатил бы тысячи, десятки тысяч долларов. Богато разукрашенные жертвенные чаши и ритуальные кубки из темного серебра, на которых множество изящных и оригинальных узоров, картины сражений, эпизоды из жизни Гаутамы[29]. Бронзовые магические зеркала в яшмовой или черепашьей оправе, которые украшены древнейшими идеографическими письменами, близкими еще к пиктограмме. Несколько сот, может быть, даже тысяч фарфоровых статуэток Будды, от самых маленьких, которые можно спрятать в ладони, до полуметровых — пузатых, улыбающихся, из простого каолина, из матового фарфора, из фарфора почти прозрачного, тонкого, как бумага, покрытых цветной глазурью с орнаментом из золотой проволоки; золоченые вазы для цветов, украшающих алтари. Мешочки с древнейшими монетами: китайскими, кхмерскими, вьетнамскими, тибетскими; чудесные вазы эпохи Мин с неповторимой кобальтовой голубизной тонких рисунков; статуэтки танцовщиц, жрецов, пророков, богов и учеников Будды; пергаментные свитки, накрученные, как Тора, на палочки из черного дерева; расшитые золотом одежды, покрывала, скатерти, завесы. Целых семьсот лет их свозили в дар Будде со всей Азии.
Нет буквально ни одного предмета, который не был бы растоптан, разбит, продырявлен штыком. Потребовались, вероятно, месяцы, чтобы привести в полную негодность это море вещей. Исключено, чтобы это был спонтанный акт исступления и уничтожения. Несколько сот человек должны были с утра до вечера и много недель подряд толочь фарфор, топтать сосуды из тонкого металла, отрывать у статуэток литые головы.
Но и это зрелище — ничто в сравнении с увиденным в крыле главного храма.
Почти в полной темноте поблескивали длинные ряды золотых статуэток Будды, стоявших когда-то, вероятно, перед главным алтарем. Поначалу я не хотел верить, что они золотые. Но чтоб сомнения развеялись, достаточно разглядеть вблизи их теплый мягкий блеск, которым не обладает никакой другой известный нам металл. Только несколько фигурок высотой от трех до десяти сантиметров были литыми, из чистого золота, примерно семьдесят пятой пробы, — и как раз они были наименее интересны. Остальные, около пятидесяти штук, выполнены древнейшей техникой, уходящей еще в хеттские времена: на остове из грубо отлитого чугуна выбивали, раскалив, тонкую золотую оболочку и после охлаждения шлифовали. Это такой вид ювелирного искусства, перед которым меркнут все европейские чудеса, начиная со Средневековья: простота и небесное спокойствие на лице могли появиться только в результате применения такой техники и только в сфере этой культуры.
Я наклонился и поднял с пола маленькую, отломанную от туловища голову королевской танцовщицы, которая украшала, надо полагать, ступени какого-нибудь пышного алтаря. Она тоже была сделана из тонкого золотого листа, непонятно каким образом натянутого на бурый бесформенный остов из чугуна с примесью шлака и гари.
Золото — единственный на земле материал, который все переживет. Даже полпотовцев.
Вдоль стен стояли опять ритуальные чаши, вазы и кубки, на сей раз инкрустированные золотом, украшенные жемчугами, рубинами, вероятно, и изумрудами, хотя в полумраке трудно было это определить. Надо полагать, самые ценные предметы складывались отдельно, чтобы их перетопить в слитки, а драгоценные камни продать на вес.
Я вышел во двор пагоды Онналоум, чтобы присоединиться к коллегам. Внезапный блеск солнца заставил меня зажмурить глаза, а затем глянуть вниз. В заполонившей двор высокой, около метра, «тигриной траве» что-то блеснуло. Я двинулся туда, пожалуй, слишком энергично, ибо трава поддавалась неохотно и острыми стеблями обдирала ткань брюк. Видимо, это меня и спасло. В какой-то момент мой ботинок оказался в нескольких сантиметрах от неразорвавшегося артиллерийского снаряда. Я отступил назад, но трава не давала мне покоя, влекла к себе, как топкое болото. Осторожно, шаг за шагом, я начал обходить пагоду сбоку. В траве зашуршала маленькая красноватая змейка, а потом вдруг выглянул улыбающийся лик лежащего навзничь Будды, забелели осколки, тяжело запрыгала цикада. Опять Будда из листового золота, покореженный латунный кубок, молочно-серебристый блеск помятого подноса.
Под конец я внезапно поскользнулся и какую-то долю секунды ждал взрыва: под каблуком что-то заскрежетало.
Но это была куча старых монет, золотых или по крайней мере позолоченных.
Так я в первый и, надо полагать, последний раз в жизни ходил по золоту.
LXI–LXX
LXI. «Изусу» на нас обиделся. Он ворчал, фыркал, но никак не хотел заводиться. Метров сто мы его толкали, запыхавшиеся, грязные, злые до бешенства. Наконец он нехотя затарахтел. Мы сказали шоферу, чтобы на остановках не глушил мотор. В ответ он покачал головой и показал на неисправную тормозную педаль. А при торможении коробкой скоростей глохнет мотор. Вся абсурдность этого городского автобуса — единственного уцелевшего в этом когда-то двухмиллионном городе, ибо остальные сожгли или вывезли в Китай, — смешила нас, но одновременно мы вдруг почувствовали, что начинаем обживаться. В этой пустыне у нас был свой автобус, свои места в нем, уютный уголок среди небытия.
Человек и впрямь удивительное создание.
LXII. Мы снова ехали по пустым замусоренным улицам, по сторонам тянулись дышащие холодом разбитые витрины магазинов, окна, из которых никто не выглядывал, виллы, заросшие кустарником, и многоэтажные дома, схожие с наспех изготовленными декорациями для киносъемок. За все это время нам никто, абсолютно никто не встретился, хотя размеры города нас все больше и больше поражали. Каждый новый перекресток был словно букет из новых тенистых бульваров и улиц. В глубине виднелись какие-то огромные здания, ослепительно сверкали белые стены вилл. Одна краше другой. Мы ехали мимо утопающих в цветах парков, высоких цоколей, с которых были сняты памятники, проносились по мертвым проспектам. Увидели ратушу в колониальном стиле, вход в которую был забит досками, и здание почты, где не было ни одного посетителя.
Нам показали большую прямоугольную площадь в центре города между железнодорожным вокзалом и отелем «Руайяль». Здесь стоял единственный в Кампучии католический собор. 19 апреля 1975 года, спустя 48 часов после вступления в город, полпотовцы взорвали его вместе со всем, что было внутри, а развалины так тщательно убрали, что теперь нельзя даже было распознать очертаний фундамента. А что со священниками? Они были расстреляны все до единого человека, как и буддийское духовенство.
LXIII. Мне подумалось: вот тема для резкой обличительной статьи, которая должна стать результатом этой поездки. На Западе до изнеможения болтают о правах человека. Свобода, суверенность, законность, демократия… Им это никогда не наскучит. Они неутомимо жонглируют фразами даже в тот момент, когда происходят массовые убийства в Алжире или в Сонгми. Но если возникнет повод сопоставить красивые слова с политической практикой, на их благородных физиономиях тут же появится обезьянья гримаса равнодушия. Они начнут кривить физиономии и приводить «совершенно неопровержимые» аргументы в оправдание людоедства. Цена их совести абсолютно та же, что и в эпоху конкистадоров, раннего колониализма и опиумных войн. Они располагают сейчас полной информацией о том, что оставили после себя в Кампучии полпотовцы. У них не может быть ни малейшего сомнения, что Пол Пот, останься он у власти, уничтожил бы еще два миллиона человек. Им нет до этого дела и никогда не было. Для них важны, в сущности, лишь стратегические расчеты и суммы прибылей. Они превосходно умеют изображать из себя апостолов морали и всевозможных прав и свобод. Может быть, в ту самую минуту, когда на автобусе «Изусу» я еду по городу-кладбищу, они обмениваются рукопожатиями с дипломатическим представителем Пол Пота в Организации Объединенных Наций и что-то бормочут насчет законности, суверенности и недопустимости агрессии. Свежеиспеченные моралисты, новоявленные сторонники невмешательства, закоренелые и циничные оппортунисты.
А ведь им превосходно известно, что на дипломатическую службу Пол Пот назначал только тех, кто имел достаточно долгий стаж службы «на переднем крае», ибо от сообщников можно ждать полной лояльности. Лощеные дипломаты поработали когда-то, надо думать, с автоматами в руках или мотыгой, которой разбивают черепа. Меж ними нет таких, кто убивал бы «всего лишь» росчерком пера и не участвовал действием в «строительстве нового общества». Надо бы поспрашивать этих людей насчет подробностей их биографии, точно выяснить даты и места, где они были. Надо бы с невинным видом спросить их: собственноручно они ликвидировали католических священников и буддийское духовенство или. «только» надзирали за ходом «окончательного решения», выбирая места для массовых могил и указывая движением руки, кому пуля, а кому мотыга.
Законность — это прекрасная вещь. Например, законный президент Германии фельдмаршал Гинденбург законно вручил власть законному канцлеру по фамилии Адольф Гитлер. Законное правительство Гитлера создало законную государственную полицию, которая называлась гестапо, и в деятельность ее не должен был вмешиваться ни один сторонник невмешательства. Законное министерство законного правительства третьего рейха создало с полным уважением к закону законный концлагерь под названием «Аушвитц»[30], где служащие законного германского государства совершали разного рода действия, не выходящие из законных рамок суверенности. Более того, пребывание союзных войск на территории рейха было скандально незаконным делом, ибо никакое германское правительство не приглашало этих войск на свою территорию.
Безграничный цинизм, предельно произвольные представления об окружающем мире. Не буду утверждать, что на моем лице никогда не бывает гримасы равнодушия, что моя совесть абсолютно чиста. Только ведь я давно отказался от гордых претензий на непогрешимость любого отдельно взятого суждения. Все прочее — результат субъективного, добровольного выбора. Как и у тех, других. Речь идет о разнице между алгебраическими знаками, а не качественных различиях между моральными кодексами и нормами, которые ставят их якобы выше. Ничего подобного нет. Кампучия — лучшее тому свидетельство.
Но я такой статьи не напишу. Они не соизволят дискутировать со мною о Пол Поте, а ловко подсунут другую тему, для них более выгодную. Нет смысла.
LXIV. На минуту — только на минуту, товарищи! — мы остановились в бывшем торговом центре города. Начальник охраны, измученный нашим непослушанием, в своей речи еще раз предупредил о возможных опасностях. Начали торговаться и договариваться. Удалось. На съемки было отведено двадцать минут.
Снять все это и описать было не так просто. Конусообразное здание главного торгового центра без людей и товаров выглядело как декорация фантастического фильма. Но снимок сам по себе всего не скажет, не передаст гнетущей тишины мрачных помещений, писка крыс, бегающих по пустым прилавкам и полкам, и атмосферы безнадежного ожидания того момента, когда здание заполнит веселая говорливая толпа. Лавки и базары Азии — это зрелище, которым можно бесконечно наслаждаться, праздник для глаз, ошеломительная пляска красок, жестов, звуков, движений. Надо это помнить, дабы ощутить всю тишь и пустоту безлюдного торжища. Недовольные операторы один за другим опускали камеры: для фильма это не подходит — пустое здание на экране так и останется пустым зданием.
Я снова пошел вдоль широкой улицы. По бокам тянулась длинная череда богатых, элегантных магазинов для «избранных десяти тысяч». И здесь товары были беспорядочно сброшены с полок, разбросаны по тротуарам, придавлены ливнями в сезон муссонов. Косметика и грампластинки, бумага и инструменты, вазы и одежда, посуда и ковры. Внутри каждого из магазинов разбитые электросчетчики, вырванная проводка, растоптанные лампочки. Ненависть к электричеству тут, как видно, граничила с паранойей. Каждый холодильник, вентилятор, пылесос, кофеварка, электроплитка, электрические часы были смяты и раздавлены. Количество стульев и диванов на тротуарах исчислялось сотнями: их стаскивали, наверное, с верхних этажей, не может быть, чтобы все они стояли раньше в одноэтажных лавках. Куда ни глянь, на пустых, залитых солнцем улицах красовались мягкие стулья и кухонные табуретки, удобные пуфы, металлическая дачная мебель, изысканного вида тахты, кожаные кресла. Засохшие желтые листья, папиросные окурки, скомканные магнитофонные ленты, любительские фото с чьими-то улыбающимися лицами, сухие иглы камфарных деревьев — все это забивалось в щели, собирало пыль и создавало атмосферу одновременно ужаса и скорби, абсолютной заброшенности и нереальности, какую увидишь только на картинах Макса Эрнста или Ива Танги[31].
Но самое поразительное зрелище — это обувь. Сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч пар, брошенных посреди мостовой, стоящих на тротуарах, в воротах домов, буквально на каждом квадратном метре улицы. Мужские, дамские, детские. Сандалии и штиблеты. Элегантные туфельки на каблучке и мужские мокасины из буйволовой кожи, дешевые школьные тапочки и стоптанные ботинки торговца. Где-то здесь, когда выселяли жителей, был, по всей вероятности, сборный пункт. Перед отправкой в «коммуны» жителям велели выбросить все документы и снять обувь.
На одном из перекрестков я снял неплохой кадр: пара мужских ботинок из крепкой кожи, рядом беспомощно прислонились белые дамские туфельки из дерматина, в шаге от них — детские башмачки и розовая кукла без рук. На заднем плане — пустая замусоренная улица, зияющие витрины разгромленных лавок и клок травы посреди мостовой.
Свернув в одну из боковых улиц, я увидел над угловым домом буквы «IBM». Это была единственная надпись, попавшаяся мне в этом городе, единственные буквы, которые не были уничтожены — по небрежности или невнимательности. Объяснить это трудно, ибо «Интернэшнл бизнес машин» — один из крупнейших западных концернов и первый в мире производитель компьютеров, то есть вещей, которые полпотовцам должны были казаться воплощением дьявола промышленной цивилизации.
Я вошел в распахнутые настежь двери. Разбросанные кресла, остатки сожженных перфокарт, за стойкой охапка рисовой соломы, на полу запыленные бутылки из-под виски.
Приоткрыв дверь, которая вела внутрь, я впервые в жизни увидел умерщвленный компьютер.
Это была, по-видимому, единственная вычислительная машина третьего поколения в районе между Токио и Бангкоком. Она была изготовлена в американском городе Бриджпорт в 1973 году и обозначена серийным номером А 012 0653 7070. Неизвестно, какой цели она могла служить в этой бедной стране, где человеческий труд всегда стоил бесконечно дешевле, чем какая бы то ни было машина. Может быть, ее использовала тайная полиция Лон Нола. Может быть, достопочтенный Сянь Тай подсчитывал на ней свои баснословные прибыли.
Теперь она уничтожена. Годится лишь на лом. Процессор напоминает кузов автомобиля после сильного лобового удара. Контрольные лампочки все до одной перебиты. Микровыключатели вырваны клещами, клавиатура покорежена, экраны разбиты. Все это можно было проделать за четверть часа. Но уничтожение бобин с магнитной памятью должно было занять много времени. На одной катушке помещается около двух километров пленки. Все катушки размотаны, лента спутана и порезана, зажимы раздавлены. Шкафчик микропроцессора прямо-таки поражает: переключатели и разъемы выковыряны из контактных гнезд штыком или отверткой, чувствительные края плат старательно и терпеливо изрезаны, наверное лезвием или бритвой. Трудно даже представить себе, какие огромные усилия затрачены на уничтожение компьютера: одна брошенная в шкафчик граната в секунду сделала бы дело лучше. Но нет никакого следа взрывчатки: видимо, уничтожение вручную столь разнузданных творений цивилизации имело для полпотовцев какой-то идеологический смысл. Умертвить компьютер вовсе не так легко. Люди, которым это было поручено, должны были глубоко верить в целесообразность выполнения задачи. Они могли ведь ограничиться уничтожением процессора. Или просто поджечь здание концерна «IBM».
Я по-прежнему мало понимаю мотивы, коими руководствовались полпотовцы. Ведь лично Пол Пот или Иенг Сари этим не занимались.
На обратном пути я остановился возле жилого шестиэтажного дома и, не задумываясь, вошел в подъезд, поднялся на лестничную площадку. Это было весьма представительное здание, которое с успехом могло бы стоять на проспекте Реформы в Мехико или на улице Солиман-паши в Каире, оно заметно напоминало стиль этих городов.
В открытом лифте валялся какой-то поспешно связанный узелок, видимо с одеждой. По полу были разбросаны личные документы на кхмерском языке и множество мелких предметов личного обихода.
Я поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж, спотыкаясь о чемоданы, ботинки, скомканную одежду, игрушки. Дверь одной из квартир была слегка приоткрыта, но дальше не поддавалась. Секунду я колебался, входить или нет: внезапно припомнился дом с москательной лавкой. Но только секунду. Нажав на дверь, я протиснулся сквозь щель в просторную полутемную переднюю. Дверь сразу закрылась, словно дернутая пружиной. Между створкой двери и стеной лежало грязное свернутое одеяло с отчетливыми следами крови. Капли засохшей крови складывались в ясно различимую цепочку, которая шла через всю переднюю. Проклиная в душе свое любопытство, я пошел дальше. Следы обрывались на пороге кухни. Кому-то здесь убитому не дана была легкая смерть. На каменном полу кухни лежало еще какое-то скомканное покрывало, сильно залитое кровью. Длинные коричневые пятна засохшей крови расползлись языками по полу в радиусе полутора метров.
Я оглядел кухню, оборудованную почти на европейский лад, что в Азии редкость даже в домах состоятельных людей. Холодильник повален набок, вывороченный агрегат валялся под окном. На полу полно разбитых баночек и раздавленных коробочек. Над сохранившейся в целости электрической плитой висят чистые, веселые кастрюли и сковороды, на столе — ржавый нож. Во всяком случае, это похоже на ржавчину; я подумал, что на ноже могла быть и кровь убитого здесь человека.
Еще одна узкая деревянная дверь вела из кухни в соседнее помещение, кладовку или тайник. Дверь, как я заметил, заперта на ключ, но доска посредине выломана, притом недавно, так как щепки совсем свежие. Я заглянул внутрь. У самых дверей — скелет большой собаки. Ее череп упирался в порог. Кости хвоста ровненько лежали, как у школьной анатомической модели. Вероятно, пса заперли здесь во время выселения, чтобы он подох с голода и не путался около своих хозяев.
У полпотовцев был строгий приказ: беречь патроны. Большую собаку труднее убить мотыгой, чем человека. Я заглянул и в гостиную, обставленную строго по-американски. Должно быть, проживавший здесь человек довольно хорошо знал Соединенные Штаты. Мягкий кожаный диван. На столе хрустальная пепельница. Две рюмки. Страница из еженедельника «Тайм» от 14 марта 1975 года. Вырванные из стен бра. Согнутый пополам торшер. Мелкие стекла раздавленных лампочек. Пустая библиотека, ни одной книги. На мягком коврике пара дамских туфель.
В передней я заглянул в шкаф. Полно костюмов, платьев, курток. Между ними мундир из тонкой бежевой ткани. Хозяин служил в армии или полиции Лон Нола. Я обыскал карманы. Вечное перо, календарик, спички из какой-то гостиницы в Сингапуре. Во внутреннем кармане на правой стороне груди я нашел удостоверение личности с фотографией и с печатью. Человек, который смотрел на меня со снимка в передней собственной квартиры, наверняка уже мертв, даже если это и не его кровь пролилась на кухне и в передней. У него слишком много звездочек на воротнике, слишком много планок на груди.
Я спрятал удостоверение в карман, но через минуту вытащил и бросил на пол.
Выходя из дома, я ускорил шаги. Было поздно. Отведенные двадцать минут уже прошли. Едва я поставил ногу на тротуар, произошла сцена, словно в ковбойском фильме, прокрученном в ускоренном темпе. По этой же стороне улицы в четырех метрах от меня шел кхмерский офицер. Когда я внезапно высунулся из ворот, он молниеносно выхватил пистолет из кобуры, но прежде, чем он успел его взвести, я крикнул: «Полонь! Нэак касаэт! Самамыт!» — и оскалил в улыбке зубы. Секунду он подозрительно смотрел на меня, не опуская пистолета. А потом, видимо, вспомнил о группе иностранцев, которая осматривала город; он не мог о ней не знать. В конце концов он ответил мне улыбкой, и мы разошлись в разные стороны.
Это был первый живой человек, с которым я столкнулся лицом к лицу в этом когда-то двухмиллионном городе.
LXV. Последним пунктом нашей программы в Пномпене было посещение госпиталя «Прачкет Миалеа», где тоже, как нам сказали, началась «новая жизнь».
У входа нас встретила молодая красивая женщина в белом халате, доктор Чей Каньня, единственная уцелевшая во всей Кампучии женщина-врач. Она заместитель министра здравоохранения в новом правительстве и одновременно главный врач госпиталя. В ее смуглом нежном лице с прекрасными карими глазами было столько муки и бесконечной грусти, что я не мог не обратиться к ней с просьбой рассказать о себе.
Доктору Чей тридцать четыре года. Она происходит из состоятельной купеческой семьи. Диплом доктора медицины получила в 1970 году на медицинском факультете Пномпеньского университета. Работала в детском отделении госпиталя «Прачкет Миалеа» ассистентом ординатора. Ее муж был на четырнадцать лет старше, диплом получил в Париже, а затем учился в Москве. После возвращения в страну он получил звание профессора и преподавал в Пномпене нейрологию и одновременно занимался частной практикой.
Оба были известными в столице людьми и не имели никакой возможности спрятаться или скрыть свою биографию после вступления в город полпотовцев. Муж мадам Чей был прямо-таки показательным примером сочетания в одном лице вредного влияния Запада и Советов. Его арестовали в собственной квартире двадцатого апреля, через три дня после взятия города, а несколькими днями позже повесили во дворе одной из школ. Доктор Чей хотела похоронить тело мужа и пешком направилась к школе, где на столбе волейбольной площадки все еще висел спутник ее жизни. По дороге ее задержал полпотовский патруль. Ей приказали снять обувь, выбросить личные документы и встать в шеренгу. Она уже не вернулась домой, где под присмотром соседки остались две ее дочери — в возрасте шести и семи лет. Дети исчезли навсегда в водовороте эвакуации. Нет надежды, что они когда-нибудь найдутся.
Двадцать два дня она шла пешком до уезда Бунлонг. Сперва на север дорогой номер 13, потом на восток по дороге номер 19. Из-за кровоточащих, израненных ног она не могла идти дальше; трижды вынуждена была останавливаться; конвоиры велели ей сесть на возок, который тянули две старые женщины, но не позволили задержаться хотя бы на один день. Когда раны на ступнях переставали кровоточить, все начиналось сызнова. В «коммуне» доктор Чей получила сперва третью, а потом четвертую категорию, потому что молчала и не выступала на собраниях по перевоспитанию. Она работала на рисовых полях с пяти часов утра и до семи вечера с часовым перерывом на обед. Ее нежные ладони огрубели и покрылись язвами от беспрерывных болячек.
Спустя девятнадцать месяцев доктор Чей сговорилась бежать вместе с другой женщиной, потерявшей во время выселения мужа и сына. С сентября 1976 года они вдвоем начали копить рис и сушеные овощи. С кухни украли коробку спичек. Тайком насушили фунт маленьких рыбок. Первого октября, незадолго до полуночи, они выбрались из барака и скрылись в зарослях. Шли на восток, во Вьетнам. «Коммуна» находилась в восьмидесяти пяти километрах от границы. Они рассчитывали, что дорога займет не больше недели. В действительности понадобилось семнадцать дней. Особенно страшными были ночи в джунглях, когда приходилось спать по очереди, чтобы поддерживать пламя небольшого костра, который отпугивал зверей. Кажется, один раз они видели тигра. На пятнадцатый день обе заболели дизентерией. Доктор Чей не может сказать, каким образом они с температурой, доходившей до 40 градусов, все-таки вышли к пограничному оврагу. Восемнадцатого октября на рассвете они увидели вьетнамского крестьянина с автоматом.
Два с половиной года доктор Чей провела во Вьетнаме, в лагере для беженцев из Кампучии. Сразу после выздоровления занялась политической работой среди беженцев, была в числе организаторов Единого фронта национального спасения Кампучии. В Пномпень возвратилась вместе с передовыми частями освободительной армии. Теперь она одинокая женщина, личная жизнь у нее кончена. Она не вернулась в свою бывшую квартиру в центре города и живет в маленькой комнатке на территории госпиталя. Все свое время отдает больным и политической деятельности в новом правительстве. — Она правая рука доктора Ну Бенга, который отвечает в Народно-революционном совете за здравоохранение. Пока эти два понятия звучат в Кампучии весьма странно.
LXVI. Госпиталь «Прачкет Миалеа» был построен Сиануком во второй половине пятидесятых годов. При Лон Ноле он был перестроен. Впрочем, это не так уж важно, так как от госпиталя практически остались только стены. Так же как и в Свайриенге, здесь уничтожен весь запас медикаментов, почти все медицинские инструменты, оборудование, кухня, даже большая часть матрацев.
Больных и раненых здесь было больше, чем в Свайриенге. При нас машина привезла двух солдат с тяжелыми огнестрельными ранами. В этой части города пальба была гораздо сильнее, чем в центре. Моментами сквозь треск автоматов можно было услышать далекие пулеметные очереди и какие-то глухие взрывы. На персонал госпиталя это не производило никакого впечатления.
Снова палаты, полные безмолвно страдающих людей, которым можно дать только чашку мутной питьевой воды или хинин, единственное лекарство, которое имелось тут в изобилии. Рожающая женщина. Старик со стеклянными глазами. Истощенное тело мальчика и рыдающая над ним мать. Раненые солдаты с горячечными глазами, прикрытые окровавленными скатертями из ресторана. Путь, которым шли крестьяне, пролегал по окраине, и, вероятно, поэтому здесь было много людей. После пустоты центральных улиц госпитальные коридоры казались переполненными.
Я заглянул сквозь приоткрытые двери в какое-то помещение, откуда шел электрический свет. Я знал, что в госпитале, как и во всем городе, нет электричества. Это была операционная, освещенная бестеневой лампой, ток для которой давал переносный агрегат. Два молоденьких вьетнамских врача в чистых халатах, наброшенных на военные мундиры, оперировали находившегося без сознания мужчину, руки которого бессильно свисали по обе стороны стола. Ассистировала вьетнамская монахиня с большим деревянным крестом поверх монашеского одеяния. Около движка на больничном дворе хлопотали двое перепачканных, измученных вьетнамских солдат.
Я спускался со второго этажа, когда шедший рядом фельдшер спросил, хочу ли я увидеть жертву полпотовских зверств. Это его подлинные слова.
LXVII. Никогда я еще не видел до такой степени изуродованного человека, хотя много чего повидал в годы войны, в дни Варшавского восстания, а затем во время войн в Египте и Индонезии.
Мужчина в возрасте не больше тридцати лет. Лицо — ком окровавленного мяса. Разорванные губы. Вылезший наружу, ничего не видящий глаз с неподвижным веком. Сломанная кость подбородка. Нос размозжен палкой или каблуком. Лицо превратилось в маску, настолько ужасную, что трудно признать ее человеческой. Грудная клетка вся покрыта струпьями. Живот, пах и половые органы совершенно почернели, блестят и вздуты. На бедрах обуглившиеся следы электродов. Должно быть, его очень долго пытали переменным током. Кости ног у этого человека, как объяснил фельдшер, переломаны в семнадцати местах после ударов стальным прутом. Только ноги раненого получили какое-то лечение: они разделены подушечкой из рафии и привязаны к узким бамбуковым дощечкам. Ничего больше сделать нельзя. В больнице нет антибиотиков, обезболивающих средств, кальция, глюкозы, строфантина.
От раненого исходил такой запах, что в комнате трудно было дышать. Грудь ритмично вздымалась, при каждом вдохе запекшиеся края ран чуть раздвигались, обнажая светло-розовую глубь шрамов.
Ничего об этом человеке неизвестно. Неизвестны его фамилия, происхождение, взгляды. Сам факт, что он еще жив, граничит с чудом: прошло почти четыре недели с момента, как его сюда привезли. Он был найден седьмого января во второй половине дня в знаменитом лицее «Туолсленг», который полпотовцы превратили в самый страшный из своих застенков. Там было еще сорок шесть узников, точно в таком же состоянии, но они уже мертвы. Я слышал об этом лицее. Нам обещали показать его в следующий раз.
Фельдшер думает, что раненый был полпотовским офицером, пойманным при попытке дезертировать или заподозренным в сочувствии армии Хенг Самрина. Но это лишь догадка. Раненый только однажды пришел в сознание на несколько минут, но говорить не мог. У него выбиты зубы и губы разорваны. Вообще трудно объяснить, почему он еще жив.
Я еще раз глянул на человека без имени, который тем, что живет, опровергает законы природы. И подумал, что в этих условиях он долго не протянет, что земля поглотит его вместе с рассказом, которого никто никогда не услышит.
Во дворе госпиталя большая, в полметра вышиной, груда разбитых ампул. Я поднял горсточку тонких осколков. Среди неизвестных мне редких лекарств американского, французского и швейцарского производства я нашел ампулы из-под глюкозы, морфия и кальция.
LXVIII. Когда мы вышли из больницы, столкнули с места наш «Изусу» и отдышались, я осознал, почему Пномпень с первой же минуты вызывает неясное, подсознательное беспокойство, которому трудно дать название. У города нет запаха. Он не пахнет Азией, а запах Азии — это рыба, которую вялят на солнце, нечистоты в сточных канавах, влажные фрукты, жар древесного угля, соевый соус, ароматные пирожки, бедность, грязь, шипящее масло, сухая пыль, листья арека, темные помещения лавок, одуряющий запах гелиотропа, имбирь, ил на клешнях крабов, моча, сандаловое дерево.
У этого города нет никакого запаха. Мы дружно заявили, что он пахнет трупом, но это было, пожалуй, наше коллективное самовнушение. Пномпень стерилен, не пахнет собою, не распознается через обоняние — в отличие от любого большого города.
LXIX. Из блокнота. Самолет Пномпень — Сайгон, 6.II, 17 час. 10 мин. Some birthday[32]. Завтракал в королевском дворце и ходил по золоту. Очередное «приключение» репортера. Гадость. Не размениваться на дешевые анекдоты. Не бормотать по радио: как я потрясен! Greuelgeschichte[33] — это еще не журналистика. Непременно: не стараться ошеломить, не впасть в изобилие описаний и восклицаний. ТВ покажет это лучше. Миша и Ян работают без промахов. Понять, но до конца, без упрощений. Объяснить в первую очередь самому себе, громко. Хоть раз, чтоб всерьез. Принцип: без красивых слов, сухая запись. Короткие фразы! Идем на посадку.
LXX. Опять два дня ждем очередного выезда. Спирт с пепси-колой. Лангусты à poivre[34]. Ссоры, дружбы, ночные споры. «Луа мой». Огромные количества слабого пива, стимулирующего работу почек. В отеле «Рекс» без меня, говорят, было здорово. Экскурсии на барахолку, в Шолон, в собор святого Франциска-Ксаверия. Карлос во время ужина пальцами изображает выстрелы и кричит: пол-пот, иенг-сари! пол-пот! иенг-сари! Герхард читает наизусть Аполлинера по-французски. Армяне угощают кинзой.
Прогулки в одиночестве по центру города, запись собранных материалов. Первая наметка книги. Стыдно.
LXXI–LXXX
LXXI. Ведь нельзя про все это думать, разевая рот от изумления, нельзя рассказывать страшную сказку о черных злодеях. Почти все люди из ЕФНСК в прошлом были связаны с «красными кхмерами». Отмечу, что здесь этим определением не пользуются, во всяком случае — в отрицательном контексте. И ничего удивительного, ибо в сущности они по-прежнему «красные кхмеры»: это определение принадлежит Сиануку и относится, по-видимому, ко всем левым силам в стране. День 17 апреля 1975 года по-прежнему считается датой освобождения Кампучии и будет признан официальным государственным праздником: не 7 января 1979 года, а 17 апреля 1975 года. Членом Коммунистической партии Кампучии был Пол Пот, но также и Хенг Самрин. Эти двое людей знали друг друга и, вероятно, не раз говорили о судьбах революции. Я не слышал, чтобы кто-либо подвергал сомнению идейные основы партизанской борьбы «красных кхмеров». Лон Нола и период американского господства обе стороны оценивают, надо полагать, одинаково. В конечном счете это была подлинная народная революция, поддержанная поначалу социалистическими странами. Не подлежит сомнению, что в первой своей фазе она имела также поддержку почти всех крестьян, значительной части мелкой буржуазии и подавляющего большинства интеллигенции. В ноябре 1971 года, находясь в Ханое, Иенг Сари публично благодарил Вьетнам за материальную помощь партизанам и за политическую поддержку кхмерского освободительного движения. На митинге 19 апреля 1975 года в Пномпене (здесь важна дата) Пол Пот открыто заявил, что победа революции была бы невозможна без помощи Вьетнама и других социалистических стран.
Все случившееся позже надо тщательно проанализировать. Но первоначальный вывод таков: «красные кхмеры» не были импортированы извне, не были шайкой подосланных убийц, абсурдной исторической случайностью.
LXXII. Борьба с электричеством — помешательство. А может, все-таки не такое уж это безумие?
Кампучия практически не была электрифицирована. В 1974 году общая мощность девяти имеющихся электростанций давала в сумме 51 мегаватт. Пятьдесят мегаватт — это четвертая часть того, что дает один-единственный турбогенератор средней мощности в Дольной Одре, седьмая часть мощности одного турбогенератора в Козеницах. Производство электроэнергии на душу населения равнялось неполным 19 киловатт-часам в год. Это трудно себе представить: лампочка в 100 ватт, которая горит один час в сутки, потребляет за год 36 киловатт-часов.
Электричеством пользовалось, в сущности, только население городов, главным образом состоятельная его часть. Для остальных жителей страны, которые на протяжении жизни многих поколений знали только лучину, масляный светильник и простейший очаг, наличие или отсутствие электросети было вещью абсолютно несущественной.
И чему может служить электрификация в столь бедной и отсталой стране? Она приводит к насаждению отрицательных сторон общества потребления, выступает как первое звено в цепи все новых и новых потребностей, удобств и прихотей. Начинается вполне невинно, с искусственного освещения, польза которого представляется очевидной. Но так уж получается, что тот, у кого имеется лампочка, хочет затем иметь две и все настойчивей этого добивается. Достаточно одного поколения — и вот необратимо нарушен естественный ритм дня и ночи, возникают различия в образе жизни, в нравах и межчеловеческих отношениях.
Потом появляется холодильник, польза от которого в этом климате вроде бы очень велика. А ведь холодильник — аппарат, для Азии в социальном плане чрезвычайно вредный. Он стимулирует рост потребления, в то время как бесчисленные поколения крестьян всегда имели лишь столько продовольствия, сколько можно сохранить и съесть в течение одних суток. Холодильник стимулирует развитие пищевой промышленности, ведет к необходимости импортировать жесть для консервных банок, заставляет увеличить производство стекла, которое в результате превращается в осколки, быстро вытесняет известные испокон веков методы сушки, засолки и обезвоживания продуктов.
Электричество — это, скажем, лопастный вентилятор для охлаждения жилья или еще хуже — установка для кондиционирования воздуха, которая создает людям искусственные условия обитания. Крестьян на рисовых полях нельзя обеспечить кондиционированием, хотя это их трудом создается в такой стране, как Кампучия, подавляющая часть национального дохода. По какому же праву в прохладных жилищах должны благоденствовать одни горожане? Испокон веков люди здесь рождались, жили и умирали под лучами жгучего тропического солнца, в мокрой духоте весны и беспощадном зное сухого сезона. Надо ли это менять только потому, что люди за океаном выдумали устройства для охлаждения воздуха и хотят их сейчас продавать за большие деньги, зарабатывать которые пришлось бы все тому же нищему, трудящемуся в поте лица крестьянину?
И где гарантия, что спустя несколько поколений этот искусственный климат, распространяющийся со скоростью чумы, не приведет к мутационным, генетическим изменениям в физической природе жителей Азии и не поставит их в вечную зависимость от продуктов западной цивилизации? Одна из несомненных причин нынешней азиатской нищеты — это наверняка неблагоприятная антропологическая мутация населения, связанная с продолжительным дефицитом белка и постепенной деградацией мускулов. Жители Юго-Восточной Азии сегодня гораздо худощавее и слабее, чем их предки триста лет назад. Средний рост жителя этого региона уменьшился на пять сантиметров в сравнении с вычисленным историками и археологами средним ростом в XV веке. Ведь не случайно в Китае и Вьетнаме ежедневная гимнастика обязательна для всех, а скромный пищевой рацион определяется с таким расчетом, чтобы калорийность была как можно выше безотносительно к вкусовым качествам пищи. Ради чего к одной беде добавлять новые и добровольно содействовать дальнейшему измельчанию народа?
Электричество — это и телефон, само существование которого азиатскому крестьянину подозрительно: как это человеческий голос идет по проволоке и в этом нет никакого колдовства? Это и телевидение, введение которого в Кампучии граничило с идиотизмом. Буквально каждый винтик, каждый провод и каждую лампу надо импортировать, то есть тратить валютные резервы (а откуда они? кто их заработал?) или добиваться заграничных кредитов и помощи. А зачем, собственно говоря? Чтобы десять тысяч торговцев, офицеров и чиновников могли приятно проводить вечера? Но даже отвлекаясь от расходов на телевизионную технику, какова реальная польза для общества от этого дьявольского изобретения? Фильмы, поставленные Сиануком, с Сиануком в главной роли, с музыкой Сианука и балетными номерами в постановке того же Сианука, разве можно их смотреть чаще одного раза в день? Сквозь все щели пролезали заграничные фильмы: художественные, документальные, телевизионные. Заграничные, то есть с Запада или из европейских социалистических стран, поскольку это ныне главные центры зрелищной цивилизации. Глянем на эти фильмы, посмотрим, как живут их герои, сколько едят, чем занимаются, о чем думают. С этим ли надо обращаться к бедным крестьянам провинции Поусат или к молодым жителям Баттамбанга?
Правда, у электричества есть кое-какие положительные стороны. Электрические насосы, например, быстрее перекачают воду, чем перетаскают ее две усталые девушки с коромыслами. Циркульная электропила быстрее и лучше перепилит бревна из пандануса. Но если один раз сделать ставку на электричество, цепь экономической зависимости будет не уменьшаться, а расти. Придется импортировать генераторы, столбы электропередач, трансформаторы, распределительные устройства. Беспрерывно, не останавливаясь ни на минуту, импортировать твердое, или жидкое топливо, которого в Кампучии нет. Придется нанимать зарубежных инженеров и техников или отправлять за границу (за чей счет?) собственную молодежь, чтобы она научилась обслуживать электрооборудование. А самое главное — надо будет примириться с тем, что на протяжении обозримого будущего у страны будет все больше нужд и потребностей и все меньше возможности их удовлетворять. Ибо само наличие выключателя и штепселя — это непреодолимое искушение для слабых человеческих душ. Мысль о том, чтобы Кампучия могла сама производить, скажем, провода высокого напряжения, не говоря уже о трансформаторах и турбинах, — просто вредная и бессмысленная утопия.
Быть может, те, кто с таким бешенством срывал со стен проводку, давил лампочки и терзал электромоторы, несколько переусердствовали. Но политическое решение «Ангки» об отмене электричества наверняка не было проявлением безумия.
LXXIII. Такой же ход мысли применим, в сущности, ко всем явлениям промышленной цивилизации, которой объявили войну «красные кхмеры». Но в основе лежали не блестящие парадоксы, не идиллическое умиление, как у Жан Жака Руссо, а горечь знания о сегодняшнем мире. Не в том дело, что промышленная цивилизация сама по себе зло, хотя всегда несет в себе зачатки вырождения. Будь она повсеместно и бесплатно доступной, ее наверняка признали бы благом, и уж во всяком случае — явлением, в определенных рамках полезным.
Но ведь это не так. Что ни год, цивилизация становится дороже. У стран, в такой степени бедных и невообразимо отставших в развитии, нет никаких, буквально никаких шансов когда-нибудь выровнять диспропорции и догнать наиболее передовые индустриальные страны. Каждый шаг на этом пути только углубляет отсталость, а не уменьшает ее. Достаточно воспринять любой элемент современной промышленной цивилизации, чтобы войти в бесконечную цепь зависимостей, которая увеличивается в геометрической прогрессии. Нет ничего отвратительнее попытки насадить современность в диких зарослях: африканских плутократов в котелках, безграмотных шейхов в «роллс-ройсах», Бокассы и Амина, электрических чудес в одном шаге от нищих лачуг.
Конечно, ныне есть возможность закупить или даже приобрести в кредит блага промышленной цивилизации. Только при капитализме это связано с определенными политическими условиями, а следовательно, с более или менее замаскированной колонизацией. Приняв первую дозу современных промышленных благ и использовав ее даже самым разумным образом, приходится в течение всей дальнейшей истории выпрашивать кредиты, моратории и безвозмездную помощь, с горечью следить за экономической конъюнктурой, любой ценой развивать экспорт какой-либо несчастной монокультуры, судьбы которой зависят в конечном счете от крупных банков, бирж и монополий. Без них бедные страны могут прожить, но с ними ужиться не могут. Это противоречило бы капиталистической природе международных экономических отношений.
Индустриализация, или даже создание основ промышленной инфраструктуры, грозит к тому же стране столь бедной, как Кампучия, разрушительными социальными последствиями. Говорят, что машины производят дешевле, чем люди. Это еще одна правда сытых, одетых и довольных жизнью, тех, у кого вот уже несколько поколений вдоволь электричества и сырья, есть пути сообщения. И основные отрасли промышленности. Нет машины, которая ткала бы ткань более дешевую, чем кампучийская крестьянка, которая зубами сучит конопляную нить. За одной машиной неизбежно идет другая. Токарный станок тащит за собой фрезерный. Серной кислоте не обойтись без фенола. В ускоренном темпе начинает расти слой «паразитов производства», которые все глубже затягивают страну в омут растущей зависимости от заграницы, требуют новых машин, винтиков, поршней, добиваются повышенной зарплаты, а если не пойти им навстречу, обидятся и выедут на заработки.
За последнюю четверть века (это были первые двадцать пять лет независимости кхмерского народа после 91 года французского колониального господства) была полностью разрушена традиционная социальная структура Кампучии.
Кхмерский крестьянин жил всегда бедно, но редко голодал, а в год хорошего урожая ел почти досыта, чем не могли похвалиться ближайшие и более дальние соседи. Денежное обращение всегда играло здесь ничтожно малую роль. Рыночная экономика существовала в зачаточной форме. Почти вся деревня жила в рамках натурального хозяйства. Несчастья начались во второй половине пятидесятых годов, когда Сианук получил солидную международную помощь и вопреки азиатским обычаям направил ее главным образом на развитие сельского хозяйства. Были освоены новые, более урожайные сорта риса. Посыпались искусственные удобрения. Начали работать механические приспособления для орошения, молотьбы и пикирования рассады. Годовой урожай за одно пятилетие вырос с полутора до трех тонн с гектара. Впервые в истории экономика располагала излишками. Тотчас же начался импорт самых разнообразных промышленных товаров, а с ним, как грибы после дождя, выросла энергичная чиновничье-техническая прослойка, которая славила светлейшего принца за разумный прогресс и заботу об интересах народа.
Деньги у этих людей были, но они хотели иметь еще больше. Платить им надо было, и притом щедро, из государственного кармана. Пришлось ввести налоговую систему. Крестьян тоже обязали платить налоги. Деревня подверглась резкому расслоению. Появились настоящие деревенские богачи, покупавшие в городах невиданные прежде товары, вроде фонарей или велосипедов. Но вместе с тем впервые в кхмерской деревне прочно поселился хронический голод среди бедноты. Этого было достаточно, чтобы кроткий, веселый и невоинственный кхмерский крестьянин начал бунтовать. Таков был на первых порах социальный фон, на котором происходило рождение доктрины «красных кхмеров».
Остальное доделали американцы при режиме Лон Нола. Они вложили в Кампучию массу денег, по-видимому, около полутора миллиардов долларов. Они допустили гигантскую, невообразимую коррупцию, чтобы, невзирая на расходы, как можно быстрее создать богатую чиновничье-буржуазную прослойку, в которой видели (и имели на это основания) надежную (ибо местного происхождения) плотину против взбунтовавшегося крестьянского моря. Они не скупились на поставки, денежные средства и посылку специалистов, когда дело касалось сельского хозяйства. В последний год правления Лон Нола урожайность достигла восьми тонн с гектара. Но чем выше были урожаи, тем больше повышались налоги. Чем зажиточнее становились города, тем хуже жилось деревенской бедноте, которая почти вся сочувствовала «красным кхмерам», предоставляла им убежища, прятала от жандармов.
Именно за эти пять лет в Пномпене была воздвигнута большая часть роскошных вилл. Город был коренным образом перестроен. В магазинах появились дорогие промышленные товары со всего мира. Индустриализация обнажила в Кампучии одновременно все прелести и все свое злополучие. Деньги стали мерой всех вещей. Инфляция превысила уровень 30 процентов в год. Два социальных полюса отодвигались друг от друга со скоростью разбегающихся галактик. В прошлом это происходило и в большинстве других стран, но здесь свершилось при жизни одного поколения, в захватывающем дух темпе.
Вряд ли стоит винить «красных кхмеров» в том, что, рассуждая о революции, они с самого начала ударились в крайности. Сианука в Пекине и Лон Нола в Калифорнии никто почему-то не обвиняет в том, что своими действиями они толкнули часть левых сил в Кампучии на поиски решений столь тотального характера. Можно, мне кажется, представить себе причины самого общего характера, которые обусловили появление сверхрадикальных группировок.
LXXIV. Борьба с медициной действительно труднообъяснима. Она поистине ужасает. Но ведь в каждой революции, начиная со взятия Бастилии, случалось немало страшного, подчас вредного и бессмысленного, но это ни в чем не умаляет ни величия, ни исторической справедливости свершившегося.
А не посмотреть ли на это иначе, глазами нищего, неграмотного крестьянина из провинции Кампонгчнанг? При правительстве Лон Нола Кампучия имела один из самых низких в мире показателей обеспеченности населения госпитальным лечением (1200 человек на одно больничное место, в Польше — 129 человек), минимальное количество врачей (один врач на 16 тысяч человек, в Польше — на 600), относительно наименьшую в Азии численность среднего медицинского персонала (на одного офицера армии Лон Нола приходилось 0,07 медсестры или фельдшера). Система здравоохранения и медицинского обслуживания имелась, коли на то пошло, только в городах и охватывала не более трех, максимум — пяти, процентов населения. Она стояла, впрочем, на весьма высоком уровне, будучи превосходно обеспечена антибиотиками, заграничными фармацевтическими средствами, неплохим оборудованием, приличными лабораториями. Не удивительно, что услуги ее стоили ужасающе дорого и практически не были доступны никому, кроме богатых горожан. Врачи принадлежали к числу самых обеспеченных людей в стране. Их гонорар за визит равнялся годовому доходу крестьянской семьи. Упомянутая выше доктор Чей только в «коммуне», а затем в лагере для беженцев встретилась с крестьянами, и это изменило ее политические взгляды. А если бы убитые в Кампучии врачи вдруг воскресли, сколько бы из них по-настоящему стало бы на сторону народа?
Современная медицина со всеми дорогостоящими штучками находилась вне сферы представлений кхмерского крестьянина. Природа сама производила отбор. Акушерка заменяла гинеколога и стоматолога. Травы и минералы в течение веков считались единственным лекарством, тигровым бальзамом довольствовались даже деревенские богачи. А почему, собственно говоря, крестьянин из провинции Кампонгчнанг должен сожалеть, что господ докторов выселили из комфортабельных, прохладных, многокомнатных квартир? Разве у них другие желудки или руки, неспособные трудиться на рисовом поле? Назначение тринадцатилетнего мальчика начальником больницы могло быть результатом самодурства полпотовского начальника. Уничтожение ценного рентгеновского аппарата было, надо полагать, побочным, непредвиденным следствием борьбы против импорта аппаратуры только для богачей. Но и в этом случае надо хорошо разобраться в причинах, склонивших «Ангку» к тому, чтобы объявить войну медицине.
LXXV. Обувь. Правильно, это зрелище сильнее всего врезается в память и производит потрясающее впечатление. Но ведь в данной климатической зоне обувь — выдумка капиталистического дьявола, который нашептывает людям, что они могут жить удобнее, лучше, безопаснее. Сто поколений азиатских крестьян не дошли до мысли о том, что надо носить обувь, и даже не знали о подобном изобретении. Своими босыми ороговевшими ступнями они тысячелетиями измеряли бескрайний континент. Лишь эпоха колониального рабства довела до сознания бедных жителей Азии (богатые раньше узнали эту тайну), что человеческие ступни можно облекать в кожу животных. Поэтому обувь, как социально-экономический факт, следовало одним махом упразднить, по крайней мере среди гражданского населения, потому что армия должна все-таки ходить в обуви. Именно поэтому выселяемым гражданам приказывали снять обувь, прежде чем они покинут город. Надо было, чтобы их изнеженные ступни познали тяготы крестьянской ходьбы, вступили в соприкосновение с матерью-землей, получили «революционную» закалку. Почти у всех начинали кровоточить израненные ступни или наблюдалось опасное заражение, потому что пыль на дорогах Кампучии перемешана с бактерийной флорой в пропорции один к одному. Эти люди впервые в жизни шли по сто или двести километров. Многие из них не выдержали марша. Ну и хорошо. Природа сама лучше знает, как производить естественный отбор, по Дарвину.
Это звучит цинично и жестоко, но ведь не мы, люди средиземноморской цивилизации, отдавали приказы о марше. Скорее система, породившая полпотовцев, была циничной и жестокой. Вот уже тысячу лет никто не жалел крестьянских ног, которые тоже, в конце концов, покрыты эпителиальной тканью, а теперь все в ужасе заламывают руки, скорбя о судьбе барышень из хороших домов, которым пришлось столько километров пройти босиком. Означает ли это, что одна пара человеческих ступней ценнее другой? Как раз в данном случае европейские представления о революции гроша ломаного не стоят. Мы успели позабыть, как реально выглядит стихийная народная революция в тех условиях, когда нет иного выхода. Надо иметь за плечами биографию кхмерского крестьянина, чтобы понять те психологические мотивы, которыми руководствовались командиры и конвоиры, приказавшие разуться выселяемым жителям Пномпеня.
LXXVI. Азиатский город — это значит: сидеть на корточках, болтать с земляками, курить окурки, принести-подать, поклянчить, подивиться, спрятать в рукав. Чем крупнее город, тем больше этого ничегонеделания, тем легче нырнуть в темень узких улочек, в сладостный запах растительного масла, сточных канав, кухонных дворов.
Азиатский город — это господа чиновники в белых рубашках, ужасно важные полицейские, недосягаемые сагибы, вещи страшные и далекие, как луна. Но это и беспрерывное движение, шум, тысяча чудес для обозрения, миллион обещаний на каждом углу, вечная надежда, что что-то случится, что-то изменится. Хорошо. Можно жить, пока злые ветры не изогнут дугою спину, можно молодые свои годы проболтать, просидеть на корточках, пробродяжничать.
А деревня в Азии — это «золотой кулак солнца», пыль и грязь. Это — вставать на рассвете или до рассвета, вечный зной, боль в мышцах, забота о горстке риса, абсолютная призрачность человеческой жизни, все один и тот же запах буйволиного помета, размякшей земли на рисовом поле и сухой соломы.
Город в Азии — это родина местных джиннов и заморского дьявола. Из милых девушек с соседней улицы он делает холодных, расчетливых уличных девок, которые с дураков иностранцев берут во сто раз больше, чем сами стоят. Он порождает коррупцию, дошедшую до стадии клинического заболевания. Он — питомник продажных чиновников, тайных агентов, торговцев опиумом, мошенников и попрошаек, отцов, которые продают собственных дочерей. Он кого угодно засосет, кого угодно развратит. Он растет, как дракон в легендах, пьет кровь, как вампир.
Деревня здесь жестока, но она чиста. Ее жестокость — не врожденная. Она порождена нищетой и неравенством. Это единственная среда обитания, которую еще можно сберечь ради человечества.
Города спасти невозможно.
Азия никогда не знала столь огромных, многомиллионных городов, пока не вторглись сюда белые колонизаторы, которым понадобились проститутки, комиссионеры, посредники, толмачи, шпионы и лакеи. В течение тысячелетий азиатам было в принципе достаточно княжеских столиц и небольших городов, местных центров простого товарообмена и самого необходимого ремесла. Только эпоха колониализма сотворила города-тюрьмы, дерзкие и порочные города-паразиты по самой своей сущности.
Надо уничтожить эти сайгоны Азии. Надо вернуться к исходному пункту.
Примерно так могло рассуждать руководство «Ангки», когда начиналось выселение двух миллионов жителей из Пномпеня.
LXXVII. Почему неприязненно и враждебно мы воспринимаем такого рода аргументы, расценивая их как демагогические? Это понятно. Для нас очевидно, что мы должны лучше зарабатывать, обильнее питаться, удобнее жить. Нам должны быть доступнее стиральные машины и автомобили. Нам надо больше путешествовать, обставлять квартиры большим количеством мебели и украшений. Неизлечимо зараженные определенными навыками видения и понимания действительности, мы беспрерывно и безуспешно пытаемся их перенести в тот страшный и жестокий мир, где идеи выступают в упрощенном виде и где прогресс в нашем понимании — вещь далеко не общепризнанная.
«Каждая мысль, — говорит Эрих Фромм в «Бегстве от свободы», — истинная или ложная, мотивирована субъективными нуждами и интересами личности. Некоторые интересы способствуют отысканию истины, а другие — ее уничтожению. В обоих случаях психологические мотивировки являются весьма важным стимулом для получения определенных выводов. Можно даже пойти далее и сказать себе, что идеи, которые не укоренились в глубоких потребностях личности, будут оказывать лишь незначительное влияние на деятельность человека и вообще на всю его жизнь».
На нас, конечно, не будут иметь влияния. Ни на меня, ни на тех, кто это в данный момент читает.
Тут все в порядке. Нет проблемы. Такова естественная последовательность вещей. Только есть предложение: принять к сведению, что существует еще другой мир, наряду с нашим. Мир других критериев зла и добра, охватывающий четыре пятых рода человеческого, мир, где единичное, непродолжительное страдание личности — это, в сущности, ничто по сравнению с безмерным страданием миллионов.
LXXVIII. Неправда, что по мере развития средств информации и телевидения мир становится «глобальной деревней», как утверждает канадец Мак-Люэн[35]. Напротив, он становится все более захолустным и провинциальным, если говорить о его восприятии обывателем, сформированным «массовой культурой». Утомление от слишком большого количества стран, проблем, лозунгов и конфликтов приводит к тому, что стимулы взаимоуничтожаются, реакция притупляется, во всяком случае по сравнению с ситуацией пятнадцатилетней давности. Провинциализму сопутствует его родной брат — эгоизм. Затем появляется неумение мыслить в крупном временном и пространственном масштабе. Исчезает способность связывать далекие от нас факты с окружающей повседневностью. Это было подмечено уже сотни раз, но ничего не изменилось. Неужели так история мстит нашему миру за его чудесное разнообразие?
LXXIX. Жестокость азиатских революций? А как им не быть жестокими? Где еще в мире, исключая, быть может, ранний период конкисты и порабощения Африки, была в новое время создана система, которая стала бы столь ярким воплощением неумолимого насилия, бедствий, унижений и жестокости? Почему всякая азиатская контрреволюция, местная или импортированная, так быстро получает отпущение грехов и уходит в забвение, а о жестокостях народных движений годами говорят с возмущением и ужасом? Испытал ли Запад моральное потрясение по поводу четырехсот тысяч индонезийцев, которых в 1965 году насмерть забивали палками, вешали за руки на деревьях, топили, обезглавливали, четвертовали? Что поделывают палачи низама Хайдабарада, которые в 1947 году разжигали костры на животах бунтовавших крестьянок в Тиленгане, и элегантные британские офицеры, которые в 1952 году фотографировались с отсеченными головами малайзийских партизан? Кто лицемерно заламывает руки, сокрушаясь о судьбе изгнанных из Сайгона сутенеров, воров и бандитов, которым, видите ли, в Парагвае приходится основывать «El Nuevo Saigon»[36], и ничего не имеет сказать насчет «тигриных клеток»? Эти клетки, если требуется пояснение, изготавливались из толстых стальных прутьев с пятисантиметровым расстоянием между ними. За десять дней пребывания в клетке тело узника превращалось в один вонючий и гноящийся ожог. Все это происходило не несколько веков назад: через застенки сайгонско-американской полиции прошло более сорока тысяч человек. Последних узников полуживыми извлекли из «тигриных клеток» весной 1975 года.
Сейчас я вместе с другими описываю зверства полпотовцев, ибо потрясен до глубины души и хотел бы, как требует этого моя профессия, передать свое возмущение читателям. Но я здесь могу сказать лишь половину правды. По-прежнему мало известно о зверствах полиции Лон Нола. Считают, что ею замучено от десяти до двадцати тысяч человек, заподозренных в сочувствии «красным кхмерам». Тот человек из Пномпеня, фотографию которого я нашел в кармане его мундира, тоже непохож на филантропа или впечатлительного гуманиста. Он располагал, должно быть, неплохими рекомендациями от правой партии «Сангкум», которую ЦРУ давно использовало в качестве вывески. Он проявлял, надо полагать, усердие, раз дослужился до такого количества звездочек, нашивок и наград. Может быть, он был комендантом прославленного лагеря в каменоломнях под Пномпенем, где заключенные, которые были уличены в содействии партизанам, на ночь приковывались к нарам и перед сном получали двадцать пять ударов плетью из твердой буйволовой кожи.
Нельзя представлять дело таким образом, что на светлую, мирную и веселую страну внезапно напала орда варваров с мотыгами в руках. Уж скорее наоборот: «красных кхмеров» никогда бы здесь не было, если бы буржуазия и компрадорская элита не создали таких социальных условий, что кровавая революция стала единственным выходом. Совесть мира молчала пять долгих лет правления Лон Нола и только сейчас внезапно пробудилась, скорбя о преступлениях «красных кхмеров».
Впрочем, здесь скорбь сугубо избирательная, обусловленная потребностями дипломатии. В январе 1979 года о бывшем главе государства «красных кхмеров» Сианук говорил в Нью-Йорке: «Его превосходительство господин секретарь Пол Пот». Американский представитель в ООН не скупился на тонкие замечания насчет суверенности Кампучии, поскольку Соединенные Штаты всегда выступали за «невмешательство в чужие дела». Западная пресса брезгливо молчит, ибо ее принцип — информировать о делах текущего дня, а не заниматься поисками истин, являющихся достоянием философов. Но ведь эти люди могут стерпеть и подлинно народную революцию, лишь бы она хоть какое-то время служила их интересам.
Хотелось бы знать: каким же путем должна пойти революция, чтобы она, пусть на короткий момент, оказалась на руку империализму?
Продолжаются споры, ведутся дискуссии. Только черепа людей, замученных Лон Нолом и Пол Потом, разлагаются в тишине. Только тот парень без лица, угасающий в больнице «Прачкет Миалеа», унесет с собою рассказ, который нам следовало бы знать, прежде чем выступать с глубокомысленными суждениями.
LXXX. Азиатская специфика? Конечно, нечто такое существует. По крайней мере в области повседневных культурных норм, ибо ни одно из великих азиатских верований не изобрело ни индивидуальной совести, ни системы этических норм, которые были бы обращены к человеку, а не к божествам. Те, кто так говорит, должны как следует приглядеться к индийским святошам и спросить, на что живут разного рода мистики и поборники созерцания.
Можно также признать, что азиаты отличаются большей по сравнению с европейцами способностью адаптации к трудным условиям существования. Это черта, сложившаяся в результате эволюции под влиянием тяжелого климата и длительной нехватки протеина.
Нельзя, однако, забывать, что анатомия и физиология взятых в отдельности представителей зоологического вида «homo sapiens» в достаточной степени идентичны, чтобы не рассматривать жителей Азии как особый вид. У всех у нас примерно пять литров крови в жилах, одинаковы болевые рецепторы, хрупка затылочная кость, тело страдает от ожогов и глубоких ран, есть кости, которые легко переломить ударом металлического прута и которые болят отнюдь не меньше, хотя и обтянуты смуглой кожей.
Никакие различия в культуре и обычаях не уменьшают биологического страдания матери, потерявшей ребенка. Они не утоляют обессиливающего чувства голода. Не смягчают нервной реакции и мышечных спазмов, когда в человеческое тело вонзается кусочек свинца, покрытый тонкой стальной оболочкой.
Об этом, надо помнить, ибо азиатская специфика, если она существует, относится к любой стороне любого происходящего в Азии конфликта. И вряд ли может быть иначе.
LXXXI–LC
LXXXI. Это можно определить как порочный круг, вечную эскалацию ненависти, нехватку человечности, инволюционный рецидив варварства. Это можно назвать как угодно. Но нельзя представлять дело так, что имела место какая-то манипуляция, воздействие извне или попытка пересадить абстрактные доктрины из-за семи морей на девственную и неподатливую местную почву. «Красные кхмеры» порождены подлинным гневом и подлинными страданиями народа. Иначе они не продержались бы и недели.
LXXXII. Но ведь так можно объяснить и обосновать абсолютно все. Не исключая и гитлеризма.
LXXXIII. Можно доказать, что убивать людей при помощи мотыги — это похвальное и исторически оправданное деяние. Можно показать, что побочные следствия, непредвиденные издержки вообще не заслуживают упоминания в сопоставлении с выгодами, которые принесла поначалу революция всем, кто является солью этой земли. Вероятно, нет такой интеллектуальной и моральной дилеммы, которую нельзя было бы решить, сославшись на исторические примеры.
LXXXIV. Существуют два основных типа личности, две разновидности темперамента и, как следствие, два вида реакции на окружающую действительность. Трудно сказать, какой более подходящ для описания исключительных по своему характеру ситуаций. Первый вид можно назвать пассивным: рассказчик честно свидетельствует о вещах, которые видел, отказываясь от широкой интерпретации. И он прав, потому что любое наблюдение частного порядка, сколь верно оно бы ни было, само по себе никогда не исчерпывает всей правды об эпохе, формации или даже об одной лишь стране. Нельзя претендовать на далеко идущие толкования. В мире существует достаточно много исключительных ситуаций, чтобы одна могла быть отрицанием другой. Потому у рассказчика есть основания избегать упорядочения увиденных фактов, их оценки и поисков единого критерия. Но такую манеру холодных наблюдений, саму по себе рациональную и не лишенную по-своему ценной пытливости детективного типа, временами трудно отличить от капитулянтского бездумья. Ибо за нею кроются молчаливое примирение с энтропической бессмысленностью истории и стоическая беспомощность перед лицом человеческих деяний, даже таких, которые явно противоречат общепринятому пониманию добра или простой целесообразности.
Второй следовало бы назвать активным: рассказчик исправляет мир по ходу описания, оценивает характер происходящих событий, заверяет нас, что ему понятна внутренняя структура истории. У такого подхода есть достоинства. Он позволяет нам самоотождествиться с чем-то более великим и благородным, нежели узкая перспектива повседневности, он апеллирует к разного рода исконным истинам, про которые мы легко забываем. Но таятся в нем и опасности: нам дают понять, что рассказчик сделал бы то же самое лучше или по-другому, что он располагает секретным рецептом, как осчастливить народ или по крайней мере уменьшить его бедствия. Лишь потом выясняется, что рассуждает он, пользуясь все-таки теми категориями, которые давно известны и столь же давно ставятся под сомнение.
Может быть, лишь синтез двух способов мировосприятия привел бы к желаемому результату при описании исключительной ситуации в Кампучии. Но нет уверенности, что такой синтез достижим.
LXXXV. Интересно, как выглядел бы мой репортаж из Парижа, написанный в середине мая 1793 года. И более поздние корреспонденции из этого города. Интервью с Робеспьером. Беседа с Дантоном. Сцены у гильотины. Заметки в блокноте о выступлениях Сен-Жюста, заседаниях Конвента, деятельности местных организаций Комитета общественного спасения.
Каждая ли очередная революция должна обязательно иметь своего собственного Камилла Демулена?
LXXXVI. А кто я, в сущности, такой, чтобы судить о революциях, народах, идеологиях? На каком основании я присваиваю себе моральное право решать, что дурно, а что хорошо? С момента окончания второй мировой войны я жрал всегда досыта, мне незнаком генетический дефицит белка, который лишает человеческий мозг памяти и способности к абстрактному мышлению, то есть мне чужд главный личный опыт сотен миллионов жителей Азии. У меня есть автомашина, примерно дюжина рубашек, большая библиотека. Тропическое солнце всегда было ко мне милостиво. Радости жизни попросту трудно перечислить: отпуск провожу у очень красивого озера, путешествую по великолепным городам, посещаю салоны. Суп из крапивы, который ели в военные годы, я вспоминаю не без умиления. Я съел всего одну ложечку кашицы из маниоки, поскольку признал это блюдо несъедобным.
Я пишу и пишу без передышки. Но с конца сороковых годов это уже слова, за которые в меня никто не выстрелит. Писание — это самое удобное дело под солнцем: не только ни во что не обходится, но еще и приносит заработок. А ведь я ни разу не плюнул под ноги разного рода польским филистерам, которые возвращаются из парижей, а потом, продолжая икать после бесподобных тамошних ужинов, орут, что не надо-де обращать внимания на этот «тощий и ленивый сброд», что не следует давать им ни гроша, что лучше держаться подальше от кровопролитных драк, заниматься своими делами, которых невпроворот, и с важным видом сошлются на нехватку ветчины. Мне наплевать на этих людей, мне противна их нарочитая слепота пополам с наглостью. Но что я, в сущности, сделал, дабы хоть одним настоящим делом доказать свою солидарность с теми, в ком вижу братьев? На каком основании я считаю себя вправе делать какие-то выводы о их жизни, заявляю, что я за «красных кхмеров», или на каком-нибудь повороте признай их неправыми? Несколько переделок, в которых я побывал, связаны с нормальным профессиональным риском. Да и не были эти ситуации чрезмерно опасными, раз я остался жив. Интересно, каковы были бы мои политические взгляды, если бы я с год поработал в «коммуне» с пяти утра и до семи вечера, за паек девяносто граммов риса в сутки и без права носить шляпу из рисовой соломы. Или другое: если бы я, как гражданин «свободного мира», то есть антикоммунистической Камбоджи Лон Нола, четырнадцать часов проводил в каменоломне, а потом получал ежевечернюю порцию ударов плетью, поскольку побуждал к бунту честных крестьян.
Если за чьими-то взглядами на такого рода вопросы не стоит ныне деяние столь масштабное, как подвиг Гевары, или по крайней мере достаточно многообразный и подкрепленный делами личный опыт, они вызывают недоверие. Слишком много на свете слов, слишком много надуманных идеек с ограниченным полем и сроком действия. Все труднее определить оригинальность собственных мыслей и отличить интеллектуальные полуфабрикаты от плодов упорного труда.
LXXXVII. Всегда можно сказать: мол, нечего садиться не в свои сани, все это проблемы не для журналистского пера. Видимо, так и есть. Только ведь иногда, кроме профессии, есть что-то вроде приватной любознательности и хочется выяснить, существуют ли границы утопии, а если да, то кто и где их определяет. И можно ли оптом поддерживать всех тех, кто обладает исторической и моральной правотой, но о ком заранее известно, что «не сможет пройти сквозь дождь, не задев ни единой капли». Серия великих азиатских революций еще не закончилась; поэтому надо внимательно присматриваться к тем, которые свершились, ибо в них заложены все победы и все ошибки азиатской будущности.
Так каковы же границы утопии? Где кончаются подводные камни азиатской специфики, дискуссионные поля относительности понятий и где начинаются универсальные истины, от которых никто не может быть свободен по причине неподготовленности или дурного самочувствия?
Это беспокойство вызвало к жизни всю современную Литературу, и нельзя тут сказать, что нет ничего общего между ним и журналистской повседневностью. Даже у хроники городских происшествий есть свое место в панораме социальных причин и следствий, что же тогда говорить о революциях, переворотах, больших вихрях истории.
Итак, Достоевский: каждый из нас на все способен. Конрад: это верно, но не все позволено, в нас сидит дьявол, именуемый совестью, которого нельзя ни побороть, ни заговорить. Горький: так дальше жить нельзя, мерило человечности совсем иное. Арагон: мир понятий европейского мещанина обанкротился, лицемерие и ханжество уничтожили смысл жизни, обратили ни во что наследие европейского гуманизма. Мальро: капиталистическая Европа лишена подлинности, лжива, ее система ценностей неприменима в Азии и по отношению к Азии; настоящие человеческие дилеммы решаются только там. Камю: мировую чуму не удастся одолеть, но каждый должен делать то, что ему положено, дабы уменьшить ее распространение.
Я знаю этот перечень. Знаю эту торопливую потребительскую манеру чтения великих шедевров литературы. Журналистские шпаргалки, моральные комиксы для выпускников школы, эрудиция полуинтеллигентов. Надо, чтобы начитанность была на должном уровне: тогда журналистские выдумки выглядят гораздо лучше. Быстро-быстро, пропускать описания природы, искать короткие афористичные фразы, которые можно процитировать, ибо они свидетельствуют о начитанности и хорошем вкусе. Ведь это очень важно — иметь хороший вкус, когда пишешь о трупах.
Но потом повествование обрывается и, сталкиваясь с новыми фактами, уже некого цитировать. В самом деле, что? «Врата рая», манифест нигилистического сомнения во всем сразу? Дюрренматта, который безмятежно советует разводить кур, когда надвигаются полчища врагов? Фриша, который даже в девичьей груди умеет открыть космос подлинности? А может быть, Сартра, который так незаметно перескочил от великого к смешному?
LXXXVIII. Терпеть не могу Гогена, гавайских гитар, красочных открыток из тропических стран, танцовщиц-таитянок. Не переношу искусствоведов, восторгающихся куском дерева и равнодушных к судьбе старика-резчика, создавшего этот шедевр. Не переношу газетчиков-туристов, описывающих, как они катались на слонах. И беспристрастно-ироничных инженеров-экспертов с ворохом логарифмов вместо души. И дамочек, воспевающих медуз, ибо по поводу медуз никто не обидится. И прекрасно воспитанных экономистов, у которых на озабоченных лбах прорезаются новые морщины из-за неудержимого роста ножниц цен. И вокально-артистических трупп из экзотических стран, мистиков в простынях, искателей «ахимсы»[37], последователей буддизма «дзэн»[38], цветных бизнесменов, йогов и заклинателей змей. Я ищу ответа на короткий и ясный вопрос: когда азиаты должны убивать азиатов. В силу каких важных и морально оправданных причин. Какое число людей исторически необходимо убить, чтобы восторжествовала справедливость.
Как выработать политические и моральные нормы, которые позволят безошибочно отличить преступное человекоубийство от кровавого, но очищающего деяния, раз уж мягкие уговоры, обращение к богам и надежды на улучшение человеческого бытия эволюционным путем обнаружили полную несостоятельность.
Один лишь Андре Мальро пытался дать ответ на такие вопросы. Он одобрял такие действия азиатских революционеров, которые всего лишь поколением раньше не вмещались в европейские головы и повсеместно считались проявлением азиатской дикости или, проще, обыкновенного бандитизма. Чен вонзает кинжал в сердце китайцу, предателю и негодяю, — хорошо. Кио лжет, обманывает капитана корабля — и правильно делает. Кули бросают гранаты в китайских полицейских — так должно быть. Чен бросается с бомбой под автомобиль Чан Кайши — он герой[39]. Это не столь разрушение традиционных норм зла и добра (в этом специализировался Лафкадио[40]), а скорее придание им нового, дополнительного измерения, каковым является история. Кем мы были бы без тебя, полковник Бергер[41]? Что нового написали бы популярные европейские писатели второй гильдии: Пиранделло и Гамсун, Стефан Цвейг и Моэм, Фейхтвангер и Унамуно? Они никогда не видели туберкулезных нор Шанхая и стен пекинского сеттльмента, не хлебали жидкой похлебки из проса, не смотрели в раскосые глаза портовых грузчиков. Да если б даже они все это увидели, появилось бы, наверное, повествование о романе гейши и губернаторского сына. Мальро был вторым, после Конрада, и последним из крупных писателей, которые спасли честь европейской литературы и утвердили за ней право говорить о подлинных проблемах двадцатого века.
Но это было полвека назад. «Великий поход» давно закончился. Родилось государство, влияние которого на события в Кампучии было решающим. Появилась новая идеология, мимо которой не пройти, пожав плечами, но которую трудно признать и откровением. Но уже нет писателя масштаба Андре Мальро, который посвятил бы душу и талант бешеным тайфунам последнего двадцатипятилетия и кто откровенно, на свой риск и страх, определил, каковы границы утопии и границы непоколебимых универсалий. Может быть, эта глава в истории человеческой мысли вообще уже дописана, и никто не придет на выручку журналисту в конструировании обобщений и выдвижении гипотез. Такова польза от литературы.
LXXXIX. Девятого февраля в половине четвертого утра мы снова выехали в направлении Кампучии. Было условлено, что цель поездки определится лишь в центре провинции, городе Тэйнинь, с учетом того, в какой степени безопасна обстановка по ту сторону границы.
В десять часов мы переправились паромом через реку Вамкодонг. Паром был так исцарапан осколками, что его, правду сказать, следовало бы признать непригодным для пользования. Перекладины прострочены пулеметными очередями. Крыша машинного отделения разорвана в клочья. Палуба продырявлена, как решето.
На западной стороне реки совершенно иной пейзаж. Ободранные каучуковые деревья. Воронки от взрывов. Обгорелые развалины хижин. Поломанные мостки над ручьями. Пейзаж смерти и опустошения. Именно на этот район налеты полпотовцев совершались особенно часто. До границы было больше пятнадцати километров, но местность выглядела еще страшнее, чем район «Клюва попугая».
Перед выездом из Тэйниня, чтобы сориентироваться в характере местности, я обратился к единственной имевшейся в наличии карте данного района. Это была американская карта для авиационных штурманов, масштаба 1:334000, без рельефа местности и большинства условных знаков, к тому же с густой сеткой минут и секунд, географической широты и долготы. Надо хорошо знать окрестности, чтобы читать такую карту. Я обратил внимание на то, что в штабе гражданской обороны на карту нанесли много красных эллипсов, из которых примерно одна треть находилась на вьетнамской территории.
Я спросил про эти знаки, и мне сразу ответили. Каждый из этих эллипсов означал предположительное местонахождение той или иной полпотовской банды. В любой другой стране такая карта с нанесенными на нее тактическими знаками была бы засекречена и для посторонних недоступна. Здесь она была вывешена чуть ли не для всеобщего обозрения. Народная война ведется по несколько своеобразному принципу: чем больше людей видит районы, где группируется противник, тем меньше риск, что он застигнет врасплох, и тем больше приток ценной информации от населения. Нас удивил сам факт, что через месяц после краха полпотовского режима на вьетнамской территории находились остатки его войск. Член провинциального комитета партии товарищ Хыинь Ван Луан объяснил, что в этом нет ничего особенного. Отдельных диверсантов ловят даже в центре Тэйниня. Не далее как неделю назад группа полпотовцев пыталась взорвать мост, по которому сегодня мы проехали. Хыинь Ван Луан говорил об этом спокойно и по-деловому, а потом добавил, что его сын погиб в прошлом году от рук полпотовцев в 24 километрах от Тэйниня. Второй сын, раз уж мы об этом заговорили, погиб в бою с американцами в районе Плейку.
Из-за красных эллипсов на карте нас решили не везти в Самат, которую вначале хотели нам показать как свидетельство зверств полпотовцев. В этой деревне по-прежнему опасно, есть возможность столкновения с «вредными элементами». Поэтому мы поехали в деревню Тханьлонг.
Назвать это деревней трудно. 12 декабря 1978 года две полпотовские бригады совершили на нее налет, убив 15 человек и 22 ранив. Застрелен был 61 буйвол, что нанесло непоправимый ущерб хозяйству деревни. Из 30 домов сожжено 29. Но это еще не полный перечень потерь. Среди жителей деревни Тханьлонг, находившейся всего в шести километрах от границы, с незапамятных времен были вьетнамцы кхмерского происхождения. Полпотовцы всех их увели с собой, и не удалось выяснить, что они с ними сделали. Можно только догадываться.
Где-то здесь оканчивается тупиком прославленная дорога номер 13, о которой в свое время велись прения даже в американском конгрессе. Прежде чем в Индокитае вспыхнуло пламя войны, дорога номер 13 вела из Сайгона в Кампонгтям (Кампучия) и считалась важным стратегическим путем. Это смешно. Речь идет об узкой, извилистой, неасфальтированной, изрытой минами дороге, на которой с трудом разъезжаются две арбы. Сегодня она не ведет, вернее сказать, еще не ведет в Кампонгтям. На протяжении сорока километров, по обе стороны границы она была полностью уничтожена, чтобы сделать невозможной быструю переброску войск в том или ином направлении.
«Резиденция» старосты деревни Тханьлонг — это небольшой сарай, с трех сторон обведенный стрелковым окопом. Бруствер сделан из продырявленных бензиновых бочек, поломанной мебели и мешков с песком. В помещении висит портрет Хо Ши Мина и распоряжение премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам о борьбе с минами и неразорвавшимися снарядами, из-за которых каждый год гибнет две тысячи человек, главным образом дети. Здесь стоит также полевой телефон с рукояткой, носилки, пять ящиков с патронами и допотопная чернильница. Староста, рослый, молчаливый, суровый человек в легком шлеме на голове, носит за спиной автомат, а в подсумке на поясе — четыре полные обоймы к нему.
Мы пошли смотреть укрепления, построенные полпотовцами на вьетнамской территории в шести километрах от границы, которая на этом участке проходит по долине хорошо отовсюду просматриваемой реки. Укрепления — это, пожалуй, слишком громко. Просто система окопов, вырытых на глубину 70 сантиметров по всем правилам уставов европейской пехоты 1945 года. Траншеи расположены в три ряда, которые целиком укрывал уничтоженный ныне лес. Каждые сто метров виднеется взводный командный пункт, каждые триста — мощный подземный бункер, обитый железом, прячущийся в корнях мангровых деревьев. Ходы сообщения также проложены по всем правилам саперного искусства, под острым углом к траншее, и прекрасно замаскированы растительностью. Вся система расположилась на территории на меньше чем два квадратных километра. Ее строительство велось весной 1978 года под непосредственным наблюдением китайских офицеров. Здесь можно было укрыть два-три пехотных полка и несколько батарей мелких орудий. База полпотовцев во вьетнамской деревне Тханьлонг позволяла полностью контролировать восточный участок дороги номер 13. Отсюда направлялись штурмовые бригады, которые жгли вьетнамские деревни в глубине пограничной зоны.
Я насчитал тридцать ящиков из-под китайских патронов и бросил считать. Часть из них отчетливо помечена цифрой 800. В окопах валяются китайские военные фуражки, китайские пулеметные ленты, пустые пачки из-под китайских сигарет. Лес начинает понемногу оживать, но растительный покров в нем по-прежнему разорен, вытоптан и убог. Нет ни лиан, ни папоротников. Птицы в лесу не поют.
От линии укреплений до деревни Тханьлонг меньше двух километров. Я спросил старосту, как получилось, что полпотовцы строили свои укрепления с весны 1978 года, а деревню уничтожили только в декабре. Он ответил, что они считали эту территорию частью Кампучии, хотя граница здесь испокон веков шла по реке. Но удивляться нечему, сказал староста: они даже города Хошимин и Фантхиет считали частью Кампучии. А потом у них что-то вдруг переменилось.
Мы снова отправились смотреть «новую жизнь». Было ужасно жарко. Зной даже здесь жалил нас своим длинным едким языком. Мы на минуту остановились около странной конструкции, назначения которой я сперва не мог понять. Это был навес из листьев арека, стоявший на четырех наспех обструганных бамбуковых стволах. Стен не было, но под навесом стояли в тесном ряду кровати, прикрытые разноцветными тряпками. Подойдя ближе, я увидел сидящего на постели старого крестьянина с морщинистым лицом и множество детей разного возраста — от двух до четырнадцати лет. Они сидели, молча уставившись взором в пространство, и оживились только с нашим появлением. Самые маленькие выбежали на небольшую площадку, которая была когда-то двором. Я увидел развалины хлева, среди которых белели буйволиные кости, потрескавшаяся от огня кухонная посуда, разбитые миски. Минуты через две я заметил, что полуголые смеющиеся дети пинают ногами какой-то предмет.
Я подошел поближе. Дети пинали человеческий череп, почти черный от солнца.
Два солдата охраны й староста перехватили мой взгляд и одновременно услышали щелчок фотоаппарата. Староста прикрикнул на детей, и они, присмиревшие, побежали что есть духу по пепелищу и скрылись под навес. Я опоздал на две-три секунды. Солдат охраны отшвырнул череп концом ботинка и сердито что-то сказал сидевшему под навесом крестьянину.
Я спросил у старосты, чей это череп.
С минуту он сердито молчал, может быть, стыдясь, что как раз у него произошел столь неприятный инцидент с иностранцами. В конце концов ответил, что знает, кем была эта женщина. Это была мать этих детей.
Мать?
Да, объяснила переводчица. La mere. Ее убили двенадцатого декабря прошлого года во время нападения на деревню.
Староста разволновался. С минуту помолчав, он сказал, что во время налета полпотовцев сам потерял жену, сына, дочь и двух братьев. Уцелел только сын, служивший в армии на севере. Дом старосты тоже был сожжен.
ХС. Возвратившись, я справился в дневнике, что делал двенадцатого декабря 1978 года. Это был вторник, облачный и слегка морозный день. До полудня я работал, потом записал несколько горьких замечаний по поводу своей профессии. Во второй половине дня поспорил с шефом. Это было всего лишь пятьдесят девять дней назад. Тысяча четыреста шестнадцать часов. Почти пятьсот из них я проспал.
XCI–C
XCI. На обратном пути мы еще раз задержались в Тэйнине, чтобы поесть. Я спросил Хыинь Ван Луана, почему все-таки полпотовцы питали такую ненависть к Вьетнаму и причинили ему столько вреда.
Ответ был таков: кровавая клика Пол Пота — Иенг Сари ненавидела марксизм-ленинизм и по указанию пекинских властей практиковала кампучийский экспансионизм. Она заявляла, что Вьетнам заражен ревизионизмом, изменил революционным идеалам и идет по капиталистическому пути.
Этот седой шестидесятилетний человек вел работу во Вьетмине с 1947 года. С юных лет он член партии. Двадцать один год работал на юге в глубоком подполье, как партийный организатор южного участка «тропы Хо Ши Мина», уполномоченный ЦК, ответственный за переброску людей на север. Он отдал стране двух сыновей, носит дешевые сандалии, заштопанную рубашку, очки в проволочной оправе с разбитым стеклом и выцветший, невзрачный халат. У меня нет никаких оснований иронизировать над не совсем складными формулировками, которые он употребляет, или умалять трагический смысл его оценок. Он опытный партийный работник и не расскажет мне, сколько раз помогал «красным кхмерам» в борьбе против проамериканского режима Лон Нола, сколько раз укрывал их, будучи партийным организатором в пограничной провинции, и лечил, когда они заболевали лихорадкой. Мне не проникнуть в мысли этого пожилого человека, но хотелось бы знать, что он пережил, когда полпотовцы убили его второго сына, а американцы — первого.
XCII. В Тэйнине выяснилось, что мы все-таки не можем ехать в Кампучию. Видимо, «вредные элементы» в этот день сильно активизировались. Вместо этого мы поедем в лагерь для беженцев из Кампучии в Бенсане. Еще недавно там было свыше 25 тысяч человек. Часть из них в настоящее время вернулась на родину. В лагере осталось еще 13 500 человек.
Из бесед, которые мы вели в лагере Бенсан, я записал две, потому что они показались мне важными как документальные свидетельства по кампучийскому вопросу. Обе собеседницы свободно говорили по-французски.
ХСIII. Тридцативосьмилетняя мадам П., учительница математики из города Сиемреап, 19 апреля 1975 года, через несколько часов после вступления в город «красных кхмеров», была разлучена с мужем и двумя дочерьми в возрасте двенадцати и пятнадцати лет. Третью дочь, самую младшую, трех лет, она взяла с собой. Муж тоже был учителем. П. не думает, что он пережил эти четыре года. Он был активным деятелем кхмерско-французского и кхмерско-советского обществ, членом какой-то политической партии (П. не знает, как она называлась), известным в Сиемреапе человеком. Уже четыре года она ничего не знает о своем муже. Не знает даже, что с ним было после того, как они расстались. Зато знает, что обеих старших дочерей нет в живых. Они умерли от голода и изнурительной работы в «коммуне» Ваньсонь, в ста пятидесяти километрах от места, где находилась их мать. Как дошло до нее это известие? Здесь, в лагере, есть один человек, бежавший из «коммуны» Ваньсонь, он помнит смерть обеих девочек:. Может быть, они и выжили бы, потому что болели дизентерией, а от нее не всегда умирают, но начальник «коммуны» был человеком исключительно безжалостным. Их болезнь он счел уловкой, уменьшил пищевой рацион и велел их насильно вывести на работу. Обе умерли за одну неделю. Они очень любили друг друга.
Мадам П. была выслана в «коммуну» Сраэтхом в провинции Кампонгтям, за двести семьдесят километров от Сиемреапа. Она шла пешком двадцать девять дней… Босиком? Конечно. Босиком. Никто не имел права носить обувь. А ребенок? Ребенка большую часть пути несла на руках. Сперва думала, что не выживет. В «коммуне» не было почти никаких запасов продовольствия, стерлись границы между нормами для различных категорий. Весь свой рис она отдавала дочке. Потом стало лучше. Пришел новый начальник «коммуны»: он был гораздо человечнее. Позволял брать ребенка на работу в поле, иногда освобождал от учебных занятий, чтобы П. могла постирать ребенку платье. Улучшилось и питание. Бывали даже дни, когда она получала порцию мяса. Но под конец 1977 года все опять стало плохо. Люди с третьей категорией вообще почти не получали риса, хотя «коммуну» Сраэтхом много раз хвалили за высокие урожаи. Основной пищей были маниока, просо и бамбуковые побеги, редко когда — сушеная рыба. Ребенок начал слабеть и хворать. Именно тогда П. решила: надо спасать ребенка. Она украла на кухне пятнадцатикилограммовый мешок риса и вместе с двумя другими учительницами бежала ночью. После шести дней в джунглях (до этого. П. никогда джунглей в глаза не видела) у дочки поднялась температура. Ночью в джунглях было безопасно, так как три женщины по очереди караулили, а хищные звери им ни разу не попадались, не считая, конечно, змей. Днем угрожала смерть. Несколько раз они слышали звуки выстрелов, даже голоса каких-то солдат. Другого выхода не было: пришлось два дня и две ночи просидеть в джунглях, с отчаянием видя, как тают запасы риса, спичек и соли. На третий день ребенок умер, не приходя в сознание. Неизвестно, отчего умер: наверное, от лихорадки. П. руками вырыла глубокую яму, чтобы труп не растерзали дикие звери, и пошла дальше, вперед.
Тут-то и началось самое страшное. Они сбились с пути, то и дело выходили из джунглей на какие-то широкие просеки и поляны, где их легко могли заметить. Еды не было, в воде из горных ручьев они отваривали побеги бамбука и какие-то травы, которых раньше никогда в рот не брали. Еще двадцать шесть дней продолжался их путь во Вьетнам. После перехода границы они были сперва арестованы крестьянами из отряда местной самообороны. Видимо, их приняли за полпотовских разведчиц. Только через неделю освободили и отправили в лагерь Бенсан.
Почему П. до сих пор в лагере? Потому что Сиемреап пока оккупирован полпотовцами. Она должна вернуться обязательно в родной город: а вдруг муж все-таки уцелел? Где же он будет ее искать, если не дома?
Что она думает о «красных кхмерах»? Она не разбирается в политике. Вообще не понимает, почему ее разлучили с семьей и послали в «коммуну». Они с мужем зарабатывали на жизнь, преподавая в школе, никогда никого не эксплуатировали и не выступали против «красных кхмеров». Она благодарна вьетнамцам за приют, но она кхмерская патриотка и хочет как можно быстрее возвратиться на родину. Она слышала, что страна разорена. Правда ли это? Но не это главное. Страна будет восстановлена, а людей уже не воскресить.
П. немного стыдно своей необразованности, но она просит повторить, как называется страна, из которой я прибыл, и где она расположена. На каком языке говорят в этой стране? Друзья ли мы Вьетнаму? Ах, надо было сразу сказать, что вы были в составе международной комиссии по Индокитаю. Понимаю, «Полонь».
XCIV. Тридцатипятилетняя мадам Нуон Варин, учительница французского языка в частном лицее в Пномпене. Красивая, образованная, начитанная, она прекрасно разбирается в политических проблемах. Говорит свободно, четко формулирует мысли; ее голос и безупречное произношение обращают на себя внимание. На ней застиранная, выцветшая блузка и длинная, до щиколоток юбка, сшитая из дешевого материала, но выглядит она как придворная дама.
Во времена Лон Нола Нуон Варин сочувствовала «красным кхмерам», как и значительная часть молодой кхмерской интеллигенции. Семнадцатого апреля в полдень она стояла на проспекте Монивонг и вместе со своими друзьями и учащимися лицея горячо приветствовала вступающие в город революционные отряды. Она была уверена, что открывается новая, лучшая глава в истории ее страны. Когда встреча войск закончилась, она направилась домой, так как детей оставила под присмотром няни. Но не дошла. За триста метров от дома ее остановил патруль «красных кхмеров» и приказал присоединиться к группе встревоженных, ошеломленных людей. Не помогли ни протесты, ни упоминание об оставшихся дома детях, ни уверения, что Нуон Варин сочувствовала революции и готова ей дальше служить. Солдат ударил ее прикладом в спину, велел снять обувь и двигаться вместе с колонной.
Через три часа после встречи частей освободительной армии Нуон Варин была уже далеко от города, не понимая, что произошло и кто свергнул «красных кхмеров», ибо ей в голову не могло прийти, что революционно-освободительная армия может так обращаться с населением. На первом же распределительном пункте она затеяла спор с полпотовским комиссаром, не скрывая своих взглядов насчет того, как должна действовать народная власть, и добиваясь возвращения к детям и мужу. Последствия были ужасны: Нуон Варин направили в одну из самых худших исправительных «коммун» — в Пойпаэт, уезд Прасаут, провинция Кратьэх. Правильнее было бы назвать ее концентрационным лагерем.
«Коммуна» Пойпаэт расположена в 132 километрах на северо-восток от Пномпеня. Этот путь Нуон Варин проделала пешком, под надзором специального конвоира, потому что ее признали человеком исключительно опасным. Она открыто высказывала такие взгляды, от которых за версту несло ревизионизмом, не проявляла смирения, ставила под сомнение непогрешимость «Ангки». Хуже того, на каждом привале и во время марша уверяла своих товарищей и конвоиров, что партия вступится за невинных людей и строго покарает изменников. Нуон Варин была женщиной образованной, твердой, начитанной и не собиралась мириться с преступлениями. Уже тогда, до окончания десятидневного пути в исправительную «коммуну», она была убеждена, что стала свидетельницей преступлений, а не случайного недоразумения. Конвоиры, темные, неграмотные парни из глухих деревень, вообще ничего в ее речах не понимали. Сотоварищи не скрывали страха и подозрений. Это были преимущественно семьи лонноловских офицеров, китайских и вьетнамских купцов, жены инженеров и чиновников. Эти люди тоже не понимали, что произошло в их стране, но от «красных кхмеров» они ничего другого и не ожидали.
Муж мадам Нуон Варин был врачом, выпускником французского университета. Во. Франции он и познакомился со своей будущей женой, окончившей курсы повышения квалификации преподавателей французского языка в «Альянс франсез». У них было трое детей: две дочери, в возрасте пяти и шести лет, и четырехлетний сын по имени Пьер. С того дня Нуон Варин ничего не знает об их судьбе. Нет надежды и на то, что жив муж. С точки зрения полпотовцев, он запятнан слишком многими грехами: общее образование, медицинское образование, свободно владеет иностранным языком, долгое пребывание в капиталистической стране, несомненная принадлежность к классово чуждой социальной группе. А дети? Неизвестно. Нуон Варин не теряет надежды, что они живы. Но няне было почти семьдесят лет, она неграмотная, не знала города, с трудом передвигалась. Не смогла бы позаботиться о детях, даже если ее выселили вместе с ними в «коммуну». А дети слишком малы, чтобы самим о себе позаботиться. Старшей девочке было бы теперь всего десять лет. Пьеру — семь с половиной. А ведь если бы Нуон Варин позволили тогда вернуться домой, дети могли бы быть при ней. Матери имели право брать с собою в «коммуну» детей до пяти, иногда даже до семи лет.
Первые месяцы в «коммуне» Пойпаэт были невыносимы. Нуон Варин получила самую худшую, четвертую категорию. Она думает, что подлежала уничтожению в первую очередь, спас же ее целый ряд случайностей.
Пойпаэт была одной из тех немногочисленных деревень в восточной части страны, откуда поначалу не выселили прежних жителей. Там находилась с семидесятых годов опорная база «красных кхмеров». Население, которое наполовину состояло из народности чамов, было признано заслуживающим доверия, у них был достаточно высокий уровень революционной сознательности. Это были честные люди, но ужасающе темные и бедные. Пришельцев из города им представили как опасных врагов народа, эксплуататоров и иностранных наемников, несущих прямую ответственность за все несчастья, которые обрушились на кампучийскую деревню за последние пятнадцать лет. Крестьяне из Пойпаэта не могли сочувствовать этим кровопийцам, и говорили они на другом языке, так что войти в контакт с ними было трудно. Они помогали кадровым работникам надзирать за новоприбывшими, следили за ними днем и ночью, доносили о каждом случае неподчинения. Бывало, конечно, что крестьянки подбрасывали иногда сушеную рыбину или горсть тапиоки. Но деревня сама еле могла прокормиться.
Голод поначалу ощущался так остро, что Нуон Варин не могла спать по ночам. Она получала сто граммов риса в день, один раз в месяц — яйцо, время от времени — миску прахока, крестьянской похлебки с соевыми макаронами, овощами и кусочками рыбы. Но чаще всего людям четвертой категории на кухне выдавали только восемьдесят граммов риса, и это было все. У нее начали выпадать волосы, кожа гноилась, десны кровоточили.
Рабочий день на рисовых полях в Пойпаэте был продолжительней, чем в других местах: с четырех утра и до половины восьмого вечера, с полуторачасовым перерывом на обед, который полагалось съедать в поле, не возвращаясь в помещение «коммуны». Через день работу заканчивали в пять часов, после чего начинались собрания по идейному перевоспитанию, которые часто затягивались до полуночи. Собрания проходили так: полпотовский комиссар, прохаживаясь среди сидевших на корточках жителей «коммуны», несколько раз зачитывал вслух учебную брошюрку «Ангки» на данный месяц. Неграмотные часовые следили, не сомкнутся ли у кого-нибудь усталые веки. Провинившихся немедля призывали к порядку.
Потом начиналась так называемая дискуссия. Она состояла из двух частей. В первой части обитатели «коммуны» должны были один за другим цитировать, по возможности ближе к тексту, тезисы только что прочитанной брошюрки. Вторая часть была посвящена критике и самокритике. Начинался, как выразилась Нуон Варин, «конкурс доносов». Чем яростней обвинял человек в лени или несознательности своих сотоварищей по несчастью, тем лучшую оценку получал он сам. Но этого было мало. Требовалось также как можно хуже говорить о себе, признаваться в дурных мыслях, заниматься самобичеванием, рассказывая собственную биографию, приписывать себе всевозможные прегрешения и проступки.
Быстрее всех овладели этим искусством китайцы. Уже через несколько недель они произносили целые поэмы самокритичного содержания, подбирали самые скверные ругательства в свой адрес, с жаром обвиняли себя в приверженности конфуцианству и в связях с империалистами. Самыми непокорными были вьетнамцы, которые всегда держались вместе и делали вид, что не понимают, о чем речь. Начальник «коммуны», злой, примитивный, тупой, терял самообладание, когда вьетнамцы, получив слово, глядели ему прямо в глаза и молчали. Это были, как правило, богатые купцы, образованные, повидавшие мир и не слишком восхищавшиеся тем, что происходило на их старой родине. Но в «коммуне» Пойпаэт они были твердыми, словно гранит как и их соотечественники по ту сторону границы.
Нуон Варин была, наверное, единственным человеком во всей «коммуне», которая на первых порах отнеслась к этим кошмарным молебнам с полной серьезностью. Шатаясь от голода и усталости, она вступала в споры с полпотовским комиссаром, задавала вопросы, пыталась мыслить. Со всей серьезностью и откровенностью она признала наличие пробелов и недостатков в своем сознании: в сущности, только здесь она увидела, как на самом деле живут крестьяне и какая пропасть отделяет жителей городов от остальной массы народа. Она искренне признавала физический труд ценным средством перевоспитания, но ставила под сомнение его изнуряющую чрезмерность и бесцельную суетню. Она не скрывала своих резких суждений о глуповатых чиновничьих женах, но осмелилась упрекать полпотовских кадровых работников в отступлении от революционного равенства, поскольку они жили отдельно, имели собственную кухню, причем далеко не бедную, а некоторые жили даже с семьями, в то время как среди новых жителей Пойпаэта не было ни одной супружеской пары. Нуон Варин требовала также, чтобы жители «коммуны» получали больше информации, прежде всего о своей «коммуне», ее хозяйстве, финансах и производственных планах, а также о жизни страны и мира. Она утверждала, что только таким путем простой народ, к которому она сама хочет принадлежать, сможет утвердить в себе революционное сознание. Ее слова для всех звучали загадочно. Она была женщиной весьма миловидной, можно сказать, красивой. Ее красноречие, интеллигентность и горячность были прямо-таки драматическим контрастом в сравнении с бесцветной и скучной жизнью «коммуны».
Но с середины 1976 года «коммуна» Пойпаэт превратилась в ад, и Нуон Варин перестала выступать на идейно-воспитательных собраниях.
Сменились начальник «коммуны» и почти все кадровые, работники. Старые жители, начавшие было ворчать по поводу голода и беззаконий режима, были выселены. В деревне расквартировали карательно-охранный взвод, состоявший из молодых ребят с ледяными глазами. Питание немного улучшилось, но в «коммуне» угнездился худший, чем голод, пришелец — страх.
Чуть ли не каждую ночь бесследно и навсегда исчезал кто-либо из жителей «коммуны». Только раз
Нуон Варин слышала выстрелы, а между тем число жителей начало таять на глазах. Никто еще не знал о новом использовании мотыг и американских саперных лопат, с которыми не расставались солдаты взвода охраны. Никто не добрался еще до края леса, куда каждую ночь уводили в полном молчании внезапно разбуженных людей. «Коммуна» в ужасе замерла. Люди перестали друг с другом разговаривать. У всех была третья или четвертая категория, и через несколько недель они поняли, что жить им осталось недолго. Бегство не входило в расчет: охранники сидели на дамбах с оружием наготове, отводили людей на полевые работы и обратно, тихо, как кошки, прохаживались ночью вокруг спален. Нуон Варин снова лишилась сна, ожидая по ночам, когда рука охранника отодвинет занавеску в общей спальне. В одну из ночей она заснула каменным сном. Утром, когда проснулась, на соседней койке не было молодой Куэй, китайской студентки из Пномпеня, с которой они иногда обменивались несколькими словами по-французски. Она больше не вернулась. Наверное, лежит около леса с размозженным черепом.
Нуон Варин решила не искать больше объяснений. Целыми днями она ни к кому не обращалась, пикировала на поле рассаду, ухаживала за свиньями, сушила буйволиный помет, таскала каучуковый хворост, рубила топориком кокосовые орехи. Рабочий день был продлен до пятнадцати часов. Воспитательные собрания происходили уже только раз в неделю. Начальник «коммуны» (комиссара уже не было) держал в руке автомат, направленный прямо на собравшихся, и зачитывал очередную брошюрку, а потом — список провинностей. Цитировал неосторожные слова, шепотом сказанные перед сном или в отхожем месте, перечислял тех, кто тайком разжег костер и сварил себе суп из бамбуковых побегов, предупреждал, что революционная власть не потерпит ревизионизма, буржуазного индивидуализма, а также капиталистического пути. Он, вероятно, не понимал этих терминов, но ярость, с которой он швырял их в лицо жителям «коммуны», заставляла каждого из них ждать самого худшего. Из 550 жителей, которые были в «коммуне» в 1975 году, осталось всего 300 человек, в их числе только четырнадцать мужчин. Не было уже ни одного вьетнамца и ни одной вьетнамки. Семьи лонноловских офицеров были уничтожены до последнего человека. Весной 1978 года Нуон Варин пришла к убеждению, что в Кампучии скоро останутся одни женщины и дети.
В феврале 1978 года расправы дошли до высшей своей точки: население Пойпаэта уменьшилось еще на 70 человек. Начальник официально заявил, что «коммуна» будет ликвидирована, так как вся провинция Кратьэх будет превращена в стратегический район. Нуон Варин знала, что дни ее сочтены. Но как раз в этот момент она заболела. Трудно сказать, что это была за болезнь: высокая температура, полный паралич тела, сыпь, состояние прострации и равнодушие к собственной судьбе. Пять дней Нуон Варин лежала в полусознании, одна в огромной женской спальне. В «коммуне» не было никого, буквально никого, кто разбирался хотя бы в лечении травами или в народной медицине.
Когда Нуон Варин вспоминает сегодня об этих годах, ей самой не верится, что она смогла это пережить. Целых три года она не держала в руках даже обрывка печатного текста. Ни разу не слышала радио, музыки и нормальной человеческой речи. Ничего, ровно ничего не знала о том, что происходит в Кампучии и в мире. Она не знала даже, что такое «Ангка» и каковы в действительности люди, которые навлекли на ее родину все эти беды. Три года кошмарного сна, голодного бреда, отчаяния и тоски по детям, такого невообразимого одиночества, что одиночная тюремная камера представлялась иногда освобождением.
Я спросил, была ли за эти три года в «коммуне» сочинена какая-нибудь песня, стихотворение, анекдот, может быть, поэма в прозе, в духе азиатской народной культуры… Ведь исключительные ситуации всегда, во всех культурах дают начало какому-нибудь самодеятельному творчеству.
Песня? Нет. Ничего подобного не было. Это трудно понять, надо самому пережить. Отупевшие от голода и изнеможения люди, которым каждую ночь угрожала смерть, затерявшиеся, разлученные со своими близкими, подвергнутые невообразимому психическому давлению, — могли ли такие люди сочинять песни?
29 апреля 1978 года около четырех часов утра (исполнилось три года, как Нуон Варин прибыла в исправительную «коммуну») оставшихся в живых жителей Пойпаэта разбудили треск выстрелов, взрывы гранат, шум боя. Нуон Варин не могла понять, кто и с какой целью напал на «коммуну». Она не знала, что существуют партизаны. Солдаты взвода охраны бросились к лесу, но один за другим полегли под автоматным огнем. За пятнадцать минут штрафная «коммуна» Пойпаэт получила свободу. Какой-то запыхавшийся офицер собрал на площади оставшихся в живых и сказал, что отныне здесь освобожденная зона. Кровавая клика Пол Пота — Иенг Сари никогда больше не будет убивать кхмерских патриотов, восстанавливаются свобода, демократия и справедливость. Обязанность каждого патриотически настроенного кхмера — вступить в ряды освободительной армии, помогать ей, приближать победу, которая уже недалека.
Нуон Варин отказалась присоединиться к освободительным отрядам. Не хотела оставаться в освобожденной зоне. Она не сомневалась, что, если полпотовцы возвратятся, жить ей останется в лучшем случае несколько минут. Вместе с уцелевшими женами чиновников и купцов она отправилась пешком в лагерь для беженцев в Бенсане. У нее не было сил брать на себя новые политические и моральные обязательства. Она сочла свою жизнь конченой и питала лишь одну надежду: может, удастся найти детей. О муже она не смела и думать.
И это, в сущности, все.
Нуон Варин так много рассказала о своей жизни, что чувствовала себя вправе задать и нам один вопрос. Она не знает, кто мы и что думаем о происходящем. Но не захотим ли мы откровенно ответить на один важный вопрос? Конечно, мы можем не отвечать, если это нам несподручно или мы по какой-то причине не захотим этого сделать. Речь идет вот о чем: видели ли мы в Кампучии вьетнамские войска?
Так я и думала, говорит Нуон Варин. Это надо было предвидеть. Полпотовцы затянули над нами стальную сеть, которой никто другой не сумел бы прорвать.
XCV. В интересной книге Адама Пашта «Страны улыбающегося Будды» я нашел цитату из книги французского историка Фино, который размышлял, как и многие его коллеги, о причинах падения кхмерской средневековой империи. Не так легко найти пример, чтобы столь высокоразвитое государство, могущественное, хорошо организованное, распалось, как карточный домик, после первого же удара иноземного захватчика, несравнимо слабейшего и хуже вооруженного.
«Не будет преувеличением сказать, — пишет Фино, — что к концу Средневековья все кхмерское крестьянство находилось в услужении богам. И можно сказать, что ярмо это не было легким. Поэтому, несомненно, народ Ангкора не проявил большой самоотверженности, чтобы защитить жадных богов, рабовладельцев и сборщиков податей. Ничто не говорит о том, что народ этот сопротивлялся нашествию. Возможно даже, воспринял его как избавление».
XCVI. Главный смысл нашей профессии в том, по-видимому, чтобы как можно реже выносить приговор и как можно точнее информировать. Scripta manent[42]. Но как быть, если информации друг другу противоречат? Где проходит граница, перейдя которую объективная информация внезапно превращается в пристрастную? Какого рода пристрастность является результатом благородного и разумного выбора, а какая пахнет приспособленчеством?
И самое главное: можно ли сдержать себя и не высказать своего мнения, когда слышишь такие рассказы, как в лагере Бенсан?
XCVII. Десятого февраля в четыре часа двадцать минут утра мы снова вылетели в Пномпень.
Город словно бы начал излечиваться от кладбищенской немоты. А может быть, нам показалось: на пустынных улицах по-прежнему никого не было. Пожалуй, лишь грузовики с солдатами, продовольствием и боеприпасами производили впечатление какой-то перемены. Солдат было несравнимо больше, чем четыре дня назад. Время от времени встречались полевые и зенитные орудия. У солдат были противотанковые гранаты, они несли ручные пулеметы и минометы, Город гораздо больше напоминал теперь линию фронта; его ошеломляющая пустота приобретала какое-то другое содержание, невольно ассоциировалась с европейским театром военных действий. Время от времени раздавались по-прежнему хорошо слышные далекие выстрелы.
Мы напились чаю — зеленого, горячего, живительного — и начали записывать сведения, которыми снабдил нас молодой человек из ведомства культуры. В Пномпене уже тысяча двести жителей. Работает небольшая электростанция, которая дает энергию для некоторых зданий в центре. Город интенсивно готовится к большому событию, которое произойдет через несколько дней.
Это хорошие новости. Сможем ли мы в связи с этим заночевать сегодня в Пномпене?
О нет, это исключено.
А почему? Если есть вода и электричество?
Да, но это лишь пробный пуск. Существует также проблема безопасности. Для долгого пребывания нет запаса продовольствия.
Нам не обязательно есть. Достаточно было бы одной питьевой воды.
О нет, мы не можем морить голодом товарищей из братских стран.
О голоде и речи нет. Просто мы хотим остаться на ночь. Ни один иностранец здесь еще не ночевал.
Нет, исключено. Кроме того, у нас запланирован сегодня выезд за город. Мы будем знакомиться с новой жизнью. В Прэахлеапе.
Где это?
В Прэахлеапе, шестьдесят километров отсюда. Только туда на машине нельзя проехать, придется плыть по реке.
Это не проблема. Можем и плыть.
ХСVIII. Я еще никогда не пользовался таким средством передвижения. Два катера, на которые нас погрузили, следовало бы, в сущности, назвать речными танками. Они были когда-то частью меконгской флотилии. Давали по сорок узлов в час, были крепкими, невероятно маневренными и вооруженными, как крепость. По два крупнокалиберных пулемета на корме и на носу. Зенитное орудие калибра 127 мм. Выше мостика — огневая позиция 68-миллиметровых орудий, обнесенная бронированными листами, с вращающейся башней, как у танка. В приемниках — патронные ленты. У орудия дежурил наводчик. Подносчик снарядов спокойно укладывал их в ровную симметричную пирамиду. Вьетнамская команда катера передвигалась ловко и бесшумно, словно всю жизнь провела на этой посудине. Это были молодые парни, не старше двадцати лет, в пропотевших мундирах бежевого цвета, легких шлемах и сандалиях. Их автоматы лежали на койках, вместе с небольшими узелками: одеяло, зеркальце, расческа, зубная щетка, какой-то иллюстрированный журнал на плохой бумаге.
Катера проехали мимо взорванного моста и начали проделывать какие-то не очень понятные маневры, Где-то здесь река Тонлесап впадает в Меконг.
Когда мы наконец выпутались из рукавов, заливов и ответвлений, я попросил Герхарда сфотографировать меня на фоне пулеметов. И я не устоял перед желанием покрасоваться. У Карлоса было уже около сорока подобных снимков: он хватался за спуск каждого орудия и пулемета, одалживал шлемы, целился из автомата, командовал катером, свешивался за борт.
Берега Меконга сплошь заросли кустарником. Зеленая стена по обеим сторонам реки была непроницаемой, немой, без всяких признаков жизни. Один опытный снайпер мог бы нас без труда перестрелять. Ширина Меконга не превышала в этом месте шестисот метров, а мы плыли посередине, правда, довольно быстро, но не так быстро, чтобы нас не взяли на прицел.
Не знаю, почему мне припомнился один из летних воскресных дней в годы оккупации. Я шел по Скерневицкой улице, и вдруг из-за угла Семиградской появился военный патруль с бляхами на груди. Они были злые и усталые, кивком подозвали меня. Какой это мог быть год? Сорок первый? Сорок второй? Может, именно тогда я впервые осознал, что жизнь — это цепь случайностей.
В начале двенадцатого мы доплыли до Прэахлеапа. Причала здесь никакого не было. Катера долго вертелись у отмели. В конце концов один из них дал полный назад и задел могучий остов чего-то похожего на речной крейсер. Это был подбитый, зарывшийся кормою в прибрежный песок бронекатер, по виду чуть похожий на старые бронепоезда времен первой мировой войны. Два мощных купола с 68-миллиметровыми орудиями, примерно двадцать пулеметов, симметрично расставленных по обоим бортам, толстосваренные броневые плиты на бортах, двадцатимиллиметровые брусья, защищающие от гранат в рукопашном бою. Я заглянул в сорванную башенку. У замка орудия лежала груда американских снарядов с взрывателями, Трудно сказать, кто, когда и с помощью чего сумел уничтожить это чудище. Даже в полном свете дня, бессильно лежа на боку, он походил на дракона, который вот-вот начнет изрыгать огонь.
Мутная, зеленая, маслянистая вода Меконга пошла волнами после прохода наших быстрых катеров, колыхала мертвый крейсер, разводила палубы. Кто-то внезапно пошатнулся, кто-то уронил дорогостоящую камеру. Мгновенно прекратился смех, даже Карлос стал серьезным. Минуту царил глупый, неожиданный, сверхъестественный ужас. В любой момент каждый из нас мог потерять равновесие и упасть, оказавшись между стальными обшивками плясавших на волнах катеров. Командир охраны приказал задержать спуск на берег, но, пока переводчики это растолковали, часть из нас была уже на суше. Остальные, поддавшись необъяснимому порыву, который в подобных ситуациях зачастую делает людей безрассудными, прыгали сломя голову с палубы на палубу, а потом, с двухметровой высоты, на горячий прибрежный песок.
XCIX. Деревня Прэахлеап является центром уезда Муккампуль провинции Кандаль. Звучит это гордо, но в день, когда мы сюда прибыли, в самом существовании деревни и уезда можно было в какой-то степени усомниться. На суше Прэахлеап отрезана от нормальных путей сообщения. Связи с левым берегом Меконга практически нет. Ближайшая деревня в шести километрах отсюда, а в этом климате шестикилометровое расстояние для пешехода может оказаться непреодолимым.
Десятого февраля здесь проживало сто двадцать семей, неизвестно каким образом существовавших. Сбор риса мог начаться не раньше, чем кончится сезон дождей, то есть в октябре. Армия могла доставлять продовольствие только по реке. Собственные запасы, те, что остались после распущенной «коммуны», подходили к концу. Мы пытались узнать, что едят жители деревни, кому принадлежат буйволы, безучастно жующие свой полуденный тростник, кто этот человек, упорно обстругивающий доски из пандануса допотопной брусовкой, чем занимаются в течение дня осовелые старухи, остриженные наголо, сидящие на корточках перед зданием уездного совета. Две страницы блокнота я заполнил объяснениями, которые, в сущности, ничего не объясняли.
Примечательностью Прэахлеапа является комплекс суперсовременных бунгало, светлый и стройный ряд которых высится на берегу Меконга. Это был построенный американцами филиал сельскохозяйственного университета в Пномпене, а вместе с тем опытная станция по растениеводству. Именно здесь испытывались те импортные сорта высокоурожайного риса, нечувствительного к действию муссонного цикла, дающего колос несколько раз в год безотносительно к уровню обводнения. Американские специалисты заложили плантации пряностей и чая, посадили карликовые каучуковые деревья, дающие в три раза больше латекса, завели поле сахарного тростника, у которого содержание сахарозы было в двадцать раз больше, чем у обычного местного тростника. Опытная станция была престижным учебным заведением, так как давала молодым кхмерам доходную и повсеместно уважаемую специальность. Говорят, что кандидатов здесь всегда было втрое больше, чем мест, потому что обучение было бесплатным: Фонд Форда и Государственный департамент оплачивали все расходы по содержанию филиала.
Всего этого уже нет. Аудитории превращены в хлева для буйволов. До сих пор там полно помета, грязные подстилки, свалявшаяся шерсть. Привезенные из-за океана сельскохозяйственные машины стащили на один из многочисленных двориков, облили бензином и сожгли. До сих пор можно видеть обуглившееся железо, полопавшиеся от жары приводные цепи и искривленные колеса. Мощный генератор фирмы «Дженерал электрик», который снабжал когда-то электроэнергией сельскохозяйственный центр и прилегающую к нему деревню, уничтожен полностью и с несомненным знанием дела. Кожух генератора, по-видимому, был подорван гранатой, брошенной в вентиляционное отверстие. Статор и ротор были демонтированы, а это непростое дело, если принять во внимание их размеры и необходимость применения гигантских ключей с дюймовой, а не метрической резьбой. Много деталей поменьше сбросили в Меконг, о чем свидетельствовала тропа, на которой валялись прокладки, пружинки, шплинты. У стоящего неподалеку трансформатора основание разорвано взрывом гранаты, изоляторы разбиты молотком, остатки обмотки залиты маслом. Остатки, потому что большая часть обмотки была разбросана вокруг.
Кто хоть раз видел внутренность большого сетевого трансформатора, тот поймет, что извлечь из него обмотку без применения намоточной машины можно было, лишь затратив много дней и используя большое число людей одновременно.
«Новая жизнь» в деревне Прэахлеап выразилась в том, что в одном из приведенных в порядок зданий бывшей сельскохозяйственной школы начала работать первая сельская амбулатория. С политической и идеологической точки зрения было необходимо, чтобы мы засвидетельствовали ее существование.
Мы осмотрели ее молча и без комментариев.
Трое молодых фельдшеров, в срочном порядке подготовленных вьетнамцами, ощупывали вздувшиеся детские животики, сосредоточенно осматривали горла крестьян и перевязывали пурпурные, сочащиеся гноем карбункулы. В шкафу, который стоял в приемной, было около пятнадцати ампул американского лекарства для разного рода инъекций с просроченной годностью, зубоврачебные щипцы, шприц со сломанным поршнем и заржавелый стетоскоп. В соседнем помещении на голых досках лежали рожающие и беременные женщины, дети-скелеты, умирающие старики.
В ста метрах от «новой жизни» находилось помещение уездного совета, которое охранялось четырьмя молодыми кхмерскими солдатами с автоматами наизготовку. Я вышел из амбулатории через пять минут — что еще, в сущности, я могу написать на эту тему? — и, не дожидаясь коллег, начал беседу с руководителями уезда.
Председателем народного совета уезда Муккампуль был относительно молодой, тридцати лет, офицер по имени Тан Кхим Тай. С семнадцати лет он был связан с партизанским движением «красных кхмеров», дослужился до довольно значительных чинов и должностей, но просит об этом не писать. Он порвал с кровавой кликой Пол Пота — Иенг Сари только в 1977 году. Он должен был раньше понять, что преступная клика Пол Пота — Иенг Сари изменила революции и идеям марксизма-ленинизма. Тан Кхйм Тай не скрывает, что задачи, которые поставила перед ним партия в уезде Муккампуль, невероятно трудны. Что ни день, сюда прибывают из ссылки новые люди, требуют продовольствия, работы и жилья, а мешки, к сожалению, совершенно пусты. Но это ничего. Народ свободной Кампучии преодолеет все трудности, останется верен идеалам революции, восстановит свою страну, сделает ее прекрасной и цветущей.
Я добросовестно записал это в блокнот и спросил председателя, почему он ушел от «красных кхмеров», а столько других офицеров до сих пор остается с Пол Потом.
Переводчица не без колебаний перевела мой вопрос на вьетнамский язык. Кхмерский переводчик незаметно поморщился, но шепотом, чтобы не услышал никто из стоящих рядом, перевел вопрос на кхмерский язык.
Председатель не смутился. Кровавая клика Пол Пота — Иенг Сари стала орудием пекинских гегемонистов, она совершила по отношению к народу Кампучии такие преступления, каких не допускал никогда ни один из чужеземных захватчиков. Обязанность каждого патриота — разоблачать кровавую клику Пол Пота — Иенг Сари и присоединиться к освободительным силам. Другое дело, что истинная сущность кровавой клики Пол Пота — Иенг Сари раскрылась лишь через некоторое время. Многие честные товарищи заблуждались, не понимали существа политики этих китайских прислужников и позволяли вводить себя в обман при помощи лживых лозунгов.
Ну хорошо, а как же те, кто по-прежнему поддерживает Пол Пота и стреляет в солдат ЕФНСК, по-прежнему не сознает всей тяжести совершавшихся здесь преступлений?
Председатель не может говорить за изменников революции.
Есть ли в уезде Муккампуль недобитые полпотовцы?
Нет. Вернее, есть, но очень немного… В сущности говоря, их совсем нет.
Председатель ушел из полпотовской армии в джунгли? Был ли он во Вьетнаме?
Председатель никогда не был во Вьетнаме.
Остались ли в Кампучии классовые враги?
В Кампучии нет классовых врагов, потому что они все истреблены кликой Пол Пота — Иенг Сари. Главная задача народной власти — возвратить страну к жизни.
Заместитель председателя народного совета уезда Муккампуль — высокий седой мужчина, лицо которого с первой минуты привлекло мое внимание. Этот человек был похож на пророка или апостола с картины Эль Греко: торчащие, коротко подстриженные волосы, глубокие борозды около рта, мука и страх в каждой морщине. Большие, горящие, слезящиеся орехово-карие глаза. Я с удивлением узнал, что ему только сорок восемь лет. На вид было все семьдесят.
Его зовут Ким Тень И. До 1975 года он был старшим инспектором американского нефтеконцерна «Эссо» в Пномпене и трех близлежащих провинциях, в том числе и в провинции Кандаль. Он принадлежал к сравнительно небольшой группе хорошо оплачиваемых и пользовавшихся доверием американцев местных служащих.
Правильно ли я понял? Бывший служащий американского концерна — ныне заместитель бывшего офицера «красных кхмеров»? Ведь пять лет тому назад эти люди не могли не быть смертельными врагами?
Нет, никакой ошибки. Таков на самом деле классовый состав новой власти в уезде Муккомпуль.
Ким Тень И великолепно говорит по-английски. Мне захотелось побольше узнать об этом человеке.
С. Вместе со всей семьей, которая состояла из жены, четырех сыновей и престарелого тестя, Ким был выброшен из своей квартиры в Пномпене 20 апреля 1975 года в три часа утра. Командир патруля дал им пять минут, чтобы освободить квартиру, и предупредил, что в случае опоздания откроет автоматный огонь. Им не позволили взять с собой ничего, буквально ничего: ни часов, ни смены белья, ни даже пачки сигарет. На сборном пункте жена, трое младших сыновей и тесть были отделены и высланы в (удаленные «коммуны». Только сейчас, после освобождения, Ким узнал, что жена умерла во время перехода (у нее было больное сердце), а все трое сыновей были при разных обстоятельствах убиты полпотовцами в трех разных «коммунах» провинций Баттамбанг и Кампонгтхом.
Ким и его старший сын, двадцати четырех лет, были арестованы, так как полпотовская разведка располагала исчерпывающим досье на них, и доставлены во временную тюрьму в здании французского лицея. Короткий допрос выявил бездну грехов, которые нельзя было отрицать: работа на заграничных капиталистов, знание двух иностранных языков, роскошная вилла, автомашина, а к тому же еще катер, счет в банке и небольшое владение около озера Тонлесап. Сперва объявили, что Ким и его старший сын будут отправлены в штрафную «коммуну», но потом, как всегда бывало у полпотовцев, что-то внезапно изменилось.
Пятого мая Кима и его сына погнали в составе колонны из сорока человек в город Прейвенг. Их сотоварищами были исключительно офицеры армии Лон Нола, директора банков, сотрудники иностранных посольств, какой-то журналист. Люди вне закона и милосердия. Один раз в день они получали стакан воды и горсть сырого риса. За четыре дня форсированного марша семь человек умерли, двоих застрелили конвоиры.
Девятого мая колонна добралась до Прейвенга и была отправлена в начальную школу на окраине города, которую в спешном порядке переоборудовали под тюрьму для опасных политических преступников. Самый просторный из классов был поделен на шесть прямоугольных боксов, похожих на стойла для скота. Между стенами класса был вделан на высоте пяти сантиметров от пола стальной стержень диаметром 30 миллиметров, в трех местах поддерживаемый подпорками. Концы его были забетонированы в стене. Я видел позже эту школу, трогал этот стержень и знаю, что нет человека, которому удалось бы его выломать или по крайней мере расшатать.
Заключенным приказали сесть на корточки. Охранники принесли корзину с горячим углем и большой кузнечный молот. Заключенных поделили на пары и сковали друг с другом таким образом, что правая рука одного была прикована к левой руке другого. Заковывали, конечно, в раскаленное железо. Это было четыре года назад, но у Ким Тень И и сейчас на сгибе правой руки глубоко выжженный шрам, из-под которого просвечивает затянутая розовой кожей кость. В нескольких местах процесс заживления еще не закончился.
Затем левые ноги заключенных были прикованы кандалами к стержню, торчащему из пола. Неизвестно, откуда полпотовцы взяли такое количество кандалов, запиравшихся на висячий замок. Но это и не имело значения, так как комендант после того, как заключенных заковали, со смехом выбросил все ключи за окно.
Два раза в день заключенным подавали миску с водой, из которой можно было только лакать по-собачьи, потому что одной свободной рукой миску трудно было удержать. Раз в день охранник приносил миску с заплесневелым рисом, кусочками жира, в котором кишели черви, и горстью острого перца, который возбуждает жажду. Тут же удовлетворялись и естественные потребности. Вскоре одежда, в которой они вышли из дома, превратилась в вонючие прелые лохмотья. На ягодицах появились пролежни. Насекомые безнаказанно ползали по их телам, ящерицы и москиты день ото дня наглели. Спустя две недели кожа у сына начала гноиться. От него шел настолько ужасный запах, что Ким несколько раз терял сознание и, падая, увлекал сына за собою на пол. Потом парень стал терять силы, непроизвольно опирался на закованную руку отца, который ничем не мог ему помочь, но каждым движением причинял дополнительную боль. Самые ужасные мучения начинались ночью. Спать в столь непривычном положении поначалу было совершенно невозможно, кандалы при каждой попытке расправить мышцы больно впивались в тело и тянули к стержню, нельзя было шевельнуть скованнымц руками, не дергая при этом замлевших ног.
В этих условиях Ким Тень И вместе со своим старшим сыном провел сто восемь дней.
28 февраля сменился начальник специальной тюрьмы в Прейвенге. На следующий день — по причинам, которых Ким никогда не мог понять, — некоторым из заключенных, в том числе Киму и его сыну, были вручены металлические пилки, чтобы они перепилили кандалы. Это заняло два дня и ночь, потому что каждый мог пользоваться только одной рукой, а железо хорошо закалилось. Когда на третий день утром цепи около стержня лопнули, обнаружилось, что оба они не умеют стоять. Отвыкли от такой позиции, позвоночник у обоих деформировался. Прошло еще три дня, прежде чем они сумели собственными силами добраться до стены и сделать несколько шагов.
В тот же самый день в школьный зал вошел новый начальник в сопровождении двух палачей с мотыгами в руках. Он на минуту задержался около сына Кима и указал на него пальцем. Палачи набросились на парня и под руки вывели из зала. Через несколько минут Ким услышал пронзительный крик сына и глухой звук падающего тела. На следующий день он увидел неглубокий ров, где его сын был похоронен.
Кима, поминутно шатавшегося и падавшего, включили в колонну из 120 человек, собранных из различных тюрем Прейвенга. Почти все они выглядели точно так же. Ким сам не знает, как он выдержал этот очередной марш смерти. На новое место поселения, которое находилось в 120 километрах от Прейвенга, прибыло 7 сентября всего 40 человек. Остальные погибли по дороге от истощения и гноящихся ран или были убиты конвоирами.
Рассказ Кима о жизни в «коммуне» Прэахлеап не слишком отличается от всех других рассказов, которые я слышал от людей четвертой категории. Видимо, только исключительная физическая выносливость спасла Кима. Но под конец 1976 года у него стали выпадать зубы, опухло тело, ноги отказывались служить. Временами он терял сознание от невыносимой боли в позвоночнике. Ким был убежден, что скоро умрет. Он не сомневался, что власть полпотовцев будет существовать вечно, не рассчитывал ни на какие перемены. Его душа, как он говорит, была уже по ту сторону.
В начале мая 1977 года по «коммуне» разошлась весть, что все, кто имеет четвертую категорию, будут ликвидированы в течение ближайших недель. Действительно, однажды ночью из спальни вывели двоих людей, которые больше уже не вернулись. Один из них был буддийским монахом. Потом еще двоих. И еще. Спальня начала пустеть.
18 мая во время перерыва для приема пищи с Кимом произошло что-то вроде голодной галлюцинации. Обезумев от голода и боли, он пошел прямо вперед, на глазах охранника, в редкие заросли на краю рисового поля. Никто на это не реагировал; почему — неизвестно, хотя уход Кима был замечен несколькими лицами, в том числе и стражей. Видимо, решили, что Ким хочет покончить жизнь самоубийством, потому что при нем не было никакого узелка, а идти сквозь джунгли без спичек и запаса продовольствия никто в здравом уме не решится.
Ким сам не знает, как долго он шел вслепую сквозь кустарники, а потом сквозь джунгли. Не стоит рассказывать, как произошла встреча с другими беглецами, которые что есть духу удирали из взбунтовавшейся соседней «коммуны». Достаточно сказать, что бывший инспектор фирмы «Эссо» стал командиром небольшой партизанской группы. Через неделю была проведена первая боевая операция: голыми руками задушили охранника в ближайшей «коммуне». Так группа добыла первый автомат и небольшой запас патронов. В ноябре 1978 года, через полтора года, после бегства Кима из «коммуны» Прэахлеап, партизанский отряд насчитывал уже триста человек. Во главе его стал бывший полпотовский офицер, имевший опыт партизанской борьбы. В джунглях была создана база, намечен эвакуационный путь во Вьетнам, собран запас продовольствия. Два раза дело дошло до стычек с преследовавшими их полпотовскими бригадами, один раз — до случайной перестрелки с отрядом местной самообороны на вьетнамской стороне границы. Отряд, в котором Ким Тень И вел свою частную войну с полпотовцами, состоял из бойцов самого разного происхождения и взглядов.
Согласно европейской терминологии, если б она сюда подходила, в отряде были люди от крайне правых до крайне левых. Но о политике разговаривали редко. Задача была в том, чтобы выжить и помочь выжить другим. Сегодня бывший инспектор «Эссо» придерживается мнения, что восстановление страны важнее всех политических различий. Богатых и счастливых тут и так никогда больше не будет. Может быть, через два поколения. Поэтому Ким принял пост заместителя председателя от новой власти.
Я посмотрел в слезящиеся глаза Кима (трудно сказать, что это: конъюнктивит или непрекращающееся следствие нервного напряжения), задержался взглядом на его посеревшей гимнастерке, еще раз зафиксировал в памяти рану на руке, сбившиеся седые волосы и смешные часы на цепочке. Я спросил, может ли он сказать, сколько людей было убито на его глазах.
Да, это нетрудно. Он был свидетелем убийства восемнадцати человек, в том числе собственного сына. Он присутствовал при смерти примерно ста человек, которые погибли на марше от голода, истощения, заражения ступней, ран, болезней, которых никто не лечил. Он лично знал не меньше ста восьмидесяти, а может быть, и двухсот человек, о которых можно сказать наверняка, что они уничтожены полпотовцами.
Считает ли он, что названное нам число — два миллиона жертв — соответствует действительности?
Эта цифра слишком занижена. Ведь что ни день обнаруживаются новые могилы. Не далее как вчера Ким побывал в ближайшей деревне, где найдено массовое захоронение, в котором, как предполагают, около тысячи трупов. В одной только провинции Кратьэх насчитали пока что свыше пятидесяти тысяч убитых. Да, только таких, чьи тела или кости достаточно хорошо сохранились, чтобы их можно было сосчитать. Всего только месяц, как начали считать. А провинций в Кампучии девятнадцать. А как обстояло дело в северозападных провинциях, где, как сообщают, были настоящие фабрики смерти?
Не досадно ли с таким превосходным знанием английского языка работать в уезде, когда страна ощущает столь острую нехватку квалифицированных кадров?
Нет. Ким никогда больше не вернется в большой город. До конца жизни ноги его не будет в Пномпене.
CI–CX
CI. Мы провели в Прэахлеапе еще три часа, записывая в блокноты все более невероятные рассказы. Я разговаривал с акушеркой по имени Дом Пхонь, женой каменщика, у которой полпотовцы уничтожили всю семью из одиннадцати человек, в том числе четырех сыновей и двух дочерей. Я разговаривал с молодым солдатом, который полтора года назад собственными глазами видел, как в деревне Контуа зарывали в землю полуживых людей, с разбитыми черепами, иногда еще не потерявших сознание; это продолжалось целый день, и крики людей, которых зарывали, солдату слышатся до сих пор. Я разговаривал с женщиной, которую избили палками до потери сознания, когда обнаружилось, что она беременна. Я разговаривал по-русски с молодой балериной Ким Хем Ванна, которая пять лет училась в московской балетной школе и возвратилась в Кампучию за неделю перед взятием Пномпеня «красными кхмерами». Она ни разу не успела выступить перед публикой, потому что полпотовцы запретили всякое художественное творчество.
СII.
И в этой странной стране, Как мог ты ожидать, Вдруг запретили петь И запретили читать. И только черный ворон На небе маячил, Когда в кругу тупоголовых шел Его высочество Палач.СIII. К концу дня вода в Меконге приобрела цвет морской волны, его заросшие берега потемнели, команда катера вглядывалась в глухую стену зелени, держа автоматы наготове. Наверное, вся деревня Прэахлеап вышла на высокую скалу, чтобы с нами попрощаться. Дети перебрасывались пустыми гильзами, кто-то кинул в нашу сторону букет азалий, женщины сняли с плеч коромысла с ведрами, беспрерывно пел взволнованный петух, нам махали, нас приветствовали, поднимая руки.
Я подумал: странная у меня профессия. Кинематографисты, если хотят этого и хоть немного разбираются в материи нашего мира, могут запечатлеть улетучивающуюся атмосферу, воспроизвести неповторимую единичность сцен, лиц, жестов, фона. Мне остались только слова. Что можно выразить словами? Вот я побывал в отрезанной от мира, окровавленной, умирающей от голода деревне в провинции Кратьэх, о которой никогда прежде не слыхал; я добросовестно записал больше десяти человеческих биографий, являющихся частичкой мировой истории. А потом вернусь домой, буду глотать ноотропил, курить одну сигарету за другой, выстукивать все это на машинке, заботясь о том, как расставить запятые и причастия, подобрать подходящие слова. Смешное занятие. Потом люди купят эту книгу, будут читать ее перед сном в удобной кровати, во время скучного путешествия, может быть, лежа на песчаном пляже. А кое-кто испестрит поля сердитыми замечаниями, ибо не написана еще такая книга, которая не вызвала бы в ком-нибудь беспричинного раздражения или злости. А некоторые просто зевнут и погасят свет.
Увидят ли они когда-нибудь жителей деревни Прэахлеап, которые стоят на высокой скале и грустно смотрят на удаляющиеся катера, привозившие к ним посланцев другого мира?
Я хотел бы помешать читателям этой книги спокойно проспать хотя бы одну ночь. Я хотел бы, чтобы они бросили ее оземь, назвали бы меня фанатичным маньяком или закричали, что я все это выдумал. Я хотел бы, чтобы из-за написанного мною они серьезно поссорились бы с кем-нибудь у себя на работе или дома за ужином. Но боюсь, что ничего подобного не произойдет; эпоха слов, которые волновали человеческие сердца, подошла к концу.
CIV. На опустевших улицах Пномпеня среди карабкающихся по стенам малиново-красных цветов и бледных вьюнков, между слепыми окнами и мертвыми аттиками немых домов развешены красные транспаранты с надписями на кхмерском и вьетнамском языках. Это провозглашение дружбы двух народов, призывы к борьбе за свободу и независимость, прославление победоносной армии-освободительницы. В ближайшее время в столицу Кампучии прибудет премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Ван Донг, чтобы подписать договор о дружбе и взаимной помощи между обеими странами. Солдаты в мягких кепках китайского покроя ловко взбираются по лестницам и стволам гинкго, покрикивают, шутят, их юношеские голоса разносятся далеко над каньонами опустевших, замусоренных улиц.
CV. «Нет ничего более бесплодного и недопустимого, чем посвятить себя интересам личности или какого-либо незначительного меньшинства. (…) Универсальная мораль, которая якобы перешагивает классовые границы, — это не что иное, как вздорный обман, это такая «мораль», которая служит лишь защите эксплуататорского меньшинства» (Лю Шаоци. «Как стать хорошим коммунистом». Пекин, 1962. Цитирую по изданию на немецком языке).
CVI. «Три раза в день я произвожу суд над самим собой. Как отесывание и опиливание придают форму драгоценному камню, шлифовка и полировка придают ему блеск, так и человек должен стремиться посредством беспрерывного труда к красоте и внутреннему совершенству» (цитата из Конфуция, которую приводит Лю Шаоци на 32 странице своей книги).
CVII. Одиннадцатого февраля мы побили собственный рекорд: выехали из Хошимина в половине третьего ночи длинной колонной вездеходов в сопровождении усиленной, хорошо вооруженной охраны. Перед нами было 500 километров пути. Целью нашего путешествия был на этот раз кампучийский город Прейвенг, столица провинции того же названия, лежащий на восточном берегу Меконга.
Будем ли мы в Прейвенге знакомиться с новой жизнью?
Нет. Скорее наоборот. Там обнаружены новые массовые захоронения, мы их должны обязательно увидеть.
CVIII. Последние пятьдесят километров перед Прейвенгом были прямо-таки невыносимы. Вездеходы каждую минуту зарывались капотами в глубокие рытвины на шоссе, объезды тянулись многие километры по полному бездорожью, в тучах песка или в густых зарослях; задыхаясь и хрипя от напряжения, машины карабкались на сыпучие холмы, настолько отвесные, что подчас не помогало даже включение переднего, ведущего моста.
Поймы в среднем течении Меконга — это, по всей вероятности, самые дикие места Индокитая. Это плиоценовый пейзаж, это декорация к пьесе о каких-то доисторических катаклизмах. Купы бамбуковых деревьев посреди сумрачных коварных озер; песчаные холмы — и тут же душные испарения лугов, на которых растут лотос и водяной гиацинт; какие-то невообразимые овраги, расположенные ниже уровня прилегающих к ним топей и болот, величественные фиговые деревья, которые сплелись в вечном объятии с каучуковыми деревьями и пальмами. На каждом отрезке пути, за каждым поворотом эта шизофрения природы все больше усиливалась: появлялись рубиновые стены каких-то непонятных цветов, огромных, как кардинальские шляпы, мелькали фиолетовые полосы будлей, желтые пятна гелиотропа, бледно-зеленые скопища диких орхидей. Ручьи текли по пустыням, черные болота взбирались на горные стоки. Если где-то в этих поймах затаились полпотовцы и если они продержатся здесь в течение ближайшего сезона дождей, их придется искать еще десять лет. Нужно не меньше дивизии воздушной кавалерии на каждый квадратный километр этой местности, чтобы обнаружить их убежища. На дороге номер 15 мы не встретили ни одной живой души, ни одной крестьянской упряжки. Здесь жили только солнце, бабочки и птицы. Но мы не слышали и никаких выстрелов. Один только раз с очень далекого расстояния донесся звук огромного глухого взрыва продолжительностью в две-три секунды. Так взлетают на воздух крупные склады боеприпасов или цистерны с жидким топливом.
CIХ. Мы въехали в Прейвенг. Но вряд ли можно употреблять это название. Города вообще нет. Он не существует. Надо зачеркнуть его название на карте Индокитая и на карте мира. Двадцать две тысячи жителей Прейвенга уничтожены все до единого, по причинам, которые никому не известны. А сам город почти целиком поглотили джунгли.
СХ. Я возмутился, когда нам в дороге об этом рассказали. О преступлениях полпотовцев мне известно достаточно много, но должны же быть какие-то границы. Нельзя убить город до такой степени, чтобы его пришлось навсегда стереть с карты.
CXI–CXX
CXI. И все-таки это была правда. Прейвенга нет. Я никогда не видел домов, поглощенных столь жадно и беспощадно ошалевшей растительностью джунглей. Может быть, сказалась близость поймы Меконга с ее жарким, плодородным микроклиматом, может, полное отсутствие людей и животных в течение трех сезонов дождей, а может, какая-то мстительность оскорбленной природы… Это Иероним Босх и Теофиль Оцепка[43], «таможенник» Руссо[44] и Нико Пиросманишвили, сюрреалисты и пуантилисты[45] — все одновременно. Дверь, выломанная толстыми ветвями фигового дерева; дикий банан, растущий из окна второго этажа; стройные побеги бамбука на крыше трехэтажного дома; небольшой куст, похожий на драцену, разваливший на куски чугунную ограду вокруг богатой виллы; плоды хлебного дерева, гроздьями торчащие из окон автомашины; миллионы километров лиан, густой, жесткой сетью опутавшие целые кварталы еще белеющих домов; тротуары и мостовые, распаханные, раскореженные, смятые ползущими под ними корнями. Роща молодых палисандровых деревьев на террасах и лестницах какого-то дворца. Вьюнки аквамаринового цвета, оплетающие плотным слоем фонарный столб. Изумрудная трава, выросшая на виднеющейся сквозь окно ресторанной стойке. Наверное, ветер разносил по воздуху почву и зародыши растений, муссоны питали их водой, плодородный гумус поднимался вверх, влекомый прочно сплетенными и сбитыми корнями. Здесь снова был разыгран спектакль по сценарию Хоймара фон Дитфурта[46], свершились события из новой Книги Бытия, воцарился юрский период, кошмарное чудо творения. Еще немного — и на улицах Прейвенга появились бы покрытые чешуей тела огромных пресмыкающихся с крошечными мозгами, затем волосатые обезьяны, которым понадобится десять тысяч лет, чтобы изобрести огонь, и следующие десять тысяч, чтобы изобрести огнестрельное оружие, мелинит и напалм.
СХII. В какой-то момент сквозь темную и дурманящую зеленую стену промелькнуло что-то белое, блестящее, граничащее с обманом зрения. Мы остановили машину и направились туда, раздвигая лианы. Это был склад для временного хранения новых, только с фабрики, автомашин. В ближнем ряду стояли четыре белых «мерседеса-280 SEL», с обивкой цвета бургундского вина и слоновой кости, с автоматической коробкой скоростей и тонированными стеклами. Они проехали по пять-семь километров. В двух кабинах торчали ключи. За ними сверкали новенькие красного цвета «пежо» и, кажется, «вольво», но проверить это было уже невозможно. Лианы забрались под подвеску мотора, прогрызли стенки камеры сгорания и наполнили внутренность автомобилей густым, плотным, вонючим месивом. Вслед за лианами двинулись на штурм побеги каких-то кустарников, похожих на калину, вьюнки, омела, лишайники, желтые мхи, маленькие цветочки с лепестками цвета киновари. Автомобили были засосаны и прикованы к месту так надежно, словно вросли в эту горячую землю, словно были чашечками чудовищных кувшинок или раковинами гигантских моллюсков на дне лесного моря.
СХIII. Из блокнота. Приветствует глава нар. — рев. совета провинции Прейвенг. (Во дворе шеренга вытянувшихся девушек, автоматы без дисков, неисправные.) Это интеллигентный, симпатичный человек. Говорит по существу. Только начинают брать власть, провинция П. страшно разорена, бои, мало людей. Полпотовцы уничтожили 40 % населения, то есть от 120 до 160 тыс., наибольшие потери по всей стране. (Проверить!) «Нашу прекрасную Кампучию они превратили в одну огромную могилу». Практически уничтожили все созданное за сто лет. Полностью уничтожили культуру, нет ни одной книги, школы. Будем работать годы, прежде чем К. вернется к прежнему состоянию, а где прогресс? К. была бедна, очень бедна, именно здесь это произошло. Резко о китайцах: враги народов Азии. Империалисты. (Так говорит.) Если б не китайцы, полпотовцы не могли бы держаться; он сам участвовал в восстании, знает, сколько восстаний было. (Сколько? Когда?) Интересно, Записать позже: ему самому не дожить до цветущей и счастливой Кампучии, но все хотят восстановления, чтобы следующее поколение могло жить лучше. Надо держаться правильной революционной линии, чтобы это осуществить. Значит — мыслить. Видно, что неглупый человек. Говорит без бумажки. 38? 40? У них даже больные идут на работу. Даже изможденные от голода. Важнейш. проблема: лекарства, перевязочные средства. Не буду об этом писать, сразу же поднимут шум: у нас тоже нет. У человека одна, жизнь, каждому надо лечиться. Чертова жара. Девушки красивые, рослые.
CXIV. Сквозь лианы, траву, бурьян, едва прикасаясь колесами к рассыпающемуся асфальту главной улицы, пробираясь под нависающими шапками бородатых фиговых и мангровых деревьев, мы ехали на окраину бывшего города, чтобы увидеть школу, которая была превращена в тюрьму. Именно здесь провел сто восемь дней Ким Тень И.
Здание бывшей школы расположено в восьмидесяти метрах от мостовой исчезнувшей улицы, но, чтобы пройти это расстояние, понадобилось почти пять минут. Пришлось продираться сквозь двухметровые гребенчатые листья диких бананов, сквозь колючую траву, похожую на аир, сквозь кудрявый, ветвистый кустарник высотой до колена.
Школьный зал выглядел именно так, как его описал Ким. Шесть метров в ширину, пятнадцать в длину. От стены до стены идут восемь накрепко вделанных толстых стальных стержней. На полу рваные мешки из-под портландского цемента американского производства, его использовали для бетонирования. Двери и окна распахнуты с обеих сторон. На полу жестяные миски, тряпки, гнилые подошвы. И пятьдесят четыре пары железных кандалов: я пересчитал, чтобы установить пропускную способность специальной тюрьмы. Все они выкованы вручную из прутьев строительной арматуры. На некоторых действительно следы пилы. В помещении валялись мотки колючей проволоки. В Кампучии она еще никогда не производилась.
В зале царила мертвая раскаленная тишина, прерываемая только щебетом птиц и жужжанием ос.
Через одну из дверей я вышел на залитый солнцем двор и в первую минуту не поверил глазам. Передо мной лежали, один возле другого, четырнадцать человеческих черепов. В двух виднелись отверстия диаметром полтора сантиметра и идущие лучами трещины. Потом я заметил, что рядом лежат берцовые и тазобедренные кости, ключицы, лопатки. Я не мог ни схватиться за фотоаппарат, ни сделать шаг вперед: остолбенев, глядел я на это кладбище. Оно не выглядело ужасно или отталкивающе. Трава смягчала зрелище посеревших тазобедренных костей и тонких коричневых ребер. Я наклонился над черепом: в нем была трещина над надбровной дугой, — а рядом лежали две кости предплечья, связанные колючей проволокой.
Я сразу потерял интерес к чему-либо иному, двинулся вперед по запущенному участку, поросшему высохшей в этом месте травой. На каждом шагу попадались целые скелеты с раскинутыми руками, черепа глазницами к земле, отдельные тазовые и берцовые кости с обрывками тряпья, опять проломленные черепа, рядом челюсти с белыми ровными зубами. Я решил подсчитать все это, потому что по опыту знаю, что никакое описание, если оно не подкреплено фактами, не отвечает требованиям журналистской работы; после сорокового черепа я бросил подсчет: не мог сообразить — считать скелет человека без головы или не считать. И не мог решить, как быть с пятью связанными нейлоновым шнуром костями, так как их должно было быть шесть, да и лежали они отдельно, между корнями какого-то дерева; я видел черепа, лежавшие между ребрами или втиснутые в полукруглые чаши тазовых костей. Видимо, трупы этих людей растащили звери и муссонные ливни перенесли еще дальше. Я не знал, как назвать место, по которому ходил, и отмечал в памяти лишь новые черепа.
Но это было только начало.
Позади прежней школы когда-то были, по-видимому, огороды, а возможно и пастбище. Вся эта территория была теперь неузнаваема, заросла буйной зеленью. Еще можно было разглядеть десятки глиняных сосудов, в которых здесь держат воду для полива или корм для скота. Высота их около полутора метров, а диаметр у горла не более восьмидесяти сантиметров. Я заглянул в первый встретившийся на моем пути: он был доверху наполнен костями, а поверх лежал череп. Во втором то же самое. И в третьем. В пятом. В одиннадцатом. Сколько трупов могло войти в один сосуд? Три? Четыре? Жители Кампучии, как правило, невысокого роста, после смерти их тела, наверное, уменьшались. Но кто их сюда засовывал, впихивал, ведь сосуды у горла поуже, а к середине расширялись? Это не могло быть простое механическое действие, это надо было как-то наладить. И почему здесь трупы запихивали в глиняные кувшины, а ста метрами дальше они валялись под открытым небом?
У меня стало мутиться в голове. Я кружил по заросшей земле, встречался с изумленными коллегами, заглядывал в двадцатый, в сороковой сосуд, потом взобрался на небольшой холмик и снова увидел разбросанные по земле черепа. Десять, двадцать, тридцать черепов. У них столь характерная форма, что на серо-зеленом фоне их легче распознавать, чем тазовые или плечевые кости. В одном месте — это было что-то вроде небольшой поляны, окруженной густой стеной каких-то растений вроде крапивы, — я внезапно увидел торчавшую из земли кость голени. Рядом с ней лежали потемневшая пряжка, остатки кожаного пояса и пропитанный кровью лоскут. Я понял, что вижу только то, что лежит на поверхности, только то, чего еще не укрыла растительность, и ничего не знаю о том, что находится под землей.
Думаю, что за сорок минут я увидел не менее четырехсот, может быть, даже пятисот человеческих черепов и скелетов.
Вскоре в эту цифру пришлось внести поправки. Тут же, около бывшей улицы, виднелись два колодца. Два обыкновенных, облицованных камнем колодца. Первый из них на всю глубину был заполнен костями и черепами. Второй, глубиной в шесть-семь метров, был почти пуст. На дне его виднелось еще пять черепов, кверху глазницами. Контраст между белизной костей и черными провалинами был так резок, что черепа в какой-то момент казались похожими на лица живых людей. Может быть, вследствие моей близорукости.
Кто-то из коллег наткнулся на известковую яму, заполненную еще сохранившимися трупами. Кто-то увидел шипевшую змею, которая грелась в размозженном черепе. Кто-то принес с собой католический молитвенник, найденный среди черепов.
Но это был еще не конец.
CXV. Вездеходы опять продирались сквозь заросшие лианами бугры посередине мостовой, задевали бортами о мясистые листья диких фиговых деревьев, с треском ломали гибкие, но твердые ветви тамариска. В этих джунглях не было никого, но ощущение пустоты было иным, нежели в Пномпене. В густом, непроходимом лесу никто не надеется встретить толпу прохожих. Только ведь эти джунгли разрослись на многолюдных и шумных когда-то центральных торговых улицах, видны были брошенные и оплетенные лианами тележки уличных торговцев, из-за зеленой стены сверкали остатки вывесок, темные помещения пивных, какие-то перечно-коричные лавки с еле различимыми полками и грудами каких-то товаров. Посреди некоторых поперечных улиц шли узкие, извилистые дорожки; они больше напоминали тропы, вытоптанные в джунглях идущими на водопой животными, чем признаки какого-либо человеческого поселения. Где-то промелькнула оплетенная вьюнками бензоколонка, какое-то большое строение — рынок? спортивный зал? фабрика? — из которого расплывались апельсиновыми языками скопища маленьких хищных цветов.
Нас привезли на место, о котором трудно сказать что-либо определенное. По-видимому, это была фильтровальная или очистная станция, хотя в Азии редко строят такие сооружения: жизнеспособность бактериальной флоры тут настолько велика, что можно освободить себя от напрасных расходов. А может быть, это была станция, подававшая воду для промышленных целей, ибо в глубине, в густых кустарниках, за непроницаемой ширмой банановых и бамбуковых деревьев, виднелись какие-то стены, похожие на фабричные. Выяснить, что это, не удалось. Переводчики и офицеры охраны были, как и мы, взволнованы увиденным, отвечали коротко, о чем-то шептались между собой. Никто из них не был родом из Прейвенга: ни один житель этого города в живых не остался.
Сперва мы отправились на тылы длинного, совершенно пустого здания непонятного назначения. Оно тоже граничило с каким-то бывшим огородом и рядами полностью заросших домов. Вдоль границы объекта шла стена пятнадцатиметровой длины, высотой в один метр шестьдесят сантиметров. Параллельно стене, со стороны огородов, тянулся деревянный забор из хорошо пригнанных досок, такой же длины и почти такой же высоты, отстоявший от стены на полметра. Забор и стена образовывали открытую сверху клетку, емкость которой составляла приблизительно двенадцать кубических метров.
Она была до краев заполнена человеческими костями и черепами.
Никто уже не мог это фотографировать. Тогда офицер из Народно-революционного совета провинции сказал, чтобы мы повнимательнее присмотрелись к тому, что видим.
Я приблизился и стал в двадцати сантиметрах.
В трех лежавших сверху черепах торчали отчетливо видные заржавевшие гвозди. У четвертого черепа, тут же рядом, гвоздь был в правой глазнице, вбитый так глубоко, что прошел костную оболочку и вонзился заостренным концом туда, где когда-то был человеческий мозг.
Я пошел вдоль стены, приглядываясь к черепам. Их было двадцать восемь; у одиннадцати гвозди были вбиты в верхнюю часть черепа, в висок, в надбровную дугу. В одном черепе виднелись два правильных круглых отверстия диаметром приблизительно восемь миллиметров. Видимо, этот человек оказал сопротивление, и его пришлось застрелить — из автомата калибра 7,62 мм. Я видел лишь черепа, которые лежали сверху.
Офицер попросил нас вернуться и указал на толстую доску, вертикально прикрепленную к стене. Она была покрыта длинными сосульками запекшейся крови; там, где кровь стекла на землю, кружили мириады маленьких янтарного цвета муравьев. Рядом лежал топор, обыкновенный крестьянский топор с чуть кривым топорищем и обухом, выщербленным при забивании гвоздей. Вероятно, приговоренных казнили на этом месте. Это была, наверное, кошмарно долгая операция, ибо острие топора было не больше пятнадцати сантиметров длиной.
Я еще раз пригляделся к черепам и увидел, что на лежавших поглубже глазницы были завязаны какой-то синтетической тканью, посеревшей от пыли, но крепко державшейся.
Мы перешли на другую сторону здания.
На бетонированной полосе были видны четырнадцать узких и глубоких отверстий площадью чуть меньше квадратного метра. Это были, по-видимому, фильтровальные отстойники или колодцы биологических фильтров. Одного взгляда было достаточно, чтобы заметить, что они почти до самого верха наполнены черепами и костями. Мы срезали армейским кинжалом гибкую и прямую ветвь какого-то дерева. Она была почти двухметровой длины, но дна не достала. Мы срезали еще одну и связали обе найденной тут же проволокой. Мало. Третью ветку мы не смогли привязать. Тогда солдат охраны принес с улицы очень длинный пружинящий прут.
Глубина колодцев была четыреста тридцать сантиметров.
Перед моими глазами было свыше пятидесяти кубических метров человеческих останков.
С того момента, когда я увидел во время войны, как из сожженного зрительного зала варшавского Большого театра телегами вывозили человеческий прах, я научился и так измерять человека.
Четырнадцатый колодец, находившийся за углом этого странного здания, был, по-видимому, с бетонированным дном, хорошо спрятан от солнца и частично прикрыт широкими саговыми листьями. Трупы, которые были сюда брошены, по трудно объяснимым причинам растворились, а не высохли, как в других. В бетонной емкости хлюпала маслянистая жидкость цвета сажи… Ее поверхность была покрыта миллионами маленьких червей, вперемешку черных, как блохи, и желтых, как гусеницы. Паразитов было такое множество, что изнутри колодца доносился хорошо слышный хруст. На поверхности плавали два черепа, которые, как видно, были легче, чем месиво растворившихся трупов. Они чуть заметно кружились, подталкиваемые неустанной возней паразитов.
Впервые в жизни я увидел человека в жидком состоянии.
До такого не додумались даже в третьем рейхе.
CXVI. «Без жизни нет смерти; без смерти нет жизни. Без верха нет низа; без низа нет верха. Без беды нет счастья; без счастья нет беды. Без легкого нет трудного; без трудного нет легкого. Без помещика нет арендатора; без арендатора нет помещика. Без буржуазии нет пролетариата; без пролетариата нет буржуазии… (…) Так обстоит дело со всеми противоположностями» (Мао Цзэдун. «Относительно противоречия»).
CXVII. Примерно в половине второго мы приехали в бывшую деревню Дамрэй, расположенную в двадцати километрах на северо-восток от Прейвенга. «Коммуны» здесь никогда не создавали. Жителей выселили, может быть, по военным соображениям, а может, из-за близости специальной тюрьмы. От хижин на сваях веяло пустотой и разорением, только возле двух или трех стлался едкий дым очагов. Бегали голые дети. Истощенные, вялые женщины что-то стряпали возле, домов.
На краю деревни стояла высокая пагода, не слишком красивая, если судить по пропорциям, но приятная для взгляда, хорошо гармонировавшая с низкими легкими строениями, окружавшими двор. Здесь находился, должно быть, довольно крупный монастырь, а также, по-видимому, сельская школа и небольшая больница.
Именно эта пагода была целью нашего приезда.
Рыжая черепица с крыши главного здания была частично сорвана, опорные брусья и стропила торчали, словно ребра, с которых содрана кожа. Стены галерей были в нескольких местах обшарпаны. На дворе напропалую щебетали птицы; они порхали около нас веселыми стайками, хвастая разноцветным бархатом своего оперения, заливаясь во все горло от одной лишь радости жить, летать, существовать.
Внутри пагоды не было ничего. Не было никакой богослужебной утвари, статуи Гаутамы, алтарей, ширм, надписей с поучениями мудрецов, принесенных даров. Все это было собрано и куда-то, по всей вероятности, вывезено, потому что на возвышениях и на полу галерей не было тех следов, которые мы видели во многих других разрушенных пагодах.
На месте главного алтаря лежала огромная груда, насчитывающая примерно около тысячи, китайских артиллерийских снарядов 130-миллиметрового калибра. Рядом стояли пятьдесят ящиков с цифрой 800 и длинными рядами китайских иероглифов. Артиллерийские взрыватели, минометные снаряды, противотанковые патроны, мешочки с порохом и тринитроцеллюлозой. Латунные гильзы сильно потемнели. На капсюлях виднелась ржавчина.
На противоположной стороне, там, где крыша была сорвана, валялись огромной кучей, напоминая мусорную свалку, самые разнообразные снаряды, взрыватели, пакеты со взрывчаткой; казалось, что все это беспорядочное нагромождение вот-вот взорвется. Рано или поздно такое обязательно случится. При таком складировании и бешено прогрессирующей коррозии достаточно незаметного земного толчка или даже ветра посильнее, чтобы какой-нибудь капсюль или поврежденный взрыватель сработали в соответствии с предназначением.
Снаряды широкой лентой высыпались на наружную лестницу, расползлись по галереям, валялись в траве, кустарниках, под деревьями. В углу правой галереи я заметил груду круглых, довольно больших банок темно-оливкового цвета с длинными рукоятками и каким-то шнуром или фитилем. На каждой из них была отчетливая надпись: «POISONOUS GAS GRENADE!» Ниже, буквами помельче, способ употребления: использовать при скорости ветра не больше десяти миль в час, фитили зажигать поочередно, обслуживающий персонал должен иметь противогазы и тампоны ТХ-8.
Гранаты с ядовитыми газами. Я не знал, что подобные вещи существуют. Может быть, это был просто газ «GS», о котором во время войны в Индокитае американцы упорно твердили, что он не является отравляющим веществом? На каждой банке виднелся поспешно намалеванный красной краской китайский иероглиф, везде один и тот же. Вероятно, он предостерегал насчет опасности отравления. Но я не заметил ни одной надписи на кхмерском языке. Арсеналом в пагоде Дамрэй распоряжались исключительно китайцы. Интересно, что думали китайские офицеры, когда брали в руки американские гранаты с ядовитым газом, выполнявшие здесь столь странную идеологическую функцию.
Вокруг пагоды надо было передвигаться со всяческой осторожностью, солдаты, сопровождавшие нас, не отступали ни на шаг, находили в кустах чуть заметные дискообразные мины, жирные мещочки с пластиком, какие-то таинственные трубки, стержни из оксидированного алюминия с резьбой.
Около узкой, хорошо протоптанной дорожки я снова увидел человеческий череп. Чуть подальше в густой траве виднелись остальные кости скелета. Я наклонился над черепом и заметил в теменной части два небольших круглых отверстия. Тут же рядом лежали пять стреляных гильз с хорошо заметными китайскими серийными знаками на капсюле; один похож на квадрат и чуть перечеркнут вертикальной чертой, это общепринятое сокращение названия «Срединная империя».
Я взял гильзы с собой.
Затем вошел в один из одноэтажных домов, где помещалась когда-то школа. Отсюда были также изъяты все предметы. На одной из стен виднелись рисунки и надписи. На них изображались боевые эпизоды с участием самолетов и артиллерии, так рисуют дети, для которых траектория полета снаряда важнее, чем пропорции и перспектива. Древесным углем кто-то нарисовал неумелой рукой потрет солдата в мягкой китайской шапке. На стенах не было ни одного китайского иероглифа, зато было полно многострочных надписей на кхмерском языке. Я попросил переводчицу прочесть. Она поглядела на стену и сказала, что не понимает, Я привел офицера: он покачал головой и сказал, что это писали безграмотные люди. То есть глупые люди. Это гадости, которые нельзя переводить. Но какие гадости — политические? Нет, нет. Нельзя переводить.
Противоположная стена была тоже исписана. На уровне глаз тянулись три длинные колонки цифр, из которых первые наверняка были обозначением даты. 8.6.76–14, 9.6.76 — 8, 11.6.76–22. К чему могли относиться последние цифры? Офицер из Народно-революционного совета провинции коротко поговорил с товарищами, показывая пальцем на последние цифры. Потом сказал, что это, наверное, перечень совершенных казней вместе с числом уничтоженных. Ходят слухи, что вблизи Пхумдамрэй производились массовые убийства. Но только через несколько недель сюда приедет группа, которая начнет поиски могил. Сперва саперы должны очистить территорию от мин и боеприпасов. А с саперами сейчас трудно.
Перечень кончался датой «28.4.78». Я подсчитал цифры справа. В сумме получалось 885. Если догадка офицера верна, я знаю, сколько трупов в здешних, еще не найденных могилах.
Появился старый, трясущийся, беззубый крестьянин, который, опираясь на палку, приковылял, чтобы нас увидеть. Я спросил его, откуда он и когда сюда вернулся. Но переводчики и он не могли понять друг друга. Он говорил на каком-то странном диалекте и к тому же был почти совсем глух. Через минуту старик потянул меня за рукав и опять начал что-то бормотать своим беззубым ртом. Переводчики молча и сосредоточенно с минуту слушали старика.
Потом покачали головами и, не скрывая раздражения, сказали, что этот человек, по-видимому, не в своем уме. Он утверждает, что был буддийским священником и три года скрывался здесь, где-то недалеко от Дамрэя, наверное, в лесу, а где же иначе? Он говорит, что проклинает «красных кхмеров», то есть кровавую клику Пол Пота — Иенг Сари. И еще говорит, что все случившееся в Кампучии было давно предсказано в старых книгах. Так он говорит. Но он очень стар, товарищ. Сейчас говорит что-то о змеях. О крокодилах. Правда, о крокодилах. Нам пора ехать. Уже поздно.
CXVIII. Я знаю эту легенду. Она относится, кажется, к первому тысячелетию до нашей эры и в разных версиях известна во всем круге буддийской культуры. Это азиатский вариант Апокалипсиса. Грехи людей никогда не уравновешиваются суммой добрых дел, самоотречения и любви. Наш дебет беспрерывно растет и в конце концов когда-нибудь разрушит естественный баланс Вселенной. Тогда из всех пещер, земных отверстий, рек и болот выползут миллионы змей и крокодилов, хищные черепахи, неизвестные чудища вроде драконов, огненные ящерицы длиною в тысячу локтей. И постепенно пожрут всех людей, живущих на Земле, дабы воцарилась полная гармония тишины и небытия. Во всех европейских мифологиях конец света наступает внезапно, в огне катастрофы, в водах потопа, при разверзшихся небесах. В Азии он должен произойти постепенно, в рассрочку, с хрустом ломающихся костей, в спазмах боли, в полном сознании тех, кто ждет своей змеи или своего крокодила.
CXIX. Мы возвращались из Прейвенга другой дорогой, вдоль берега Меконга. В сорока пяти километрах на юг от Прейвенга я увидел первые (и единственные) следы тяжелых боев, которые происходили около пяти недель назад. Здесь разыгралась, вероятно, короткая, но ожесточенная схватка во время переправы через Меконг. Небольшой поселок был буквально разнесен в щепки тяжелыми снарядами, на отвесном берегу виднелись одна около другой воронки от снарядов, деревья поблескивали осмоленными обрубками стволов. Густой вал прибрежной растительности был вытереблен и перепахан на каждом квадратном метре. Быть может, здесь есть брод или удобная отмель, потому что через поселок проходила неплохая дорога, которая обрывалась в Меконге. На ней стояли четыре разбитых американских транспортера типа М-113. Из-под густого слоя краски еще просвечивали белые звезды. Тактических номеров никто и не собирался закрашивать.
Трудно сказать, какая армия потеряла эти транспортеры и кем были погибшие в них солдаты. Транспортеры были расставлены так, что могли двинуться в разных направлениях, я не мог определить, собирались ли они переправиться на западный берег или, наоборот, защищали переправу с востока. На броне нет никаких дополнительных опознавательных знаков; внутри не осталось никаких следов, по которым можно было бы установить хоть какую-нибудь существенную подробность.
На поле боя царила полная тишина. Бесшумно катилась река. Пели птицы. Эта земля чужим ничего не скажет.
СХХ. Только переехали вьетнамскую границу, как голова ехавшего в нашей машине командира охраны свесилась набок, словно ее пригнуло ветром. Этот человек спал еще меньше, чем мы.
Мы звали его Даном. Он был подвижен, любил шутки, не пьянел, бывал заразительно весел. Его внимательные карие глаза видели все, всегда и везде. Дан уже успел привыкнуть к необычному образу жизни европейских товарищей, которыми ему часто приходилось заниматься. Он не смущал нас своей аскетической суровостью и молчаливым, но явным осуждением, которое мы часто ощущали у других. Но он ни разу не сел с нами за стол, как и остальные бойцы охраны, как и переводчики. Их порции были втрое меньше наших и не могли превышать строго установленного максимума пищевого рациона для лиц, выезжающих по служебным делам.
Я посмотрел на его мундир из тиковой ткани, дешевые сандалии на босых ногах, сбившийся во сне пояс с пистолетом. Какие личные мотивы могли воодушевлять этого парня? Что он усвоил и что запомнил на многочисленных, надо полагать, весьма многочисленных занятиях и лекциях? Вряд ли он когда-нибудь мог слышать о споре Маркса и Лассаля, о Вере Засулич и Плеханове, о Бернштейне и Троцком. А если бы и слышал, причины этих споров, конфликтов и расколов оказались бы для него, наверное, полной, стопроцентной абстракцией, тогда как для меня это вопросы по-прежнему в какой-то степени актуальные или, во всяком случае, реально соотносящиеся с современностью.
Неужели мы оба принадлежим к одному и тому же великому движению, которое так сильно изменило мир, а началось когда-то под нежным солнцем Рейнской области, в кругу бородатых, знающих латынь и греческий питомцев Геттингенского и Гейдельбергского университетов? Может быть, меня и Дана связывают друг с другом лишь некоторые, наиболее общие лозунги, а все остальное. — это плод чисто индивидуального социального опыта, классового инстинкта, принадлежности к разным культурам и сугубо специфических представлений? Дан был наверняка человеком из тех, на кого можно положиться — на поле боя, в тюрьме, в огне самых тяжелых испытаний; такие люди сразу узнаются. Они не склонны к болтовне или причитаниям, занимаются тем, что им поручено, и не скрывают, что действие для них основное мерило смысла вещей. Я думаю, что этот парень, бедно одетый, вечно не высыпающийся, худой как щепка и быстрый как искра, должен ощущать удовлетворенность своей жизнью, примерно такой же интенсивной и в такой же степени лишенной сомнений, как и та, что выпала на мою долю двадцать пять лет назад.
Я люблю иногда сидеть на больших западных аэродромах и смотреть на красивых, спортивного вида мужчин, которые везут на уикенд своих милых, ухоженных девушек, обласканных солнцем, вспоенных фруктовыми соками. Это и впрямь прекрасная порода, мутации в удачном варианте. Мужчины превосходно водят мощные и быстрые автомашины, плавают, как дельфины, зимой спускаются на лыжах с гор ошеломительным слаломом, что ни день испытывают себя в трудных состязаниях, имеют чувство юмора. Потом они строят дома, сажают деревья, искусно подстригают газоны. Нельзя ими не восхищаться. Они дали миру чудесные машины, самолеты, телевидение, удобные дома, чистые клозеты, укротили атом, осуществили экспедицию на Луну. Кто такой по сравнению с ними этот усталый босоногий парень с лицом, на котором почти не видать следов растительности? Кто из них по-настоящему может сказать, что выдержал испытание, через которое подобает пройти мужчине, чтобы не питать презрения и брезгливости по отношению к самому себе?
CXXI–CXXX
CXXI. Дискотеки мира и лачуги мира. Стальные цепочки на запястье как знак мужественности и потертая кобура на холщовом ремне как показатель ее же. Ежемесячный журнал «Плейбой» как манифест умеренного свободомыслия и ежедневные учебные занятия в армии как основа знаний о мире. Ужин при свечах под звуки фуги Баха и рис в жестяной миске с добавкой непомерно малой порции рыбы или овощей. Протанцевать всю ночь в дискотеке и провести ночь без сна в казармах.
Может быть, вопрос, который прокричал Гевара, вообще неразрешим и не должен ставиться, потому что противоречит освященному столетиями миропорядку? Может быть, между миром Дана и миром тех людей нет общего знаменателя, который позволил бы выработать единое мерило ценностей?
СХХII. День в городе Хошимин. Ссоры, дискуссии, дружеские беседы. «Луа мой». Гектолитры пива. Некоторые группы уезжают. Довольно с них Кампучии, жары, езды вездеходами, пробуждений в три часа утра. Они сделали свое, хватит.
Из Ханоя прибыл Петр с известием, что деньги для меня наконец пришли,
Китайцы сосредоточивают войска на границе с Вьетнамом.
Карлос тихо подкрадывается сзади, внезапно приставляет два пальца к затылку и кричит: пол-пот-иенг-сари! пол-пот-иенг-сари!
Заметки. Наброски. Первый план книги. Презрительные эпитеты в собственный адрес. Заглавия нет. Не больше четырех-пяти листов, сырые наброски, без «политологии», без «хохмологии». Никто этого не переварит, никому это не нужно. Надо засвидетельствовать, и ничего больше.
СХХIII. Тринадцатого февраля целый день в Пномпене. Восемь страниц записей. Мы хотим остаться на ночь, но снова не удается. Matter of security[47], с улыбкой говорит начальник охраны. Наш «Изусу» еле дышит.
Визит Фам Ван Донга опять отложен. Мы возвращаемся ночевать во Вьетнам.
Кроме вьетнамцев, ни один иностранец до сего времени не ночевал в Кампучии.
CXXIV. Кем, собственно говоря, были Пол Пот и его ближайшие сотрудники? Надо наконец привести в какую-то систему все, что я о них знаю, хотя знаю не так много — и в записях больше вопросительных, чем восклицательных знаков.
О первых шагах группы Пол Пота никто, по-видимому, точных сведений не имеет. В настоящий момент это люди в возрасте от сорока Девяти до пятидесяти шести лет. Их политическая деятельность началась рано, надо полагать, еще в период Освободительной борьбы против французов. Можно считать, что все они выходят из кругов, на которые оказывала влияние Коммунистическая партия Индокитая, за исключением, может быть, Ху Нима, которого уже нет в живых.
Эта партия была основана в феврале 1930 года в Гонконге группой вьетнамских коммунистов, среди которых особо важную роль играл Хо Ши Мин. Жаль, что публицистика из газеты «Ле парна», издававшейся Хо Ши Мином в Париже, так мало известна. В ней много исключительно интересных мыслей и оригинальных теоретических обобщений. Название еженедельника означало «пария, нищий, кули», интеллектуальный уровень публиковавшихся в нем статей был довольно высок.
Коммунистическая партия Индокитая была распущена дважды. Впервые это произошло в ноябре 1945 года, когда Хо Ши Мин решил объединить все демократические силы, включая национальную буржуазию, для борьбы с французскими колонизаторами[48]. Практически же немногочисленная кадровая партия продолжала существовать как бы в двойном подполье: по отношению к французам, которые считали индокитайских коммунистов находящимися вне закона, и по отношению к местной национальной буржуазии, которая сотрудничала с радикально настроенными левыми силами в рамках Вьетмина. В течение шести лет всем коммунистам региона было совершенно ясно, что целью борьбы является национальное, но вместе с тем и социальное освобождение всего Индокитайского полуострова, то есть: Аннама, Тонкина, Кохинхины, Камбоджи и Лаоса. В феврале 1951 года была создана Партия трудящихся Вьетнама, которая руководила освободительной борьбой на территории Вьетнама, то есть только в трех из пяти прежних французских протекторатов. Это обстоятельство весьма существенно для позднейших судеб революции в этом регионе. Все без исключения радикально настроенные левые индокитайские деятели считали общность судеб всех народов полуострова вещью совершенно очевидной. Не было в этот период никаких споров по поводу границ, будущей формы правления, даже насчет тактики освободительной борьбы.
В 1954 году, после подписания Женевских соглашений, наряду с уже существовавшей Партией трудящихся Вьетнама возникли еще две новые партии: Народная партия Лаоса и Кхмерская народно-революционная партия. О возникновении второй из них мало что известно. Мне не удалось даже узнать фамилию ее первого генерального секретаря. Вполне вероятно, влияние партии в первые годы после освобождения было невелико и ограничивалось, надо полагать, узким кругом интеллигентов среднего поколения, которые познакомились с марксизмом благодаря КПИК или французским коммунистам.
Первые достоверные сведения о группе Пол Пота — ибо с самого начала это была относительно сплоченная группа, обладавшая некоторыми чертами фракции, — относятся к 1956 году[49]. Членам этой группы было тогда около тридцати лет, они жили во Франции, были членами ФКП. Данный период еще ждет своего историка, известно, однако, что это были нелегкие годы, когда французским коммунистам не во всем сопутствовала удача. Потрясение, вызванное разгромом под Дьенбьенфу[50], а одновременно начало восстания в Алжире в ноябре 1954 года привели определенную часть левых сил в состояние замешательства, связанного с проблемами деколонизации. К тому же Алжир считался тогда заморским департаментом Франции, в котором живут также и французские пролетарии. Внутренний кризис Четвертой республики поставил партию перед необходимостью пересмотреть многие важные пункты программы в связи с нараставшей популярностью концепций де Голля. К тому же внутренние перемены в социалистических странах после 1953 года вызвали волну споров в самой партии, в левых кругах и профсоюзном движении. Летом 1956 года, после XX съезда КПСС, руководство Французской компартии, стоявшее перед большими сложностями, не полностью приняло новые выводы и лозунги, одобренные в содружестве социалистических стран. В «Юманите» появилось несколько острых критических статей, которые вызвали, с одной стороны, решительные возражения части партийной интеллигенции, а с другой — немалое разочарование среди коммунистов бывших или продолжавших существовать французских колониальных владений. В итоге, однако, ФКП поддержала основные решения XX съезда КПСС.
Пол Пот и Иенг Сари, которые, как предполагают, около 1953 года захватили вместе со своею группой руководство индокитайской секцией ФКП, формально членами французской партии уже не являлись, но осенью 1956 года начали интенсивно организовывать внутри ФКП оппозицию, которую, если держаться утвердившейся терминологии, следовало бы определить как догматическую. На страницах «Революционного знамени» они отвергли решения XX съезда КПСС, обвинили европейские социалистические страны в «сдаче позиций ревизионизму».
Экземпляры «Революционного знамени» малодоступна. На основе нескольких номеров трудно реконструировать весь ход рассуждений Пол Пота. Но знаменательно, что 1937–1941, а также 1945–1953 годы он считает периодом «наиболее творческим в истории социалистического строительства», яростно полемизирует с троцкистами одобряет методы начала коллективизации и посвящает особую главу «заслугам бойца революции Матьяша Ракоши». Взгляды, близкие к этим, проповедовала тогда во Франции небольшая, но крикливая группа «L'Étincelle»[51], которую в разное время определяли как троцкистскую, догматическую, анархистскую или даже мусаватистскую. Нет доказательств (во всяком случае, они не преданы огласке), что эти группы были организационно связаны, но совпадения в сфере идеологии поразительны.
Интересно, что в этот период Пол Пот критически относился к Китаю. Надо помнить, что это была эпоха «ста цветов», период исключительно высокого престижа Китая на международной арене, тогда еще хороших отношений между Китаем и другими социалистическими странами, а также расцвета китайской науки и культуры. Это может считаться свидетельством того, что группа Пол Пота с самого начала руководствовалась относительно неизменными установками и, во всяком случае, была далека в тот период от беспринципного угодничества.
Можно полагать, что взгляды Пол Пота, который в этой группе был, несомненно, самой сильной индивидуальностью, сложились во время его обучения во Франции, во второй половине пятидесятых годов. Существует, как говорят, написанная им брошюра (издана под псевдонимом Салот Сар, если это действительно псевдоним), где на французском языке изложена вся та доктрина, которой через десять с лишним лет предстояло осуществиться на практике. Мне не удалось отыскать эту брошюру, но я встречал людей, которые ее читали. Говорят, что этот текст, изложенный «ясно и по-декартовски логично», не оставляет повода для сомнений.
Группа Пол Пота возвратилась в Кампучию на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов[52]. Это утверждается, во всяком случае, во вьетнамских и западногерманских источниках, хотя во французской прессе говорится, что это произошло гораздо раньше. Во французской печати так много разного рода измышлений насчет Кампучии и лично Пол Пота, что лучше держаться вьетнамской версии.
Почти все они начали работать в средней школе. Иенг Сари и, по-видимому, Кхиеу Самфан были директорами гимназий. Сон Сен, одна из самых таинственных фигур в этой группе, был якобы преподавателем технического факультета королевского университета в Пномпене. Сам Пол Пот преподавал как будто «историю, политические науки и этику» в одном из столичных лицеев (причем из двух источников я узнал, что это был лицей «Туолсленг», превращенный позднее в главный полпотовский застенок), но многие этот факт отрицают.
Группа сразу же приступила к нелегальной работе в Кхмерской народно-революционной партии. Генезис этой партии и дата ее возникновения — полная загадка. Утверждают (но не во Вьетнаме), что она возникла в 1951 году, как бы в ответ на создание Партии трудящихся Вьетнама. Она никогда не признавала тогда еще существующую Коммунистическую партию Индокитая и с самого начала вела политику, свидетельствовавшую о националистических и антивьетнамских тенденциях.
Возможно, что партия вообще была создана полицейскими провокаторами, потому что в марте 1959 года генеральный секретарь этой партии, некий Сиеу Хенг, выдал все документы партии полиции Сианука, в том числе список ее членов. Судьба этого человека неизвестна. Его предательство привело к аресту нескольких сот членов партии. Часть из них была расстреляна, остальные — приговорены к длительным срокам каторжной тюрьмы, ибо всякая революционная деятельность была тогда в Кампучии запрещена. Не столь законом, поскольку законодательство находилось тогда, так сказать, в зачаточном состоянии, сколь по устному распоряжению Сианука.
Принц Нородом Сианук Варман был, несомненно, сторонником нейтрализма и на свой лад стремился к улучшению положения в Кампучии. Но хвалы, раздававшиеся в его честь, не имели под собой достаточных оснований. В этом случае (как и в других) позитивная оценка внешней политики не должна заслонять трезвой оценки фактов из области политики внутренней. В политической практике Сианука были разные стадии, но нет оснований утверждать, что он был лишь тосковавшим по прошлому буддистом и поклонником красивых танцовщиц. На его совести, особенно в первый период правления, ряд актов жестокого, кровавого террора.
Группа Пол Пота решила возродить коммунистическое движение в Кампучии и очистить его от полицейских провокаторов. 30 сентября 1960 года в городе, который до сих пор неизвестен, была основана Коммунистическая партия Камбоджи, которую иногда называют «Новой». Я думаю, чта правильнее было бы обозначить ее номером 2, потому что позднее произошли и другие осложнения. Пол Пот стал членом Политбюро и заместителем генерального секретаря партии. Фамилия генерального секретаря в данном случае не так важна[53]. Быть может, роковой опыт прошлого был причиной того, что КПК-2 была с самого начала кадровой партией, предъявлявшей своим членам весьма высокие требования. Можно заметить тут несомненное влияние китайского и вьетнамского опыта. Пол Пот, который стал фактическим руководителем новой партии, начал сразу же создавать две параллельные структуры: немногочисленная кадровая партия почти военного характера и, кроме того, относительно широкое движение, которое следовало бы определить как «полупартию», то есть нечто большее, нежели национальный фронт в европейском понимании этого слова. Это была модификация вьетнамского опыта с Вьетмином, но модификация, зашедшая весьма далеко. Люди, связанные с широким фронтом, были, правда, ближайшими помощниками партии, выполняли ее поручения и составляли в условиях подполья ее главную организационную сеть, но вместе с тем они не могли принимать участие в определении политики партии. Именно это широкое движение (если на первых порах его вообще можно было называть широким) Сианук со временем пренебрежительно назвал «красными кхмерами». Они были партией и вместе с тем не были; они выполняли поручения Пол Пота, но толком не знали, кто, собственно говоря, дает эти поручения.
Почти ничего не известно об эволюции идейных установок группы Пол Пота в этот период. «Революционное знамя», по-видимому, издавалось в подполье на кхмерском языке, но детальных сведений на этот счет нет. Группа Пол Пота создавала новые партийные ячейки, формировала отряды «красных кхмеров», организовывала партизанские базы в джунглях, а прежде всего искала поддержки за рубежом. Нет оснований думать, что в идейной платформе этой группы произошли в то время какие-либо принципиальные изменения.
Примерно в 1963 году полиция Сианука вновь поставила под угрозу существование партии. Пол Поту, а вслед за ним Иенг Сари, спасаясь от ареста, пришлось бежать в джунгли. Им нетрудно было убедиться, что социальная структура в деревне изменилась гораздо сильнее, нежели в городе; если жителям городов жилось лучше, чем когда-либо ранее, то в деревне экономические процессы заложили основы социального расслоения и тем самым привели к образованию «важнейшего резерва революции», как позднее выразился Линь Бяо. Силы «красных кхмеров» начали постепенно расти. Одновременно в городах появились полулегальные группы, которые Сианук столь же пренебрежительно окрестил «голубыми кхмерами». Речь шла об ультрареакционных группах, которые, как правило, финансировались американцами, зачастую прибегали к убийствам из-за угла и выступали против внешней политики Сианука. Дважды, в 1959 и 1961 годах, эти группы предпринимали закончившиеся неудачей попытки государственного переворота. (История внутренней и внешней политики Кампучии этого периода увлекательна, но так сложна, что подробно говорить о ней в этой книге нет возможности.)
Пол Пот, как глава партизанского движения, направленного против Сианука, занимал тогда, с точки зрения всех социалистических стран, довольно двусмысленную позицию и не мог рассчитывать на какую-либо конкретную помощь. Советский Союз решительно и со всей серьезностью поддержал политику нейтралитета, проводимую Сиануком. Китай как раз вступал в полосу тяжелого внутреннего кризиса, связанного с катастрофическими последствиями «большого скачка», оказался почти в полной изоляции на международной арене и не имел, в сущности, никакого повода поддерживать небольшую и при этом довольно непонятную группу кхмерских радикалов, ибо авторитет Сианука был тогда еще очень велик. Наконец, Вьетнам стал объектом прямой интервенции Соединенных Штатов. Освободительное движение на юге страны оказалось на какой-то момент перед лицом смертельной опасности. Военное положение настолько ухудшилось, что каждый автомат и каждый патрон ценились на вес золота.
Вьетнам был, собственно говоря, единственной страной, у которой были причины оказать поддержку кхмерским партизанам: через территорию Кампучии проходило одно из южных ответвлений «тропы Хо Ши Мина», Но с другой стороны, у Вьетнама не было реальной возможности оказать отрядам «красных кхмеров» серьезную поддержку. К тому же он был тоже заинтересован в сохранении нейтрального режима Сианука, являвшегося наверняка меньшим злом, чем откровенно проамериканский режим, который непрерывно пыталось создать в Пномпене Центральное разведывательное управление.
Трудно говорить об этом с полной уверенностью, но можно полагать, что в период между 1963 и 1966 годами вооружение кхмерских партизанских отрядов происходило по большей части из захваченных ими французских, японских и американских арсеналов.
Быть может, именно тогда Пол Пот пополнил свою доктрину принципом «опираться исключительно на собственные силы», который тридцатью годами ранее был сформулирован Мао Цзэдуном. Основные произведения
Мао Цзэдуна были давно переведены на французский язык, к тому же жена Пол Пота была китаянкой, женщиной образованной и хорошо знавшей политическую литературу своей страны. Существует, разумеется, предположение, что она была агентом китайской разведки, но такие предположения выдвигаются всегда и везде, а подтверждаются далеко не всегда. Впрочем, в 1965 году Пол Пот сам посетил Китай.
В произведениях Мао «яньаньского периода» содержится немало тезисов и рассуждений, способных заинтересовать любого из азиатских революционеров. В одном из документов, которые мне удалось разыскать, Салот Сар с одобрением цитирует известное высказывание Мао, относящееся к 1927 году и связанное с крестьянскими бунтами в провинции Хунань:
«…революция — это не званый обед, не литературное творчество, не рисование или вышивание; она не может совершаться так изящно, так спокойно и деликатно, так чинно и учтиво. (…) Попросту говоря, в каждой деревне необходим кратковременный период террора. В противном случае будет совершенно, невозможно подавить деятельность контрреволюционных элементов в деревне, свергнуть власть шэньши».
Можно предполагать, что в этот период увлечение мыслями Мао Цзэдуна являлось для Пол Пота чем-то вроде интеллектуального стимула. Об антисоветских или антивьетнамских выступлениях группы Пол Пота в этот период мы не знаем.
Появление узкого круга партийных руководителей сыграло основную роль в позднейших событиях, и хорошо было бы тщательно его проанализировать. К сожалению, это крайне трудно. Источников мало, устная информация дается сейчас неохотно, и к тому же не все данные согласуются между собой.
Можно предположить, что структура революционного движения в Кампучии была трехступенчатой. Внизу текла довольно широкая, несколько аморфная «река красных кхмеров», включая сюда и верных сторонников, и временно сочувствующих. Вторую ступень составляла Коммунистическая партия Камбоджи номер 2. Ее численность никак не может быть установлена; думаю, однако, что она составляла самое большее две, максимум — три тысячи человек. Третьей, верхней ступенью, где сосредоточивались все полномочия командного, политического и идеологического порядка, являлось центральное партийное руководство, которое, надо полагать, уже тогда получило наименование «Ангка».
У этого слова есть в кхмерском языке несколько значений, подобно тому как некоторые китайско-японские иероглифы можно прочесть различным способом в зависимости от контекста. Чаще всего оно обозначает «организация» или «организованная группа», но я слышал также, что это слово переводили и как «тайный союз», «командование», «центр» или даже «командный пункт» в военном понимании данного термина. Слово это всегда фигурировало без определений и редко появлялось в печати. В публикациях на иностранных языках «Ангка» расшифровывается как «Постоянный комитет» Компартии Камбоджи. Термин этот иногда переводили — ошибочно, по принципу привычных аналогий, — как Политбюро ЦК. Ничто не оправдывает такого названия.
С первой до последней минуты состав «Ангки» и формы ее деятельности были окружены полной тайной. Неизвестна даже ее численность. Я беседовал на эту тему с тремя бывшими членами ЦК КПК-2, и ни один не мог разъяснить возникшие у меня недоумения. Я слышал предположение, что в «Ангку» с 1975 года входило 15 человек. Другие утверждают, что их было 27. Но есть и такая точка зрения, согласно которой «Ангка» вообще не существовала, а вся власть находилась в руках нескольких человек, из которых можно точно назвать лишь пятерых. Это были Пол Пот, Иенг Сари, Кхиеу Самфан, Ху Ним, а также позднейший (и нынешний) представитель Пол Пота в Организации Объединенных Наций Тхиун Пратхит. И, кроме того, жены Пол Пота и Иенг Сари, обе китаянки.
Уже на раннем этапе мы видим далеко идущее сходство с китайским опытом: признание крестьян руководящей силой революции, но несознательной, не разбирающейся в собственных интересах, силой, которой отводилась роль инструмента; полувоенная, полностью антидемократическая внутрипартийная структура; отрицание всех существующих государственных форм, выработанных как буржуазными демократиями в Европе, так и рабочим движением; конспиративный характер подбора кадров, в чем наверняка отразилась практика типичных для Азии тайных гангстерских или мафиозных организаций; максимальная анонимность руководящих кадров и коллективный способ принятия решений. Это последнее обстоятельство в сопоставлении с практикой Мао может показаться неожиданным, но внутренние схватки в КПК происходили, как правило, между фракциями и очень редко между отдельными лицами. Культ Мао был в заключительный период скорее мифом для массового употребления, удобным и общепонятным субститутом религии, наконец, паролем сторонников сверхрадикализма. Но он не был подлинной формулой руководства, которое в принципе было относительно или полностью коллективным, особенно в вопросах внешней политики.
Так и Пол Пота нельзя ни в коем случае признать обезумевшим диктатором или опереточным тираном вроде тех, которые время от времени появляются на политической арене этих стран.
Он, безусловно, был во власти маниакального фанатизма, не допускал ни малейшей оппозиции по отношению к своей доктрине в целом и не колеблясь издал приказ об убийстве своего близкого друга и главного идеолога Ху Нима, когда тот оказался в оппозиции.
Середина шестидесятых годов была для Пол Пота, по всей вероятности, временем горьких разочарований. Но расслоение деревни, все более агрессивная и антикоммунистическая позиция крупной буржуазии, пауперизация полупролетариата и поляризация, происходившая внутри легальных политических партий, умножали число сторонников «красных кхмеров».
С 17 июня 1966 года, когда в Пекинском университете были развешены первые дацзыбао и «культурная революция» стала политическим фактом, положение Пол Пота и его сторонников радикальным образом изменилось. Правда, глашатаи «революционной линии председателя Мао» уже какое-то время проповедовали взгляды, близкие к полпотовским, но в течение почти двух лет, начиная с первых статей Линь Бяо, это был лишь один из возможных вариантов развития китайской революции, против которого вели решительную борьбу «лица, идущие по капиталистическому пути», то есть такие «заядлые ревизионисты», как Лю Шаоци, Пын Дэхуай, Чень И. Теперь «урочный час» был возведен в ранг государственной политики и победил по всему фронту. Одновременно с этим американская интервенция приобрела такой масштаб, что Индокитайский полуостров внезапно стал самой горячей точкой планеты, в большей степени, нежели Ближний Восток или бассейн Карибского моря.
Лишь это чрезвычайное стечение обстоятельств привело группу Пол Пота к власти; если бы не оно, эти люди наверняка пропали бы без вести в каких-нибудь неизвестных тюрьмах или джунглях.
18 марта 1970 года в Пномпене произошел вооруженный государственный переворот, который целиком подготовило и финансировало ЦРУ Соединенных Штатов Америки. Некий Чанг Хенг, фигура настолько мелкая, что о нем никогда Не слышали даже аккредитованные в Пномпене американские журналисты, объявил себя временным президентом. Вскоре, однако, обременительная маскировка была отброшена и полнота власти перешла к генералу Лон Нолу. Он тут же произвел себя в маршалы и объявил бессрочную отмену всех политических прав и свобод. Лон Нол был дюжинным американским наемником, и не более того. За ним не стояла даже патриотически настроенная часть офицерского корпуса. Не имел он поддержки и у средней национальной буржуазии. Сианук был сперва лишен власти, а затем и трона. В течение нескольких недель были заполнены тюрьмы и концентрационные лагеря. Кампучия перестала быть нейтральной страной. С согласия Лон Нола американская авиация предприняла ежедневные, необычайно интенсивные бомбардировки пограничной полосы, чтобы «раз и навсегда» перерезать «тропу Хо Ши Мина».
Международная ситуация обострилась до такой степени, что социалистические страны удвоили, а затем утроили свою помощь Вьетнаму. Конкретно речь идет прежде всего о поставках советского оружия и — в гораздо меньшей степени — китайских боеприпасов. Теперь Вьетнам, впервые располагавший более многочисленным и современным вооружением, смог наконец оказать какую-то помощь кхмерским партизанам, тем более что «красные кхмеры» контролировали к этому времени несколько освобожденных пограничных зон, куда боялась заглядывать армия Лон Нола. Задача заключалась в том, чтобы расширить эти зоны и по возможности связать американские войска также и в Кампучии.
Пол Пот за один год добился положения признанного революционного руководителя. Партия, которую он возглавлял, была признана почти всеми коммунистическими и рабочими партиями единственной представительницей борющегося кхмерского народа.
И в эти годы в поведении Пол Пота трудно обнаружить симптомы будущего сумасшествия. За 1971 год он трижды посетил Ханой и каждый раз благодарил вьетнамский народ и его партию за братскую помощь. Иенг Сари делал это еще чаще и более красноречиво. Во время своего визита в Пекин Пол Пот декларировал, правда, свое преклонение перед председателем Мао, но в речи, которую он публично произнес, не было ни слова, которое можно было бы рассматривать как выпад против СССР и европейских социалистических стран.
Следующий визит Пол Пота в Пекин длился целые три недели. Можно предполагать, что именно тогда, в середине 1972 года, окончательно определились его взгляды. Неизвестно, были ли его неоднократные беседы с Кан Шэном чем-то большим, нежели обмен разведывательной информацией. Но не подлежит сомнению, что именно тогда, между 1971 и 1973 годами, группа Пол Пота непреложно решила осуществить революцию в Кампучии по образцу китайской «культурной революции».
Доказательства этому есть. Именно в данный период на территории освобожденных зон состоялись первые казни богатых крестьян, чего Пол Пот ранее избегал, были созданы «коммуны» по образцу самых крайних вариантов китайских «народных коммун». Проведена была первая чистка среди кадров «красных кхмеров», и среди обновленных кадров была начата пропаганда лозунга, выдвинутого Линь Бяо и подхваченного летом 1966 года хунвэйбинами: сперва надо разрушить, чтобы начать строить заново.
Не военно-агентурная зависимость от Китая, не маоизм тридцатых-сороковых годов, не холодный расчет на то, чтобы снискать расположение и получить помощь огромной страны, а безграничное самоотождествление с философией «культурной революции» в ее наиболее крайних формах явилось, на мой взгляд, исходным пунктом всех действий «Ангки» начиная с того дня, когда она захватила власть в Кампучии.
CXXV. Quod erat demonstrandum[54]. На этом месте можно было бы закончить рассуждения.
CXXVI. О «великой пролетарской культурной революции» принято говорить с ужасом. Это понятно: она причинила Китаю неописуемые бедствия. Ее ход был во многих случаях недостоин цивилизованного народа и изобиловал нелепостями, которых не объяснить никакой китайской спецификой. Почти шестилетний период безумия привел к общему регрессу во всех сферах жизни. Эту оценку разделяет сегодня даже китайское руководство.
Но ведь не так уж далеки времена, когда об этой самой «культурной революции» в мире говорили весьма одобрительно, и не только в Китае. Сегодня трудно воссоздать то состояние полной завороженности, в которое привела «культурная революция» тысячи, а может быть, и сотни тысяч молодых людей на Западе. Внезапный устойчивый спрос на «красную книжечку». Китайские значки с изображением председателя Мао, которые носили в Гамбурге, Падуе и Тулузе. Стихийно образовывавшиеся группы по изучению маоизма в американских и западногерманских университетах. Ошеломляющего характера лозунги, заимствованные непосредственно от хунвэйбинов и плывущие над экзальтированной толпой во время майских событий 1968 года во Франции. В странах Черной Африки существовали тогда правительства, которые в сочинениях председателя Мао отыскали вдруг лекарство от собственных болячек. Философы, которые написали к статьям Линь Бяо целые километры ученых комментариев. Лидеры молодежных движений, с чувством облегчения ухватившиеся за набор лозунгов, которые стоят того, чтобы быть побитым полицией. Как «длинное жаркое лето» негритянских волнений в США, так и первая крупная волна терроризма на Западе генетически были связаны с психологическим аспектом китайской «культурной революции».
Конечно, было в этом много от преходящей моды, мальчишеского упрямства и бунта ради бунта. Но в тогдашних триумфах «позднего маоизма» было, наверное, и нечто большее, нежели мода. «Культурная революция», наблюдаемая издали, известная только по сообщениям печати, не могла оставить равнодушным никого, кто сохранил юношескую потребность в братстве и справедливости или по крайней мере сознавал, что буржуазная интерпретация смысла жизни полностью обанкротилась.
То, что предлагала тогдашняя действительность молодым людям на всю оставшуюся Жизнь, было прежде всего скучно. Ведь даже европейское толкование коммунизма, в распространенном его понимании, сводилось к тому, что после завоевания власти надо добросовестно трудиться, старательно приумножать созданное и заботиться о сохранении личных и гражданских добродетелей. Зато «культурная революция» обещала вечное, никогда не кончающееся приключение, призывала разрушать и расчищать поле, отвергала существующее понимание зла и добра. Если китайские студенты смогли опрокинуть прогнившую систему обучения, почему того же самого не удастся добиться французским или американским студентам? Если такая большая страна смогла ввести у себя, как тогда думали, благородное и полное равенство в точном смысле этого слова, почему, собственно говоря, надо оставлять безнаказанным буржуйское чванство в Чикаго или Амстердаме? «Учиться у китайцев» — одно это было примечательным фактом из истории социальной психологии; а ведь два и уж тем более три поколения тому назад считали очевидным, что учить надо «желтых» и «диких».
Такая повсеместная увлеченность китайским примером порождена была в первую очередь коренящейся в психике каждого нового поколения потребностью в «чистом и светлом» мифе. Тоской по утопии, без которой человеческие сердца заплывают жиром, а мозги костенеют.
В этой тоске не было ничего, что само по себе Заслуживало бы осуждения с моральной или интеллектуальной точки зрения. Оплевывание зарубежных дипломатов, поджог британского посольства в Пекине, разрушение древних статуй — все это можно было спокойно признать издержками, неизбежными в ходе всякого большого революционного движения. Тот момент, когда молодой человек отвергает общепринятое социальное зрение и начинает воспринимать мир глазами отверженных, — это одновременно и момент, когда принимается новая система ценностей. В прошлом это случалось неоднократно и, вероятно, произойдет еще не раз.
СХХVII. Шведский журналист Ханс Гранквист описывает в своей книге «The Red Guard»[55] первый день «культурной революции» в Шанхае.
23 августа на рассвете главная улица города, которая во времена концессий называлась Нанкин-роуд, а в этот день была переименована в Антиимпериалистический проспект, заполнилась десятками тысяч людей, самым старшим из которых было по двадцать с небольшим лет. Они несли множество красных флажков, портретов председателя Мао и транспарантов, на которых чаще всего встречалась такая надпись: «Мы критики старого мира и строители нового!»
Хунвэйбины вторглись сперва в два универмага, еще частично остававшихся собственностью капиталистов, где продавали предметы роскоши, товары, ввозимые из Гонконга. Все было сброшено с полок, радиоприемники разбиты, фарфор растоптан. На стене универмага «Вин Он» был вывешен плакат такого содержания: «Пока капиталистический «Вин Он» находится среди нас, до тех пор у рабочих не будет достаточного количества металла, чтобы преодолеть горы и реки. Этот универмаг должен немедленно перейти в собственность народа. Отныне он переименовывается в «Хунвэй» — „Красная гвардия“».
С частных и кооперативных магазинов по всему Антиимпериалистическому проспекту были сорваны все вывески, надписи и рекламные объявления, взамен которых были водружены транспаранты с лозунгом: «Да здравствует председатель Мао!» С особенной яростью разбивали магазины косметики и кожаной обуви; товары швыряли на улицу, кое-где даже сжигали. Был вывешен наскоро сочиненный плакат, которым осуждался сам факт ношения кожаных ботинок. Разгромлены были лучшие парикмахерские. На улице начали задерживать тех, кто был одет в «костюмы из Гонконга», то есть в одежду западного покроя, и сдирать или рвать ее, как явное доказательство преклонения перед капиталистическим образом жизни. После каждой очередной победы над пережитками капитализма раздавались пронзительные звуки свистулек и грохот бубнов.
Ночью были закрыты все без исключения католические и протестантские церкви, буддийские пагоды, конфуцианские святилища. Часть храмовых помещений была разбита, литургические сосуды выброшены на улицу, у статуэток Будды отбивали животы и головы. С постаментов сбрасывали бронзовых львов, охранявших в прошлом иностранные банки и корпорации, срывали надписи с латинским шрифтом, а знаменитые куранты на башне таможни, которые вот уже шестьдесят лет являлись символом Шанхая, были поставлены на службу «культурной революции»: нашли механика, который, переделал нежные звоночки курантов, чтобы с башни отныне раздавалась боевая песня хунвэйбинов «Алеет восток».
Созданы были специальные патрули, преимущественно из студентов, которые занялись поисками и уничтожением книг. Правда, не всех: гнев хунвэйбинов распространялся или на дореволюционные издания, в том числе древнейшие памятники печатного искусства, или на книги, изданные после 1949 года, но вышедшие из-под пера лиц, попавших впоследствии в черный список. Сожжены были почти все экземпляры книги Лю Шаоци «Как стать хорошим коммунистом», которая в течение четверти века считалась в китайском революционном движении одной из самых оригинальных и важных теоретических работ. Сожгли многотомные сочинения виднейшего китайского поэта Го Можо, который, впрочем, сам этого потребовал.
Хунвэйбины овладели городом за 48 часов. Население города составляло около десяти миллионов. Численность штурмовых отрядов хунвэйбинов по самым тщательным подсчетам зарубежных корреспондентов не могла превышать ста тысяч человек, включая в это число и детей, которые, вне себя от счастья, сопровождали колонны хунвэйбинов, разжигали костры и били зеркала. К тому же шанхайское движение хунвэйбинов, на месяц запоздавшее по сравнению с крупными северными городами, не имело никакой поддержки среди местных партийных органов и местного армейского гарнизона.
И все-таки «культурная революция» в Шанхае увенчалась полным успехом. Выводы, которые сделал из этого Пол Пот, оказались достаточно красноречивы.
СХХVIII. Поражает сходство между этим описанием и рассказами о первом дне власти «красных кхмеров» в Пномпене. Весьма сходная или идентичная мотивировка борьбы с «пережитками капитализма». Народный гнев, направленный против косметики, обуви, электронной аппаратуры, модной одежды. Физическое насилие над «лицами, идущими по капиталистическому пути», причем без какой бы то ни было судебной процедуры или чего-либо похожего на суд. Безграничная ненависть ко всему импортному, иностранному, заимствованному, неизвестному простым людям. Отчаянная решимость уничтожить блага старой, а следовательно, вредоносной культуры. Неистовство разрушения, выглядящее как некий искупительный акт, ибо в хунвэйбинах с первого момента живет сознание, что уничтожение свершается ради того, чтобы потом строить. И наконец, одинаковая, абсолютная, лишенная каких бы то ни было внутренних сдерживающих начал диктатура безликой толпы. Толпы, которая не занимается грабежом. Толпы, чей жестокий гнев чист, как огонь, ибо никто в ней не стремится улучшить лишь собственную, личную судьбу, ибо каждый стремится ко всеобщему благу и всеобщему равенству. Такая толпа — это не чернь, мечтающая о разграблении шикарных магазинов, это не пьяный, никчемный сброд, которому не раз удавалось повернуть на многие годы вспять течение истории. Такая толпа, если ее разумно направить и вовремя подсунуть ей соответствующие лозунги, может в какой-то миг восприниматься как истинный глас народа. Глас народа никогда не бывает так громок, если нет для этого повода.
Сходство между событиями в Китае и в Кампучии заходит так далеко, что можно говорить об идентичности. С той лишь разницей, что китайская «культурная революция» остановилась на полпути, а в Кампучии была доведена до логического конца.
Историческая возможность, которой располагал Пол Пот, выразилась в том, что в результате совершенно исключительного стечения обстоятельств он получил в свою власть целый народ и осуществил над ним социальный эксперимент в не имеющем прецедентов масштабе. Никому, никогда и нигде, по крайней мере в новое время, это в такой степени не удавалось из-за разного рода причин внутреннего и внешнего порядка. Но зачатки подобных концепций можно обнаружить в прошлом, даже не столь отдаленном, так как любое «окончательное решение» выглядит намного привлекательнее, чем медленная езда на ослином хребте истории. Нет доказательств, что предпосылки таких умозаключений отброшены раз и навсегда.
Через пятьдесят лет про черепа в Прейвенге забудут. Масштаб событий в Кампучии скоро сузится — в сопоставлении с событиями прошлого, которые имеют больший резонанс и более удачливых летописцев, или в сопоставлении с событиями, которые впереди и которых никто не может предвидеть. Отсюда важность Greuelgeschichte, ибо они приходят на помощь профессиональным историкам, фиксируя момент, который ими никогда пережит не будет. Однако есть вещи и поважнее. Например, весьма существенный вопрос: может ли Кампучия повториться?
CXXIX. «Характерной чертой привилегий и каждого вообще привилегированного положения является разрушение человеческих сердец и умов. Человек, привилегированный в политическом или экономическом отношении, — это человек, развращенный интеллектуально и морально. Это социальный закон, из которого нет никаких исключений, закон, относящийся к целым нациям, классам и социальным группам, а также ко всем личностям. Это закон равенства, высшее условие свободы и человечности» (Михаил Бакунин. «Кнутогерманская империя и социальная революция». Цитируется по английскому переводу).
СХХХ. Доктрина «культурной революции» (во всяком случае, в варианте, предназначенном на экспорт) имела четыре важных, хоть и редко выделяемых элемента, без понимания которых нельзя объяснить ни столь широкого увлечения ею, ни такой массы книг, которая посвящена этому довольно кратковременному и в конце концов бесславному эпизоду китайской истории.
Считается, во-первых, что она была логическим продолжением так называемого «китайского пути», реакцией на бессильный пессимизм, вызывавшийся азиатской действительностью. Она как бы возродила надежды, характерные для левонастроенной молодежи пятидесятых годов, а потом развеявшиеся под напором фактов и сомнений. Ее сочли возвращением к истокам, к простым и чистым истинам «Великого похода», к вере в то, что нет такой нищеты и таких бедствий, которых нельзя быстро ограничить, а лет за двадцать и полностью преодолеть. Китай опять предстал перед миром как «иная» страна, которая последовательно руководствуется легко понятными в Азии лозунгами и стоит вне подозрений в имперских и соглашательских махинациях, страна, на свой лад бесстрашная и удивительная. Разрядка, улучшение отношений между Востоком и Западом, ядерные соглашения — все это лишь в Европе представляется необходимым и очевидным. Для многих жителей Азии, причем не только склонных к левизне, эти понятия зачастую означают совсем иное. Выступая против «сговора сверхдержав», Китай мог тогда рассчитывать на сочувственный отклик даже и за пределами Азии. Весь этот реквизит, иногда забавный, вроде тысячи «серьезных предупреждений» в адрес Соединенных Штатов, иногда поэтичный, как метафора председателя Мао насчет «восточного ветра», иногда вызывающий недоумение, как, например, понятие «бумажного тигра», включенное в принципы государственной политики, — все это, казалось, возрождало китайскую легенду первого Десятилетия.
Во-вторых, «культурная революция» заново провозгласила абсолютное равенство, толкуемое буквально и не допускающее исключений: начиная с одинаковых полувоенных курток, всеобщего рационирования продовольствия и дефицитных тканей, кончая равными правами рядового и маршала. Лишь спустя годы обнаружилось, что сама «императрица» Цзян Цин отнюдь не злоупотребляла аскетизмом, а часть средних кадров КПК, даже те, кто поддержал новые идеи председателя, по-прежнему пользовалась привилегиями, о которых тогдашние хунвэйбины ничего или почти ничего не знали. Но выявилось это значительно позже. В начальной фазе «культурной революции» лозунг полного эгалитаризма занимал в ее программе главное место.
С моральной точки зрения это неуязвимый лозунг, если принять тот специфический взгляд на мир, о котором сказано выше. Этот лозунг неизменно притягателен для наиболее достойной части молодого поколения в странах очень бедных или очень богатых, так как в первых островки богатства, а во вторых островки нищеты одинаково бросаются в глаза.
К тому же абсолютное равенство служит исходным понятием для более широких умозаключений. Оно дает возможность осознать, что, предоставленный самому себе, человек чуть ли не сразу начинает обрастать вещами, вырабатывает собственнический инстинкт, подсознательно, стремится к тысяче неравенств, которые вскоре обратятся против его же интересов, против того же собственнического инстинкта. Вековая трагикомедия мелкого буржуа, ненасытность его желаний давно известны ученым и литераторам. Бакунин подметил это целых сто лет назад. В отчаяние приходил из-за этого Дюркгейм, полемизировавший с Сен-Симоном. Выхода тщетно искали, в сущности, все представители раннего этапа радикальной общественной мысли, от Сореля до Лабриолы, от Спенсера до Макса Штирнера[56]. Суть спора можно было бы свести к двум формулам: первая гласит, что сперва надо разрушить, чтобы затем строить заново, согласно второй — надо взять дело в свои руки и строить дальше уже на правильных основах. Это относится и к материальным явлениям, и к нематериальным, то есть к нормам, законам, традициям и формам общественной жизни. Спор этот, в сущности, до сих пор не угас, а ход истории придает ему все новые и новые масштабы.
Сочинения Мао Цзэдуна, не говоря уже о примитивных рассуждениях Линь Бяо, не соотносятся с историей этого направления в европейской мысли. Но как раз в данном случае это не так важно. Для решения дилеммы равенство — неравенство массам подчас достаточно, одного четкого лозунга и собственного инстинкта, о природе и действенности которого Не должен судить никто, кто с ним не сталкивался.
В-третьих, лозунги «культурной революции» были ударом по одному из самых застарелых, почти нерушимых принципов привычной для Азии этики — всевластию стариков. Культ зрелого возраста и особенно седовласой старости выступает здесь как явление, которое в Европе не имело аналогий даже в эпоху полного патриархата. Любой склеротический бред автоматически обретает черты мудрости и морального императива, если исходит из уст старика; неизменность, длительность и поддержание преемственности равнозначны единственно допустимому моральному порядку. Беспрекословное послушание тем, кто старше возрастом, распространяющееся даже на старших родственников, является мерой человеческой ценности.
Теперь молодые и гневные бунтари могли стать наконец правы. Могли дать волю негодованию по поводу несправедливости в мире и в собственной стране, безнаказанно обвинять стариков в отходе от революционных идеалов и многочисленных компромиссах. Более того, они, молодые, не обросшие барахлом, должны были стать силой, преобразующей мир. Значение такой силы, для которой сам факт биологической молодости важнее, чем образование, характер или взгляды на дальнейший ход истории, неплохо понимал, например, гитлеровский рейхсюгендлейтер Бальдур фон Ширах. Его речи конца тридцатых годов, собранные в томе «Революция в воспитании», — это непревзойденный до сих пор образец мифологического культа молодости. Фон Ширах издавал даже специальный журнал «Воля и мощь», в подзаголовке именовавшийся «неустрашимым изданием». Девиз его гласил, что в журнале «обретают голос творческие силы молодости».
Этот всеобъемлющий призыв к молодости как таковой везде, а особенно в Азии, не может не вызвать непредвиденных последствий. Те, кто решился на этот шаг, должны были хорошо знать, что молодое море зальет гораздо больше островов, чем предусматривалось планами. Но зато этим людям были обеспечены стихийная поддержка и даже, пусть на короткое время, чье-то полное самоотождествление с идеями «культурной революции», даже в таких странах, где культ стариков не был самой обременительной проблемой.
В-четвертых, и это главное, «культурная революция» обещала, как казалось, долгосрочное решение проблемы, с которой на протяжении четырех поколений не могли сладить левые мыслители, — проблемы власти. Последняя должна была отныне иметь источником непосредственный наказ народных масс, без «парламентского мошенничества», и вместе с тем исключить атрибуты чьей бы то ни было, кроме, разумеется, председателя, персональной несменяемости. Вечный и бдительный надзор революционного народа должен был уберечь власть от чиновничьих навыков, косности, непотизма, коррупции, недостатка воображения. Никакие заслуги не могли отныне стать иммунитетом, ни одна ступень власти не могла отгородиться от вопросов, которые ставит непосредственно народ, минуя созданные ранее механизмы.
Существует точка зрения (высказываемая, впрочем, лишь западноевропейскими исследователями), согласно которой у Мао не было другого выхода и пришлось привести в движение страшную разрушительную силу, чтобы разбить окостеневшие структуры власти на местах, призвать к порядку новых, заплывших жиром мандаринов. Более того, «культурная революция» должна была стать постоянным, если не вечным явлением, во всяком случае, периодически повторяющимся, чтобы впредь власть не становилась самостоятельным институтом и не возникал разрыв между ее структурами и волей народа.
Эта точка зрения не могла не импонировать троцкистам, которые вот уже полвека кричат о необходимости «перманентной революции» и предают анафеме само существование социалистического государства. А также анархистам, среди которых не все стоят на умственном уровне батьки Махно.
«Культурная революция» — как ее восприняли на Западе — была по всем данным первой за много лет новой интеллектуальной и моральной инициативой. Она соединяла элементы всех больших и малых ересей последнего полувека, возводила в высокий ранг второплановые явления в радикальных революционных течениях, давно уже названные неосуществимой утопией или того хуже. Она позволяла пересмотреть генезис всех ходовых понятий, обратиться к истокам, выдвинуть вечные вопросы о границах общественного порядка и месте личности в непрерывном потоке истории. О форме социальной утопии, без которой жизнь народа превращается в пекло.
CXXXI–CXL
CXXXI. Эти соотнесения с Западом не просто отступление. Они являются неотъемлемой частью того логического ряда, без которого нельзя понять события в Кампучии.
Если внимательно приглядеться к существу действий Пол Пота, можно прийти к ошеломляющему выводу, что идеология «Ангки» была в гораздо большей степени плодом западноевропейского варианта маоизма, чем чисто азиатским продуктом. Приблизительно так же могло бы выглядеть государство «красных бригад» в Италии, группы Баадер-Майнгоф в ФРГ или самых крайних разновидностей партизанского движения в городах Латинской Америки. Вернее сказать, не государство, ибо данное слово почитателями «урочного часа» предано анафеме, а какая-то трудно определяемая форма социальной жизни. Эти люди так и не представили позитивной программы, не считая набора общих фраз, но трудно ведь видеть в них, во всех без исключения, патологических убийц или одержимых клинической антропофобией, как Мэнсон. Конечно, выводы в их рассуждениях иррациональны, но в рациональном характере исходных посылок действительно трудно сомневаться, если ты видел на Западе что-то кроме витрин, на виа Национале и читал что-нибудь кроме бульварных вечерних газет.
То же самое можно сказать о группе Пол Пота. Исходные посылки почти все поддаются рациональному объяснению, а выводы ввергают в изумление. Вопрос в целом гораздо сложнее, чем в том случае, если бы речь шла просто о каком-то «азиатском безумии».
Если есть различия между «европейской» и «азиатской» психикой (хотя пользование такими понятиями всегда граничит с шарлатанством), то всего явственнее они проявляются в момент, отделяющий принятие решения от свершения первых конкретных действий.
Европейцы (и американцы) стараются максимально сократить промежуток времени между выработкой решения и началом действия. В Азии этот промежуток подчас бесконечно долог. Европа и Америка — community of doers, общество деятельных людей, представляющееся им достаточно исправным или хотя бы сознающим имеющиеся недостатки. Сегодняшняя Азия — это время, плывущее сквозь пальцы, неповоротливость всего материального, отсрочки и оттяжки. Не поддается пересчету количество верных решений, оздоровительных реформ и далеко идущих планов, которые никогда не были проведены в жизнь, и не по причинам принципиального характера, а потому, что каким-то образом и неизвестно где расплылись или завязли в повсеместной немощи. Все замедляется и тормозится азиатским давлением: меркнут цвета слов, размывается смелость мысли. Убийственный климат играет, вероятно, существенную роль, традиция тоже. Но есть в этом и нечто большее, хоть и трудноопределимое, но ощутимое в каждой отдельно взятой стране. Влияние великих азиатских верований и философских учений, которые гораздо раньше приняли во внимание существование вечности, чем это сделали народы позднейшей средиземноморской культуры? Естественный закон минимализации усилий ввиду их очевидной бесцельности? Накопленная мудрость поколений, согласно которой человеческие надежды очень редко осуществляются в форме, приближенной к идеалу?
В какой-то степени это сказалось и на азиатских революциях. Моменты подъема быстро сменялись здесь периодами застоя и медленных изменений. Нетерпеливость, столь характерная для постоянного состояния умов в Европе и Северной Америке, выплескивалась в короткой вспышке, а потом преображалась в неторопливую суетню. Это и была та инерция, то доводящее до отчаяния сопротивление истории, против которого выступила группа Пол Пота в публицистике пятидесятых годов. Пол Пот был, пожалуй, единственным из сторонников радикальных преобразований в Азии, кто воевал против азиатской инерции с самого начала своей деятельности, ибо ни в произведениях Мао, ни в индонезийской или вьетнамской партийной публицистике, ни в речах Ким Ир Сена, ни в сохранившихся высказываниях Сухэ-Батора мы не найдем призыва к спешке или указаний на то, что время не терпит.
Идеи крайнего радикализма соблазнительны для тех, у кого есть повод их разделять, но они не могут долго оставаться в сфере абстракции. Спустя какое-то время их горячность уменьшается и они переходят в мелочную и кислую брюзгливость или в граничащее с паранойей желчное отрицание. Попросту говоря, наступает такой момент, когда надобно или приступить к изготовлению бомб и расстановке участников покушения, или расстаться с неосуществленными мечтаниями и найти себе какое-нибудь занятие с восьми утра до шести вечера с перерывом на ленч. Скука не уживается с революционной психологией; действие — это единственный критерий радикализма. Но выводы эти справедливы лишь для Европы и ее заморских ответвлений. У жителей Азии понятие скуки в принципе отсутствует. В большинстве азиатских языков нет даже слова, которым можно было бы выразить это понятие.
Люди «Ангки» были с этой точки зрения типичным продуктом европейских тревог, нетерпения и воли к быстрому и эффективному действию. Слишком много лет они прожили во Франции и слишком глубоко прониклись картезианско-прагматическим способом мышления.
В этой широкой перспективе стираются различия между студенческими выступлениями в Западном Берлине и захватом Шанхая хунвэйбинами, между убийством Альдо Моро и уничтожением «кру сангкриэч» в Кампучии, между похищением Карла фон Шпретти и поджогом британского посольства в Пекине или взрывом католического собора в Пномпене. Все эти непонятные и неправдоподобные события конца шестидесятых годов и их запоздалые модификации в следующем десятилетии можно расценить как вызов существующей действительности, неторопливой истории и окаменевшему социальному устройству. Если даже признать это временной аберрацией, непреложным останется факт, что таковая имела место. Если даже мы обнаружим тонкие идеологические различия между Руди Дучке и, например, Кхиеу Самфаном, это не будет опровержением принципиального интеллектуального сходства в рассуждениях этих людей, а также общности происхождения их взглядов, которая восходит к принципам китайской «культурной революции».
Нынешний спад волны экстремизма в Европе и отказ китайского руководства от главных лозунгов «культурной революции» ничего не доказывают. В истории случалось, что циклические приливы и отливы в настроениях общества чередовались так же, как приливы и отливы на море. Сдвиги вправо, триумфы консерватизма, периоды пассивности и отчаяния бывали в прошлом неоднократно и каждый раз оказывались явлением временного порядка, кратким или длительным, но в любом случае эпизодическим.
Какие размеры приобретет и в какой форме проявится через несколько или более лет новая волна радикализма? Кто и где пустит в Ход взрыватель?
Это не пророчества Нострадамуса[57], а скорее логическое осмысление проблем, которых «культурная революция» в конечном счете не решила. Подобные выводы были недавно сделаны двумя довольно видными учеными. Первый из них, Тони Негри, профессор политических наук в Туринском университете, был арестован по обвинению в причастности к похищению Альдо Моро. Второй, по имени Малколм Колдуэлл, профессор политических наук Манчестерского университета, последовательный сторонник крайнего радикализма в Азии, был 23 декабря 1978 года застрелен неизвестным в гостинице «Руайяль» в Пномпене. Эти двое могли, конечно, заблуждаться. А может быть, в чем-то и были правы?
СХХХII. Через несколько недель после возвращения из Индокитая я публично рассказывал в двух швейцарских городах, в Базеле и в Цюрихе, о том, что я видел в Кампучии. Мои выступления вызвали не только изумленное молчание аудитории, состоявшей главным образом из студентов и рабочих, но затем и лавину вопросов, самыми важными из которых были: как это могло случиться и почему мы до сих пор об этом ничего не знали? Сказанное мною встретило также небывало яростные и шумные возражения со стороны группы молодых, интеллигентных и хорошо одетых людей, которых мне снисходительно охарактеризовали поначалу как местных маоистов. В обоих городах были срочно напечатаны листовки с протестом против «приглашения польского агента социал-империализма». У входа была устроена небольшая демонстрация. Из зала летели острые, провокационные вопросы, заученные наизусть и не оставлявшие сомнений относительно их китайского источника. Дело дошло до бурной дискуссии, если здесь вообще применимо такое определение.
Два факта придали этим инцидентам дополнительный, может, даже более глубокий смысл.
В обоих городах я выступал в старых зданиях, которые вот уже несколько поколений принадлежат различным рабочим партиям и организациям. В Базеле это был некогда известный отель «Мериан». Собрание происходило в «Кафе Шпитц», в зале на втором этаже, где в 1869 году заседал Конгресс I Интернационала. В Цюрихе я выступал в том самом Голубом зале местного Народного дома, где 9 января 1917 года Ленин говорил о войне и мире. В память об этом была установлена бронзовая доска, висевшая прямо над трибуной. В старинных, не тронутых войной швейцарских городах есть стены, которые были свидетелями всей истории левого движения в Европе, с первых его шагов. «Базельские колокола» слышали и чахоточный кашель юношей, пытавшихся исправить мир, и холодные, трезвые споры о том, что необходимо и что осуществимо.
Вопросы, заданные мне молодыми маоистами, буквально совпадали с вопросами, которые мне несколькими днями раньше задала группа молодых людей на встрече в одном из больших польских городов. Эти молодые поляки, мучимые потребностью какого-то четкого самоопределения, не умели при всей начитанности, интеллигентности и своеобразной искренности отличить плоский конформизм от побрякушек антиконформизма на словах. Маоистами они, однако, не были. Совсем наоборот. Они повторяли аргументы и формулировки, услышанные в передачах западных радиостанций. И бессознательно становились объектом очередной манипуляции, интеллектуальная примитивность которой в этом случае внушала особую тревогу.
Не думаю, что это было всего лишь весьма забавное стечение обстоятельств. Les extremes se touchent[58], это факт, но почему?
СХХХIII. Боязнь конформизма, идейного приспособленчества, эмоционального оскудения бывает страшной и действенной силой в современном индустриальном обществе. Ее нельзя рассматривать только лишь в социологических категориях, ибо источник ее в глубочайших пластах человеческой психики, ибо она рождается как крик протеста против мучительной анонимности «одинокой толпы». Эта сила может парализовать здравый рассудок, зачеркнуть свидетельства собственных органов чувств. Самоопределение через анархическую «непохожесть», с помощью эпатирующего наряда, поведения или экстравагантных взглядов — это самый распространенный, ибо самый легкий для молодых людей, метод компенсации тех экзистенциальных тревог, которые лишь в зрелом возрасте получают меланхолическую интерпретацию.
Иногда наоборот: полное растворение в единодушной толпе дает еще большую компенсацию. Но в круге европейской культуры так бывает гораздо реже.
CXXXIV. «Неизвестно, чем нам быть. Неизвестно, как согласовать равенство с неограниченным правом приобретать вещи, труд — со свободой, скандинавский порядок — с итальянским хаосом, нищету Гаити — с мирным и мудрым благосостоянием долины Неккара, личную индивидуальность — с неизбежной стандартизацией каждой отдельно взятой промышленной цивилизации, призыв к полноте человеческих свобод — с призывом к суровой средневековой дисциплине, бездумность — с идейностью, пессимизм — с сопротивлением, которое само по себе означает несогласие с пессимистическим толкованием истории. Неизвестно, чего мы по-настоящему хотим и как, в сущности, должен выглядеть мир на пороге будущего столетия…»
Так рассуждает по крайней мере известная часть современной молодежи, разочарованная чуть ли не во всем существующем, но не верящая и в будущую гармонию. Сам факт, что хотя бы часть самых горячих и способных к размышлению умов пребывает в состоянии неопределенности, в колоссальной степени облегчает возможность манипулировать ими. Мир до краев наполнен предложениями и рецептами; все меньше людей в состоянии поступать так, чтобы действия не противоречили их подлинным стремлениям. Манипуляция, если она проводится умно и не слишком бросается в глаза, имеет свои достоинства. Она избавляет людей от необходимости думать на свой риск и страх, освобождает от мук, связанных с поиском истин, которым стоит хранить верность. И вот один конформизм заменяется другим, каждый требует лояльности, предельной активности и полной идентификации. Отступничество чревато бойкотом; попытка время от времени подойти к лозунгам реалистически встречается презрением и вызывает обвинения в примитивном оппортунизме. «Красные бригады» в таких случаях приводят в исполнение приговоры «предателям», а для других бывает достаточно иронической усмешки или презрительного жеста.
Далеко не все способны отличить конформизм от продуманной системы взглядов. Многие считают отрицание — любое отрицание — единственным достойным человека состоянием. Точно так же рассуждал когда-то Пол Пот.
CXXXV. Петр Владимиров рассказывает в книге «Особый район Китая», как последние три года пребывания в яньаньских пещерах Мао Цзэдун занимался, в сущности, лишь интригами и устранением одного за другим возможных претендентов на трон.
У меня нет поводов приписывать книге Владимирова евангельскую непогрешимость. В ней много, на мой взгляд, недомолвок и сокращений, много и категорических утверждений, которые сегодня кое в чем кажутся сомнительными. Но основных приводимых Владимировым фактов отрицать невозможно. Жаль, что они стали известны лишь сегодня. Ни Эдгар Сноу, ни Агнес Смедли, никто вообще из западных журналистов, побывавших тогда в Особом районе, не оставили достоверных свидетельств о происходившем в Яньани. Напротив, независимо от политических взглядов они содействовали рождению мифа, хотя их трудно в этом винить, ибо в океане человеческого бесправия, подлости и бедствий новая Четвертая армия действительно представлялась последней и единственной надеждой.
Свидетельства, исходящие от чанкайшистов, не стоят даже упоминания. Они предназначались для конкретного американского адресата из разряда таких, дискуссия с которыми бесцельна.
А ведь именно тогда формировались основные предпосылки явления, которое позже получило наименование маоизма. Тогда родился «великий, бессмертный и нерушимый» принцип, согласно которому надо бить по своим и со своими бороться, ибо среди них чаще всего зарождается зловредная оппозиция и губительное для дела сомнение в его целях или методах. Принцип был назван «чжэнфын» — беспрерывная борьба за упорядочение стиля работы. На практике речь шла о том, чтобы привести в движение центробежный механизм, отбрасывающий в небытие тех людей, которые в какой-то момент ошиблись, обронили неосторожное слово или попросту недостаточно верили в гениальность и непогрешимость председателя. «Чжэнфын» или вечная чистка на всех уровнях, мотивированная несущественными или прямо-таки абсурдными поводами, стала отличительной чертой китайской партии задолго до того, как это было замечено за границей. Особенность «чжэнфына» в том, что он не может быть одноразовым действием, ибо каждый день заново родятся неправильные взгляды, вирус сомнения или неповиновения проникает в умы даже испытанных бойцов. Ныне известно, что «чжэнфын» был использован председателем Мао для ликвидации оппозиции внутри партии. Вместе с тем независимо от субъективных намерений конкретного руководителя существует и объективный механизм, политическая сущность которого достойна более внимательного изучения.
Итак, всевластие «осеннего министра» Кан Шэна, одного из самых страшных людей, какие появились в нашем столетии на китайской политической сцене. Его тень проходит сквозь всю историю «Великого похода» и первое двадцатилетие после победы революции. Созданная им тайная полиция и надзирающая за ней сверхполиция не имеют, по-видимому, аналогий, если даже обратиться к широко известным примерам из истории других стран. В марте 1927 года Кан Шэн руководил уличной борьбой шанхайских рабочих и, как многие думают, явился прототипом одного из героев «Удела человеческого». А потом он прекратил борьбу против буржуазии и занялся борьбой против коммунистов — внутри партии. Это он, знавший на память десять тысяч биографий и миллион донесений разведки, был единственным испытанным другом Мао во время его пребывания в Яньани, подобрал председателю привлекательную жену, годами собирал «материалы» на главных деятелей партии и руководил ликвидацией целого ряда внутрипартийных «заговоров». Ибо, согласно его терминологии, никогда не существовало оппозиции против линии Мао, были лишь заговор, мятеж, диверсия. Трудно удивляться, что решения XX съезда КПСС этот человек воспринял как угрозу ему лично.
В 1966 году Кан Шэн стал советником Группы по делам культурной революции при Центральном Комитете Компартии Китая. Пришел его звездный час: теперь он мог безнаказанно уничтожить любого, кто хоть раз проявил недовольство всевластием «осеннего министра» или не рукоплескал, когда должен был это делать.
В послесловии к польскому изданию книги Владимирова Анджей Халимарский кратко подытоживает кадровую политику Мао в отношении партийных работников центрального уровня.
Гао Ган, член Политбюро, заместитель премьера, один из самых отважных бойцов революции, был обвинен в создании «антипартийного блока», долгие годы был в заключении и подвергался издевательствам, умер в тюрьме, покончив якобы жизнь самоубийством.
Кай Фын, руководитель коммунистического молодежного движения. Исчез одновременно с Гао Ганом, умер при невыясненных обстоятельствах в 1955 году.
Маршал Пын Дэхуай, член Политбюро, легендарный полководец революции, принципиальный и смелый противник экономических безумств Мао Цзэдуна. Арестован в декабре 1966 года, публично допрашивался на «митингах борьбы», с черной доской на груди, со связанными за спиной руками, оплеванный, избитый, замученный. По всей вероятности, убит, причем без применения огнестрельного оружия.
Чжан Вэньтянь, кандидат в члены Политбюро, переводчик Толстого и Оскара Уайльда, виднейший идеологический работник партии. Во время «культурной революции» его водили на веревке по улицам Пекина в белой шапке позора и с черной доской на груди. Об обстоятельствах его смерти ничего не известно.
Ван Цзясян, член Политбюро, в «яньаньский период» входивший в узкое руководство партии. Его беспрерывно доставляли на «митинги борьбы» со связанными назад руками, подвергали оскорблениям, оплевывали. Вскоре он умер.
Ли Лисань, бывший генеральный секретарь ЦК КПК. Не выдержал пыток, покончил жизнь самоубийством.
Профессор Ли Да, семидесятилетний старик, член ЦК, участник учредительного съезда КПК. Избитого, его волокли на веревке в Ухани.
Маршал Чжу Дэ, создатель китайской Красной армии, герой всех великих битв революции, человек, который до самого конца имел смелость выступать в защиту старых товарищей, которых унижали и уничтожали Мао и Кан Шэн. Стал объектом самых яростных нападок со стороны хунвэйбинов, которые осквернили даже могилу матери маршала. Не было таких обвинений и оскорблений, которым бы не подвергся крупнейший полководец китайской революции.
Список, составленный Халимарским, длинен. В него входят бывший президент и бывший премьер КНР, министр иностранных дел и еще два заместителя, секретарь Мао (он же главный соавтор известных статей председателя) и даже зять маршала Е Цзянина, пианист, которому поломали суставы рук, чтобы он не мог больше исполнять «ревизионистскую музыку». У каждого из этих людей были за плечами долгие годы борьбы, бедности и солдатской службы. Каждый из них до последней минуты оставался верен идеалам китайской революции. Это они вернули в свое время Китаю чувство достоинства и веру в собственные силы. Они умели побеждать и извлекать уроки из поражений. Они создали великое государство и партию, которая по крайней мере в первые пятнадцать лет дала массам, ранее пребывавшим в апатии, еду два раза в день и при жизни одного поколения устранила самые застарелые из несправедливостей. Именно они, те, кого волокли на веревках, кого оплевывала воющая толпа, кто в один день был лишен всех постов и права на уважение, явились первой и главной жертвой «культурной революции».
Что же, признать все это «издержками» революции? Неужели «Великий поход», начало которому было положено в туберкулезных лачугах Кантона и Шанхая, который обошелся в сотни тысяч жертв, был предпринят на самом деле лишь для того, чтобы «осенний министр» Кан Шэн мог составлять секретные списки и рассылать осведомителей на «митинги борьбы»?
Это не просто исключительный случай местного, азиатского значения. Увлечение мифом «культурной революции» или, шире, своеобразием китайского пути должно быть объяснено без всякого оппортунизма или детской разочарованности. Тем более что в Китае «культурную революцию» затормозили, прежде чем она достигла конечной цели, но в Кампучии та же самая концепция была реализована до конца. Дальше Пол. Поту идти было уже некуда. Для новых экспериментов попросту не хватило бы людей.
Поэтому об истинном значении «культурной революции» следует спорить и тут, на берегах Меконга.
CXXXVI. Написать, что «культурная революция» была бесчестным обманом, жалкой и кровавой комедией, призванной скрыть от мира имперские замыслы обезумевшего под старость тирана и интригана? Так может написать всякий. Почти всякий. Значение таких оценок невелико, ибо они не дают ответа на важнейший вопрос: почему бессчетное множество людей позволило обмануть себя этой комедией? Или отстаивать справедливость этой «революции», стоя у колодца в Прейвенге, где содержится человек в жидком состоянии? Объяснять, что намерения были благими, а исполнение никудышным? Признать правоту ликующих мещан, которые давно ведают, что всякие там революции не имеют смысла и обязательно кончаются, так сказать, спорами между лидерами? Перечеркнуть двадцать лет собственных исканий, иллюзий, восхищения китайским примером и китайскими мифами?
Можно попросту пожать плечами, сказав, что со времен капрала Бонапарта процесс коронования выскочек время от времени повторяется и не впервые под холщовой рубахой можно обнаружить длинную косу мандарина. Нет повода отчаиваться. Ведь при каждом очередном повороте истории намечаются новые точки отсчета. Может быть, государственные интересы, законы безудержной гонки, стратегические расчеты и вправду сильнее какой бы то ни было утопии?
Да. Но это все произошло также и в Китае.
CXXXVII. Я начал журналистскую работу 1 октября 1949 года, в тот самый день, когда в Пекине на площади Тяньаньмынь председатель Мао провозгласил образование Китайской Народной Республики.
Помню, с каким волнением после первых трех часов моей профессиональной деятельности я слушал по радио последние известия. Это было первое большое политическое событие, которое я комментировал в печати неуклюжим, топорным языком восемнадцатилетнего «зэтэмповца»[59], употребляя такие слова и аргументы, от которых и сегодня у меня высыпает крапивная лихорадка. По чисто субъективным причинам я как бы отождествил эволюцию собственных взглядов с позднейшей историей Китая. Никакая другая страна в мире меня до такой степени не интересовала, хотя, по иронии судьбы, я там никогда не был. Я прочитал множество книг о Китае, собирал вырезки, быстро научился различать трехсложные фамилии. Я знал наизусть историю «Великого похода», на чудом раздобытом плане Шанхая мог показать места боев во время мартовского восстания[60]. А потом начались мои странствия по дальним уголкам Азии, и субъективное пристрастие дополнилось сознательной убежденностью. В какой-то из ранних книг я написал, что индийский путь скомпрометирован терпимостью к буржуазии; помню долгую беседу с индийским врачом: он говорил, что ненавидит китайцев, революцию и всякое насилие, но должен признать, что китайские коммунисты обещали крестьянам еду два раза в день и в общем сдержали слово, чего, в Азии никогда раньше не случалось; этим автоматически отметаются все аргументы против них. Я записывал многочасовые монологи индонезийских деятелей, мысли которых были все время обращены к китайскому примеру. Злосчастный индонезийский мятеж 1965 года я не колеблясь объяснил происками ЦРУ, чьи действия в Азии мне были хорошо известны. Мне и в голову не могло прийти, чтобы Пекин мог хладнокровно обречь на уничтожение целую братскую партию Азии. Во время первого этапа «культурной революции» я работал в Нью-Йорке и не написал по этому поводу ни слова критики. После инцидентов на реке Уссури я опубликовал статью, сводившуюся примерно к следующему: это прискорбный конфликт, но он носит временный характер, и не следует делать далеко идущих идеологических выводов.
Только благодаря случаю я стал свидетелем такого политического акта Китая, который для себя определил как ренегатство. В сентябре 1972 года я слушал первую речь заместителя министра иностранных дел Китая в общей дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН. Не я один был в тот момент буквально ошеломлен. В этом тексте не было уже «бумажных тигров», «восточного ветра», глубоких мыслей председателя. Осталась лишь грубая и хладнокровная Realpolitik[61]. He было и намека на идеологическое обоснование, во всей речи ни разу даже не было помянуто официальное название страны. «Китай» — и все. Потом неожиданности пошли одна за другой: демонстративные визиты Штрауса, почести, оказанные Шлезингеру, приглашение Камерона, а затем торговля между Китаем и ЮАР и непонятное, невообразимое сердечное согласие с чилийской хунтой. Объятия и поцелуи, которыми встречали в Пекине посланцев Пиночета, одним махом навсегда перечеркнули пятнадцать лет иллюзий, которые питали левые силы в Латинской Америке.
Я снова принялся за чтение, и обнаружилось, что в молодости некоторые тексты прочел наспех и невнимательно. Мао нельзя отнести к числу выдающихся умов.
Кроме действительно новой теории народной войны и актуального, по-видимому, и сегодня анализа крестьянского вопроса в Азии, его произведения (во всяком случае, те, которые переведены на иностранные языки) не содержат столь глубоких и оригинальных суждений, чтобы их автора считать мыслителем. Он, бесспорно, был опытным политиком, хладнокровным и расчетливым государственным деятелем. Но таких после войны было несколько, и ни один из них не объявлялся пророком новой эры. Знаменитая работа Мао «Относительно противоречия», которая когда-то произвела такой фурор, не содержит ни одной мысли, неизвестной Энгельсу. Успех этой брошюры объясняется тем, что ощущалась потребность в аргументации подобного типа. Книга Алю Шаоци «Как стать хорошим коммунистом» — это произведение, которое могло бы оказаться интересным для молодежи двадцатых годов, а ныне напоминает скорее доминиканские молитвенники, набитые перифразами, пышными изречениями и простодушными признаниями.
Нет нужды сегодня отпираться от тогдашнего восторга. От юношеских увлечений лекарства нет. Так и рождаются всякого рода мифы. Общественный спрос на мифы всегда превышал возможности их удовлетворения. Поэтому подробности имеют второстепенное значение, а иногда и никакого не имеют. Люди, нуждающиеся в мифе и разумеющие под ним чистые и ясные понятия, за которые стоит умереть, если возникнет такая необходимость, доскажут мысли, которых нет в оригинале, и сложат мелодию, чтобы сухое рассуждение превратилось в песню и боевой клич. Так было всегда, и будем надеяться, что председатель Мао не похоронил последнего мифа в истории человечества. Но ведь когда-то будет необходимо отвергнуть очередной миф и заново выяснить факты. Это горькое и болезненное занятие, но оно необходимо, как хирургическая операция. Китай, который держится вместе с Пиночетом и стал партнером фашистов из Претории, никак нельзя оценивать той мерой, какой я пользовался в прошлом. Наверное, следовало бы проанализировать внешнюю политику этой страны. Но это тема другой работы, за которую я возьмусь не скоро.
CXXXVIII. Вероятно, нигде обстановка, в которой умирает миф, не производит такого впечатления, как в Кампучии. Многие до меня пережили аналогичный момент, может быть, в более драматических обстоятельствах. Но со мной это произошло впервые.
CXXXIX. Я написал, что у меня нет повода сожалеть о судьбе буддийского духовенства в Кампучии. Но чем это, в сущности, отличается от согласия на убийство евреев, которые «живут ростовщичеством», славян, которые «грязны и не умеют ничего толком организовать», цыган, которые «крадут», да наконец, и французов, которые делают «l'amour» вместо того, чтобы делать «Ordnung»? Есть ли какое-либо средство, чтобы безошибочно отличать одобрение социально оправданного насилия от морального соучастия в убийстве? Может быть, первое одобрение одного акта насилия и есть та самая ошибка, от которой идет новая цепь зла?
Уйти от этого вопроса еще хуже. Отказ от всякого насилия из страха перед моральной ответственностью — это не что иное, как молчаливое одобрение всей азиатской или латиноамериканской нищеты и горя, которых не устранили и, вероятно, никогда не устранят никакие постепенные реформы. Отказ от насилия и мысль о том, что его можно заменить молитвой, мирной работой или чем-нибудь еще, могут в конечном счете привести к выводу, что колониализм, например, имел свои пороки, но в сущности был не так уж плох. Или завести в бездонные глубины ходячего гуманизма: ах, мадам, как люди злы, известное дело, своя рубашка ближе к телу, так всегда было и будет. Или к скоротечному отмиранию совести: они бедны, потому что ленивы. Или к философии Мильтона Фридмана: чем хуже, тем лучше; больше страха — больше счастья; чем острее конкуренция, тем лучше результаты.
В лучшем случае отказ от насилия приводит к беспомощному и покорному смирению перед лицом хронических нелепостей этого мира. Его проповедует в Азии — с величайшей охотой, из глубоких гуманистических побуждений — самый подлый эксплуататор, задушевная мечта которого сводится на деле к желанию, чтобы все осталось, как есть.
CXL. Во время тяжелых, кровавых боев за здание шанхайской полиции Чен из «Удела человеческого» огорчен тем, что не до конца слился с товарищами по штурму. Он обвиняет себя в колебаниях и анархическом индивидуализме, но в то же время понимает, что свойственные ему представления не вмещаются в рамки намеченной руководителями восстания тактической линии. Смерть Чена не случайна, это результат сознательного выбора. Он решил, что для людей, в такой степени раздираемых сомнениями, нет места в рядах борцов, а вне этих рядов он не мог жить.
Смерть Чена оказалась, однако, совершенно бесполезной и даже в какой-то степени нелепой. Она ни на миг не приблизила победы; трудно даже поручиться, не отдалила ли ее.
CXLI–CL
CXLI. Это путешествие на край ночи выглядит бесконечным. Я начал с оскорбительно грубых слов, а теперь ударился в поиски евангельских добродетелей; еще немного, и здесь зазвучат ноты экзистенциалистской проповеди. Такое уже много раз случалось. Затем экзистенциализм незаметно переходит в пессимистический нигилизм, а после этого остается лишь плевать в собственную физиономию. А при случае и во всех тех, кто этого сам не делает.
Но через полчаса начнет светать, надо приготовиться к очередному выезду. За одну ночь я исписал восемнадцать страниц путевого дневника, а потом их количество (уж я себя знаю!) разрастется до сорока. Польза от них сомнительна. Непосредственно с Кампучией они не связаны. А если распространяться обо всем, что имеет к ней косвенное отношение, придется написать трилогию и тут же спрятать ее поглубже в ящик письменного стола.
Восемнадцать страниц мелким почерком. Набросок чистосердечной исповеди. Или что-то в этом роде. Но сделан он наспех, с довольно рискованными выводами, так что вполне может возбудить подозрение. Собственноручное разгребание мифов — это процедура ужасно неэстетичная. Как обычно, ничего не теряют те, кто никогда в жизни ни в какой миф не уверовал. Их безупречная совесть скептиков издалека сияет блеском непорочности. Во всяком случае, сами они в этом убеждены. Люди, которые дурно о себе думают, достойны не сочувствия, а безжалостной насмешки.
CXLII. Четырнадцатого февраля мы снова вылетели в Пномпень. Было обещано, что, если позволит обстановка, мы останемся в столице на ночь. Разумеется, только на одну ночь.
Состав нашей группы несколько изменился. Не стало венгров, то и дело задававших много всяких вопросов, присоединились болгары, вместо одной советской группы прибыла другая. Приехали также двое западных корреспондентов. Первый, убийственно элегантный, сразу же получил прозвище «господин-товарищ». Второй, фотограф, таскал на спине выцветший мешок и сильно чернил брови. Его жирные выцветшие волосы доходили до самых плеч. На помятом лице — черные круги под глазами и следы внушающей тревогу истерии.
Город по-прежнему пуст. Как нам сказали, в Пномпене живет уже две тысячи человек. Это одна десятая процента от прежней численности населения. Но нигде в центре города нам эти люди не попадались. Военных было, как и раньше, много, но они меньше бросались в глаза, чем два дня назад.
Наш верный «Изусу» отвез нас с аэродрома в город. Теперь он нам казался большим усталым животным. Толкать в такую жару автобус весом в четыре тонны было мучительным занятием, и мы придумали одну хитрость, чтобы мотор не глох при торможении. Однако «Изусу» обиделся, хитрость не удалась. Водитель во всем этом не участвовал: он знал, что животных и автомашины нельзя безнаказанно оскорблять.
CXLIII. Сперва мы поехали осматривать то что осталось от Национального банка. Здание вместе с сейфами было взорвано 17 апреля 1975 года, по всей вероятности, около двух часов дня, то есть через два часа после взятия города, хотя существует версия, что это было сделано лишь на следующий день. Интересная деталь. Я разговаривал с двадцатью четырьмя лицами, находившимися тогда в Пномпене. Но никто из них точно не помнит момента взрыва, хотя он наверняка был слышен во всем городе. Как видно, шок, связанный с немедленным выселением, заслонил все прочие впечатления.
Разрушению Национального банка Пол Пот придавал идеологическое значение: раз и навсегда отменялись всякие деньги, прапричина человеческой неволи и унижения. «Красные кхмеры» не имели при себе никаких денег и не видели повода, чтобы деньги были у кого-либо другого. Обломки католического собора были убраны и вывезены, но развалины банка демонстративно оставались в неприкосновенности, чтобы они служили вечным напоминанием. На разбитом фронтоне здания виднелась даже надпись: «Banque Nationale du Cambodge». Это была вторая, и последняя надпись, которую я видел в этом городе. Вероятно, так был создан монумент, изображающий крах капитализма.
В радиусе одного километра от руин Национального банка улицы буквально устланы бумажными деньгами. Ветер разнес их по канавам, газонам и крышам, развесил на деревьях и живых изгородях. Подчас живописные гроздья банкнотов было трудно отличить от ярких цветков. Дерево, увешанное деньгами, — зрелище настолько редкое, что нам пришлось к нему какое-то время привыкать, прежде чем начать фотографировать.
Двери главного хранилища вырваны зарядом тротила. Во внутреннем дворике, куда заезжали когда-то бронированные фургончики, длинными рядами стоят ящики с новенькими банкнотами и мелкой монетой. Мы разбили один из ящиков. Я взял пачку, в которой был миллион риелей. Она была завернута в тонкий пластик и запечатана контролером из Мюнхена. Банкноты Лон Нола, с прекрасной филигранью и тонкой платиновой проволочкой, печатались в ФРГ, в отличие от денег Сианука, который предпочитал японские типографии. Для Пол Пота деньги были отпечатаны в Пекине, но так и не появились в обращении. Я взял еще шестьсот тысяч риелей в других купюрах. Теперь у меня было больше полутора миллионов. Четыре года назад это соответствовало почти ста тысячам американских долларов (во всяком случае, по официальному курсу, так как на черном рынке курс доллара был гораздо выше). Теперь я таскал с собой кучу мусора, годившегося лишь на оклейку туалета.
Одновременно с уничтожением местных платежных средств было запрещено иметь иностранную валюту, облигации, золото, векселя, акции, нумизматические ценности. Речь шла не о реформе, а о полной ликвидации, всяких форм экономической жизни, даже таких, которые были известны за тысячи лет до зарождения капиталистического строя. Это трудно себе представить, но именно таково было в течение сорока четырех месяцев положение в Кампучии. Само по себе изъятие денег из обращения (мера в Европе известная) еще не равнозначно упразднению экономической жизни: функцию денег вскоре начинает выполнять натуральный обмен или какая-либо иная процедура, базирующаяся на единой, хотя бы приблизительно, мере стоимости. Но Пол Пот стремился как раз к ликвидации этой единственной меры.
Этого добились весьма простым путем: производство продовольствия было на сто процентов цетрализовано, как и его распределение. Низкие нормы делали невозможным возникновение у людей каких-либо излишков, которые можно было бы обменять. Этим исключался натуральный обмен, ибо нет на свете товара более ценного, чем продовольствие, особенно в положении, которое немногим отличается от голода. Продовольствие — основа основ экономической жизни, элементарный товар, от которого берут начало все другие понятия: стоимость, цена, не говоря уж о денежном обращении. Обращении, которое в определенной системе понятии выступает как самое гнусное из человеческих изобретений, безотносительно к тому, что служит единой мерой: ракушки, скот, золотые монеты, железные кружочки или бумажка с типографским рисунком.
К тому же в Кампучии было ликвидировано само понятие собственности на что бы то ни было. Никто не имел права владеть горшком, кроватью, будильником.
Нам рассказывали про «коммуну», в которой даже палочки для риса, то есть вещь еще более личного характера, чем в Европе зубная щетка, являлись коллективной собственностью. Были окончательно устранены и такие традиционные причины экономических различий, как расходы на услуги, транспорт, лечение, культуру или даже на закупку одежды.
«Ангка» создала систему централизованного планирования и распределения, не имевшую, абсолютно никаких аналогий в истории, даже если принимать в расчет совершенно исключительные ситуации военного времени. Это был идеал централистской эконометрии: малейшее движение молекулы имело свою меру и было подчинено единой идее, осуществлявшейся четко и последовательно. Неупорядоченность мира была преодолена в такой степени, которая и не снилась почитателям «великого порядка». «Коммуна» Пойпаэт производила, например, довольно большие излишки риса. Но вся местная продукция немедленно отправлялась на районные склады, и лишь оттуда рис поставлялся в «коммуну» для того, чтобы обеспечить питанием ее жителей. Двукратная перевозка одного и того же продукта представляется расточительством, но это лишь в том случае, если признавать существование единой, а значит, капиталистической по своей сути меры стоимости. Система же, в которой идеология полностью заменяет экономику, таких понятий вообще не знает. Это был прямой товарооборот, стоявший вне всяких законов нормальной экономики, бухгалтерского учета и критериев логики. Деньги и впрямь были больше не нужны: чтобы вести такое хозяйство, вполне достаточно знать четыре действия арифметики.
Два или три раза в год «коммуна» Пойпаэт бесплатно получала партии белья и одежды, иногда весьма элегантной, которую привозила армия из оставшихся без владельцев городских лавок. Вероятно, поэтому в пномпеньских магазинах мы видели все, какие есть на свете, товары — кроме одежды и тканей.
Никаких других потребностей жителям «коммуны» иметь не полагалось. Пользоваться обувью было запрещено. Промышленные товары, вроде часов или швейных машин, считались абсолютным излишеством. Мыло с успехом заменял щелок, зубную пасту — бетель.
Сорока четырех месяцев мало, чтобы выветрить из человеческих мозгов память о том, что деньги когда-то существовали. Но этого срока достаточно, чтобы само понятие владения чем-либо, а также определение имущественного положения по наличию вещей или их денежного эквивалента были в сознании народа полностью скомпрометированы. Не случайно в Пномпене никто не покушается на товары, которые в других местах являются предметом соблазна. Потому, вероятно, в Кампучии замерла всякая экономическая жизнь, даже такая, которая существует еще в обществе, находящемся на краю гибели.
Среди возвращавшихся крестьян нам несколько раз попадались женщины с ожерельями из старых индокитайских пиастров, изъятых из обращения сорок девять лет назад. Это небольшие кружочки из скверной бронзы, продырявленные так, чтобы их можно было нанизать на нить. Металл, из которого они сделаны, почти ничего не стоит. Ценность их, в сущности, равняется нулю. Ожерелья из старых пиастров выполняли, по-видимому, какую-то психологическую функцию — совершенно абстрактную, не связанную ни с какой реальностью.
CXLIV. В двухстах метрах от банка пролегала незаметная узкая улица, угол которой был наполовину прикрыт раскидистой листвою баньяна. Я машинально повернул туда, и через минуту пришлось зажмурить глаза.
По обеим сторонам тянулись ювелирные мастерские и лавки торговцев серебром, без дверей и витрин, как принято в Азии, зиявшие широкими ямами темных помещений. Их было около сорока, одна подле другой. У стен валялись сорванные и поломанные вывески. Когда-то здесь продавали богатым туристам знаменитые серебряные изделия работы кхмерских мастеров, неизменно красивые, почти не стилизованные, тщательно отделанные вручную посредством той техники, которой восхищались столетия назад.
Улица буквально засыпана серебром. Мостовая и тротуары покрыты тысячами, может, даже десятками тысяч ваз и тарелок, различных чаш и сосудов. Кованые подсвечники, богато оплетенные орнаментом, литые фигурки задумчивых слонов и львов, полированные лбы кхмерских демонов, которые развешивались в домах побогаче в качестве то ли амулета, то ли украшения. Тяжелые рулоны тонкого листового серебра высочайшей пробы, палочки серебряного припоя, мотки серебряной проволоки, серебряные уши, серебряные ноги, серебряные крышки и подставки. И опять сваленные беспорядочной грудой, раздавленные и помятые чаши, кубки и потиры.
Куда ни глянь — ничего, кроме серебра. Его мягкий темно-серый блеск торжественно освещал улицу, сглаживая тьму опустелых лавок. Передо мной валялось примерно пять, а может, и семь тонн серебра, правда, не самой высокой пробы, но все-таки серебра, которое в Азии было временами даже более редким, чем золото.
Я пошел вдоль мостовой. Хруст помятого металла оглушал, временами переходил в напев, повторяемый эхом, подобный нежному звону небольшого церковного колокола.
CXLV. Вход во дворец бывшего французского губернатора Камбоджи забит досками. Но достаточно было сдвинуть их наспех приколоченные концы, чтобы проникнуть внутрь дворца.
Я оказался в просторном сводчатом вестибюле, к которому, надо полагать, подъезжали когда-то экипажи. Здесь было чуть прохладней и почти темно; в воздухе носился запах гари и затхлой пыли. С минуту глаза осваивались с туманным полумраком помещения.
Посреди вестибюля высилась куча пепла и обгоревших бумаг примерно в метр высотою и по площади квадрат четыре на четыре метра. По краям виднелись пепельные гармошки сожженных книг, позолоченные корешки которых слабо просвечивали сквозь черноту обуглившегося дерева. Как видно, бумаги горели слишком медленно, и приходилось подбрасывать в огонь ножки антикварных кресел; кончиком ботинка я слегка разгреб пепел: из груды выглянули какой-то старый пергамент с надписью на кхмерском языке, затем погнутая застежка от молитвенника или атласа, а потом не догоревший до конца свиток каких-то документов.
Я осторожно вытянул верхнюю часть пожелтевшего листа. Это была старая рифленая бумага в линейку, с хорошо различимыми водяными знаками. С левой стороны шла надпись, сделанная теми мягкими, словно шелк, чернилами из чернильного орешка, сепиевый цвет которых можно было распознать с первого взгляда: «Le Gouverneur». Справа дата: 18 августа 1868 года. Дальше шел рукописный текст, который невозможно было прочитать, потому что огонь уничтожил как раз нижнюю часть первой строки и все последующие.
С этими документами не ознакомится уже ни один историк: ни кхмерский, ни французский, ни какой-либо другой. Во дворце сожгли все архивы, библиотеку и, по-видимому, зал старых гравюр, потому что в остатках костра местами виднелись их обгоревшие клочки, а у входа лежал помятый офорт с изображением пастушеской идиллии в Лотарингии.
Я поднялся по лестнице немного выше, все время спотыкаясь о предметы, которые в темноте нельзя было даже приблизительно опознать. Через щели в жалюзи пробивались яркие солнечные лучи. В приемном зале я увидел разбросанные матрацы, котелки, ножны от штыков, ржавые автоматные диски. Под окнами стоял ящик с китайскими патронами, на котором отчетливо виднелась черная цифра — 800. Как видно, в этом дворце размещался взвод истребителей книг.
Был когда-то такой фантастический роман — «451° по Фаренгейту». Его автор — Рэй Бредбери[62]. Он появился в польском переводе лет двадцать тому назад и был весьма популярен. Действие происходит в неопределенном будущем, в некоем государстве, где было решено превратить телевидение в главное средство управления человеческим мышлением и приказано уничтожить все книги. Специальные отряды преданных правительству солдат долгое время занимались охотой за книгами, журналами и всем, что имело отношение к печатному делу. Жгли даже чистую бумагу. При температуре 451 градус по Фаренгейту бумага обугливается.
Как видно, в области фантастики нет вымыслов настолько неправдоподобных, чтобы они позже не сделались реальностью.
CXLVI. Ровно в двенадцать на аэродром Почентонг прибыл премьер-министр СРВ Фам Ван Донг. В этом городе-призраке каждая деталь торжественного церемониала приобретала особое значение.
Рота почетного караула насчитывала восемьдесят два молоденьких солдата кампучийской армии в новеньких, с иголочки, мундирах и таких же головных уборах китайского покроя. Их руки в безупречно белых перчатках сжимали новенькие автоматы китайского производства, наверняка только что со склада.
К самолету «Як-40», на котором прилетел вьетнамский премьер, протянули красный ковер. У трапа стояло все руководство ЕНФСК в черных костюмах, белых рубашках и одинаковых галстуках жемчужного цвета. На этом фоне выделялась яркая узорчатая юбка нашей знакомой доктора Чей Каньня.
Командир роты почетного караула, в мундире без знаков различия, зато с белоснежным поясом, салютует высокому гостю саблей. Какое-то время он возится с портупеей и рукоятью, потом молниеносным движением выхватывает клинок и с полминуты держит его перед собой, не произнося ни слова.
Премьер-министр Фам Ван Донг молча идет вдоль фронта почетного караула. Солнце печет немилосердно, будто вся его энергия устремлена на этот пустой, погруженный в молчание аэродром. Под безоблачным небом носятся птицы в ярком оперении, стайками усаживаются на антенну и стабилизаторы самолета, порхают прямо над головами. Их щебет — это единственный звук, нарушающий мертвую полуденную тишину.
Премьер дошел до конца строя и остановился. Тогда грянул оркестр, скрытый за шеренгами солдат. Эту мелодию я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Из инструментов, которым я не подберу даже приблизительных названий — что-то вроде дудок, однострунных скрипок, четырехствольных флейт, гонгов, челест, гармоник, — обрушился ливень звуков, таких беспредельно печальных, что озноб шел по коже. Этот хорал или траурный плач звучал как вопль отчаяния и смертельного ужаса; сквозь нестройные причитания пробивался раздирающий душу мотив из нескольких нот, почти соответствовавший европейской гамме. Его выводили солдаты на своих флейтах или дудках, вторя монотонному уханью тамбуринов и стонам гонгов. Так прозвучали бы трубы, призывающие на Страшный суд, траурный псалом по всему человечеству, гимн «Dies irae»[63], возглашаемый на пепелищах атомной войны.
Никто не мог объяснить, что это за мелодия. Может быть, оркестр играл какой-нибудь старый народный мотив или древнюю «Песнь после битвы». Не думаю, чтобы это мог быть национальный гимн: нигде, кроме Азии, его нельзя исполнить.
Оркестр на мгновение смолк. Потом главный барабанщик поднял руку, и раздались с трудом различимые звуки «Интернационала». Перед той частью, которая соответствует словам: «Это есть наш последний…», оркестр оборвал мелодию посредине такта. Официальная часть церемонии была закончена.
Овации в честь вьетнамского гостя раздались ста метрами дальше. Сбоку от стартовой полосы, в высокой, до колен, траве, собралось около четырехсот гражданских лиц. На женщинах были новенькие саронги с цветастыми узорами и только что привезенные со складов сандалии. На мужчинах были блестящие черные ботинки, шерстяные брюки и светлые рубашки. Транспарант с надписью на двух языках, призывавший укреплять кхмерско-вьетнамскую дружбу, опустили чуть пониже. Операторам надо было заснять сцену встречи так, чтобы транспарант попал в кадр.
Потом наш длинноволосый фотограф кинулся на капот машины, в которую сели Фам Ван Донг и Хенг Самрин. Он несколько раз вскакивал на крыло, щелкал своими бесчисленными фотоаппаратами, пока его помятое лицо не выразило высшую степень экстаза. «Господин-товарищ» затеял ученый диспут с Герхардом. Японец фотографировал зенитное орудие. Карлос хохотал как сумасшедший: мир казался ему беспредельно забавным.
Мы столкнули с места наш «Изусу» и отправились завтракать.
CXLVII. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Двадцать один год назад я впервые услышал, как пели этот гимн бастующие докеры в Сурабайе. В прошлом году я пел его вместе с тремя тысячами смуглолицых бедняков на рабочем митинге в индийском штате Керала. Я слышал его на китайском, на вьетнамском, на сингалезском языках, на языке телугу, в малайском просторечии, на диалектах неизвестных наименований. В поездках по Азии мне всегда были наиболее интересны встречи с местными коммунистами, поэтому у меня несколько другой круг впечатлений.
В этой части света гимн Потье обычно трудно распознать по первым двум строкам текста. Азиатская поэзия в принципе отличается от европейской по своей ритмической организации. Наша гамма претерпела изменения в многотоновом наборе азиатских звуков. Да и само понятие пения, в особенности хорового, означает здесь скорее декламацию, чем воспроизведение мелодии. Но достаточно на момент вслушаться, чтобы не осталось сомнений, что это за слова, о чем эта песня. Нигде еще в мире, кроме, может быть, Латинской Америки, этот текст не имеет столь выразительного звучания. Я говорю о странах, где понятие «враг» сохраняет ту же определенность, какую оно имело во времена парижских коммунаров или рабочих Москвы и Лодзи в 1905 году, — где в понятии «проклятьем заклейменный» по-прежнему нет никакой неясности.
Быть в Азии белым коммунистом — это значит таскать за собой багаж бесконечных споров, бремя сомнений, горькую правду о проклятых деньгах, из-за которых в каждом поколении заново рождается мелкобуржуазная мера радостей жизни человеческой. Но это значит также — пережить неописуемое чувство истины, братства и слияния с босоногой смуглолицей толпой, понять ее страдания, разделить надежды. Этого чувства никогда не заменят официальные почести, ордена, награды и даже капризная слава, которая выпадает на долю творений, умеренных по содержанию, свободных от фанатической односторонности. Этой атмосферы братства не поймет никто, кроме хоть раз ее ощутивших. Пафос братской солидарности — достаточная награда за годы компромиссов, промахов и переживаний. За утренние часы, когда, глядя в зеркало во время бритья, чувствуешь неприязнь к самому себе, и за ночи, когда после яростной ссоры с бывшими друзьями приходит пустая и усталая тишина.
Во всяком случае, так было до недавнего времени. Я прочел, однако, в старом номере газеты «Монд», что, когда 3 декабря 1977 года сюда прибыл китайский вице-премьер Чэнь Юнгуй, оркестр «красных кхмеров» тоже исполнял «Интернационал». Это происходило на том же аэродроме Почентонг, вероятно, на том же месте.
Могу это сразу же объяснить. Аргументов достаточно. Их всегда хватает. Все уже было. Нет сомнений, которые нельзя успокоить, подобрав подходящий пример из недавней или давнишней истории. Каждый неприятный факт можно без слов утопить в болтовне. Значительная часть моих профессиональных действий — это как раз такая болтовня.
Человек всегда является продуктом определенной формации, классовой среды, того или иного исторического периода. Момент, когда он отрекается от собственной родословной, надеясь отождествиться с чем-нибудь получше или хотя бы поудобнее, непременно тянет за собой ту печальную цепь последствий, которую еще недавно называли изменой. Психология крысы, бегущей с тонущего корабля, решительно не отличается от психологии человека, который обжегся на шестьсот сорок восьмом повороте истории и заявляет, что он ошибался.
Кому изменить? Этим парням в смешных белых перчатках, которые начинают свою жизнь со службы стране, превращенной в кладбище? Этим милым девушкам, которые впервые за четыре года надели блузки, узорчатые саронги и новенькие сандалии? Чью сторону принять? Может, офицеров Лон Нола, больше сотни которых наверняка пережило это время в Таиланде? Или новых сагибов, которые посиживают теперь на террасах своих великолепных вилл в Симле, Бангкоке и Куала-Лумпуре, с удовольствием комментируя тот забавный факт, что красные передрались между собою? Где та чистая вера, без примеси лжи и распрей, не искаженная компромиссами, достойная человека, на которую мне стоило бы поменять свои потрепанные в бурях лозунги? Если история и вправду не может обойтись без противоречий, мук и периодов хаоса, я, подобно многим, которые были до меня и будут после меня, предпочитаю остаться на стороне тех, кто провозглашает хотя бы необходимость перемен и не желает мириться с вечной несправедливостью этого мира. Я обязан так поступать, даже если это значит быть contra omnes[64], занимать позицию анахроничную и труднозащитимую в свете, так сказать, некоторых фактов.
История отнюдь не пришла к концу. Здесь, в Азии, она, правду сказать, только начинается — после веков пассивности, молчания, обреченности. Я предпочту отдать свою совесть на суд этих босых, смуглолицых, неграмотных, не умеющих даже как следует пропеть «Интернационал», чем представить ее на аналитическое рассмотрение людей, находящихся по ту сторону баррикады, безотносительно к национальности и цвету кожи.
Под раскаленным добела небом Кампучии всякое притворство теряет смысл.
CXLVIII. После полудня мы завтракали в отеле
«Руайяль». Это большое здание в неопределенном стиле, сооруженное в начале столетия, облицованное мрамором. В нем пропасть веранд, вестибюлей, крытых галерей. На нескольких его этажах когда-то били фонтаны, в мраморных бассейнах плавали экзотические рыбы. Здание полностью сохранилось, исчезли только дверные ручки, ключи и засовы. К нашему удивлению, в умывальных кранах булькала ржавая вода, можно было включить электрическое освещение, и даже, что было на грани сверхъестественного, действовало старенькое климатическое устройство фирмы Норелько, изготовленное в Бельмонте в начале 50-х годов. По-видимому, нормализация жизни в Пномпене шла успешно.
Мы завтракали в ресторане, отделенном от главного здания мутно-зеленым пятном плавательного бассейна. Игорь, который все знает, сообщил, что в королевские времена в этом бассейне под музыку оркестра и ангельское хоровое пение плавали голые девушки. Но армяне полностью дезавуировали Игоря: они заявили, что он всю жизнь занимается измышлением разного рода красочных подробностей и что это не самая плохая жизнь из тех, которые им известны.
Армяне грызли привезенный с собою чеснок, ломали тонкие веточки кинзы, утирали пот со лба и подсчитывали, какое количество пленки у них осталось.
«Господин-товарищ», привлеченный экзотическим французским произношением Игоря, вступил с ним в разговор об искусстве Индокитая, но вскоре сдался и провозгласил тост «за нашу чудесную встречу».
Карлос убирал под стол шестую бутылку «Наполеона». Солдаты, не в силах скрыть удивления на своих круглых лицах, принесли седьмую бутылку.
Андрей высказал ряд соображений общего характера, проиллюстрировав их анекдотами из-под Вологды и матросскими шутками из Одессы.
Меню состояло из густого овощного супа с соевыми макаронами и ломтиками солонины, обильно заправленного пряностями. В супе плавали кружочки сырого лука и какие-то стебли, похожие на пастернак.
CXLIX. Вечером, когда разъяренное солнце укрылось наконец за край черного горизонта, мы отправились на концерт в честь дружбы кхмерского и вьетнамского народов.
На концерт.
Он происходил в огромном, примерно на тысячу мест, зале Национального театра. Под куполом бесшумно носились летучие мыши, совершенно черные и словно бы косматые. В полосе света, который шел со сцены, кружились мириады москитов, ночных бабочек и крылатых муравьев. По обивке кресел бегали рассерженные пауки огненного цвета.
Ансамбль песни и танца вьетнамской армии исполнил несколько солдатских песен, затем познакомил зрителей с вьетнамским фольклором, уделив особое внимание народному творчеству национальных меньшинств. Были еще танцы, кхмерские и лаосские песни, а также специально сочиненная и исполненная на двух языках кантата в честь кхмеро-вьетнамской дружбы. Затем вышел молодой красавчик с усиками, с набрильянтиненными до блеска волосами и голосом Бинга Кросби исполнил модные песни пятнадцатилетней давности, прижимая микрофон к своим неслыханно чувственным губам. Усилители работали превосходно.
Мы с Мишей выскользнули в фойе, чтобы покурить и стряхнуть с рукавов струи пота. Стены были использованы для организации выставки: на них размещено было более трехсот фотодокументов, показывавших полпотовские зверства (вспоротые животы и обнаженные ребра, сожженные хижины, замученные насмерть люди), освободительную борьбу кхмерского народа (малоизвестные снимки из времен партизанской войны против полпотовцев), момент освобождения (солдаты со знаменем бегут к дворцу, на заднем плане дым и трупы), а также «новую жизнь» (женщина за обмолотом риса).
Красавчик перешел на рок-н-ролл, пугая летучих мышей, вертя узким задом, который обтягивали вполне приличные брюки из светло-бежевого габардина. Неестественность этой сцены настолько бросалась в глаза, что невозможно было удержаться от смеха. Мы оба вышли во двор, в густую жаркую тьму. Солдаты, охранявшие дворец, глядели на нас с интересом и не без симпатии. Но они не знали ни слова на каком-либо иностранном языке, а наше знание кхмерского тоже было не на высоте.
Лишь чуть погодя нашелся парень, неплохо говоривший по-французски. История его жизни коротка: был студентом-медиком в Пномпене, бежал из «коммуны», полтора года воевал в партизанской армии, брал столицу. Я спросил его, показывая на висевшие вокруг фотографии почему полпотовцы совершили столько злодеянии? Он на минуту задумался и ответил что лонноловцы сделали ставку на американцев, а полпотовцы — на китайцев. Кхмерский же народ должен сам решить свои проблемы. Только сам? Разумеется, сам с помощью друзей из тех социалистических стран, которые уважают независимость Кампучии и желают ее восстановления.
Потом концерт окончился, вышли сотни солдат и небольшое количество молодых людей в штатской одежде. Люди направились к машинам. Мы только сейчас заметили, что рядом находились две заполненные автомобилями стоянки. Там были «мерседесы» с холодными зеленоватыми стеклами, изношенные пожарные машины, американские армейские вездеходы, поломанные фургончики, «форд»-комби, даже новенький мотоцикл «нортон». Все это сразу зафыркало, застучало, загрохотало. На театральном дворе запахло выхлопными газами. Слышались голоса, молодые люди шутили, кое-где флиртовали.
В двадцати шагах отсюда начиналась черная и немая пустыня города.
Ощущение невероятности, воздействие «антиреальности» иногда могут за одну минуту перечеркнуть размышления, которые пять минут назад казались тебе более важными, чем сама жизнь.
Впереди нас ехали два вездехода с сильно вооруженной охраной. Мы ползли сквозь черный зной. В слабом свете нашего «Изусу» возникали все более абсурдные очертания домов, стен и перекрестков, через которые перебегали лишь спугнутые крысы.
CL. Но ведь нельзя все на свете трактовать до такой степени серьезно. Нельзя мучить себя самого только потому, что два разных оркестра играли на том же самом месте одну и ту же мелодию по совершенно разным поводам. Такое сто раз случалось в прошлом, иногда при обстоятельствах более щекотливых. И в будущем случится не раз. Мир от этого не обрушился и продолжает следовать своим путем.
К тому же в путевой дневник закрались истерические ноты. И вдобавок невыносимая, слезливо-душераздирающая политическая эсхатология, в которую я столько раз обещал не ударяться. Журналист должен придерживаться фактов и не совершать, рискуя попасть в смешное положение, вылазок на минные поля философии истории. Журналист должен сохранять чувство дистанции и заботиться о той небольшой дозе цинизма, без которой он ударяется в проповедь или начинает принимать позы, идущие от литературы дурного пошиба. Эта профессия исключает долгие размышления, если хочешь заниматься ею по давно установившимся правилам. Словесное болото коварно и безжалостно по отношению к душам благородным и терзаемым сомнениями.
Не лучше ли поместить все это в перспективу той извечной трагикомической невероятности, которая наблюдается время от времени в различных странах на разных континентах.
CLI–CLX
CLI. Троим из нас отвели номер 14 на втором этаже отеля «Руайяль». Точно не помню, но, если память мне не изменяет, именно там погиб профессор Малколм Колдуэлл.
Я не ошибся. По мраморному полу коридора пробегала параллельно стене струйка засохшей, почерневшей крови и сворачивала в наш номер. Хозяева подтвердили: да, это было здесь. Надо эту кровь смыть.
Убийство Колдуэлла свершилось в ночь с 23 на 24 декабря 1978 года, примерно в 0 часов 50 минут по местному времени. Это произошло при свидетелях, и от них мы знаем, как было дело. Двое американских журналистов, Ричард Дадмен из «Сент-Луис пост диспетч», один из лучших, опытнейших американских репортеров, и молодая, совсем неизвестная Элизабет Бейкер, корреспондентка «Вашингтон пост», ужинали вместе с Колдуэллом в том же самом ресторане по ту сторону бассейна, где теперь питаемся и мы. Эти три человека были последними иностранцами — свидетелями правления полпотовцев. Бейкер и Колдуэлл были приглашены самим Пол Потом, так как публично выразили сочувствие кхмерской революции. Дадмен каким-то чудом, которого он так и не объяснил, получил въездную визу в числе всего лишь семи иностранных журналистов, которым было разрешено посетить Пномпень между 1975 и 1978 годами. О четырех остальных лучше умолчать, так как более подробный рассказ о том, что они сделали, вызвал бы никому не нужный дипломатический скандал, которого хотелось бы избежать. Я бы только с удовольствием посмотрел когда-нибудь в глаза этим своим коллегам.
Ужин закончился вскоре после полуночи. Журналисты немного посидели в гостиной первого этажа, а потом все сразу направились по сбоим комнатам. Когда они поднялись на второй этаж, по лестнице, по этой самой деревянной, слегка скрипящей лестнице, вбежал молодой человек в военной форме без знаков различия и пять раз выстрелил из пистолета в спину Малколму Колдуэллу. Это произошло так быстро, что Бейкер и Дадмен не успели даже укрыться за барьером. Убийца исчез так же внезапно, как и появился. Колдуэлл умер, вероятно, через несколько минут; прежде чем упасть, он сделал еще несколько шагов в сторону своей комнаты. Бейкер и Дадмен стали звать на помощь, одновременно пытаясь остановить кровь, лившуюся из Колдуэлла. Никто не отвечал. Отель был пуст, их голоса падали в полную, бескрайнюю пустоту. В ста тридцати восьми номерах они были совершенно одни. Стоя у тела умирающего товарища, они отчетливо сознавали, что через минуту по деревянной, лестнице может вбежать еще один человек с пистолетом в руке. Они не решались сойти вниз и позвать кого-нибудь. За окнами без стекол колыхалась жаркая всепоглощающая тьма. Их все реже раздававшиеся призывы о помощи тонули в абсолютной тишине мертвого города. Бейкер написала потом, что это были самые страшные четверть часа в ее жизни.
Только через час явился молчаливый полпотовский офицер. Он осмотрел застывший труп Колдуэлла и на ломаном английском языке произнес что-то непонятное. Так они дождались рассвета.
Рано утром солдаты молча убрали труп Колдуэлла. В полдень незнакомый офицер сообщил, что убийца схвачен, но кроме этого ничего не сказал. Вечером Бейкер и Дадмен вылетели в Бангкок, а оттуда в Нью-Йорк. Об убийце никто больше не слышал.
О Малколме Колдуэлле известно очень мало. Говорят, что по внешнему облику он был типичным англичанином, немногослодным, деловым, склонным больше констатировать факты, чем их комментировать. Он преподавал политические науки в Манчестерском университете и задавал студентам трудные, подчас каверзные вопросы. Он заставлял их, как утверждают, сопоставлять свое социальное положение, заработки родителей, историю детских лет и книги, прочитанные в юности, с их теперешними знаниями о мире. Ставил пятерки дерзким отрицателям, которые подавали ему чистые листы, и двойки хорошо воспитанным девицам, пишущим длинно и цветисто. Сам он мало написал, а опубликованные тексты вызывают недоумение чрезмерной интеллектуальной нагруженностью. Может, гениальность, а может, шарлатанство, которое не редкость в политических науках. Известно, что он был одним из немногочисленных западноевропейских интеллектуалов, кто открыто и безоговорочно, по теоретическим соображениям, одобрил действия полпотовцев в можным решением социальных проблем и не скрывал, что капитализм — всякий капитализм, включая сюда и его «ревизионистские разновидности», — отжил свое.
Мне не удалось выяснить, сколько ему было лет, кем он был по происхождению и где учился. Одно известно точно: первая же поездка в Кампучию потрясла его. Увидел он, в сущности, немного: опустевшую столицу, какую-то показательную «коммуну», где риса давали в три раза больше и веселые дети возились под бдительным материнским надзором, мрачных полпотовских дипломатов, декламировавших учебные брошюры «Ангки». Он не скрывал разочарования. Задавал хозяевам ядовитые вопросы. В беседах с двумя американскими журналистами дал волю сарказму и даже сказал, как свидетельствует Элизабет Бейкер, что миф «расходится с действительностью». Заявил также, что после возвращения в Англию намерен пересмотреть свои взгляды.
Потом ему выстрелили в спину.
Прекрасная, мужественная смерть. Не каждому выпадает такое счастье. Пять пуль в спину — щедрая по нынешним временам порция гуманизма для людей, допустивших ошибку в рассуждениях. Если б я знал, где могила Колдуэлла, пришел бы туда с букетом Цветов, Все-таки коллега по профессии, toutes proportions gardées[65].
CLII. В первую ночь в Пномпене ничего особенного не случилось. Мы открыли бутылку «луа мой». Закуска состояла из черствых бисквитов, чеснока и остатков привезенного из дома запаса сигарет «Мальборо». Беседа велась наконец-то только по-польски, отчего споры перед сном приобрели особую конкретность. Каждый из нас возил при себе индивидуальный польский мир, а это взрывоопасный груз, даже в тропиках.
В раскаленной темноте трещали далекие, едва слышные выстрелы. Бесцветные ящерицы бегали по стенам Климатическая установка фирмы Норелько дружелюбно сопела, испуская струи слабоохлажденного воздуха Потом мы натянули москитные сетки и уснули.
CLIII. Почему о том, что творилось в Кампучии целых четыре года, не было ничего или почти ничего известно? Этот вопрос то и дело напрашивается, иногда звучит просто издевательски. Как случилось, что под конец XX века можно было потихоньку умертвить два миллиона человек, при полном неведении всего остального мира? Кто направлял, кто скрывал, кто виновник молчания, царившего тогда, когда надо было кричать?
Но это еще не самый трудный из вопросов, которые можно задать в связи с событиями в Кампучии. Ответ же тривиально краток, как все ответы в случаях подобного рода: об этом действительно не было ничего известно.
Точнее сказать, почти ничего. О выселении людей из городов и о крупных передвижениях, конечно, знали, хотя бы по данным наблюдений при помощи спутников. Но переселения, даже в крупных масштабах, еще не равнозначны геноциду. Известно было, что в Кампучии упразднены школы, торговля и всякий культурный обмен с зарубежными странами. Но то же самое произошло в свое время в Китае, и никто не считал, что это конец света. Не подлежало сомнению, что основой экономики стали в Кампучии «коммуны», но они временами существовали в различных странах, не исключая европейских, и действительно не было повода созывать из-за Кампучии специальные трибуналы.
Во второй половине 1976 года появились отрывочные сообщения о зверствах, творимых полпотовцами, но они вызывали больше сомнений, чем ужаса. В специальном номере американского еженедельника «Ньюсуик», вышедшем в 1977 году, шесть страниц было отведено леденящим кровь рассказам, которые сопровождались сверхреалистическими рисунками, сделанными по показаниям очевидцев. К сожалению, там были сообщения, которые вовсе не подтвердились. Для меня, например, сомнительно, чтобы полпотовцы принуждали население вступать в групповые браки, которым американский еженедельник посвятил целую страницу сентиментально-ужасающих рассказов. Я расспрашивал десятки людей и ни разу не столкнулся хотя бы с одним фактом или даже слухом, который позволял бы в это поверить. Не подтверждается сообщение о том, что людей с четвертой категорией медленно душили, завязывая вокруг головы непроницаемый мешок из тонкого пластика. Я разговаривал с многими жителями «коммун», в том числе и исправительных, — ни один из них не слышал о подобных пытках. Неправда, наконец, что кадровые полпотовские работники присвоили себе в «коммунах» права рабовладельцев, жили по-королевски, принуждали женщин к сожительству и грабили имущество. Было вовсе не так: кроме немногочисленных случаев, когда заводилась отдельная кухня, случаев, которые можно считать исключением из правила, кадровые работники жили очень скромно, не имели собственности и от остальных жителей «коммун», в сущности, ничем не отличались, кроме права иметь оружие и носить обувь.
В течение полутора лет все сообщения о событиях в Кампучии брались из одного источника: рассказы беженцев, которым удалось пробраться в Таиланд и поведать о пережитом американским корреспондентам в Бангкоке. Американская печать не скрывала, что это были почти на сто процентов люди, связанные со старым режимом: богатые купцы, офицеры армии и полиции Лон Нола, местные представители западных торговых фирм. Это не самый надежный источник информации. Примерно то же самое доныне рассказывают изгнанные из Южного Вьетнама владельцы публичных домов, оптовые торговцы опиумом или палачи сайгонских застенков. В канадской провинции Саскачеван я сам когда-то слышал, как бывший шеф безопасности одного из куреней УПА[66] подробно рассказывал (не зная, что в зале находится поляк), как польские крестьяне на Волыни резали его пилой и вбивали гвозди в ладони, не оставляя к тому же шрамов. Любой из беглецов склонен ради собственной выгоды расписывать то, что с ним случилось, дабы это попало на страницы газет или по крайней мере было обоснованием самого факта бегства. Именно поэтому первые сообщения западной печати о массовых убийствах в Кампучии встречены были с недоверием и не склонили поначалу ни одной международной организации к тому, чтобы публично выступить с протестом. С другой стороны, хорошо известно, что американцы не поверили документированному рассказу о ликвидации варшавского гетто. Да и сегодня, слыша о том, что гитлеровские оккупанты уничтожили в Польше шесть миллионов человек, они досадливо отмахиваются. Человеческое воображение многого не в силах себе представить.
Но ведь не все рассказы беженцев были высосаны из пальца. Значительная часть давала хотя бы приблизительное представление о неслыханных масштабах насилия, совершавшегося в Кампучии. Этот факт, несмотря ни на какой скептицизм, должен был привлечь пристальное внимание общественного мнения, в том числе и в нашей части мира. Нет оснований специфичность азиатских революций, действительно не укладывающуюся в европейские понятия, заранее считать оправданием всего происходящего.
За правительства говорить трудно, но от своего имени я могу выступать. Постараюсь в будущем не пожимать плечами, когда надо задуматься хоть на минуту или выступить с протестом. Даже с учетом того, что у меня нет иллюзий насчет тайн западной пропагандистской кухни. Добавлю к тому же, что осенью 1978 года правительство Соединенных Штатов объявило о подготовке документального отчета по вопросу о нарушении прав человека полпотовским режимом. Подробные сообщения по этому поводу на видном месте публиковались в американских газетах. Однако в Женеве, на заседании Комиссии по правам человека, которое состоялось в апреле 1979 года, американское правительство отказалось представить рапорт. И вот об этом американская печать либо вовсе не сообщила, либо напечатала краткие заметки где-то на последних страницах. Пол Пот моментально стал «жертвой агрессии» и в нарушении прав человека был признан невиновным.
Что касается информации, которая шла из Кампучии помимо прессы, то за последние восемнадцать месяцев правления Пол Пота она свелась почти к нулю, во что труднее всего поверить. Практически Кампучия была отрезана от всего мира: въездные визы не выдавались (об исключениях я говорил), была прервана почтовая и телеграфно-телефонная связь, прекратились перевозки, охрана морских и сухопутных границ была предельно усилена. Выселили всех специалистов и корреспондентов. Из столицы начали постепенно выезжать посольства иностранных государств: или вследствие разрыва дипломатических отношений, или из-за невозможности нормально работать. Под конец в Пномпене действовало только пять посольств: китайское. югославское, румынское, кубинское и посольство Корейской Народно-Демократической Республики. Персонал четырех последних не имел права выходить за пределы обнесенных колючей проволокой и строго охраняемых посольских зданий. Два раза в день военные патрули привозили готовую пищу. Раз в месяц один из работников представительства мог воспользоваться правом на выезд в Пекин или в Бангкок. На армейской машине его везли до аэродрома Почентонг всегда по одному и тому же маршруту. Дипломат мог наблюдать лишь пустынные улицы столицы на пути от здания посольства до аэропорта. Иметь автомобили не разрешалось, да и не было возможности заправлять их горючим. Коллективные выезды за пределы Пномпеня не практиковались, лишь один-единственный раз было организовано посещение храмов Ангкорват. Свободой передвижения пользовались только китайцы. Какое бы то ни было общение с населением было по понятным причинам исключено. Официальные контакты поддерживались исключительно через специально назначенных для этой цели сотрудников Иенг Сари, который занимал посты заместителя премьера и министра иностранных дел. Газет не было. Учебные брошюрки «Ангки» предназначались для внутреннего употребления. Радио «Демократической Кампучии» вообще не давало никакой информации о жизни в стране и за рубежом. Ни один иностранец не посещал ни пограничных, ни внутренних провинций страны. Бюджеты посольств равнялись нулю в буквальном смысле слова. «Ангка» взяла на себя обеспечение питанием дипломатического персонала, а билеты на самолет оплачивались за границей, ибо вследствие отсутствия касс, банков и денег не было возможности платить за них в Кампучии. Контакты между отдельными посольствами были чрезвычайно затруднены, встречи происходили обязательно в присутствии представителя «Ангки».
Изоляция Кампучии зашла так далеко, что даже Вьетнам, ее ближайший сосед, не располагал данными о сложившейся ситуации вплоть до конца 1976 года, когда начали прибывать первые беженцы. Я попытался поточнее выяснить, как было дело, ведь если можно, в конце концов, понять полное неведение Европы, то применительно к стране, тесно связанной с Кампучией, оно представляется неправдоподобным. Но факты таковы, что Вьетнам довольно подозрительно отнесся к первым группам кхмерских беженцев, считая их исключительно сторонниками только что свергнутого лонноловского режима, и размещал поначалу в строго охраняемых трудовых лагерях. Только тогда, когда сообщения о злодеяниях начали повторяться, а в приграничных провинциях Кампучии зародилось партизанское движение, в Ханое решили, что кампучийская революция действительно пошла по неправильному пути. Нельзя, однако, отрицать, что первые вьетнамские сообщения на этот счет были опять-таки встречены с недоверием, так как они совпали по времени с пограничными инцидентами, а потом со все более учащавшимися налетами полпотовцев на вьетнамскую территорию. Так, например, опубликованную в Ханое летом 1978 года книгу документов «Kampuchea Dossier»[67] на Западе, в том числе во Франции, назвали «неуклюжей попыткой» дискредитировать режим Пол Пота в отместку за пограничные инциденты. Не получила книга достаточного распространения и в социалистических странах. В сущности, лишь под конец 1978 года, когда число кхмерских беженцев во Вьетнаме превысило 150 тысяч, а число вьетнамцев, убитых в ходе пограничных налетов, стало исчисляться десятками тысяч, в конце концов поверили, что Кампучия стала страной массовых убийств.
Все это, вместе взятое, никому не делает чести, если иметь в виду, что мы живем в последней четверти XX века, что в мире не так много тайн, а опыт прошлого должен же стать наконец каким-то предостережением. Но те, кто усматривает в этом сознательную и широкую акцию, глубоко заблуждаются. Дело в исключительном стечении обстоятельств, в практике вынесения оценок без тщательного анализа и в политике Пол Пота, настолько несообразной, что ее поначалу было трудно понять и никак нельзя было заранее предвидеть.
CLIV. В первые месяцы после захвата власти «Ангка» соблюдала лояльность по отношению к социалистическим странам, в том числе и Вьетнаму. Свержение Лон Нола в социалистических странах расценили как победу прогрессивных сил, и в благожелательных комментариях не было недостатка. Иенг Сари во время своего визита в Ханой еще раз поблагодарил «вьетнамских братьев и товарищей» за помощь в борьбе против режима Лон Нола. Содержание переговоров, которые вел в Ханое заместитель Пол Пота, неизвестно. По-видимому, вьетнамская сторона выразила обеспокоенность в связи с чрезмерно быстрым темпом революционных преобразований и указывала на опасность авантюризма. Вместе с тем это были первые месяцы после изгнания американцев с юга страны. Перед вьетнамским руководством стояли огромные задачи по объединению страны, и нельзя исключить того, что у него не было возможности с надлежащим вниманием следить за развитием событий в Кампучии.
Тем временем внутреннее положение Кампучии с самого начала было далеко не стабильным, несмотря на переселения и разрушение всей социальной инфраструктуры. Уже во второй половине 1975 года вспыхнуло длившееся три года восстание в провинции Сиемреап, которое удалось потопить в крови, лишь направив туда карательную экспедицию из столицы, так как местные силы полпотовцев не могли справиться с мятежниками. Через четыре месяца та же провинция Сиемреап, а также провинция Баттамбанг снова стали ареной серьезных волнений. В мае вспыхнуло восстание в провинции Кандаль, в июне — в провинции Кахконг. В октябре продолжительные волнения охватили пятьдесят общин в провинциях Кампонгтхом и Кампонгчнанг.
Сегодня трудно определить, каков был политический характер этих выступлений. О них известно по-прежнему мало, так как почти все их участники погибли. Возможно, часть мятежей носила контрреволюционный характер: во всяком случае, именно такое объяснение им давалось в пропаганде, рассчитанной на заграницу. В армии Лон Нола было более восьмидесяти тысяч офицеров и солдат, только часть которых была уничтожена в первые же дни. У этих людей был большой военный опыт, они умели обходиться с оружием, большею частью умели читать и писать, и терять им было абсолютно нечего. Но можно с такой же уверенностью говорить, что по крайней мере некоторые вооруженные выступления являлись самообороной, имели народный характер, что не могло не беспокоить хотя бы часть «Ангки».
Первый кардинальный поворот во внешней политике «Ангки» произошел в июне 1976 года, во время конференции КП Кампучии-2. И в этом случае нельзя установить, было ли это пленарное заседание Центрального Комитета или же специально созванная конференция выборных представителей. А может быть, никакого заседания и не было, Пол Пот же представил свою линию как выражение взглядов всей партии, всех «красных кхмеров». Была принята резолюция, в которой впервые излагались откровенно националистические, в первую очередь антивьетнамские лозунги. Вьетнамскому руководству приписывали намерение осуществить замысел создания так называемой «Индокитайской федерации», с которым уже давно, еще в 1951 году, раз и навсегда было покончено ввиду его полной нереальности, хотя бы в силу экономических причин. Стали вспоминать, что империи кхмеров когда-то принадлежала южная часть нынешнего Вьетнама. Было выдвинуто требование заново провести демаркацию границы на море, при этом предметом спора опять стали многочисленные островки, уже более ста лет являвшиеся неотъемлемой частью Кохинхины, а затем Вьетнама. В резолюции впервые появились эпитеты, оскорбительные для вьетнамского народа, в том числе для вьетнамцев, которые испокон веков жили в Кампучии. Но пока еще не было выпадов против СССР и европейских социалистических стран, а также оценок идеологического порядка.
Пол Пот был человеком все-таки образованным, и трудно предполагать, что он сам верил в бредни, объявленные тогда линией партии. Он преследовал, надо полагать, гораздо более глубокие цели, но установить их сейчас можно только приблизительно. По-видимому, следуя обычаю всех диктаторов, он решил опереться на примитивный национализм, видя в нем лучшее средство укрепления диктатуры, великолепное лекарство против внутренних неполадок. С этого момента любой, кто выражал недовольство жизнью в «коммунах», оказывался предателем своего народа. У кхмерско-вьетнамских конфликтов была долгая и запутанная история, в которой так много легенд, накопленных обид и противоречивых версий, что найдется почва для всякого рода манипуляций. Лозунг «революционного национального фронта кхмеров» действительно на какое-то время оказался действенным и даже позволил полностью устранить из политической жизни Сианука.
На обвинения со стороны Пол Пота Вьетнам реагировал решительно, но спокойно. Было предложено немедленно начать переговоры по пограничным вопросам, созвана, конференция, выдвинуты компромиссные предложения. Вьетнам еще не залечил ран, которые нанесла самая долгая в XX веке война, а уже стоял на пороге грядущей. Ничто, однако, не помогло. История вьетнамо-кампучийских переговоров оказалась похожей на разговор со стеною.
В начале 1977 года на Пол Пота обрушился новый, совершенно неожиданный удар: начались первые дезертирства из его армии, вспыхнули новые восстания, и в довершение всего распространилась весть о создании новой, третьей по счету, Коммунистической партии Кампучии. И что самое главное — крестьянская беднота перестала поддерживать полпотовцев. Режим начал терять почву под ногами.
Видимо, мы никогда не узнаем, что, собственно говоря, происходило в Кампучии весной и летом 1977 года. Можно лишь предполагать, что часть партийных кадров среднего звена, а может быть, и «Ангки», объединившаяся, по-видимому, вокруг Ху Нима, поставила под вопрос темп революционных преобразований и потребовала восстановить хотя бы некоторые элементы нормальной жизни. Как представляется, в течение короткого времени «либералы» действительно имели определенное влияние на деятельность «Ангки». Была обещана, например, отмена категорий социальной полезности в «трудовых коммунах» (до этого, впрочем, дело никогда не дошло). Начата была предварительная работа по «строительству народной, революционной системы просвещения». Даже был намечен примерный срок открытия сельских школ: вторая половина 80-х годов. Небольшой группе иностранных журналистов разрешили посетить Ангкорват. Кхиеу Самфан начал выступать в роли главы государства. Иенг Сари отправился в ООН.
Все это внезапно рухнуло за одну неделю, в начале сентября 1977 года. Ху Ним был умерщвлен. Дата, место и обстоятельства его убийства неизвестны, но все бывшие деятели «красных кхмеров», с кем я об этом говорил, единодушно подтверждают данный факт. Реформаторские начинания были остановлены, темпы переселения усилились, было принято решение, об упразднении трех пограничных провинций. В КП Кампучии-2 и среди полпотовских кадров была проведена новая жесточайшая чистка, жертвами которой стали даже провинциальные шефы службы безопасности и высшие офицеры в войсковых соединениях. Произошли, по-видимому, изменения в составе самой «Ангки» Особенность «культурной революции» состоит в том, что на полпути ее не остановить.
Со всем этим приданым Пол Пот вылетел шестого октября в Пекин. Это был очередной поворотный пункт в его политике. Пол Пот привез китайскому руководству комплексные и продуманные предложения, которые трудно было отвергнуть. Он предложил Китаю использовать Кампучию как рычаг нажима на Вьетнам, обещал начать диверсионные действия в Лаосе, безоговорочно присоединился к китайскому внешнеполитическому курсу.
Дальнейший ход событий говорит о том, что Пекин, недолго думая, принял предложения Пол Пота. С третьего по пятнадцатое декабря 1977 года в Пномпене находился китайский вице-премьер Чэнь Юнгуй. Был подписан развернутый договор между двумя странами (его содержание никогда не было предано гласности), единодушно осужден «социал-империализм». Кампучия со дня на день становилась все более рьяным проводником китайского внешнеполитического курса. Китайская печать внезапно начала восхвалять «Демократическую Кампучию». Теперь не проходило дня, чтобы в Пномпене не раздавались прямо-таки бешеные крики насчет «советского социал-империализма» и «предательского ревизионизма правящей вьетнамской клики». Единичные на первых порах налеты полпотовцев на Южный Вьетнам начали постепенно превращаться в открытую войну. Не приходится говорить о «пограничных инцидентах», когда число убитых равняется тридцати тысячам.
12 июля 1978 года в «Жэньминь жибао» появилась передовая статья, в которой полностью и безоговорочно одобрялась «кампучийская революция, возглавляемая выдающимися революционными деятелями тов. Пол Потом и тов. Иенг Сари». В статье содержались открытые угрозы Вьетнаму и было сказано, что Китай готов сделать все во имя «защиты великих революционных завоеваний народа Демократической Кампучии». О вновь созданной КП Кампучии-3 было сказано кратко: «горстка ревизионистов, поддавшихся козням социал-империалистов и вьетнамцев».
Неделей раньше в Пномпене были произнесены слова, впоследствии обежавшие полмира. Выступая 7 июля 1978 года на приеме, который дал Пол Пот в честь находящихся в Кампучии китайских специалистов, посол КНР в Пномпене Сол Суньхао сказал: «Народ Кампучии под руководством своей коммунистической партии применил универсальные положения марксизма-ленинизма к кампучийской действительности, совершил социалистическую революцию и воздвигает здание социализма. Вы, товарищи, работали самоотверженно, преодолевая препятствия, чтобы поднять материальный и культурный уровень народа. Вы добились великолепных достижений, вызывающих восхищение у всех ваших друзей, на всех фронтах: сельского хозяйства, культуры, просвещения и здравоохранения».
Цинизм этих слов трудно с чем-либо сравнить, но не это, в конце концов, главное. Гораздо важнее мотивы, побудившие Китай принять предложения Пол Пота. «Культурная революция» была тогда уже отменена, Мао и Линь Бяо не было в живых, «банду четырех» разгромили, появились первые разногласия с Албанией. Идеологический фактор, таким образом, не может приниматься в расчет. Впрочем, китайцы превосходно знали, в каком состоянии находится экономика Кампучии и каковы настроения среди населения — теперь уже всего населения. Решившись полностью солидаризироваться с режимом Пол Пота, обеспечивая его продовольствием, специалистами, вооружением, предоставляя даже некоторое количество валюты, Пекин не мог иметь никаких сомнений в том, что он поддерживает концепцию, которая уже скомпрометировала себя и в Кампучии, и за границей.
Цель, ради которой было принято такое решение, могла быть только одна — уничтожение Вьетнама. В тот же день, когда в «Жэньминь жибао» появилась статья, в которой одобрялись все действия Пол Пота. Китай в одностороннем порядке прекратил движение на единственной железнодорожной линии, соединяющей Вьетнам с Азиатским континентом. Примерно в то же время дело дошло до мало известных Европе, но совершенно беспрецедентных по своему размаху диверсионных акций против Вьетнама, связанных с так называемой проблемой «хуацяо», то есть граждан китайского происхождения. В конце 1978 года китайские офицеры начали осуществлять прямой контроль за налетами полпотовцев на территорию Вьетнама. Китайцы поставляли теперь Пол Поту артиллерийские орудия среднего калибра, вездеходы-амфибии и крупнокалиберные пулеметы. Организованные китайцами диверсионные акции в Лаосе приобрели такой размах, что американская печать предсказывала в ноябре 1978 года создание в ближайшем будущем кхмерско-лаосской федерации, открыто нацеленной против Вьетнама и наносящей ему удар в наиболее уязвимой и трудно защитимой части страны. Ситуация выглядела таким образом: на севере — 1100 километров общей границы с Китаем и блокада стратегической линии снабжения Вьетнама; на Юге — полтора миллиона «хуацяо», которые уже продемонстрировали в прошлом свое прямо-таки идеальное послушание Пекину, а также подозрительные контакты китайцев с представителями свергнутого сайгонского режима; в центре, наконец, — изнурительная пограничная война с западным соседом, связанная со все большими потерями.
Все это произошло в течение пятнадцати месяцев. Примерно столько же времени прошло с того момента, когда печать европейских социалистических стран в последний раз упомянула о Пол Поте в положительном смысле.
CLV. Мы всегда этого не знали. Так действительно было с Кампучией. Но что касается меня, я ведь превосходно знал, чем в Иране занимается «Савак», а несмотря на это, два раза сидел за одним столом с премьер-министром Ховейдой. У меня не было никаких иллюзий насчет Амина, и поначалу я в открытую смеялся над ним, но позже, занятый какими-то более важными делами, уже не упоминал хотя бы о том, как фельдмаршал Амин хотел воздвигнуть в Кампале памятник Адольфу Гитлеру. Я не слишком высоко ценю и некоторые другие режимы такого типа, но во имя спокойствия душевного соблюдаю требования протокола, которые обязательны для прессы и запрещают критиковать главу государства.
А все-таки надо в конце концов что-то выбрать: или морализирование, польза от которого более чем сомнительна, или журналистику, которая заставляет со всеми встречаться и везде бывать. Позиция Тиртея превосходна, но она не помогает понять мир, так как присутствие — это первое условие познания. Разумеется, я должен внимательнее относиться к сообщениям зарубежной печати, если они противоречат моим собственным знаниям и опыту. Только разве это гарантия на будущее?
CLVI. Утром обнаружилось, что вода в ванной кончилась. Видимо, бак на верхнем этаже был наполнен с помощью электроагрегата лишь на время пребывания в отеле зарубежных гостей. В солидного вида ванну и умывальник (это был лучший в мире фаянс Туайфорда, примета самых элегантных отелей начала нашего века) немедленно заползли бесцветные сороконожки, плоские, как лента, и быстрые, как искра. Из латунной арматуры пошел густой тошнотворный запах. Вода кончилась так неожиданно, что остатки мыльной пены на щеках мне пришлось смывать привезенным из Вьетнама пивом.
CLVII. В девять часов премьер-министр Фам Ван Донг возложил венок к монументу на площади Независимости.
Монумент построен в виде шестиэтажной пагоды с девятью ажурными арками. Он стоит на холме, в геометрическом центре одной из самых больших площадей, которая удивительно похожа по своей планировке на парижскую площадь Звезды. Арки сооружены из какой-то местной разновидности травертина или песчаника и как-то болезненно обнажены, ибо с них сорваны барельефы и надписи, которые были здесь когда-то. Под куполом горит огонь — керамический сосуд с бензином.
На площадь выходят девять широких улиц с двусторонним разделенным движением. В начале каждой из них стояли солдаты в полной боевой готовности. Они лежали и на крышах нарядных вилл или прятались в цветущих кустах форсиции и тамариска. Проспекты, тянущиеся до самого горизонта, были совершенно пусты, заставлены стульями, усеяны крапинками брошеной обуви. Кроме нас, на площади не было ни одного гражданского лица.
Премьер-министр в сопровождении Хенг Самрина вышел из черного лимузина без регистрационного номера в полутора метрах от пагоды. Охрана недолго и безуспешно боролась с нашим длинноволосым фоторепортером, который в состоянии предельного экстаза фотографировал лицо премьера с расстояния тридцати сантиметров, а потом, как обезьяна, вскарабкался на решетку около вечного огня.
Военный оркестр снова заиграл ту страшную мелодию, которую я слышал на аэродроме. Она показалась мне еще более скорбной и внушающей ужас. Звуки ее летели в опустошенные улицы, проникали в распахнутые окна заброшенных домов, тонули в садах, за которыми давно никто не ухаживал, и, наконец, мертвым эхом возвращались к памятнику.
Потом наступила минута молчания, как этого требует веками установленный обычай: в честь тех, которые собственной жизнью…
Минута молчания. Никогда раньше я не слышал такой тишины прекрасного солнечного утра. Она была абсолютной, не поддающейся описанию, граничащей, в полном смысле этого слова, с вечной тишиной космоса. Замолкли даже птицы и сверчки, спугнутые звуками оркестра. Через секунду далекое-далекое эхо принесло сдавленный отголосок надгробного плача. Город по-прежнему был пустыней, кладбищем, призраком.
CLVIII. Я впервые отправился на длительную прогулку пешком по городу, совершенно один, с фотоаппаратом через плечо. У меня было два часа времени. Я начал с ближайших к «Руайялю» кварталов.
Напротив отеля стояло длинное четырехэтажное здание прославленного французского лицея. Когда-то это была лучшая средняя школа в данной части мира, очень дорогая, но с исключительно высоким уровнем преподавания, с современными методами обучения, особенно в области точных наук.
Снова полчаса полного ошеломления. Коридоры завалены мусором и грудами обгоревших книг. Географические карты порваны на мелкие кусочки. Разбитые молотком микроскопы, аналитические весы, модели машин. Школьный архив частично сожжен, частично уничтожен серной кислотой из аккумуляторов. Поломанные или изрубленные гимнастические снаряды, распоротый «козел», демонтированное «бревно». Провода и выключатели вырваны из стен. Разбитые кинопроекторы и магнитофоны в кабинете иностранных языков. Лестница завалена клубками кинопленки и магнитофонных лент.
В одной из пустых и разбитых классных комнат на доске хорошо сохранившаяся надпись мелом: «Les vacances!»[68] Из точки восклицательного знака кто-то несколькими черточками сделал улыбающееся веселое личико.
CLIX. Я побывал в шести пустых домах, где тоже стояли накрытые столы, в шкафах висела одежда, на полу валялись фотоснимки, документы и деньги. Входил в антикварные лавки и граверные мастерские. Был в каком-то банке без вывески, где в сейфах по-прежнему лежали пачки риелей, связки векселей, порванные облигации. Я нашел продуктовую лавку, из которой были вытащены буквально все товары, за одним исключением: на полках выстроились в ряд баночки с заплесневелой горчицей «Дижон». Я зашел в ресторан, когда-то элегантный. В кухне, на плите, не топленной вот уже четыре года, стоял горшок, до краев наполненный матовыми скорлупками креветок и лангустов. В горшке копошились муравьи. Под плитой пищали маленькие слепые крысята.
CLX. В полдень, когда мы опять завтракали в ресторане отеля «Руайяль», произошел неприятный инцидент. Карлос, давясь от смеха, показывал всем литургический сосуд, найденный в какой-то куче лома. Потом начал лить в него свой любимый коньяк. Среди нас не было католиков, но мы все, не сговариваясь, резко осадили его. Это был один из собранных им за сегодняшнее утро многочисленных трофеев. Мы с Андреем посмотрели друг на друга. Я видел, как Андрей переставил с тротуара внутрь магазина статуэтку Будды. Он видел, как я забрал у Карлоса альбом редких почтовых марок и отдал его кхмерскому офицеру.
CLXI–CLXX
CLXI. Мы посетили госпиталь на далекой окраине, один из самых лучших по красоте и планировке, какие мне приходилось видеть. Это госпиталь имени Кхмеро-советской дружбы. Он воздвигнут в начале шестидесятых годов как дар советского правительства и народа и обошелся в восемьдесят миллионов рублей. Оборудование бесплатно поставили правительства и общества Красного Креста пяти европейских стран: Швеции, Франции, Швейцарии, ФРГ и Финляндии.
Госпиталь выглядел так же, как те больницы, которые мы видели раньше: груды раздавленных ампул, распоротые матрацы, уничтоженное оборудование операционных. В госпитале не было ни пациентов, ни врачей. Не нашлось даже фельдшеров, чтобы организовать в этом суперсовременном здании хотя бы амбулаторию для оказания первой помощи. В западном крыле госпиталя временно разместились казармы. Молодые парни, смущенные неожиданным нашествием гостей, поспешно натягивали шевиотовые брюки и надевали шапки китайского покроя.
Я подождал, пока наша группа спустится на этаж ниже, и направился в конец коридора, заглядывая в одну палату за другой. Последняя из них была совершенно пуста. Каменный пол был покрыт толстым слоем засохшей крови. Кое-где виднелись клочки черных волос, топорщившиеся на остатках скальпов. В этом климате человеческая кожа очень быстро отдает влагу и, если ее не разлагает гниющая жировая ткань, мумифицируется — она напоминала шелестящий пергамент.
Посреди палаты лежал крестьянский нож для рубки сахарного тростника с отполированной самшитовой ручкой и чуть выщербленным лезвием. Посередине виднелись пятна человеческой крови.
Не удалось установить, кого и почему добивали или убивали этим ножом. В Кампучии очень мало таких вещей, которые можно выяснить до конца.
CLXII. Никак нельзя привыкнуть к пустоте и тишине этого города. Безлюдные улицы, на которые надвигались вечерние тени, были похожи на театральные кулисы, стулья на тротуарах приобретали устрашающий вид затопленных морем замковых развалин, мертвые окна и двери лавок напоминали врата ада. За пробегавшими крысами тянулись тонкие острые полоски, как в яванском театре теней. Начинали летать черные нетопыри, огромные и ленивые ночные бабочки с зеленоватым брюшком. Высоко, над верхними этажами домов, неподвижно висели какие-то большие птицы, похожие на коршунов. В этом мертвом пейзаже было что-то от средневековых представлений о конце света, атмосфера ирреальности, сна, бреда, смутно памятная по каким-то старым гравюрам и рисункам. Поднялся предвечерний ветер и разнес по ущельям улиц листья, деньги, мотки пленки, недогоревшую бумагу.
CLXIII. Потом вдруг воцарилась тишина. Наши группы были по горло сыты трупным запахом, зноем, армейским супом, капризами нашего «Изусу». Неофициально нам сообщили, что через два или три дня, в зависимости от того, насколько безопасной будет обстановка, состоится поездка в Сиемреап. Это был достаточный повод для того, чтобы вернуться во Вьетнам, принять ванну, посетить «Рекс» и ждать, что бог пошлет.
Я подошел к начальнику охраны и беззаботным, но решительным тоном заявил, что остаюсь в Пномпене. Мне были достаточно известны местные обычаи, чтобы выдержать первую четверть часа категорических отказов и абсолютно неопровержимых аргументов. Надо попросту все это выслушать, а потом начать сначала.
Нас осталось только четверо: Андрей с оператором, Герхард и я. Они втроем жили в другом, западном крыле. Мне достался тот же самый четырнадцатый номер, где был убит Колдуэлл. И все восточное крыло: 38 комнат.
Я не собирался выезжать надолго. На мне была только одна рубашка, успевшая затвердеть от грязи и пота. Кончались запас сигарет и газ в зажигалке. Я не захватил кофе, без которого не умею просыпаться.
Внезапно наступили сумерки. После ужина в ресторане — суп из овощей с кусочками сушеного мяса, соевыми макаронами и ломтиками сырого лука — мы собрались в запыленной гостиной на первом этаже, среди аляповатых резных оленей, выщербленных нимф и амфор с трещинами.
Я разлил «луа мой» по чашкам с надписью «made in Japan». Герхард извлек остатки своего запаса салями. Андрей ни с того ни с сего обратился ко мне по-польски: «Nie bądź pan takim cholernym angielskim snobem»[69]. Почему английским? Я безуспешно пытался узнать у Андрея, где он выучил эту фразу. В ответ он рассказал по-вьетнамски какой-то анекдот.
Поступило предложение сыграть в белотку.
Герхард и я не играли в белотку.
Андрей перетасовал карты и предложил покер. Герхард не играл в покер. Как и во все прочие карточные игры.
В гостиной воцарилось молчание. Сквозь открытые окна шел горячий трепещущий воздух. Мне все время казалось, что ночью здесь еще жарче, чем днем. Издалека доносились отзвуки одиночных выстрелов и надрывный крик цикад.
Выпили еще по чашке водки. Было около девяти. В такую жару нечего и думать о том, чтобы уснуть в девять. Вышли во двор отеля, но молодой солдат охраны начал размахивать пистолетом: «Нельзя. Вредные элементы пиф-паф». Действительно, бархатно-черная стена за оградой вокруг отеля выглядела мрачно и коварно.
Я взялся изложить правила игры в канасту. Но Герхард не отличал короля от валета. А втроем в канасту играть трудно.
Я спросил, слушал ли кто-нибудь радио и известно ли, что произошло в мире. Что в Иране? Когда подпишут ОСВ-2?
Никто ничего не знал, и никто не рвался дискутировать на международные темы, а также насчет Хомейни. Кроме Герхарда, который готов был дискутировать обо всем.
Потом трое славян спели одну одесскую балладу и грустную песню про атамана Махно. Герхард потребовал, чтобы ему перевели слова, так как песня ему очень понравилась, и добросовестно записал их в блокнот. «Пуля» — ein Geschoss. «С нашим атаманом» — mit unserer Ataman. Was heisst ein Ataman? Ein kozakischer Kriegsherr, сказал я, не будучи, как всегда, уверен, правильно ли выбраны немецкие падежи и окончания.
So was, удивился Герхард.
Le kommandant des Cosaques, дополнил Андрей и разлил по чашкам «луа мой».
Герхард спросил: атаман — это высший чин в казачьих войсках?
О нет, ответил я. Есть еще Oberataman.
So was. Любопытно.
Мы сидели в горячей черной пустыне, окутанные безбрежной ночью, охраняемые одним лишь молодым парнем, безоружные и так далеко от своих стран, как если бы судьба занесла нас на Луну или бросила посреди океана. Невообразимая скука, мучительная, неодолимая, хуже, чем болезнь, обессилила нас, будто наркотик.
Сквозь открытую дверь в холл проник большой зеленый геккон, сантиметров сорока длиною. Розовый беспокойный язык сверкал у него в горле, как неоновая реклама. Маленькие черные глазки утомленно глядели на нас.
Ишь, какая дрянь, сонно произнес оператор, но не двинулся, чтобы прогнать ящерицу.
В тридцать пять минут десятого в отеле погас свет.
CLXIV. Впотьмах я вскарабкался на второй этаж по той самой скрипучей деревянной лестнице, по которой шесть недель назад поднялся неизвестный убийца Колдуэлла. У меня возникло вдруг бессмысленное теперь сожаление, что я никогда не был знаком с этим англичанином. Не знаю даже, как он выглядел. Вот, подумал я, был бы хороший собеседник в дискуссии, перед тем как лечь спать.
Прижимаясь к стене коридора, я отсчитал на ощупь три двери. Слабое пламя зажигалки осветило кровавое пятно, цифру «14» на рассохшейся двери и разболтанную дверную ручку, которая не запирала.
Климатическое устройство уже не работало. Мне пришлось открыть окна настежь, но я тут же задернул толстые запыленные шторы: за окном было полно обалделых летучих мышей. Дверь изнутри не закрывалась, я придвинул кресло и, немного подумав, поставил на него небольшую табуретку. Из ванной доносился сладковатый запах, подобный тому, который исходит от разлагающегося трупа. Я приоткрыл дверь. Язычок пламени осветил плотное, колышущееся скопище тараканов, ящериц и пауков, которые толкались вокруг заткнутого умывальника. Мне приходилось экономить остатки газа в зажигалке: попытка раздобыть коробку спичек была заранее обречена на неудачу.
Я не взял с собой ни книжки, ни журнала. Впрочем, читать в темноте все равно было невозможно. Я не мог ничего записать в путевой дневник. Сон представлялся далеким, как мечта.
Я отряхнул москитную сетку, прогнал с простыни ящериц, посветив себе слабнущим огоньком зажигалки. Потом забрался под сетку и начал мысленно сочинять корреспонденцию для своего агентства, заучивая наизусть одну фразу за другой. Это проверенное средство от бессонницы. Замысел книги о Кампучии показался мне до такой степени нереальным, что стало стыдно за написанные уже странички.
Вдруг рядом раздался ужасный, оглушительный грохот. Он длился лишь долю секунды, обломки не посыпались, вообще ничего не изменилось, но барабанные перепонки завибрировали до боли в ушах, сердце на миг замерло, и кровь от него отхлынула.
Выждав минуты две, я схватил зажигалку. В комнате было так же тихо и темно, как и раньше. Я вылез из-под сбившейся сетки и двинулся к двери, инстинктивно пригибаясь и держась за стенку. Прошло какое-то время, прежде чем обнаружилась причина грохота. На столе стоял китайский термос с кипятком, который как видно, поставили вечером солдаты охраны, пробка из него вылетела, а царившая вокруг безграничная тишина многократно увеличила шумовой эффект.
Смеяться над собой я был уже не в силах. Снова забираясь под сетку, со злостью думал, что такие приключения хороши для начинающих репортеров. Пожалуй, многовато этих комичных и одновременно ужасных историй. Опять начал сочинять корреспонденцию. Потом перед глазами возникла Варшава в снегу. Горсть снега, кажущаяся в этом зное чем-то нереальным, бредовым. Лица людей, с которыми связаны какие-то важные в этой жизни дела. Из тумана воспоминаний выплыли первые поездки на Молуккские острова, какая-то роща около Денпасара на острове Бали. А потом заросли бамбука превратились в величавые мазурские липы и клены.
Я посмотрел на светящийся циферблат: еще нет двенадцати. По москитной сетке сновали ящерицы. В темноте их не было видно, но я чувствовал нежный шорох их растопыренных лап и почти неслышное причмокивание вибрирующих язычков. За окном раздался короткий неожиданный звук. Я не знал, что это: крик перепуганного человека или зов какой-то ночной птицы. Память начала рваться, как плохо смонтированный фильм. Я увидел себя самого, идущего зимним воскресным утром по улицам варшавской Воли. Что еще может, принести эта сумасшедшая, непредсказуемая жизнь? Этот мальчик в поношенной одежде, бредящий книгами о путешествиях, обуреваемый жаждой приключений, — неужели это я? Какой-то пикник на берегу океана. Какое-то студенческое собрание в университете, где я долго говорил глупости. И недавний митинг в Индии, когда у меня перехватило горло и я еще раз поклялся, что не отойду, не отступлю, не изменюсь. А потом заросшая пашня в Прейвенге, черепа, скелеты, тазобедренные кости, колодец, наполненный людьми, которые превратились в жидкость.
Я заснул.
CLXV. Проснулся в двадцать минут третьего, с твердой убежденностью, что в комнате кто-то есть. Было совсем тихо, из-за окна не долетал ни малейший звук. Замлевшими во сне пальцами попытался чиркнуть зажигалкой. Несколько искр вызвали переполох на сетке. Когда я надел очки и слабое пламя осветило
темноту, заметил удирающего лохматого паука сантиметров восьми в обхвате. Потом сообразил, что верхняя часть сетки прогнулась под какой-то тяжестью, Там сидел порядочных размеров геккон. Бело-зеленое горло ритмично раздувалось, когтистые лапы готовились к прыжку. Я с бешенством стукнул его в брюхо. Муслин москитной сетки был так тонок, что в любой момент мог порваться под тяжестью животного. Саламандра кое-как выбралась из ямки и презрительно сплюнула под себя. Я снова заснул вопреки всем законам физиологии. Тьма и тишина были так всеобъемлющи, что легкий сон спасовал перед их могуществом.
CLXVI. На следующее утро наша группа еще увеличилась. На военном самолете прилетели Леонид и двое болгар. Кажется, только на один день. Вечером самолет должен доставить их обратно. Ночевать в Пномпене невозможно, абсолютно невозможно.
Мы четверо, грязные, небритые, невыспавшиеся, слушали эти заверения с иронической улыбкой. Нас объединяла иррациональная связь ветеранов, чуть ли не фронтовиков с передовой. Мы непременно должны были продемонстрировать прибывшим наше безмерное превосходство. Интересно, откуда в человеке столько позерства, нелепого стремления возвыситься над другими при первом подавшемся случае?
CLXVII. Выяснилось, что наша охрана провела ночь в павильоне для гостиничной прислуги, который находился в ста пятидесяти метрах от главного здания. Мы не были уж настолько одиноки и заброшены, как казалось вечером. Правда, вход в отель охранял действительно один часовой. В случае нападения прошло бы не меньше пяти минут, пока взвод охраны пришел бы на помощь. Впрочем, в главное здание можно было беспрепятственно пробраться по ветвям камфарных лавров, которые росли вокруг низкой стены, окружавшей сад отеля.
От солдат я получил в подарок два баллона японского газа для зажигалок.
CLXVIII. После завтрака мы поехали осматривать широко известный лицей «Туолсленг». Известный, поскольку кадры, снятые в этом лицее передовой группой кхмерских кинематографистов в день освобождения столицы, обошли все телеэкраны мира. Что ни говори такие кадры даже в нынешнем столетии нечасты.
Лицей «Туолсленг» расположен в южной части города, приблизительно в трех километрах от центра Это современное, довольно красивое здание в форме двух составленных вместе букв L. Оно окружено четырьмя рядами проволочных заграждений и высокой двухметровой стеной. Через несколько дней после вступления в город «красных кхмеров» отсюда вывезли все оборудование и превратили школу в центральную тюрьму для наиболее опасных политических заключенных.
Кинокадры, о которых шла речь, были сняты 7 января 1979 года около трех часов дня в западном крыле здания. Классы на третьем и четвертом этажах, превращенные в камеры, были уже пусты. Классы на первом этаже, бывшая учительская и помещение для сторожей были превращены в камеры пыток. В одной из них и был обнаружен тот мужчина, которого я видел еще живым в госпитале «Прачкет Миалеа». Еще четырнадцать заключенных были уже мертвы. Истерзанные, скорчившиеся в конвульсиях трупы были все еще прикованы цепями к железным кроватям. По окоченевшим рукам и раздувшимся животам бродили куры, выклевывая червей из гноящихся ран.
Этих людей, о которых буквально ничего не известно, быстро похоронили на школьном дворе, засыпав тонким слоем щебня, оставшимся, надо полагать, от существовавшего здесь когда-то теннисного корта. Запах гниющих тел все еще не прошел: он пропитал школьные стены. Посреди двора стоят два железобетонных столба по четыре метра высотой, с огромными крючьями. Каждый из них служил виселицей; иногда использовались оба сразу, чтобы устроить так называемые качели. К одному столбу заключенного подвешивали за связанные руки, к другому — за ноги. Расстояние между столбами равнялось примерно тремстам тридцати сантиметрам, и тело узника изгибалось в дугу под действием собственной тяжести. Те, кто запроектировал это устройство, неплохо, должно быть, знали анатомию. На стальном крюке одного из столбов еще остался обрывок пеньковой веревки в два пальца толщиной.
Камеры пыток выглядели как в день освобождения. Не было только трупов. В школьных классах стояли железные кровати странной конструкций, по-видимому изготовленные для нужд тюрьмы, ибо никогда раньше я ничего подобного не видел. В сварной раме из углового железа были укреплены четыре толстых, прямоугольных, заостренных кверху бруса. На раму натягивалась сетка из очень толстой проволоки, пожалуй, даже из прутьев. В изголовье виднелась стальная крестовина. Она служила, вероятно, для того, чтобы держать в неподвижности голову узника. Ко всем кроватям прикованы запирающиеся на замок кандалы.
Пол в классах был покрыт лужами засохшей вишнево-коричневой крови и клочьями волос. В одиннадцати классах еще валялись орудия пыток. Это были главным образом складные саперные лопаты, состоящие на снаряжении американской армии. Они весят около двух килограммов. Их можно установить вертикально, и тогда они напоминают обычный заступ с короткой рукоятью. Но можно укрепить лезвие перпендикулярно рукояти, и тогда они напоминают мотыгу с необычно широким острием.
На всех лопатах — следы крови. Из-под оковки торчали человеческие волосы. Кроме лопат, я увидел восемь деревянных палок с толстыми стальными наконечниками и, по-видимому, со свинцом внутри, а также две плети из буйволовой кожи, три пары клещей, два поясных ремня с металлическими заклепками и два ножа для рубки тростника. Камеры были совершенно пусты, если не считать стоящих посередине железных кроватей. Только в предпоследней из комнат был столик, на котором стояла разбитая и помятая пишущая машинка с латинским шрифтом. В окнах не было решеток. Сетку из колючей проволоки можно было легко отодвинуть.
Тюрьма «Туолсленг» с особенной строгостью охранялась и была тщательно засекречена. Вряд ли тут велась какая-либо документация, иначе от нее остались бы хоть какие-нибудь следы. Полпотовцы покидали Пномпень в крайней спешке и не имели времени, чтобы уничтожить бумаги, если они были, или забрать их с собой. Поэтому об узниках, которые погибли здесь в страшных мучениях, ничего, в сущности, не известно[70]. Полагают, что это были кадровые работники «красных кхмеров», схваченные при попытке дезертировать или организовать заговор. Остальных, кого и так ждало выселение, не было смысла столь изощренно пытать: хватило бы мотыг карателей в «коммуне».
Быть может, «Туолсленг» использовался и как следственная тюрьма, но главная цель тюремщиков по-видимому, состояла в том, чтобы умерщвлять людей как можно медленнее. Об этом говорит и способ которым приковывали заключенных — так, чтобы они совершенно не могли двигаться, — и употребление лопат, которые наносили глубокие, но с ограниченной площадью раны. У заключенных, которых нашли тут мертвыми в день освобождения, были переломаны почти все кости, изуродованы лица, имелись огромные кровоподтеки, но на голове не было чрезмерно глубоких ран. Били, вероятно, по нескольку часов в сутки, пока узник не терял сознания. Неизвестно, давали ли жертвам какую-нибудь еду и воду для питья. В отличие от застенка в Прейвенге, где стояло больше десятка мисок, здесь я не видел в камерах никакой посуды.
Невообразимая боль вместе с мучительной жаждой и невозможностью приблизить желанную смерть; очевидная бесцельность страданий и отсутствие всякой, даже малейшей надежды на спасение; миллионы москитов, влетающих по ночам сквозь незастекленные окна; большие кусачие муравьи, снующие по телу в поисках гноя или свежей крови; вид брошенной рядом саперной лопаты, которая через несколько часов снова будет рвать набухшие ткани и ломать уцелевшие кости. Достаточно все это осознать, мысленно занять место этих узников, чтобы на мгновение усомниться во всем. Во всей человеческой истории, во всех законах, идеях и нормах.
CLXIX. В подземельях западного крыла лицея есть небольшое темное помещение площадью пять квадратных метров. Когда-то это был, вероятно, склад школьных пособий. На полках еще стоят разбитые колбы и мензурки, виднеются запыленные щиты гальванометров и заржавевшие рукоятки школьных динамо-машин.
В этом помещении совершались самые страшные пытки.
Посреди камеры стоит крепкое деревянное кресло, сиденье которого оковано латунным листом, а вдоль спинки идут два плоских медных электрода. К подлокотникам прикреплены два толстых кожаных ремня, которыми заключенного привязывали к креслу.
В полуметре стоит американский трансформатор фирмы «Дженерал электрик», который позволяет постепенно увеличивать напряжение от нуля до ста семнадцати вольт. Должно быть, он порядочной мощности, так как концы обмотки сделаны из толстых, тщательно изолированных сплетений. Амперметр, вольтметр и рубильник соединены системой кабелей с электродами и металлической обивкой кресла. По-видимому, сквозь узника пропускали ток небольшого напряжения, но большой силы. Применялся, вероятно, и другой способ обжигания тканей и поражения нервной системы. Рядом с креслом лежат два толстых медных стержня с зажимами в виде щипцов. Быть может, их подключали непосредственно к автотрансформатору, который ставился на самое высокое напряжение, или к двум большим танковым аккумуляторам, установленным друг на друга и последовательно соединенным. Около ножки валяется электрический паяльник мощностью в двести или триста ватт. Его наконечник покрыт пятнами крови и опаленной кожей с волосами.
В помещении стоит горько-сладкий запах паленого, старой меди и электролита. Ни одно из устройств уже не работает. В Пномпене нет электричества.
CLXX. При выходе из коридора мы наткнулись на рулон бумаги недурного качества. Это был типографский плакат, единственный, который я видел в этой стране. Над большой картой Индокитайского полуострова склонились две карикатурные фигуры; президент Хо Ши Мин и президент США Линдон Джонсон. Сердечно обнимаясь, они одновременно протягивали руки с растопыренными пальцами к южной части карты. У обоих из глаз текли крупные слезы, на устах играла одинаковая улыбка. Указательные пальцы двух политиков встречались в том месте карты, где обозначена Кампучия.
Ничего нельзя было понять из этого плаката. Кто и зачем мог его отпечатать? Джонсон сошел с американской политической сцены в 1968 году, в период наибольшего обострения интервенции во Вьетнаме, ожесточенных боев на юге страны, особенно во время наступления «тэт». Мысль о том, что Вьетнам и Соединенные Штаты способны с какой-то целью вступить в тайный сговор, могла прийти в голову только людям с больной психикой. Но пациенты психиатрических клиник не печатают плакатов. Если даже плакат придумал или нарисовал лично Сианук, то смысл плаката противоречил его тогдашнему политическому курсу, ибо, видя угрозу со стороны «голубых кхмеров», Сианук несколько «смягчал» свои прежние антиимпериалистические взгляды, временами весьма крайние. Трудно также считать этот плакат китайским творчеством: Пекин занимал в ту пору позицию, враждебную по отношению к Соединенным Штатам, и продолжал, хотя и в меньшей степени, поддерживать борьбу вьетнамского народа.
Нам не удалось решить загадку. В этой стране очень немногое можно выяснить до конца.
CLXXI–CLXXX
CLXXI. Лицей «Туолсленг» по-прежнему охраняется вооруженными часовыми и патрулями, которые обходят здание между стеной и проволочными заграждениями. Мы спросили, чем объяснить наличие такой большой охраны, ведь тюрьма будет впоследствии превращена в музей мученичества. Нам ответили неохотно и лаконично: этого было вполне достаточно, чтобы мы настояли на своем.
В восточном крыле школы находится следственно-перевоспитательная тюрьма для полпотовцев.
Спор длился около сорока минут. Абсолютная невозможность посетить тюрьму, с одной стороны, Абсолютная необходимость сделать снимки — с другой. В ход пошли все аргументы, которые можно себе представить. Наконец появились солдаты с автоматами на изготовку, и мы вступили на обнесенный колючей проволокой дворик восточного крыла.
То, что мы увидели, было совсем непохоже на тюрьму. На газоне сидели на корточках человек тридцать в гражданской, довольно приличной одежде. Среди них четыре еще молодые женщины. Между рядами прохаживался офицер в мундире без знаков различия и монотонным голосом читал по брошюрке, которую держал в руке, какой-то текст на кхмерском языке. В каждой четвертой или пятой фразе текста слышались знакомые имена: Пол Пот — Иенг Сари. Когда чтение заканчивалось, люди на корточках аплодировали. Их лица ничего, буквально ничего не выражали. После этого все начиналось сызнова.
С четверть часа мы наблюдали эту сцену. Текст, аплодисменты, текст, аплодисменты. Заключенные совершенно не проявили интереса к нашему появлению во дворе. Младшему из них было что-то около девятнадцати лет, самый старший выглядел на пятьдесят. Возраст женщин было трудно определить.
Нам хотелось бы поговорить с полпотовцами.
Нет, это невозможно.
Почему?
С этими людьми запрещено разговаривать.
Но почему?
Потому что они проходят перевоспитание.
Вот-вот, это очень интересно. Мы хотели бы услышать, чему они научились и что поняли.
Нет. Запрещено. Никак нельзя.
Мы постояли еще с четверть часа. Из комнат на втором этаже тоже доносились аплодисменты — монотонные, ритмичные, довольно громкие. На третьем этаже раздавалось хоровое пение, похожее на декламацию.
А эта, на верхних этажах, тоже проходят перевоспитание?
Да.
Можно ли их увидеть?
Нет. Нельзя прерывать перевоспитание.
Можно ли поговорить с кем-нибудь, кто уже прошел перевоспитание?
Нет. Таких еще нет.
А можно ли поговорить с кем-нибудь, кто не проходил перевоспитания?
Конечно. Сейчас мы его покажем.
Через две минуты солдат, упирая дуло автомата в спину заключенного, привел к нам первого собеседника. Это был молодой мужчина с выразительным, можно сказать, красивым лицом и черной копной волос на голове. Он был одет в чистую, хоть и сильно выцветшую гимнастерку, холщовые штаны. На шее — клетчатый шарф. Он был бос. На запястьях рук я не заметил следа от кандалов. Он молча стоял перед нами и безропотно позволял себя фотографировать.
Сперва мы записали анкетные данные. Его зовут Моах Кхун, двадцать восемь лет, родился в провинции Кампонгчхнанг. Был в партизанской армии «красных кхмеров», после освобождения — начальник «коммуны», потом шеф службы безопасности.
Как называлась эта «коммуна»?
Кхун не помнит, сказал переводчик.
Как это не помнит? Как можно забыть название местности, где провел почти четыре года?
Нет, он был не только в этой «коммуне». Его перебрасывали.
Ну ладно. Умеет ли он читать и писать?
Нет, не умеет.
Сколько человек он убил?
Минутная заминка. Моах Кхун умеет считать только в двенадцатеричной системе. Он спокойно загибает пальцы на правой руке, долго подсчитывает и наконец говорит; что убил двенадцать раз по двенадцать и еще восемь раз по двенадцать человек. Всего двести сорок.
Где это было?
В Пхумтхамай.
Значит, в этой деревне он был начальником «коммуны»?
Да. То есть нет. Его часто перебрасывали. Он говорит, что это было в другом месте.
Что было в другом месте?
Переводчик теряет нить. Мы сдаемся. Спрашиваем, есть ли у Моах Кхуна дети.
Да. Один. Нет, двое.
Большие?
Моах Кхун показывает рукой полметра от земли. Потом медленно поднимает руку на высоту бедра.
Детей он тоже убивал?
Он не понимает.
Убивал ли он чужих детей?
Он не помнит.
Почему он убивал людей?
Потому что был такой приказ.
Кто приказал убить двести сорок человек?
Он не знает.
Я повысил голос и потребовал от офицера и переводчика, чтобы они ускорили процесс мышления у Моах Кхуна. Он не был похож на кретина. Его большие, черные как уголь глаза говорили скорей о фанатизме, чем об идиотизме.
Так кто дал такой приказ?
Он говорит, что не знает. Приезжали какие-то. Разные. Если бы он не выполнял приказов, его бы самого убили.
Кем были люди, которых он убивал?
Офицерами Лон Нола.
А женщины?
Тоже офицеры. То есть жены офицеров. Впрочем, он не знает. Это было давно.
Сколько человек он застрелил?
Одного.
Одного из двухсот сорока? Значит, остальных убивал мотыгой?
Переводчик забыл, как по-кхмерски будет «мотыга». Я взял из кучи лома большой металлический прут и взмахнул им в воздухе так, словно собирался разбить заключенному череп.
Моах Кхун кивнул головой: да, так он и убивал. Но при этом даже не втянул голову в плечи и не отступил ни на шаг. Офицер сделал мне резкое замечание, что так вести себя нельзя.
Хорошо. Что еще может сказать этот человек?
Ему дают слишком мало еды. Так он говорит.
Ах вот как, мало еды. А когда он вернется в деревню Тхамай?
Он не понимает.
Я спрашиваю, хочет ли он вернуться в деревню, где убил двести сорок человек.
Нет. Он хочет остаться здесь.
С минуту мы молча глядим на этого стройного, загорелого парня. На его смуглые руки с длинными пальцами, на спутанную копну волос, мягкие черты лица и тонкие ноздри. Неужели так может выглядеть убийца двухсот сорока человек? Он стоял перед нами, залитый солнцем, спокойный, худощавый, невысокого роста. Двор был наполнен запахом трупов, лежавших под слоем щебня в сорока метрах от нас. Где-то неподалеку слышались звуки одиночных выстрелов. В разных частях здания то и дело раздавались аплодисменты. Два ряда перевоспитуемых слушали текст брошюры.
Мы не знали, о чем еще спрашивать. Охрана расценила эту заминку как окончание беседы. Моах Кхуна отвели метров на десять и велели ему сесть на ступени бетонной лестницы. Он сидел молча, не шевелясь, по его смуглому лицу не пробежала тень беспокойства или любопытства.
Потом уже четыре солдата привели другого заключенного, и мимолетное ощущение нереальности сразу же развеялось.
Бледное, почти белое лицо этого человека нельзя было сравнить ни с чем, что я до сих пор видел. Вокруг нашей группы стояли шесть солдат с готовыми к стрельбе автоматами. У офицера и переводчика были при себе пистолеты. Вдоль стен ходили вооруженные часовые. Тем не менее мы, все до одного, испытали мгновение физического страха. Мы не могли оторвать глаз от страшного, нечеловеческого лица этого антропоида.
Огромные косые глаза, прикрытые тяжелыми веками, напоминали тигриные: у них была такая огромная бледно-зеленая радужная оболочка, какой у людей никогда не бывает. Коричневые зрачки были мертвы как у слепого, и походили на матовые, плохо отшлифованные, лишенные блеска камни. Выпуклый лоб и подбородок контрастировали с поджатыми губами и зубами, похожими на звериные клыки. В лице человека чувствовалась неописуемая сконцентрированная жестокость. Две борозды, шедшие наискось от плоских кошачьих ноздрей до вытянутого подбородка, превращали это лицо то в страшную маску китайского или яванского демона, то опять в морду тигра.
Мы поставили его около дерева и начали поспешно фотографировать. Он был дурно сложен, приземист, с короткими кривыми ногами. На пальцах его больших и сильных лап торчали когти, совсем непохожие на ногти человека.
Его зовут Син Сиеу Самоан, он кхмер, хотя по виду напоминает чама. Ему тридцать два года. Умеет читать и писать. Сперва он был начальником «коммуны» Свайонг, а затем, в 1976 году, стал щефом службы безопасности уезда Кандаль в провинции того же названия. В 1978 году его сделали шефом службы безопасности целой провинции Свайриенг, той, которую было решено полностью уничтожить. Это был высокопоставленный чиновник свергнутого режима, человек, пользовавшийся полным доверием. Он был схвачен с оружием в руках в ночь с 6 на 7 января, в местности, название которой не имеет значения, а если б и имело, его все равно нельзя упоминать. Эти сведения нам сообщил офицер.
Сколько людей убил Син Сиеу Самоан?
Девяносто дюжин и еще полдюжины. То есть тысячу восемьдесят шесть человек. Син Сиеу умеет пользоваться десятеричной системой, но часто путается в счете и сбивается на двенадцатеричную систему. Герхард теряет самообладание, захлопывает блокнот и кричит на двух языках, что нельзя собственноручно убить тысячу человек.
Нет, он не всех убил собственноручно.
Ну так скажи, черт побери, сколько людей ты убил этими толстыми лапами?
Двести пятьдесят человек.
Где это было? Когда?
Двенадцатого августа 1978 года в одной из деревень провинции Свайриенг. Но тоже не один. С восемью товарищами.
А что с остальными? Они тоже здесь?
Нет. Крестьяне их убили.
Теперь уже Леонид не выдерживает. Так нельзя, это издевательство, пусть этот зверь ясно ответит наконец, сколько человек погибло непосредственно от его руки.
Значит, так: триста пятнадцать человек в «коммуне» Свайонг.
Только триста пятнадцать?
Да.
А почему он только что говорил, что тысяча восемьдесят шесть?
Потому что присутствовал при убийстве этих людей и столько ему насчитали.
Что это значит? Кто насчитал?
Власти.
Какие власти?
Ну, «Ангка». А потом здесь, в тюрьме.
Может ли получиться, что он убил еще больше?
Да, это может получиться. Но он говорит, что наверняка не больше двух тысяч.
Хорошо. Вернемся к тем тремстам пятнадцати из деревни Свайонг. Как он их убивал?
По лицу антропоида пробегает гримаса улыбки, от которой становится жутко. Ну да, таким прутом убивал. Или мотыгой. По-разному. Бывало, что и стрелял.
Почему убивал?
Такой был приказ.
Пусть он перестанет нести чушь насчет чужих приказов. Он был шефом службы безопасности целой провинции, к тому же пограничной, самой важной из всех. Он сам отдавал приказы. Пусть объяснит четко и подробно, почему убивал невинных людей и заставлял делать это других.
Антропоид, жмуря свои зеленые глаза, облизывает поджатые губы и ровным хриплым шепотом начинает объяснять. Он, оказывается, не был достаточно информирован. Ему точно не сказали, кем были люди, которых надо было ликвидировать. Теперь он считает, он уже давно об этом думает, что вся вина за совершенные убийства лежит на кровавой клике Пол Пота — Иенг Сари. Он сам тоже отдавал приказы, это правда, но, в сущности, он их только передавал. Ему приходилось так делать. Он получал указания, сколько человек надо казнить.
Сколько же? Какова была дневная норма?
Нет, это не на дни считалось. Например, число жителей в «коммуне» четвертой категории надо было наполовину уменьшить за один год. Если кто сам умер, его уже не убивали.
Убивал ли он детей?
Детей? Не помнит. Может, и убивал.
А у него есть дети?
Да. Двое.
Как он мог убивать других детей, если имел своих? Думал ли он когда-нибудь об этом?
Да, он говорит, что думал. Говорит, что, если бы он не убил тех детей, другие убили бы его собственных.
Кто именно?
Вредные элементы.
Теперь мы все приходим в бешенство. Кто был тогда вредным элементом, ты, глупая скотина?! В чем пред тобой провинились маленькие дети?
Антропоид облизывает губы. Заявляет, что не понимает наших вопросов.
Участвовал ли он в налетах на Вьетнам?
Да. Два раза.
Убивал ли вьетнамских крестьян по ту сторону границы?
О нет. Ни одного.
Почему все время делались налеты на братскую страну?
Пол Пот на одном собрании сказал, что надо защищать Кампучию от вьетнамской агрессии. Кажется, так: агрессии. Да, агрессии. Кадровые работники ничего не знали. Не были информированы.
Знает ли он, кем были Маркс и Ленин?
Нет. Он никогда не слышал этих имен.
Читал ли он какую-нибудь книгу? Какую?
Да, несколько лет назад. Что-то про Америку. Стрельба. И насчет женщин было.
Как он себя чувствует в этой тюрьме?
Очень хорошо. Он думал, что его сразу убьют. Удивлен, что этого не сделали.
Хочет ли он, чтобы его отослали в деревню Свайонг?
Антропоид смотрит на меня мертвым взглядом. Видно, у него мелькнула мысль, что мы за этим сюда
приехали. Это длится лишь секунду, но двое часовых покрепче сжимают приклады.
Нет. Антропоид не хочет, чтобы его отослали в эту деревню.
Чего он ожидает, совершив столько преступлений?
Он не понимает.
Какого наказания ждет?
В кхмерском языке нет слова «наказание», этого нельзя перевести.
Слушай, в отчаянии говорит Герхард, слушай и подумай хоть минуту, ты, интеллектуал: ты убил триста пятнадцать невинных людей и виновен в смерти тысячи или даже двух тысяч человек. Неужели ты думаешь, что будешь и дальше жить так, как до сих пор жил?
Нет, он вовсе так не думает.
Понимаешь ли, что тебя могут расстрелять, ну, скажем, завтра?
Вмешивается офицер. Таких вопросов задавать нельзя.
А почему нельзя? Ведь он не подлежит перевоспитанию. Ему, наверное, грозит смертный приговор, пусть скажет наконец хоть что-нибудь, что мы могли бы записать.
Приговора нет. Этот человек нужен. И вообще пора кончать беседу.
Солдаты отводят антропоида к бетонным ступеням. Он садится рядом с Моах Кхуном. Оба тупо глядят в пространство. Молчат. Ни жеста, ни слова. На лицах никакого выражения. Быть может, они вообще неспособны поразмыслить о своей собачьей жизни, которая, вероятно, не будет чересчур долгой.
Эти двое — уже последнее звено в большой цепи мыслей, наблюдений и доктрин, которая идет от Сен-Жюста, Бакунина, Нечаева, Штирнера, Прудона, Маркузе, во многом объясняет безумства китайской «культурной революции» и террористические акты в Западной Европе, а кончается фигурой немногословного аскета по фамилии Пол Пот.
CLXXII. Завтракали мы уже после двух часов. Из города Хошимина привезли новые запасы. Армейские повара постарались, чтобы обед соответствовал вкусам европейских товарищей. Были холодные голубцы из сладкой капусты (несъедобные), жесткое мясо кусочками (видно, кто-то плохо перевел рецепт), суп из цветной капусты (я ее в рот не беру), омлет (среднего качества). Есть как-то не хотелось. Жара перескочила за сорок градусов. От нас пахло трупами и собственной грязью. Воды хватило, только чтоб ополоснуть руки. Моя рубашка была твердой, как панцирь. Небритая борода докучала, как ссадина.
На столиках снова появились спиртные напитки из королевского погреба и слабое вьетнамское пиво, без которого тут действительно трудно выжить. Мы мешали пиво с коньяком, «луа мой» — с черри. Герхард все еще не мог успокоиться и беспрерывно хватался за блокнот. У меня во вспотевших мозгах рождались сотни совершенно новых и совершенно гениальных замыслов. Андрей передразнивал Игоря и рассказывал об обнаженных танцовщицах в бассейне перед рестораном с такими подробностями, будто сам их видел. Я был голоден, но есть не мог. Поклевывал ломтики огурца, на котором нам чудились крупные, с палец, амёбы, ковырялся в помидорах, кишевших лямблиями. Мне захотелось кофе: как будет «кофе» по-кхмерски? Солдат сперва принес чай с козьим молоком, затем баночку с чем-то черным, а под конец мне вручили пол-литровый горшок с кофе, невкусным, но очень крепким. Я достал сигарету и в одну секунду протрезвел: это была моя предпоследняя сигарета.
До отлета оставалось еще несколько часов. Мы должны участвовать в каком-то митинге. И лишь потом лететь, затем добираться с аэродрома… Не дотяну. Я начал соображать, где бы достать сигарет. Я был готов заплатить за пачку пять долларов или пятьдесят донгов, отдать свой походный нож, просить, отнимать, выдирать. Я переводил свою просьбу солдатам, показывал пустую пачку — безрезультатно. Из коллег курил только Андрей, но я знал, что и у него сигареты кончаются. Я еще раз осознал, что застроенное место, в котором мы находимся, — это не город, а бескрайняя пустыня. Я знал, что проклятая привычка когда-нибудь поставит меня в подобную ситуацию. Но это произошло чересчур неожиданно, чтоб я мог поверить в полное и абсолютное отсутствие сигарет. Тогда Андрей, видевший мои безуспешные старания, подошел к столику и протянул мне пачку «Мелии». В ней были две последние сигареты. Я неискренне сопротивлялся. Андрей сказал: «Ничего, бери. Я русский, я привыкну».
Теперь у меня были три сигареты примерно на десять часов.
Тут в ресторан вошел начальник охраны и сообщил, что с сегодняшним вылетом в Хошимин, к сожалению, ничего не получится. На границе с Китаем ситуация становится все более напряженной, отменены полеты военных самолетов в Пномпень. Нам придется здесь заночевать. Утром, вероятно, мы вернемся, но ручаться за это нельзя.
Я оцепенел. Невозможно было себе представить, как это я "выдержу вечер, ночь и еще следующий день без курева. Я сказал начальнику охраны, что не ручаюсь за свое здоровье, если мне не достанут где-нибудь сигарет, а врачей ведь тут нет. Начальник покачал головой, не скрывая своего неодобрения, и ответил, что постарается выслать солдат, чтобы поискали по магазинам. Но он нигде не видел сигарет.
Я их тоже ни разу не видел, ни в магазинах, ни в брошенных квартирах.
CLXXIII. Митинг дружбы происходил в актовом зале министерства обороны, удивительно красивом, с превосходной акустикой. В зале было около ста пятидесяти молодых людей, которых нам представили как студентов, и много высших офицеров обеих армий. В первом ряду сидели пожилые мужчины в черных костюмах и при галстуках, вероятно, какие-нибудь чудом спасшиеся профессора. Но это вряд ли возможно, их было здесь пятеро, а Кео Ченда десять дней назад говорил нам, что ни один из них не уцелел.
В зале было еще жарче, чем тогда, в Прейвенге, во время эксгумации трупов. Юпитеры, получавшие питание от переносных агрегатов, подняли температуру в зале, который пополуденное солнце и так беспрепятственно раскалило градусов до пятидесяти. Не только нам было невмоготу: пот струился по генеральским мундирам вьетнамцев, по черным костюмам почетных гостей в первом ряду, заливал глаза девушкам в нескладно сидевшей военной форме, лился ручьем со лбов, ушей, из-под мышек. Пользуясь своим положением иностранного корреспондента, я остановился у первого ряда стульев и бесцеремонно налил себе полный стакан лимонада, по-видимому специально изготовленного на бывшем пивоваренном заводе ради сегодняшней оказии. Жидкость была почти горячей, отвратительно липкой и пахла трупами. Вероятно, это был обман чувств, от меня шел трупный запах, я уже не мог выносить жаркого, тошнотворного запаха собственной рубашки. Мечта о том, чтобы выкупаться и сменить рубашку, охватила меня с такой силой, что я ощутил как к горлу подступают не то слезы, не то тошнота. Я попросил у вьетнамского полковника сигарету показав жестами, что хочу курить. Мне было превосходно известно, что сигареты строго нормированы, даже для высших должностных лиц, и что угощать ими не принято, но мне было уже все равно. Сигарету я получил и решил выкурить ее через десять минут. Я подумывал, не уйти ли с митинга, пока он не начался. Но министерство обороны было далеко от центра, сам я не нашел бы дороги в отель. Оставался только «Изусу». Я почувствовал, что во мне не осталось ни капли влаги. Кровь загустела, как расплавленный свинец, еле растекалась по сосудам и через раздувшееся от усилий сердце.
У входа началось движение. В зал вошел премьер-министр Фам Ван Донг вместе с товарищем Хенг Самрином. Вспыхнули лампы, треск стареньких «аррифлексов») отдавался в ушах, как грохот.
Приветствия, здравицы, заверения.
Я вынул из кармана залитый потом блокнот и начал записывать основные положения речи премьер-министра. Через минуту понял, что не смогу расшифровать собственных записей.
Я высмотрел в зале студента, у которого из кармана блузы торчала пачка сигарет, и, не обращая внимания на беспокойные взгляды солдат охраны, подошел к нему и умильно улыбнулся. Он не реагировал. Я заметил, что сигареты были марки «555», их пачка стоит на юге Вьетнама восемь долларов. Я сделал неопределенное движение головой и вышел во двор. Солдаты из роты охраны посмотрели на меня внимательно и без симпатии. И тут вдруг произошли сразу два чуда. В конце выжженного солнцем газона я увидел кран, обычный садовый кран, из которого текла струйка воды. Прежде чем я успел подскочить к нему, кто-то тронул меня за плечо и подал сигарету. Не могу сказать, кто это был. Я затянулся дымом и почувствовал, что жизнь ко мне возвращается. Потом медленно — ноги были как ватные — я пошел к крану. Кто-то крикнул, чтобы я не пил эту воду, но уже ничто в мире не могло помешать мне сложить ладони лодочкой и судорожно сделать пять, восемь, пятнадцать глотков.
Я возвратился в зал и исписал три страницы блокнота заметками о митинге. Начальник вьетнамского генерального штаба говорил, что надо сомкнуть ряды. Кто-то, чьей фамилии я не разобрал, осудил китайский экспансионизм, одинаково враждебный интересам обоих государств. Было подчеркнуто, что, несмотря на все происки, удалось восстановить братское единство двух соседних народов. Китайский экспансионизм, пользующийся ныне поддержкой американских империалистов, ставит своей целью завладеть всей Юго-Восточной Азией. Только сейчас я заметил, что над столом президиума висят длинные гирлянды, сплетенные из цветов лотоса, что во вьетнамском тексте транспаранта то и дело встречаются знакомые слова: независимость, свобода, единство. Что по столу президиума ползают большие ярко-красные муравьи. Что Герхард, сосредоточенный и увлеченный, уже в течение часа стенографирует каждое сказанное здесь слово.
Ко мне вдруг вернулась прежняя уверенность в себе. Ладно, я ведь не работаю на агентство. Могу себе позволить кратко изложить содержание произнесенных здесь речей. Прежде чем я вернусь, тексты потеряют свою злободневность. В конце концов, каждый, кто занимается этим делом, имеет право на минутную слабость.
Митинг дружбы закончился в четверть седьмого. Мы сдвинули с места наш «Изусу», что на сей раз далось с превеликим трудом, и по пустынным, призрачным улицам города доехали до отеля.
CLXXIV. К ужину мы почти не притронулись. Только болгары, от природы нечувствительные к разного рода стрессам, смели все, что им поставили на столик. Мы выпили по три бутылки пива. Мне пришло в голову, что, если я когда-нибудь опишу это свое пребывание в Пномпене, все равно не удастся показать самую мучительную особенность проведенных здесь часов: кажущуюся нормальность работы, питания, поездок на фоне непостижимой пустоты и тишины города. Описание страданий, связанных с отсутствием сигарет, само по себе нелепо; то, что сигарет нельзя купить ни за какие деньги, — это любопытная деталь строчки на две. Вообще смешно описывать такого рода переживания. В каждой профессии бывают трудные моменты. Интересно, что я написал бы, проработав смену в угольной шахте или после суточного пребывания на подводной лодке в состоянии погружения.
Мы взяли с собой пиво и засели в гостиной на первом этаже. Я размышлял, как легче будет пережить отсутствие сигарет: глядя на играющих в карты коллег или лежа в кровати и пытаясь заснуть. Мелькнула мысль: уж не пора ли бросить курить? В кармане у меня оставалась одна-единственная сигарета — на всю ночь и, вероятно, на целый завтрашний день.
Я вышел в освещенный двор и начал размышлять, откуда вообще дается ток для освещения отеля, если городская электростанция не действует, а кабель поврежден. Я вычислил, что переносный генератор, питающий гостиничную электросеть, должен иметь мощность не менее пятисот киловатт, что было явной нелепостью. Я бросил подсчитывать. Молодой часовой сказал, чтобы я вошел в помещение. Непроницаемая темнота за оградой выглядела как поставленная вертикально глубина горного озера ночью. Я посмотрел на игравших в карты коллег и пошел наверх.
В номере снова шумно работало климатическое устройство, под потолком слабо горела лампочка. Из ванной несло таким удушливым смрадом, что я решил не открывать дверь. В какой-то момент желание умыться стало мучительнее самой сильной жажды.
В цветочную вазу я налил полбутылки пива и начал бриться. Крем «Поллена» пенился на щеках. Я успел выбрить пол-лица. Потом погас свет и замолк кондиционер. При слабом свете зажигалки я закончил бритье. Решил выкурить последнюю сигарету. Было совсем темно и тихо. Из-за окна доносились лишь очень далекие выстрелы. Поминутно кричала какая-то птица.
Рубашка, висевшая на спинке стула, издавала такой сильный и тошнотворный трупный запах, что мне сделалось дурно. Я почувствовал кровь на подбородке. Видимо, порезался бритвой. Я намочил в пиве квасцы и на ощупь остановил кровотечение.
Вдруг я вскочил на ноги. Дверь номера отворилась, кто-то вошел и приблизился ко мне. При свете зажигалки я увидел военную форму, ремни, кобуру, китайскую шапку. Я инстинктивно забился в угол алькова. Но это был солдат из нашей охраны.
Он принес мне шесть пачек сигарет.
Они пахли гвоздикой, корицей, вербеной, кардамоном и черт знает чем еще. Табак был черный как уголь. Дым щипал язык. Я выкурил три сигареты подряд и почувствовал, что смогу заснуть. Влез под москитную сетку. Знакомая ящерица привела к себе подружку. Они вместе шныряли по стенам и сетке, как два ракетных истребителя. Тяжело протопал косматый паук, страшный и отвратительный, как в сказках братьев Гримм. У балконной двери ссорились два геккона. Я услышал шорох крыльев какой-то огромной бабочки и заснул.
CLXXV. Спал я крепко и очень долго. Меня разбудило верещание птиц. Когда в четверть восьмого я спустился к завтраку, оказалось, что моих коллег уже нет. Они выехали час назад.
Куда выехали?
В Хошимин.
А что им так вдруг загорелось?
Как, товарищ, вы не знаете? Китай напал на Вьетнам. На всем протяжении границы. Идут кровавые бои. Уничтожено шестьдесят китайских танков. Война продолжается.
Почему никто меня не разбудил? Каким образом мои коллеги получили места в самолете?
Это был внерейсовый самолет из Сиемреапа, приземлился здесь ненадолго. Мест уже не было, но советские и болгарские товарищи настоятельно требовали, чтобы их забрали с собой, сказали, что имеют поручение от своих редакций.
Я тоже должен поехать на китайский фронт. Немедленно. Как можно скорее.
Может, сегодня будет какой-нибудь самолет.
Должен быть. Не сидеть же мне тут вечно.
Неизвестно. Идет война, товарищ. Все самолеты нужны.
Значит, я поеду на машине. Найдите какой-нибудь вездеход.
Нет, это невозможно. Таков приказ. Мы отвечаем за вашу безопасность, товарищ.
Хорошо. Сейчас я пойду в город, в час вернусь обедать. Сообщите, что я хочу немедленно вылететь во Вьетнам. Вся польская группа там.
Нападение Китая на Вьетнам придавало новый смысл увиденному в Кампучии. Было ясно, что китайцы пустили в ход ту же тактику, которую применили уже по отношению к Индии во время индийско-пакистанского конфликта. Они хотят вынудить Вьетнам сражаться на два фронта. Иными словами, стремятся реставрировать власть Пол Пота. В этой ситуации я должен как можно скорее попасть на фронт, скорее вернуться на родину и рассказать, что я здесь видел. Придется, видимо, написать книгу.
CLXXVI. Я отправился в город совершенно один, без цели, медленным шагом, словно экономя силы. В центре по-прежнему было пусто. Я прошел около трех километров и встретил лишь одинокого солдата на мотоцикле. Я заглянул в несколько вилл на проспекте Монивонг. Там царили смерть и опустошение. Просторные террасы и перголы были наполовину во власти буйной растительности. В каком-то доме я заметил толстые лианы, которые вползли в окно и пустили корни в кадке с засохшей пальмой. Одна из вилл, наверное, принадлежала богатому китайскому купцу. В шкафу висела шелковая женская одежда, на полу валялись обрывки китайских текстов, новогодние открытки с идеограммами, шарфы, позолоченные бумажные деньги для умерших.
Часа через полтора я заметил, что пномпеньская пустота уже не производит на меня впечатления; похоже, что нет такой ситуации, в которой инстинкт быстрой адаптации не превозмог бы ошеломления. Я решил вернуться другим путем, идя по солнцу. Свернул в первый же переулок, прошел сто метров и опять свернул, чтобы держаться параллельно проспекту Монивонг.
На улице так же разевали рты двери развороченных лавок. На тротуарах и мостовой валялись обувь, пленка, пластинки, инструменты. Перед часовым магазином я увидел несколько кожаных кресел, разбитые циферблаты стенных электрочасов и множество мелких предметов неясного назначения.
Один из них привлек мое внимание. Башенка, сделанная из тонких полированных бамбуковых палочек, как японская пагода с семью крышами, но сконструированная так, что устанавливалась в двух положениях, как кухонные песочные часы для измерения коротких отрезков времени. Вероятно, она и вправду служила в качестве часов. В стеклянном сосуде с опаловым блеском был тяжелый блестящий порошок цвета цикламена. Я перевернул часы. Порошок начал сыпаться сквозь отверстие, и тогда из-под средней крыши башенки высунулась пара маленьких ладоней, старательно вырезанных из дерева и вытянутых в знак мольбы или отчаяния. Я не мог понять, как происходит в такой простой и легко просматриваемой конструкции это движение ладоней. Может быть, сыплющийся порошок создавал давление через какие-то скрытые маленькие каналы. Но куда прятались эти руки, если крутая крыша выглядела совершенно непроницаемой? Я перевернул часы вверх дном. Ладони исчезли, словно их вовсе не было.
Я присел на вылинявшее кресло и начал вертеть часы: верх — низ, верх — низ. Сюрреализм этой сцены не снился самому Бунюэлю. Я сидел один на длинной пустынной улице, среди странных предметов, в резком солнце полудня, и нетерпеливо ждал, когда розовый порошок вызволит из тюрьмы пару деревянных ладоней. Я самозабвенно увлекся этим занятием. Непонятно было, какой цели служит этот странный предмет, как он устроен и чем меня так зачаровал. Часы весили примерно полкилограмма. Я вертел их во все стороны, но чувствовал себя так, словно столкнулся с какой-то необъяснимой тайной, на грани мистики или черной магии. Наконец я перевернул часы так, чтоб ладони спрятались внутрь башни, и встал с кресла. В какой-то миг я подумал, что бамбуковые часы могли бы стать символом Кампучии после обрушившихся на нее бедствий. Сотворенные неизвестными людьми для неизвестной цели, они отмеряют время, произвольно выхваченное из потока истории, и напоминают, что никакое время нельзя себе представить без этих рук, простертых в знак мольбы или страдания. Что мы, в конце концов, знаем достоверного о судьбах рабов империй кхмеров в XI веке или о том, что происходило на этой земле, когда с севера и запада хлынули воинственные полчища, которые не оставили после себя камня на камне? Может быть, все то, что я сейчас вижу, просто один из эпизодов среди беспрестанного грохота и ярости, которые представляются нам сутью истории.
CLXXVII. Я дошел до опустевшей и заваленной мусором вокзальной площади. Решил посмотреть, как выглядит вокзал в стране, где уничтожена единственная семисоткилометровая железнодорожная линия.
Надписей здесь тоже не было. В билетных кассах валялись монеты и банкноты, груды железнодорожных билетов, разбитые чашки. В камере хранения стояло больше десятка распоротых чемоданов. У выхода лежала плоская крестьянская шляпа, сильно запятнанная кровью, а рядом детский башмачок и рука целлулоидной куклы.
На левом перроне стоял знаменитый эвакуационный поезд, про который нам неоднократно рассказывали. 17 апреля 1975 года он не успел выехать и почти четыре года стоит на месте. Быть может, останется здесь навсегда: там, где кончается перрон, рельсы разобраны и погнуты, указатели семафоров сорваны, поврежденные стрелки заржавели.
Поезд состоял из двадцати двух товарных вагонов, наполненных вещами пассажиров. Тряпки всякое барахло, узелки, дырявые чемоданы, сгнившие куртки, расклеившиеся сандалии, опечаленная швейная машина, горшок, сверток, ботинок. Вся эта магма наполовину вытекла на перрон, через нее приходилось пробираться, как через мусорную свалку.
Я дошел до одиннадцатого вагона, который был отведен, по всей вероятности, под эвакуирующийся медперсонал. У входа были носилки с пятнами крови и ручками, обернутыми помятыми окровавленными бинтами. Внутри виднелись груды разбитых ампул, стеклянные баночки и куски марли.
Я заглянул в следующий вагон и уже собирался вернуться, как вдруг с близкого расстояния в мою сторону два раза выстрелили из автомата; кто-то дважды нажал спусковой крючок, автомат, видимо, был поставлен на одиночные выстрелы. Пули угодили в соседний, двенадцатый вагон, метрах в шести от места, где я стоял. От деревянной стенки вагона отлетели тонкие длинные щепки и, по-видимому, увязли в сваленных на пол вещах.
Я низко присел у одиннадцатого вагона, перед моими глазами была смазанная и запыленная вагонная ось. Из укрытия я пытался высмотреть, кто в меня стрелял. Но в густой зеленой стене за путями, в сорока метрах от перрона, не было заметно никакого движения. Ничего не произошло. В небе порхали птицы — и все.
Я минуту выждал и, пригнувшись, осторожно крался вдоль поезда, довольный, что никто из коллег не видит меня в таком идиотском положении. У третьего вагона я выпрямился. Выйдя из вокзала на пустую, залитую солнцем площадь, не оглядываясь назад и громко посвистывая, я энергичным шагом направился в отель «Руайяль». Я решил, что в самом центре города, в четырехстах метрах от отеля, который усиленно охраняется, никто не мог стрелять в меня умышленно. Вероятно, у кого-нибудь из часовых автомат вследствие резкого движения сам собой выстрелил, ибо пользование предохранителем здесь не получило повсеместного распространения. С сорокаметрового расстояния в меня попал бы даже ребенок.
CLXXVIII. Завтракал я в одиночестве. Солдаты принесли мне восемь бутылок пива, бутылку «луа мой» и бутылки четыре различных коньяков. Огромной миски макаронного супа с сырым луком хватило бы, пожалуй, на целый батальон.
Под конец пришел командир охраны и сказал, что самолет в Хошимин вылетит только завтра утром. Он просил оставить для меня место. Это значило, что мне предстоит провести в Пномпене еще ночь — без мытья.
CLXXIX. Два часа я пролежал под москитной сеткой, перечитывая записи в блокноте и дневнике. У порога ванной копошились муравьи и какие-то длинные, бойкие червячки цвета свежего салата. Как видно, в запертой ванной творилось что-то любопытное.
В три часа я снова отправился в город. Мне уже изрядно надоели прогулки, осмотр города, одиночество и грязь. Будь у меня какое-нибудь чтиво или хотя бы собеседник, я, верно, остался бы в отеле. Но я панически боюсь скуки и безделья. Мне кажется, что я тогда умру или сойду с ума. Уж лучше бродить по этой страшной жаре, чем валяться, уставившись в потолок.
В двухстах метрах от «Руайяля» стоял особнячок в неопределенном стиле. На его фронтоне виднелись следы от сорванных букв: Bibliothtèque Nationale[71]. Я вошел туда, собираясь подробно описать все, что увижу. После посещения бывшего губернаторского дворца я ожидал найти здесь лишь груды пепла.
Из вестибюля, усыпанного патронными гильзами, перьями из разорванных матрацев и осколками посуды, я свернул направо, в большой, распахнутый настежь зал с сохранившейся надписью: «Salle de lecture»[72]. На мгновенье я оцепенел: зал был наполнен книгами, судя по переплетам, очень старыми. Я осторожно брал их и стряхивал пыль. Первые издания Вольтера. Французские издания Шекспира, 1818 год. Какие-то французские лексиконы, выпущенные вскоре после революции 1789 года. Первые издания Теофиля Готье, Виктора Гюго, Стендаля, Бальзака, Мариво. Великолепные карты и путеводители по различным странам, в том числе целый ворох описаний Индокитая от начала французской колонизации. «Сокровищница англосаксонской поэзии». Очень старые издания Ларусса и Брокгауза. Но все это было сброшено с полок, покрыто толстым слоем пыли, человечьими, крысиными и птичьими экскрементами. Дорогие переплеты исколоты штыками. Меловая бумага старых карт в пятнах крови и мочи. Каталожные карточки выброшены из шкафов и засыпали весь пол в читальне и в соседнем пустом зале.
Национальная библиотека была гордостью королевского дома. Основал ее еще Вармана — прадед Сианука. Редчайшие и ценнейшие французские книги в течение многих лет выписывались из Парижа, ибо как иначе объяснить, откуда взялись первые издания Вольтера, валявшиеся у входа. Должно быть, полпотовцы решили не жечь этого собрания в надежде, что библиографические редкости удастся сбыть за валюту в Европе или в Америке. Вот единственные книги, которые я видел в этой стране. Стоимость их, в одном этом зале, достигала, вероятно, нескольких сот тысяч долларов.
Я бродил по библиотеке, не переставая удивляться. Некоторые залы были совершенно пусты, полностью очищены от книг, полок и инвентаря. В других рядами стояли нераспечатанные пачки книг, помеченные штемпелями и наклейками «USIA», американского ведомства пропаганды. В коридорах — множество солдатских коек, рваных одеял, разбитой посуды. Во всем здании было так пусто и тихо, словно последний человек вышел отсюда десятки лет назад.
Вдруг из небольшого зала, расположенного рядом с главной читальней, послышался короткий пронзительный визг, а потом прерывистое сопение. То, что я увидел, оказалось зрелищем ужасным. У входа была свалена груда старых книг в кожаных переплетах, высотой с полметра. Эта груда отгораживала комнатку от читального зала. Внутри металась окровавленная крыса, за которой гонялась большая черная свинья с глазами, жаждавшими убийства. Видимо, свалившиеся сверху книги отрезали животных от выхода. Шла, вероятно, последняя фаза поединка. У крысы волочился хвост по земле. Она то и дело отчаянными прыжками пыталась зарыться в книги. Свинья разрывала книги рылом и прижимала копытом хвост и туловище крысы. Наконец крыса просчиталась: выскочила на ту часть пола, которая не была завалена книгами. Свинья в один миг растоптала ее, а потом одним движением рыла отбросила этот кусок мяса на другой конец комнаты, прямо мне под ноги.
Крысиная морда покоилась на титульном листе открытой книги, изданной в Париже в 1811 году Марселем Фушье. Заглавие книги звучало так: «Подробное описание Индокитая, то есть дальневосточной страны, расположенной к югу от Китая, вместе с соображениями о возможностях торговли и очерком состояния экономики, а также местных нравов».
Выходя из Национальной библиотеки, я без труда сообразил, откуда в этом здании взялась свинья. В боковом дворе расположился лагерем какой-то отряд, наверное, служба снабжения кхмерской армии. Меж палатками бегало штук тридцать больших черных свиней.
Крысы завелись в Национальной библиотеке потому, что один из подсобных читальных залов был превращен в склад зерна.
CLXXX. Я опять пошел прямо. Уже не хотелось заглядывать в опустевшие виллы. Не тянуло и в магазины. Удивительно, до чего быстро люди ко всему привыкают. Я скучал, утомленный однообразием всего увиденного, боялся, что не смогу этого описать. О гостинице «Доклад» начал мечтать, как о родном доме. Перед моими глазами рисовались: ванна, книжки для чтения, чемодан с привычными мелочами, чистая рубашка. Потом я опомнился: надо внимательнее смотреть вокруг, чтобы побольше увидеть. Но мне удалось увидеть только две сцены, ради которых стоило доставать блокнот.
На тротуаре, около какой-то лавки с непонятным ассортиментом, стояла полуметровая латунная статуя Будды. Я подошел, чтобы как следует рассмотреть ее, потому что издали она казалась странной и бесформенной, но сразу же отскочил, как от удара штыка. Вокруг шеи и складок на животе Будды обвилась изрядной величины змея, ее окраска идеально гармонировала с цветом латуни, только тонкие черные колечки выделялись на одноцветном фоне. Змея была так ленива, что с трудом повернула ко мне тонкую треугольную голову.
Чуть подальше в груде засохших листьев и мусора я увидел альбом с фотографиями какой-то состоятельной семьи. В нем было примерно двести любительских снимков. Это была, должно быть, большая семья: кроме родителей, дедушек и бабушек, мелькали десятки дальних родственников, выводки маленьких детей какие-то почтительные слуги, достойные гости. Меня заинтересовала история дочери, единственной, кажется, среди многочисленных братьев разного возраста. Смуглый плачущий младенец. Худенькая девочка, старательно вглядывающаяся в объектив. Потом все более красивая, наливающаяся соком девушка, причесанная по-европейски, с фигурой, как у прославленных манекенщиц с Мэдисон-авеню, с веселыми, умными глазами. Потом около нее появляется юноша, тоже одетый на европейский лад: один, другой, третий. Под снимками какие-то подписи на кхмерском языке, и, наконец, на предпоследней странице красуется торжественная английская надпись: I am studing. Именно так, с ошибкой. На прекрасном фотопортрете исключительно красивая девушка, полная счастья и радости, как бывает с человеком на восемнадцатом году жизни.
Под снимком стоит дата: 1 апреля 1975 года. До вступления «красных кхмеров» в столицу оставалось шестнадцать дней.
CLXXXI-СХС
CLXXXI. Ужинал я совсем один, в обессиливающей скуке и молчании. Выпил стакан «луа мой» в надежде, что последняя ночь пролетит незаметно, без боязни тоски и бессонницы. Переводчики куда-то исчезли, солдаты бесшумно ставили все новые и новые блюда, до которых я не мог и дотронуться. Было около восьми вечера, самолет отлетал в шесть утра. Итак, еще десять часов небытия. С самим собой мне уже не о чем было спорить.
Свет потух, когда я поднимался по лестнице. Видимо, его включали только на время приготовления ужина. Я уже свободно передвигался в темноте; лишь входя в номер, чиркнул зажигалкой. Пламя осветило пятна крови Колдуэлла и дыру от вырванной ручки, в которую надо было засунуть палец.
Я был совершенно один на сто тридцать восемь номеров отеля «Руайяль». Исчезни я с лица земли, никто не сумел бы установить обстоятельства этого дела. На миг мне захотелось, чтобы нечто подобное случилось. Это куда эффектней, чем стоны на больничной койке и неловкие соболезнования друзей. Вот была бы наконец мужественная и скорая смерть, которая нынче все большая и большая редкость. Слишком мало нас гибнет на фронтах различных войн и в горячих точках планеты. Наши слова мелки, они журчат, как теплая вода в испорченном кране. Мы обслуживаем, комментируем, изощряемся, преподносим читателю тысячи разных событий. Но что мы, в сущности, знаем насчет самых элементарных понятий, о том, как выглядит цвет пролитой крови?
Да. Если бы сегодня на вокзале пули вонзились шестью метрами ближе, была бы поставлена хорошая точка в конце моей биографии. Я свое видел и испытал. Но для каждого наступает время, когда хочется умереть во имя чего-то, обратившись с завещанием к остающимся. За что же конкретно можно сегодня умереть в Кампучии?
Я с трудом снял рубашку. Зуд не мытой три дня кожи стал невыносим. На руках и спине появились длинные жгучие волдыри. Днем я просил, чтобы меня подвезли к министерству обороны, где около газона торчал садовый кран, но ничего из этого не вышло. Видно, решили, что я могу помыться вместе с солдатами в густой черно-зеленой воде пруда перед рестораном. Достаточно зачерпнуть пригоршню воды из этого пруда, чтобы лицо покрылось лишаями и чирьями. Я видел такие случаи.
Разогнав ящериц и мохнатых бабочек, стряхнув с подушки сороконожку, я залез под сетку. С удивлением обнаружил, что даже здесь успел прижиться. Под сеткой у меня уже был свой маленький дом. Очки, зажигалка и нож имели свои места, мокрая простыня беспрекословно собиралась в правильные складки. Инстинкт оседлости и способность обзаводиться хозяйством, которыми наделен человек, сильнее всяких внешних препятствий. Я прислушивался к тишине за окном, которую изредка прерывали отдаленные выстрелы, шорох крыльев летучих мышей и резкие крики ночных птиц. Я не чувствовал страха, а скорее какую-то неопределенную тоску по знакомому уголку Варшавы, по какой-нибудь лужайке около леса, словно я навсегда их потерял. Потом я повернулся на бок. Волдыри начали лопаться, обнажившаяся кожа горела, как облитая кислотой. Умыться. Умыться. Я почувствовал, что ни минуты больше не выдержу. Встал и решил обмыть лицо пивом. Превозмогая отвращение, открыл плотные, солидные двери ванной. Оттуда вырвалось густое, удушливое облако смрада. В стоячей воде умывальника копошились целые клубы жирных блестящих червей. На доске унитаза сидело какое-то небольшое животное, которое в мигающем пламени зажигалки выглядело как василиск. Я поспешно захлопнул дверь. С бутылкой пива подошел к балконной двери и отодвинул жалюзи. Едва я выставил руку, как из темноты приплыли мягкие, бесшумные стаи каких-то летучих созданий природы. Они упорно бились о мое плечо и стекло бутылки. Закрыв балконную дверь, я стал посреди комнаты и начал левой рукой наливать пиво на правую ладонь, которой протер лицо, уши и шею. Капли, падавшие на каменный пол, стучали так громко, что слышно было, наверное, во всем пустом крыле отеля. А может, во всем здании.
Помогло. Я сделал несколько движений туловищем и снова вполз под сетку. В памяти вдруг всплыл какой-то ранний декабрьский вечер в Нью-Йорке, на Лексингтон-авеню, залитый светом и присыпанный легким веселым снегом. Потом картины стали наплывать одна на другую, знакомые лица обращались ко мне без слов. Я видел и момент возвращения на родину, и заваленный бумагами стол. Но сон не приходил.
Я уже знал, что об увиденном здесь напишу книгу, которая не будет состоять из коротких, лаконичных фраз. Что снова буду молча глотать вежливые комплименты и злорадные придирки. Но, не написав этой книги, я не смогу освободиться от власти этой страны, ибо мною уже завладел невыраженный замысел.
Думалось: я все еще живу. И хотел бы наконец совершенно точно знать, во что я вложил те тысячи дней, которые просидел за пишущей машинкой. Что я, в сущности, проповедовал в течение тридцати лет, которые отдал своей профессии.
Повернувшись на бок, я опять почувствовал жгучую боль. Она привела меня в чувство и устыдила. Хватит, черт побери, этих самоаналитических терзаний. Надо было раньше об этом думать.
Услышал еще тяжелое причмокивание геккона и заснул.
СLХХХII. За завтраком мне сказали, что нашего «Изусу» больше нет. Накануне вечером он столкнулся с грузовиком на неосвещенной улице. Наш замечательный водитель с кольтом на поясе тяжело ранен.
Столкновение двух автомашин в совершенно пустом городе — в этом было что-то от мрачного и невероятного анекдота. Я ощутил неподдельную печаль, словно потерял кого-то очень близкого.
CLXXXIII. В половине шестого утра, попахивая, как тряпка с мусорной свалки, я отправился белым «мерседесом-280» в аэропорт Почентонг. Самолет, на котором мне предстояло возвратиться во Вьетнам, должен прилететь из Сиемреапа. Но никто точно не знал, прилетит ли он и найдется ли для меня место.
Весь первый час ожидания в королевском салоне я сидел молча, обозревая выжженное и бесцветное пространство летного поля. Я снова был совершенно один. Только в конце здания, где когда-то находился ресторан, два кхмерских солдата играли в пинг-понг. Они не понимали ни слова ни на каком иностранном языке.
Мне вспомнился тот момент бешеной антропофобии, которая напала на меня во время первой поездки в Кампучию. Я почувствовал стыд и усталость. Ведь каждый может поведать свое, и нигде не сказано, что мой рассказ лучше других. Временами мне и вправду кажется, что где-то здесь, в Южной Азии, начинает образовываться ядро тайфуна, который сметет когда-нибудь наш чудесный маленький мирок, а мы, развлекающиеся, запыхавшиеся, занятые только собой, не хотим принять этого к сведению. А может, я ошибаюсь. Может, во мне говорит лишь потребность в очередном мифе и объяснимое, конечно, но при таком-то опыте несколько инфантильное желание отождествить себя с чем-то далеким, а поэтому чистым, однозначным, избавленным от пакостей современной жизни. Наверное, пора кончать с подобным зазнайством. Нельзя притворяться, что я умнее или дальновиднее тех, которых с такой охотой мысленно оскорбляю, поскольку они портят мне картину того мира, который должен быть, но не того, который существует в действительности. Ладно, у меня есть своя повесть, и я от нее не отрекусь. Но это всего лишь одна из многих, очень многих повестей современного мира.
В четверть второго в растопившемся от зноя небе раздался рев моторов. Около трех мы приземлились на аэродроме Тхансоннют.
CLXXXIV. Девятнадцатого февраля в пять часов утра мы вылетели на китайский фронт. Ночь в Ханое, в четыре утра выезд на север, военными машинами.
Первый этап — город Лангшон, тогда еще не захваченный китайцами. Двумя неделями позже китайский снайпер застрелил там нашего японского коллегу с которым мы вместе были в Кампучии. Потом мы провели два дня и две ночи на участке, где шли самые ожесточенные бои, — под городом Лаокай. Но это уже совсем другая история.
CLXXXV. По случаю Международного дня защиты детей американский еженедельник «Ньюсуик» поместил в номере от 23 июля 1979 года на странице 26 следующее сообщение из Таиланда.
«Когда двенадцатилетняя Мэм первый раз попала в Бангкок, она думала, что едет с семьей на экскурсию. Но оказалось, что ее отец, бедный крестьянин, продал ее за восемьдесят долларов одному агентству по найму на работу. Какое-то время Мэм служила нянькой, затем ее перепродали на фабрику, где вместе с пятьюдесятью восемью другими девочками она работала по пятнадцать часов в сутки, обертывая конфеты. Им обещали по пятьдесят центов в день, но никто никогда не видел никаких денег, так как хозяин заявил, что девочки должны ему платить за питание и квартиру. Девочки спали в помещении над фабрикой, где было полно тараканов. За четыре месяца, которые провела здесь Мэм, две девочки умерли из-за отсутствия какой-либо врачебной помощи, а шесть других были парализованы, так как по многу часов сидели во время работы на корточках. Несмотря ни на что, хозяин фабрики заставлял парализованных девочек работать; вместе с другими девочками Мэм носила парализованных подруг с верхнего этажа на работу и доставляла обратно после окончания рабочего дня.
Такая участь не является для таиландских детей чем-то необычным. Тысячи их работают в качестве домашней прислуги или на фабриках, хотя по закону нельзя брать на работу детей моложе двенадцати лет. По данным властей, от пяти до семнадцати тысяч фабрик и кустарных мастерских в одном только Бангкоке используют труд малолетних. Они нанимают главным образом детей, сплошь и рядом нарушают любые предписания, которыми регулируются продолжительность рабочего дня, санитарные условия и техника безопасности. Детей обычно продают на фабрики за сумму от пятидесяти до ста долларов, что является нешуточным дополнением к доходу в семьдесят пять центов в день, которые приходятся на крестьянское хозяйство. Родители, продающие своих детей, не обязательно жестоки: они просто очень бедны и ничего не знают об условиях труда в Бангкоке. Кроме того, они верят обещаниям бессовестных посредников, что будет проявлена необходимая забота о детях.
Посреднические агентства (скупающие детей у крестьян) и предприятия, процветающие благодаря эксплуатации малолетних, зачастую действуют с официального разрешения. Прэча Аттхавипат, бывший начальник отдела фабричной инспекции, открыто признает, что многим подпольным предприятиям позволено работать «в порядке компромисса», так как они являются неотъемлемой частью таиландской экономики. «Если бы мы употребили крайние средства, чтобы ограничить эксплуатацию детей, большинство этих предприятий обанкротилось бы, что повлияло бы на судьбу тысяч людей, занятых в родственных отраслях». Даже когда делается попытка ввести в жизнь предписания закона, хозяева предприятий, эксплуатирующих детский труд, на это совершенно не обращают внимания. «Нам приходится проявлять эластичность в отношении действующих предписаний во имя экономического развития», — говорит Аттхавипат.
Конфетная фабрика, на которой работала Мэм, служит хорошим примером. На фабрику приехала наконец полиция, по требованию министерства труда, которое обещало начать следствие против хозяина и против посреднического агентства, доставлявшего невольническую рабочую силу. «Их действия были в высшей степени бесчеловечны», — заявил генеральный директор министерства труда Вичит Сэнтонг. Это было восемь месяцев назад. До сих пор нет никаких результатов. Хозяин фабрики находится на свободе, внеся залог, и, по-видимому, не соизволит явиться на процесс, пожертвовав залогом. Правда, полиция вытянула «показания» из хозяев посреднического агентства, но вскоре обвинения с них были сняты — без указания причин.
Девочки с фабрики помещены в Центр опеки в Пхатхае, субсидируемый министерством социального обеспечения, на время, пока родители не заберут их обратно. Большинство девочек ждут этого месяцами. «Мы теряем здесь нашу жизнь», — говорит десятилетняя Чан.
Нет уверенности, что, покинув Центр, девочки не будут снова проданы на другую фабрику, которая тоже работает, эксплуатируя детский труд».
CLXXXVI. Это не жанровая зарисовка в духе Диккенса. Так на самом деле выглядит и сегодня социальная действительность в большинстве стран Юго-Восточной Азии. Ее редко замечают туристы, любующиеся пагодами и всякими экзотическими чудесами. В статистических данных этого района мира она тоже не отражена. Сведения о ней лишь редко попадают на страницы респектабельных журналов, где самые утонченные умы нашего столетия всесторонне обсуждают тайны структурализма или издеваются над примитивностью всяких идеологий.
Значит, так и останется на веки вечные? Значит, на протяжении всего обозримого будущего Азия должна по-прежнему быть таким же пеклом, каким она была в тридцатые и в пятидесятые годы, а может быть, и еще худшим пеклом, если принять во внимание прирост населения и слишком низкие темпы экономического роста?
Неужели выбирать приходится только между продажей детей и безумием «культурной революции» в китайском или кампучийском варианте? Неужели из-за того, что логика мышления Пол Пота привела в итоге к человекоубийству, следует признать, что единственная альтернатива ему — это пассивное одобрение такой системы, которая не может обойтись без каторжного детского труда?
Я бы много, очень много дал, чтобы знать ответ на этот вопрос, прежде чем поставлю когда-нибудь последнюю точку в последней предназначенной для печати фразе.
Всегда можно сослаться на кубинский или вьетнамский пример и убедить самого себя, что есть все-таки какой-то выход из порочного круга нищеты и бедствий. Можно самому себе объяснить, что аберрации, период безумств, даже инволюционного регресса выпали на долю и некоторых других революций и что нельзя судить о великих исторических движениях на основе небольших в конечном счете отрезков времени. Можно найти множество рациональных аргументов, которые позволят кампучийские события признать страшным, но единичным эпизодом, не имеющим, в сущности, слишком большой идеологической значимости, ибо террор нигде не может длиться бесконечно.
Но не все, однако, могут судьбу отдельного человека рассматривать в перспективе многих поколений. Дети, которых продают на фабрики отупевшие от голода крестьяне, мучения стариков и бедствия женщин, океан страданий и обид, с которыми мир не хочет и не умеет справиться, — все это не располагает к хладнокровному анализу. Нужда и горе подлинных, не вымышленных «условий человеческого существования» — в Азии или где-либо еще — непрерывно ставят перед нами страшный вопрос: а не выиграл ли Ариман[73] своего сражения за души жителей нашей планеты?
CLXXXVII. Теперь только о возвращении. Молчаливые, закутанные женщины в Карачи, скука, и ужас пустынного ислама. Потом пронизывающий элегантный холод Берлина. Наутро только час полета над диковинным, совершенно белым пространством — и варшавский аэродром Окенце. Ну, какие впечатления от Кампучии? Впечатления? Нет никаких впечатлений. Во всяком случае, ничего подходящего для рассказа за рюмкой водки или по радио. А что у вас? Ах, нормально, дружище. Не устроили, не завезли, сказали, отменили, подорожало, не вышло. Говорят, что…
CLXXXVIII. Я вернулся из Индокитая 28 февраля 1979 года. 5 марта выступил в Хельсинки, на Всемирной конференции солидарности с Вьетнамом, которая была организована Всемирным Советом Мира.
Я подробно рассказал обо всем, что видел в Кампучии. Восьмистам делегатам, среди которых были заместитель премьер-министра Финляндии и несколько послов. Показал крестьянский нож с пятнами человеческой крови, взятый в пномпеньском госпитале. Показал китайские боеприпасы, найденные рядом с черепами в Прейвеете, осколки китайских артиллерийских снарядов, привезенные с фронта, из-под Лаокая, подобранные на улицах фотографии уничтоженных людей, пачку с миллионом риелей, осколок мозаики XI века, оставшийся от разрушенной пагоды.
Впервые в жизни я созвал пресс-конференцию для своих зарубежных коллег. Ход ее был освещен на первых страницах финских и шведских газет. Мои корреспонденции из Кампучии были опубликованы в тридцати трех зарубежных газетах и журналах на девяти языках, общим тиражом почти два миллиона экземпляров.
Я выступил по польскому телевидению. Выступал в Швейцарии и Чехословакии. Опубликовал статью в американской газете «Балтимор сан».
20 июня я закончил рукопись этой книги, превосходно зная, что лихорадочная спешка в работе повредит тексту.
Я думал, что, действуя с такой энергией и на стольких фронтах, я оплачиваю моральный долг жертвам режима Пол Пота. Что в доступных мне пределах я привлеку внимание общественного мнения к исключительности совершенных преступлений. Я предпринимал действия, выходившие далеко за рамки обычного профессионального долга, будучи убежден, что в таком деле ни молчать, ни медлить нельзя.
К сожалению, я ошибся. Ошибся еще раз. Оказалось, что в международной политике существуют куда более важные вещи, чем, к примеру, судьба жителей города Прейвенг.
Летом 1979 года на Западе была начата контрнаступательная пропагандистская акция в защиту режима Пол Пота, хотя всего полгода назад сама мысль о том, чтобы обелять «красных кхмеров», показалась бы нелепой. Акция была начата внезапно, создалось впечатление, что ею дирижируют одновременно из Пекина и Вашингтона.
С этого момента мне уже ни разу больше не удалось выступить на Западе в качестве свидетеля того, что случилось.
Западногерманский еженедельник «Штерн» еще в марте заказал мне серию репортажей и снимков из Кампучии, оговорив за собой исключительное право на них во всей немецкоязычной сфере Западной Европы. Несмотря на все напоминания, он не пускал материал в печать целых четыре месяца, а в июле публиковать его отказался, прочно заблокировав мне доступ к нескольким миллионам говорящих по-немецки читателей. Две американские газеты холодно ответили, что проблема Кампучии потеряла актуальность. Из западной печати в один прекрасный день исчезли сообщения о зверствах свергнутого режима. Было начато дипломатическое контрнаступление, цель которого определялась ясно и недвусмысленно: Пол Пот и Иенг Сари — это «единственные законные представители кхмерского народа».
С 15 по 19 августа в Пномпене происходил заочный процесс над Пол Потом и Иенг Сари, который велся открыто, согласно нормальной судебной процедуре, в присутствии нескольких десятков наблюдателей из-за границы. Обнародованные на процессе факты, показания восьмидесяти свидетелей превзошли все то, о чем я узнал в феврале. Пол Пот и Иенг Сари были приговорены к смертной казни. Западная печать откликнулась на этот факт заметками в несколько строк где-то на последних страницах. Комментариев почти не было, а в появившихся делалась попытка осмеять «неуклюжие вьетнамские действия, цель которых — скомпрометировать Пол Пота». Буквально так выразилась крупная французская газета «Орор». Шпрингеровская печать была еще остроумнее: пномпеньский процесс она, не церемонясь, назвала «фарсом».
Постоянное место пребывания Иенг Сари — Пекин. Этот человек путешествует с китайским паспортом, фотокопию которого опубликовала в апреле индийская печать. Расходы на путешествия целиком покрывают китайцы. Все это не воспрепятствовало тому, чтобы под конец августа Иенг Сари отправился в Гавану на конференцию неприсоединившихся стран в качестве… представителя «Демократической Кампучии». Такого государства уже полгода не существовало, но Иенг Сари упирал на активность, которую проявляла Кампучия в движении неприсоединившихся стран при правительстве Сианука. Гаванская конференция не признала, правда, мандата Иенг Сари, хотя его красноречивые адвокаты буквально срывали голос, стремясь этого добиться, но большинством голосов отказала правительству Хенг Самрина в праве участвовать в ее работе.
Так была достигнута первая тактическая цель китайско-американской дипломатической кампании: мировому общественному мнению внушили, что в Кампучии «два правительства» и невозможно разобраться, как в действительности было дело. В этой ситуации напоминание о некоторых аномалиях правления Пол Пота и Иенг Сари оказалось неуместным, учитывая основную стратегическую цель, которая состоит в том, чтобы задушить независимый Вьетнам и установить китайскую опеку над всем Индокитайским полуостровом. Поэтому, надо полагать, вся западная печать полностью перестала давать какие-либо сообщения о преступлениях полпотовцев. Зато начали появляться намеки, что прежние информации на эту тему были «сильно преувеличены».
Потом пришло подходящее время, чтобы из якобы «двух правительств» Кампучии только одно было признано Организацией Объединенных Наций и получило штемпель законности. С поразительным единодушием в Вашингтоне и Пекине решили, что единственными представителями кхмерского народа должны быть палачи этого народа. Те самые, которым не хватило двух, самое большее — трех лет, чтобы наполовину уменьшить численность населения Кампучии.
Под конец сентября, после острой, но не особенно длинной процедурной дискуссии в связи с отчетом Комитета по полномочиям, Генеральная Ассамблея большинством в семьдесят один голос против тридцати пяти признала, что единственным представителем кхмерского народа в Организации Объединенных Наций может быть только режим Пол Пота.
В результате этого голосования, ход и итоги которого должны навсегда войти в историю вместе с фамилиями открыто голосовавших дипломатов, «заместитель премьера и министр иностранных дел Демократической Кампучии» Иенг Сари возглавил «кампучийскую делегацию на XXXIV сессии Генеральной Ассамблеи». Он остался «его превосходительством», сохранил все дипломатические привилегии и незапятнанную репутацию государственного деятеля. Он получил также право голосовать «от имени Кампучии» по всем вопросам повестки дня сессии.
Но это было лишь предвестием того, что произошло в ближайшие недели.
В начале октября я оказался в Нью-Йорке. Я стал задавать вопросы знакомым дипломатам и коллегам-журналистам: как, собственно говоря, могло дойти до столь невероятных вещей, куда девалась уже не совесть мира, но элементарное чувство приличия? У меня, однако, создалось впечатление, что никто моего возмущения не разделял. В конечном счете в мире происходит столько ужасного… Несколько человек мне прямо заявили, что сообщения о мнимых преступлениях Пол Пота следовало бы как следует проверить. Никто не утверждает, что Пол Пот и Иенг Сари были ангелами, но первейшая обязанность международного сообщества — это уважать суверенитет и территориальную целостность государств.
9 октября на вечернем заседании Генеральной Ассамблеи выступил в общей дискуссии Иенг Сари. Я слушал его, сидя в одиночестве на галерее для прессы; внутренняя телетрансляция для меня была недостаточна. Я хотел видеть этого человека собственными глазами, слышать его голос, наблюдать за реакцией зала.
Речь Иенг Сари была построена четко и ясно, не оставляла места для произвольных толкований. «Демократическая Кампучия» стала жертвой неспровоцированной агрессии; великолепные достижения кхмерского народа ныне уничтожаются и разграбляются агрессором; из Кампучии вывозят сокровища кхмерской культуры, демонтируют промышленность и умышленно разоряют сельское хозяйство, чтобы увеличить голод. Кампучийский народ физически истребляется за то, что сохраняет верность единственному законному и суверенному правительству «Демократической Кампучии», правительству его превосходительства премьера Пол Пота; это правительство пользуется поддержкой большей части демократического общественного мнения во всем мире; новая власть в Пномпене не имеет никаких связей с кхмерским народом; «Демократическая Кампучия» выражает горячую признательность всем правительствам, которые поддержали ее правое дело, высказались за счастье, свободу и суверенность кампучийского народа; правительство премьера Пол Пота намерено и впредь проводить свою традиционную политику неприсоединения, защиты демократии и суверенитета; с этой целью оно готово сотрудничать со всеми без исключения кхмерскими группировками в Кампучии и за границей, дабы восстановить в стране демократию и такой социальный строй, за который свободно выскажется большинство народа.
Наутро я сверил все это со стенограммой. Я не верил уже собственным ушам, сомневался в правильности своих записей.
Но записи соответствовали тому, что действительно произнес с трибуны Ассамблеи этот всем известный «демократ», «борец за индустриализацию», «покровитель культуры» и «друг детей».
В заключительной части своего выступления Иенг Сари требовал, чтобы Объединенные Нации оказали помощь «законному правительству Демократической Кампучии», дали ему возможность возвратиться в Пномпень и остановили творимые ныне «преступления против кхмерского народа». Иенг Сари назвал это «моральным долгом международного сообщества».
В момент, когда Иенг Сари начал говорить, из зала заседания Генеральной Ассамблеи вышли тридцать четыре делегата, в том числе все делегации социалистических стран, признавших правительство Хенг Самрина. Но остальные делегаты сидели на местах и аплодировали преступнику, как требует принятый в ООН обычай. Этого мало. Двенадцать делегатов подошли к Иенг Сари и демонстративно, на глазах всего зала, принесли ему свои поздравления. Первыми были, разумеется, китайцы. О других странах умолчу, но я хорошо запомнил их названия.
11 октября Иенг Сари устроил в здании ООН пресс-конференцию.
Я пришел на четверть часа раньше, чтобы сесть как можно ближе к этим двум людям: Иенг Сари, вернейшему из верных среди палачей, и Тхиун Пратхиту, «постоянному представителю» в ООН, который перед выездом в Нью-Йорк был шефом службы безопасности в южных провинциях страны. Я подумал, что с равным успехом мог бы оказаться на пресс-конференции шефа гестапо Кальтенбруннера, а может, даже и самого Гиммлера. Ныне все, буквально все возможно. Океан лжи захлестнул нормальное человеческое восприятие, избыток слов притупил мозги. Я вспомнил об умерших в Свайриенге, о колодцах, наполненных людьми в жидком состоянии, о черепах с гвоздями в глазницах, о сожженных пагодах, об уничтоженных рисовых полях.
Я подготовил шесть вопросов Иенг Сари и первым взял слово. Запись с конференции выглядит так:
Вопрос первый: Вы сказали позавчера, что новая власть в Пномпене «не имеет корней» в обществе. А ведь большинство нынешних руководителей были офицерами высокого ранга в армии «красных кхмеров», участвовали в создании партии и партизанского движения во времена Лон Нола, занимали высокие посты в первое время после прихода к власти вашего правительства.
Ответ: Все эти люди — вьетнамские агенты и не представляют нашего правительства.
Вопрос второй: Вы заявляли, что жертвы среди населения Кампучии имеют место только теперь. Баланс вашего правления слишком хорошо известен и достаточно документирован, чтобы не иметь нужды полемизировать с подобными заявлениями. Но я хочу задать совершенно конкретный вопрос. В середине февраля я был в городе Прейвенг, где видел собственными глазами сотни, если не тысячи черепов и скелетов. Город почти целиком поглотили джунгли. Как вы это объясните? Ведь джунгли не растут столь быстро, чтобы за три недели поглотить двадцатитысячный город?
Ответ: Верно, что из-за отсутствия рабочей силы в деревне часть жителей города была переселена в деревню и поэтому некоторые города, может быть, несколько запущены…
Голос из зала: Запущены?
Ответ: Да, то есть производят впечатление запущенных. Я хочу, однако, еще раз подчеркнуть, что все распространяемые Вьетнамом сообщения о якобы имевших место в период революции массовых убийствах не что иное, как вымысел. В худшем случае могли иметь место отдельные проявления самовольства со стороны низших местных органов, но это происходило вопреки воле правительства. Что касается черепов и костей, которые вы видели в Прейвенге, я не могу ставить этот факт под сомнение, но полностью уверен, что их свезли туда вьетнамцы, стремясь очернить законное правительство «Демократической Кампучии».
Движение в зале.
Вопрос третий: Вы ничего хорошего о Вьетнаме сказать не можете, и этому трудно удивляться. Ваши соотечественники в Кампучии другого мнения. Но меня интересует эволюция ваших взглядов. Я не говорю о 1971 годе, когда вы трижды были во Вьетнаме, и 1973 годе, когда вы четыре раза посетили Ханой, горячо и во всеуслышание благодаря вьетнамцев за помощь кхмерской революции. Но в самом Пномпене 19 апреля 1975 года, через два дня после взятия города, вы были главным оратором на митинге победы, где очень долго и многословно снова выражали благодарность Вьетнаму. Что и когда изменилось в ваших взглядах?
Ответ: Я не припоминаю такой речи. Как заместитель премьера, я очень занятой человек, и не все события остаются в моей памяти.
Движение в зале.
Вопрос четвертый: Объясните, пожалуйста, что произошло с Ху Нимом, членом высшего руководства и главным идеологом «красных кхмеров», после которого данный пост заняли вы?
Ответ: Насколько я помню, Ху Ним был разоблачен как вьетнамский агент и арестован.
Голос из зала: По приговору суда? Что это был за суд?
Ответ: Признаться, не помню, я не занимался тюрьмами. Область моих интересов — внешняя политика и культура.
Смех в зале.
Вопрос из задних рядов: Но ведь вы сами написали статью, в которой оправдывался расстрел Ху Нима и содержался призыв вести решительную борьбу против лиц, идущих по капиталистическому пути?
Ответа нет.
Вопрос пятый: Вы постоянно живете в Пекине, путешествуете с китайским паспортом, ваша жена — китайская гражданка. Несмотря на это, каждое второе слово в вашей речи было о суверенитете. Кто оплачивает ваши поездки и на чей счет содержится «представительство» в ООН?
Ответ: Я прибыл сюда прямо из Кампучии. У нашего правительства достаточно средств, чтобы обеспечить деятельность наших представительств за рубежом.
Раздраженный голос с правой стороны: Как же вы выехали из Кампучии? Каким путем? Каким транспортом?
Ответ: Я не могу этого раскрыть.
Мой шестой, последний вопрос был таков: В апреле этого года трибуналом в Пномпене вы были приговорены к смертной казни за убийство невинных людей. Я не хочу от вас комментариев к приговору, но хотел бы знать, чувствуете ли вы лично себя в чем-нибудь виновным. Повторяю, хотя бы в чем-нибудь?
Ответ: Процесс в Пномпене был политическим актом, рассчитанным на то, чтобы воспрепятствовать мне принять участие в конференции в Гаване. Я не чувствую себя виновным в каких-либо ошибках. Я получил гуманитарное образование во Франции и всегда трудился на благо народа Кампучии.
Смех в зале.
Остальные вопросы касались различных деталей, связанных с конференцией в Гаване и сессией Генеральной Ассамблеи.
Пресс-конференция длилась пятьдесят две минуты. Несколько американских коллег показали мне тексты своих отчетов о пресс-конференции и попросили выверить имена и географические названия. Я это с удовольствием сделал. И снова подумал, что хотя бы таким путем послужу делу, которое не только я считаю правым.
Я еще раз ошибся. На следующий день во всей американской прессе не появилось ни слова о пресс-конференции Иенг Сари. Зато в четырех крупных газетах и в программах двух телевизионных компаний появились сообщения о Кампучии, в которых полностью воспроизводилась аргументация, использованная Иенг Сари на Генеральной Ассамблее.
Я подумал, что не могу мимо всего этого пройти равнодушно, и предложил двум крупнейшим телекомпаниям, Эй-би-си и Эн-би-си, рассказать о своих впечатлениях о пребывании в Кампучии в любой форме, в любом месте, в любой программе.
Предложение было отвергнуто.
Я обратился к одному из американских издателей с вопросом: не заинтересует ли его перевод моей книги о Кампучии, которая вот-вот выйдет в свет?
Издателя мое предложение не заинтересовало,
При разных оказиях я выражал готовность прочесть публичную лекцию, принять участие в дискуссии с какими угодно оппонентами, предоставить фотографии или фильмы, снятые в Кампучии.
Безуспешно.
За одно полугодие полпотовцы стали союзником «свободного мира», ценным и полезным помощником в разыгрывании политической шахматной партии, стратегическим резервом.
В день моего отъезда из Нью-Йорка телекомпания Эй-би-си передала короткую программу о голоде в Кампучии. Вину за этот голод целиком возложили на вьетнамцев. Об экономической политике режима Пол Пота, об уничтожении его палачами рисовых полей, об убитых специалистах сельского хозяйства или хотя бы об уничтожении опытной станции в Прэахлеапе не было сказано ни слова.
В сущности, лишь в этот момент я по-настоящему понял, что имел в виду Джеймс Болдуин, заявив десять лет назад, что честные люди могут иметь различные политические взгляды, но не могут расходиться во взглядах на человекоубийство.
CLXXXIX. Под конец октября консервативная шведская газета «Свенска дагбладет», которая совсем недавно с удовольствием помещала сообщения о зверствах полпотовцев и опубликовала подробный отчет о моей пресс-конференции в Хельсинки, начала печатать «корреспонденции из Кампучии», написанные шведским маоистом-фанатиком Яном Мюрдалем. Резкие политические различия во взглядах на все существующие проблемы совершенно не помешали ни газете, ни Мюрдалю пойти на этот весьма поучительный симбиоз.
Мюрдаль некогда прославился на Западе неумеренными восторгами по поводу великолепных достижений китайской «культурной революции». Нынешнюю «банду четырех» он упорно изображал и в статьях, и в двух своих книгах как единственных подлинных пророков маоизма. Мюрдаль постоянно живет в Пекине. Именно оттуда его направили в какую-то полпотовскую банду, которая скрывается в горных джунглях в северной части страны. Он пишет, разумеется, что кхмерский народ процветал при правительстве Пол Пота, что в стране были установлены справедливость и демократические свободы, а все сообщения насчет истребления людей — это вымысел вьетнамцев и их европейских агентов.
Я не знаю, ей-богу, не знаю, имеет ли свои пределы это лживое лицемерие. Шесть миллионов свидетелей и два миллиона трупов — это для Мюрдаля, по-видимому, ничто.
СХС. Этот краткий календарь событий не есть что-то из ряда вон выходящее. Если так пойдет дальше, Пол Пота начнут принимать в Белом доме, Иенг Сари получит, может быть, Нобелевскую премию мира, Тхиун Пратхит сядет в кресло председателя очередной сессии ООН. А почему нет? Что этому мешает, если беспрепятственно совершилась реабилитация режима Пол Пота, предпринятая совместными усилиями Пекина и крупнейшими западными столицами?
Нужна исключительная психическая стойкость, нужна глубокая — неизвестно, насколько она подтвердится, — вера в осмысленность истории, чтобы в этом беспокойном, раздираемом противоречиями мире сохранять верность хотя бы себе самому. Это все труднее. Но есть ли другой выход?
Люди, люди…
Примечания
1
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. I, с. 112.
(обратно)2
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 50–51.
(обратно)3
Одна из главных улиц Варшавы. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)4
Это название Нородом Сианук дал в 60-х годах всем левым силам, выступившим против его режима. Впоследствии оно было автоматически перенесено на полпотовцев.
(обратно)5
«Клюв попугая» — острый выступ территории Кампучии, который врезается в юго-западные провинции Вьетнама.
(обратно)6
Мадиун — город в Индонезии, где в 1948 году произошла вспышка гражданской войны.
(обратно)7
Имеется в виду восстание крестьян Телинганы (в районе княжества Хайдарабад в Индии) в 40-х — начале 50-х годов Нашего века.
(обратно)8
ЮНИДО — Организация объединенных наций по промышленному развитию;
ЮНКТАД — конференция ООН по торговле и развитию.
Норман Эрнест Борлог (род. в 1914 г.) — американский агроном и селекционер;
Гуннар Келл Мюрдаль (род. в 1898 г.) — шведский экономист и политический деятель, лауреат Нобелевской премии 1974 г., занимается проблемами развивающихся стран.
(обратно)9
Цитата из первого действия драмы С. Выспянского «Свадьба» (1902), где в связи с восстанием боксеров в Китае провинциалы ведут разговор о политике.
(обратно)10
Здесь: знай сверчок свой шесток (лат).
(обратно)11
В июне 1981 года на первой сессии Национального собрания, принявшей Конституцию Народной Республики Кампучии, тов. Хенг Самрин был избран председателем Государственного совета НРК. 4 декабря 1981 года пленум ЦК Народно-революционной партии Кампучии избрал тов. Хенг Самрина Генеральным секретарем ЦК НРПК.
(обратно)12
Понимаете, враги народа (франц.).
(обратно)13
Буддийская молитвенная формула.
(обратно)14
Для польского товарища (франц.).
(обратно)15
Тех, вы знаете, кого я имею в виду (англ.).
(обратно)16
«Школа политических наук» (франц.).
(обратно)17
Жорж Сорель (1847–1922) — французский философ и социолог, идеолог анархо-синдикализма.
Далее упоминаются видные представители анархизма: французский мелкобуржуазный социалист Пьер Жозеф Прудон (1809–1865), немецкий философ Макс Штирнер (1806–1856), глашатай крайнего индивидуализма.
(обратно)18
Да, убили (франц.).
(обратно)19
Дар французского Красного Креста (франц.).
(обратно)20
Убит, убит (франц.).
(обратно)21
«До свидания, Рим» (итал.).
(обратно)22
«Зеленые листья лета» (англ.).
(обратно)23
«Долина Красной реки» (англ.).
(обратно)24
Джорджио Кирико (1888–1978) — итальянский художник, создатель так называемой, «метафизической живописи». Среди его произведений — виды опустевших городов.
(обратно)25
После захвата власти полпотовцами Компартию Кампучии стали называть Революционной организацией «Ангка», а ее руководящий орган — «Ангка лоэу», высшей организацией.
(обратно)26
Марсель Дюшан (1888–1967) — французский художник, переехавший в США; был связан с течениями дадаизма и сюрреализма.
(обратно)27
Правильно (франц.).
(обратно)28
«Ло Со Кхеу. Торговля красками, ул. Ояналоум, 12, Пномпень, Камбоджа» (англ., франц.).
(обратно)29
Гаутама — одно из имен Будды.
(обратно)30
Немецкое название Освенцима.
(обратно)31
Макс Эрнст (род. в 1891 г.) — немецкий художник-сюрреалист.
Ив Танги (1900–1955) — французский художник-сюрреалист.
(обратно)32
Что за праздничный день (англ.).
(обратно)33
Ужасная история (нем.).
(обратно)34
С перцем (франц.).
(обратно)35
Герберт Маршалл Мак-Люэн (род. в 1911 г.) — буржуазный философ и социолог, занимающийся проблемами культуры и средств массовой информации.
(обратно)36
«Новый Сайгон» (исп.).
(обратно)37
Провозглашаемый рядом религиозных верований принцип ненанесения какого-либо вреда живым существам. В учении М. Ганди «ахимс» являлся философско-этическим обоснованием тактики ненасилия.
(обратно)38
Секта японского буддизма, получившая распространение в XII–XIII веках. В основе ее учения призыв к самоуглублению и самосозерцанию, которое может привести человека к просветлению.
(обратно)39
Чен и Кио — персонажи романа А. Мальро «Удел человеческий» (1933, в русск. пер. — «Условия человеческого существования»).
(обратно)40
Лафкадио — персонаж романа А. Жида «Подземелья Ватикана» (1914).
(обратно)41
Полковник Бергер — персонаж романа А. Мальро «Орешники Альтенбурга» (1943).
(обратно)42
Написанное остается (лат).
(обратно)43
Теофиль Оцепка (род. 1891 г.) — современный польский художник-самоучка, автор фантастических пейзажей.
(обратно)44
Анри Руссо (1844–1910), «таможенник» — французский художник-самоучка, создатель фантастико-аллегорических композиций.
(обратно)45
Пуантилизм — метод, который ввели в употребление художники-неоимпрессионисты: при расположении в ряд множества одинаковых цветных пятен создается иллюзия вибрации поверхности картины.
(обратно)46
Хоймар фон Дитфурт (родился в 1913 г.) — известный западногерманский психиатр, писатель.
(обратно)47
Проблемы безопасности (англ.).
(обратно)48
После образования Демократической Республики Вьетнам (2 сентября 1945 г.), в обстановке, когда в страну вошли в целях интернирования японской армии с севера гоминьдановские, а с юга англо-французские войска, Компартия Индокитая по тактическим соображениям объявила о самороспуске, продолжая в то же время руководить массами.
(обратно)49
В начале 50-х годов в Париже сложилась узкая, связанная больше личными, чем политическими интересами группа из Пол Пота, Иенг Сари, Кхиеу Самфана, Сон Сена, будущей жены Пол Пота Кхиеу Полнари и ее сестры Кхиеу Тирит, вышедшей позже замуж за Иенг Сари. Все они жили во Франции как эмигранты, считались студентами. (См. В. Скворцов. Кампучия: спасение свободы. М., 1980. с. 26)
(обратно)50
Дьенбьенфу — название долины в северо-западной части Вьетнама, где 13.III — 7.V. 1954 г. произошло решающее сражение, которое принесло вьетнамскому народу окончательную победу в освободительной войне против французских колонизаторов.
(обратно)51
«Искра» (франц.).
(обратно)52
Пол Пот и его сторонники вернулись из Франции в конце 1953 г. — см. предисловие.
(обратно)53
Руководителем был избран коммунист-интернационалист Ту Самут, которого Пол Пот и его единомышленники тайно убили 27 мая 1962 г.
(обратно)54
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)55
«Красная гвардия» (англ.).
(обратно)56
Эмиль Дюркгейм (1858–1917) — французский буржуазный социолог, позитивист.
Артуро Лабриола (1873–1959) — итальянский политический деятель и экономист, один из лидеров синдикализма.
Герберт Спенсер (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.
(обратно)57
Нострадамус (Мишель де Нотр-Дам; 1503–1566) — врач и астролог при дворе французского короля Карла IX.
(обратно)58
Противоположности сходятся (франц.).
(обратно)59
От ЗМП (Звёнзек млодзежи польской) — «Союз польской молодежи», массовая молодежная организация, существовавшая в Польше с 1948 по 1956 г.
(обратно)60
Имеется в виду восстание шанхайских рабочих под руководством КПК в марте 1927 года.
(обратно)61
Реальная политика (нем.).
(обратно)62
Русский перевод М., ИЛ, 1956.
(обратно)63
«День гнева» (лат.).
(обратно)64
Против всех (лат.).
(обратно)65
При всем различии талантов (франц.).
(обратно)66
«Украинская повстанческая армия» — банды националистов, сотрудничавших с гитлеровцами.
(обратно)67
«Дело о Кампучии» (франц.).
(обратно)68
Каникулы (франц.).
(обратно)69
Не будьте таким чертовым английским снобом (польск.)
(обратно)70
Впоследствии документация тюрьмы была найдена и представлена на судебном процессе по обвинению Пол Пота и Иенг Сари в преступлении геноцида (август 1979 г.). Сохранились фотоснимки и списки тысяч людей, замученных палачами «Туолсленга».
(обратно)71
Национальная библиотека (франц.).
(обратно)72
Читальный зал (франц.).
(обратно)73
Ариман — бог зла, тьмы, лжи и уничтожения в древнеперсидской религии (маздеизме).
(обратно)



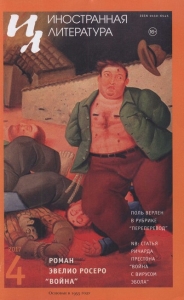

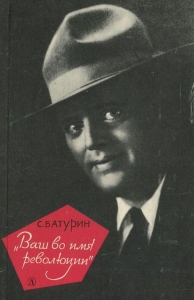

Комментарии к книге «Песочные часы», Веслав Гурницкий
Всего 0 комментариев