Кофе понедельника
Хроники Б-ска +
На самом деле всё не так, как в действительности
© Кофе понедельника, 2015
© Наталья Викторовна Бочарова, дизайн обложки, 2015
© Николай Николаевич Дихтяренко, иллюстрации, 2015
Текст Наум Аронович Непомнящий
Текст Владимир Александрович Бизюкин
Текст Сергей Александрович Мостовщиков
Текст Степан Венедиктович Чердаков
Текст Денис Алекандрович Петренко
Текст Анна Сергеевна Петренко
Текст Елена Анатольевна Воробьёва
Текст Елена Валерьевна Кузьменок
Текст Дмитрий Анатольевич Горчев
Текст Юлия Николаевна Перепелова
Текст Анна Евгеньевна Рудницкая
Редактор Константин Дмитриевич Цукер
Иллюстратор Николай Николаевич Дихтяренко
Дизайнер обложки Наталья Викторовна Бочарова
Корректор Юлия Николаевна Перепелова
Корректор Мария Сергеенко
Корректор Екатерина Пилютина
Корректор Елена Франс
Корректор Владимир Несонов
Корректор Татьяна Шилова
Текст Константин Дмитриевич Цукер
Текст Наталья Викторовна Бочарова
«…Налетело стадо каких-то мелких мух, облепило все наши голые колени, не кусались, но смотрели оч. выразительно, как бы говоря: намёк понятен? Да? Уже били, били их, а они не отстают. И уйти нельзя, дела. Наконец, солнце упало за дом, и на одну коленку нашла тень. И мухи пересели на те, которые на солнце! А потом и вовсе улетели, догонять последние лучи. То есть они считали нас источником тепла и света. А мы их по морде.
В общем, не такое уж мы и дерьмо. Хотя бы с точки зрения мух.»
ISBN 978-5-4474-3838-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оглавление
Маргарите, которая не сдаётся
От редакции
— Ну что за детский сад, — скажут некоторые, — ну что это за непроизносимое «Б-ска» такое, вынесенное в заголовок? Это, во-первых. А во-вторых, тоже мне конспирация. Если уж приспичило конспирировать. Да любой школьник возьмёт атлас и немедленно определит, какой-такой этот Б-ск и с чем его едят. Глупости какие-то…
Не-не-не, не скажите. Нету таких школьников, которые листают на досуге атласы, не бывает. Это раз. И нету задачи конспирировать. Это два. Всё просто: главный лирический герой этих хроник — Город нашего сердца. И мы решили оставить простор для воображения — если кому вдруг надо. Быть может, Город зовётся Бабаевск. Или Бийск. Или Байкало-Амурск. Или вообще Баб-эль-Мандепск. Слышите? Слышите, как заиграло? Опять же, неместному читателю так загадошнее. Не Зурбаган, конечно, но всё ж таки. Поэтому, пусть будет Б-ск, ладно? Не ругайтесь.
Данная книга — логическое продолжение вышедшей лет восемь тому назад «Хрестоматии Б-ска». Это действительно самые настоящие хроники. Мы собирали их по кусочкам, как цветные стёклушки для мозаики, что-то выклянчили у старших товарищей, что-то нагло спёрли, что-то написали и сфотографировали сами, периодически закрывая глаза и взвешивая внутри себя: готово? Не готово? Можно запускать? И вот почуяли — можно.
«Плюс», затесавшийся в название, тоже не просто так. Мы приплюсовали в местные хроники тексты совершенно неместного человека Сергея Мостовщикова, не имеющие никакого отношения ни к Б-ску, ни к хроникам. Этот самый Мостовщиков — он как-бы компас, что ли… ох, долго объяснять, забейте. Просто тексты уж больно хорошие, вот мы и не удержались.
В общем, читайте, чего зря трепаться.
Город-лес
В деле доброты важно искать источники доброты и время от времени припадать к ним. Таких мест можно найти много, но начинать нужно с Б-ска. Сам я к Б-ску отношусь скептически. Всё тут делается на полном серьёзе, юмора никто не понимает, люди проваливаются сквозь землю, недовольный народ перекрывает федеральную трассу. Делать в Б-ске нечего, но кто-то другой во мне всё время зовет меня в Б-ск. Ничего не известно даже о том, как он появился в России. Скажем, согласно мистической версии, само по себе слово «б-ск» — это выражение ветхозаветной эмоции, связанной с реакцией на изгнание из рая в тварный мир. Сразу после вкушения запретного плода человек был низвергнут Создателем в реальную жизнь, где испытал свой первый «б-ск». Согласно прагматическому подходу к истории, город основали бобры на месте оврага Нижний Судок. Здесь процветали трудолюбие, взаимопомощь и кувшинки. Однако прославленный реформатор Петр I, вернувшись из Европы, побрил бобров, вырвал им зубы, выучил пить, курить, заниматься частным извозом и свадебной фотографией. Это и определило образ современного Б-ска навсегда. Например, человек собирается переночевать и находит телефон гостиницы «Отень». — Это как время года, только через «т», — говорит такому человеку девушка-администратор. — Это знаете, как у нас бывает, — говорит такому человеку таксист, — узнает кто-нибудь незнакомое слово и сразу начинает им пользоваться, чтобы проблемы были не только у него. Это ведь вам, а не им теперь нужно будет разбираться — отень у них там или не отень. — Это знаете, как будет по-древнерусски? — говорит такому человеку бармен гостиницы «Отень». — Отень — это отчий дом. Именно вечная потребность человека самостоятельно наделять смыслом то, в чём его нет, каждый раз превращает глупость в историю, мысль в проблему, отчий дом — в гостиницу, а большой и довольно таки каменный город — в тревожный лес. Потому что когда я впервые оказался в Б-ске, то оказался не где-нибудь, а именно в музее леса. Огромный человек в форме лесника с дубовыми листьями в петлицах. Бескрайнее от темноты помещение с чучелами лося, бобра и медведя. Голос огромного человека в темноте: «Сейчас… пойдет… снег». Сноп света, ударяющий в медленно вращающийся под потолком зеркальный дискотечный шар. Вой ветра и волков, записанный на магнитофон. Брызги отражений в стеклянных глазах кабанов. Довольно тяжелое похмелье. Надпись чёрными нитками, ночью вышитая друзьями на моем рюкзаке: «Лес — это не просто совокупность деревьев. БСЭ». Надо ли объяснять: в скором времени в новостях передали, что б-ский музей леса дотла сгорел при невыясненных обстоятельствах. Это пепелище ещё несколько лет тлело в моей душе. Со многими я успел поругаться. Почти ничего мне не удалось. Совокупность деревьев моей судьбы, похоже, так и не стала лесом. Лес моих поступков так и не вырастил ни одного дерева. Но каждый год в конце ноября я оказываюсь здесь. Похоже, я крепко заплутал в этой непонятной чаще.
Мостовщиков
Всё помнящий Непомнящий
Вчера была война
«Тревожная рубашка»
Наш дом находился в самом центре Б-ска — на площади К. Маркса, как раз напротив кооперативного техникума. Отец мой на второй день войны явился в военкомат и был призван. Когда начались налёты на город, мы с матерью переселились к родителям отца. Дом деда стоял на месте теперешней редакции «Б-ского рабочего» и выходил огородом в овраг, где и было в спешном порядке выкопано бомбоубежище. Такие же бомбоубежища вырыли соседи.
Город оделся в светомаскировку. Немногочисленные многоэтажные здания были выкрашены чёрными полосами, окна крест-накрест заклеены бумажным и полосками и завешены светонепроницаемыми шторами. По ночам выключали электричество.
Вся жизнь проходила в ожидании очередного налёта. Бомбёжки начались почти с первого дня войны. Самолёты шли рядами, издавая волнообразный гул, как бы периодически включая и выключая двигатели. Иногда в воздухе поднимались наши истребители, и люди с надеждой смотрели в небо. Но наших самолётов было слишком мало.
Мать пошила мне длинную, до пят, байковую рубашку, которую называли «тревожной». В этой рубашке, сонного, по нескольку раз за ночь меня таскали в бомбоубежище. Фронт приближался.
Едем
В городе началась массовая эвакуация. Семья деда (а младший брат отца работал на Дормаше) должна была эвакуироваться вместе с заводом. В этот эшелон мы не попали. В последний момент бабушка узнала, что в Доме офицеров идет запись на эвакуацию офицерских семей. Мать наспех набила чехол от матраца вещами, и мы отправились на телегах на вокзал.
Четыре теплушки прицепили к военному поезду, и мы отправились на Урал, в неведомый Усть-Катав. Поезда шли медленно, станции были забиты составами и подвергались налетам. До Урала мы не доехали, так как на мордовской станции Торбеево случайно встретили двоюродную сестру матери и остались у неё.
Мордовия считалась глубоким тылом, но и там уже чувствовалась война. По улицам маршировали допризывники с вырезанными из досок винтовками. Они обучались строевому шагу и рукопашному бою. Вряд ли кто из этих ребят, получив впоследствии настоящую винтовку, мог грамотно ею воспользоваться. Через некоторое время с Урала к нам приехали два младших брата отца. Из Мордовии их призвали. Один вскоре вернулся с ампутированной ногой.
Возвращение
Спустя пять месяцев после освобождения Брянска мы вернулись домой. Город лежал в руинах. Когда ехали, мама все держала ключи от квартиры, надеялась, что дом уцелел. Однако ключи нам не понадобились — на месте нашего дома высилась груда кирпичей.
Поселились снова у деда. Опять каждую ночь следовали налеты, но их теперь не очень-то и боялись. Немцы устраивали налеты в ночное время, так как днем их уже гоняла наша авиация Мы, восьмилетние мальчишки, часами смотрели в небо, любуясь полетом «ястребков», и жаждали увидеть сбитый немецкий самолёт. Но мне так и не посчастливилось…
Саночки
После работы родители шли разбирать развалины, и мы, пацаны, помогали им. Помню, мы работали на восстановлении здания Госбанка и детской больницы.
Игры поначалу были только военными: мы штурмовали развалины, брали пленных, играли в партизан. Но кое у кого с довоенного времени остались коньки, самодельные рулевики, самокаты. Подарил и мне мой инвалид-дядя саночки. Они были недетские, сваренные из толстого металлического прута. Зато настоящие.
Я еле дождался утра и потащил саночки на улицу, рассказывая друзьям, как они мне достались. Рядом с нами шел какой-то пятидесятилетний, в военной шинели, мужчина. Вдруг он подошел ко мне.
— Мальчик, вот хорошо-то, что твой дядя отвез мои саночки домой. Я вчера забыл их на улице. Это мои саночки.
— Нет, мои, — робко возразил я.
— Ну как же твои, вот и верёвка на них моя.
Верёвка никак не могла быть его, потому что её привязал дед. Но мужчина не стал больше обсуждать этот вопрос, взял у меня саночки и пошел.
Увидев, что я заплакал, он вернулся, сунул мне мороженое яблоко. Так я с этим яблоком в руках, без санок и вернулся домой. И только тут по-настоящему разревелся. Родственники, естественно, бросились на улицу, но санок и след простыл.
Ночные патрули
Линия фронта всё дальше и дальше отодвигалась на запад, но людей не отпускал страх. Страх за воевавших, страх за потерявшихся за годы войны родственников, страх за детей, таскавших разные взрывоопасные предметы. Страх за дома, страх за потерю хлебных карточек.
Особенно запомнились мне слухи и очереди. Очереди были за всем: за хлебом по карточкам, за керосином, за ключевой водой в Судках, в баню.
Слухи же были один ужаснее другого. Будто какие-то темные личности воруют детей, а в купленном на рынке холодце обнаружили человеческий палец… То где-то находили склад с оставленными немцами фальшивыми советскими рублями, то под Петровской горой обнаружили подземный ход, начиненный взрывчаткой.
По рынку сновали пацаны с рогатками и набивали подстреленными воробьями сетки. Говорили, что за это им кто-то платит, а из воробьиных тушек делают холодец. По ночам в двери и окна стучали, приказывали открыть: патрули комендатуры проверили паспорта, искали дезертиров и диверсантов.
Входные двери тогда закрывались на огромные, длинные крючки. Патрулям приходилось стрелять в воздух и даже взламывать двери. Перепуганные люди с детьми прятались в чуланах, забивались под кровати. Чтобы облегчить себе задачу, ночные патрули брали с собой уличкомов. Но редко кто открывал и уличкому, потому что бандиты тоже могли привести с собой уличкома.
По улицам шныряли какие-то «жучки» и подозрительные нищие. Под городом горели леса. Чёрный дым неделями поднимался над горизонтом. Ходили слухи, будто лес подожгли диверсанты…
Шоколад
По булыжной мостовой, подпрыгивая, мчался мотоцикл. Такое зрелище доводилось видеть нечасто, и мы, мальчишки, побежали следом. Мотоцикл бросало на булыжниках в разные стороны. В заднем седле, обхватив мотоциклиста, ехала женщина, прижимая одной рукой к боку газетный сверток. Вдруг из свертка нам под ноги выпал какой-то предмет. Я оказался первым. Это была огромная, величиной с тетрадь, плитка шоколада.
Схватив шоколад, я бросился наутек, ребята за мной. На бегу кусанул шоколад, стараясь отхватить как можно больше. Раздался страшный скрежет, изo рта посыпались осколки зубов. Изучив плитку, мои друзья захохотали. Потом засмеялся и я, вытирая рукавом кровоточащие десны. Это была плитка почтового сургуча.
Школа
Сохранившиеся довоенные школы были непригодны для занятий, требовали ремонта. Мужскую школу временно расположили в здании технологического института, женскую — напротив, в доме купцов Могилевцевых, где в последствии находился горисполком.
В каждом классе были кирпичные или металлические печи-буржуйки, которые топили дровами. Ребята постарше незаметно подкидывали в печки патроны, они взрывались. Пока печи восстанавливали, мы гуляли. То тут, то там во дворах и оврагах гремели взрывы, часто делавшие детей инвалидами. В Нижнем Судке, за теперешним зданием областного суда, располагалось стрельбище, где почти ежедневно проводились стрельбы.
Когда в городе стали собирать металлолом, среди детворы начался буквально психоз. С упавших в овраге самолетов ободрали не только алюминиевую обшивку, но даже заклепки. Воровали из дома медные тазы для варки варенья. Однажды из обкомовского гаража утащили и разрубили на части два новеньких радиатора. На деньги, полученные от сдачи металлолома, покупались конфеты, махорка и папиросная бумага.
В конце Советской улицы, на том месте, где сейчас находится школа милиции, располагался склад боеприпасов. Однажды оттуда стянули целый ящик трассирующих пуль от крупнокалиберного пулемета. Естественно, весь он пошел в костер.
Особой страстью ребятни были «поджигалы». Это медные или стальные трубки с расплющенным и загнутым под девяносто градусов концом. На прямом участке к трубке пропиливалось маленькое отверстие. Поджигало набивалось порохом, серой oт спичечных головок, дробью и тщательно утрамбовывалось. Затем к отверстию подносилась спичка, и из трубки с грохотом вылетал заряд.
Так что учились мы в свободное от таких забав время. Новых учебников не было. В учебнике истории фотографии легендарных комдивов Тухачевского, Блюхера, Якира были перечеркнуты крест-накрест и написано: «Враги народа».
Пленные немцы
К немцам поначалу мы испытывали неподдельную ненависть и страх. Однако со временем к пленным привыкли. Они стали неотъемлемой частью пейзажа. Это были понурые, растерянные люди, волею судьбы попавшие в мясорубку войны. По проезжей части улиц они ходили на строительные работы сначала под охраной наших солдат, потом без охраны, под командованием своих же пленных.
Немцы строили заново здание драматического театра и кинотеатр «Октябрь». Они проходили по улицам два раза в день: на работу и с работы. Мы кричали им «Гитлер капут!» и украдкой стреляли в их сторону из рогаток. Лагерь военнопленных располагался на окраине, в районе «Чермета», как раз за 7-м гастрономом и пожарной частью. Он был обнесен невысокой оградой из колючей проволоки и практически не охранялся. За порядком следили сами военнопленные. На территории лагеря было размечено футбольное поле, и вечерами, после работы, немцы играли в футбол настоящим мячом. Мы все ждали, чтобы мяч перелетел за ограду. Мяч был вожделенной мечтой всех ребят.
Со временем пленным разрешили самостоятельно выходить за пределы лагеря, и они подрабатывали колкой дров и копкой огородов. Дед мой немного говорил по-немецки, и после разговоров с ними все удивлялся: как это они, по их словам, до прихода Гитлера к власти были коммунистами или социалистами, оказались среди фашистов? Дед говорил, что верить им нельзя. Пленные немцы были в большинстве мастеровыми людьми, соскучившимися по мирному труду. В свободное время они мастерили различный садовый инвентарь, деревянные скульптуры и даже музыкальные инструменты. В Б-ске судили пять высших чинов оккупационных войск и руководителей карательных экспедиций против партизан. Их приговорили к смертной казни через повешение.
На пустыре, на том месте, где теперь расположено здание управления внутренних дел, были сооружены виселицы. Несмотря на сильный мороз, народ запрудил всю площадь. Был зачитан приговор. Генералы были в основном молодые еще люди, от последнего слова отказались. Другие пленные немцы надели на шеи генералов петли, и по команде машина, на которой стояли приговоренные, отъехала. И тут же народ стал молча расходиться. Казнённые висели, наверное, с неделю, но на них уже не обращали внимания.
Красуля
Однажды к нам заявился мамин средний брат. Он был офицером-танкистом. Их часть была отведена на переформирование, и он получил недельный отпуск.
Переночевав у нас, он отправился на родину, во Мглин, узнать о судьбе оставшихся там родителей. Как он выяснил, родители и все многочисленные родственники были расстреляны немцами.
Осталась корова Красуля, которую забрала себе соседка. Хотите верьте, хотите нет, он эту Красулю пригнал пешком в Б-ск и оставил у нас. Что значила в то время корова, теперь уже трудно объяснить: это было несказанное богатство. Однако радовались мы недолго.
Какая-то женщина подала на нас в суд, утверждая, что у нас оказалась потерянная ею во время оккупации корова. У женщины никогда не было коровы, но были три свидетеля. У нас была корова, но не было свидетелей. Мать была в отчаянии. Так бы, наверное, и отсудили у нас корову, если бы в суде не оказался знакомый, хорошо знавший нашу семью. Женщина тут же отказалась от своего иска, заявив, что обозналась.
Утром коров на выгон собирал по дворам пастух, а вечером он только перегонял их через мост на Набережной. Дальше пастух за скотину не отвечал. Хозяева встречали своих коров у моста и гнали до дому сами.
Обязанность встречать вечерами Красулю лежала на мне. И вот однажды разразилась сильная гроза. Придя к мосту в назначенное время, я не встретил стада. Пастух пригнал коров еще днем, во время грозы. Красули нигде не было.
Мы с матерью прочесали весь город — тщетно, хотя многие видели, как наша корова направлялась домой. Часов в десять вечера, в густых уже сумерках, мать отослала меня домой, а сама продолжала поиски.
По дороге домой, на спуске улицы Октябрьской к оврагу, у обкомовской аптеки я увидел двух мужчин, тянувших на веревке упирающуюся Красулю. Я стал реветь и просить их, чтобы они вернули нашу корову, но мужчины, смущенные немного моим появлением, продолжали гнать ее в сторону оврага. Я стал цепляться за веревку. Они меня отталкивали, но не били, опасаясь, вероятно, что я подниму крик и разбужу людей.
— Ладно, пацан, — сказал, наконец, один из мужчин, видя, что от меня не отделаться. — Пойдем с нами. Вот видишь, в овраге наш дом. Сейчас мы заведем корову в сарай и там посветим фонарем. Если это на самом деле твоя корова, то мы тебе ее отдадим.
Я стал спускаться с ними в овраг. Как бы они мне там «посветили», я понял потом, когда мне объяснила мать. К счастью, в самом начале спуска я услышал голос матери и закричал. Прибежала мать и оказавшийся рядом по случаю сосед. Мужчины отдали корову, объяснив, что её подобрала милиция, а им поручили продержать ее ночь у себя. На радостях мать отдала им все лежавшие у нее в сумке деньги…
Баночка от гуталина
Когда репродукторы разнесли весть о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, все плакали от счастья. Город ожил — все высыпали на улицы. На кладбище, на месте нынешней северной трибуны стадиона «Динамо», установили пушки для победного салюта.
Из школы нас отпустили пораньше, и мы побежали домой. Но возле часовни — теперешнего спортзала на стадионе «Динамо» — остановились как вкопанные. Нас поразили не орудия, устанавливаемые для салюта, — этим нас было не удивить. И не девчонки, игравшие в классики на отмостке часовни. Нас повергла в шок баночка из-под гуталина, которой эта девчонки играли.
Баночка из-под сапожной мази была вожделенной мечтой ребятни. Мы играли в классики куском кирпича, консервной банкой и другими малоподходящими предметами, а тут — настоящая баночка, и до нее рукой подать. Посовещавшись, мы поняли, что просто так нам её у девчонок не отнять, те были постарше лет на пять. Тогда мы решили завладеть банкой хитростью.
Мы набежали гурьбой, и пока они нас расталкивали, я схватил баночку и бросился через футбольное поле. Девчонки подняли страшный крик. Как потом оказалось, офицер, командовавший батареей, был отцом одной из этих девчонок. А банка-то была как раз ее… Офицер с криком «Стой, стрелять буду!» погнался за нами, на ходу расстегивая кобуру.
Когда прогремели два выстрела, я бросил баночку и пулей понесся к оврагу. Не переводя дух, перебежал открытое пространство до Верхнего Судка и уже по нему, дрожа от страха, пробрался к дому. Часа два просидел в кустах. Офицер поймал-таки одного из пацанов и драл его за уши до тех пор, пока тот не рассказал, где я живу. Офицер вроде пообещал заявиться к нам домой. Я снова скрылся в овраге…
Конечно, никто за мной не пришел, но страх был так велик, что я даже не вышел к праздничному столу. И за салютом наблюдал из оврага. Затем была победа над Японией, стали возвращаться наши отцы. Но война оставалась неотъемлемой частью нашей мальчишеской жизни, пожалуй, до самого 50-го года. И лишь потом наступила мирная жизнь. Мы стали понемногу забывать про войну…
Город нашего детства
Улицы
Б-ск нашего детства пробуждался от пения петухов и криков молочниц, разносящих по улицам молоко. «Молока надай!» — старались перекричать петухов груженные коромыслами с укрепленными на них гроздьями коричневых кувшинов молочницы. Они доставляли молоко из близлежащих деревень пешим порядком, и просто удивительно было, как они добирались до города в такую рань. Центр послевоенного города размещался где-то в рамках «тюрьма — набережная» по вертикали и «Верхний Судок — Нижний Судок» — по горизонтали. Состоял он из улиц Васильевской (ныне Горького), Советской и Ленинской (ныне Фокина). Но самой центральной считалась, естественно, нынешняя улица Калинина, а тогда — III Интернационала. Почему «естественно»? Да потому что с нее можно было попасть на любую из вышеперечисленных улиц. А чтобы с Красноармейской улицы или Петровской горы попасть в центр, не было другого пути, кроме как спуститься на улицу III Интернационала, а затем уже подняться по одной из трех улиц-горок. Это позже через Судки были возведены сначала деревянные мосты, а потом дамбы.
Дома росли, как грибы. Никто не ждал квартир от государства — каждый строил, из чего мог и как мог. Те, кто живым вернулся с войны, брали в банке ссуды и начинали строительство, не надеясь получить в обозримом будущем государственные квартиры. В каждом десятом доме держали козу или корову, в каждом втором — свинью, а уж петухи пели во всех дворах. Пленные немцы построили кинотеатр «Октябрь», драматический театр, библиотеку. Немцы маршировали по улицам строем, без конвоя и пели незнакомые песни. После работы они ходили по домам подрабатывать: копали огороды, заготавливали дрова. За это их кормили горячим, давали хлеб или картошку. После победы народ, кажется, простил солдат и видел в них лишь несчастных людей. Даже принародная казнь нескольких фашистских генералов на сооруженных напротив теперешнего ЦУМа виселицах не вызвала особых эмоций. После войны строили все, а тем, кто не мог строить сам из-за перегруженности на ответственной государственной службе, дома строило государство. Чем выше человек занимал должность на госслужбе, тем престижнее оказывался дом. Рядом с парком на улице Горького появился особняк первого секретаря обкома Матвеева. Позже в этом доме разместилась гостиница обкома партии. Напротив, через дорогу, поднялся особняк начальника КГБ Баранова. Ныне там детский сад «Ягодка». Для сменившего Матвеева на посту первого секретаря Бондаренко построили новый особняк по улице Октябрьской. Сейчас там сад-ясли №15. Особняки были обнесены глухими заборами и тщательно охранялись даже от вездесущих мальчишек. На самых тихих и зеленых улицах Октябрьской и Горького строились дома для работников партийных и государственных учреждений. Напротив «бондаренковского» особняка возвели так называемый «обкомовский дом». Одними из первых построили здания обкома партии и комитета госбезопасности. Позже подо всеми этими строениями сооружались объединенные в одну систему атомные убежища…
Деревянные постройки послевоенного города густо облепили склоны Судков и сбегающих к Десне гористых улиц. Немногие кирпичные строения были или сожжены, или вовсе разрушены войной. Довоенные кирпичные здания были такой значительной вехой в городской биографии, что каждому присваивалось название или номер: «1-я Советская больница», «2-я Советская больница», «Дома специалистов», «Пятый корпус», «Девятый корпус» и т. д. Разделенные Судками-оврагами райончики и улицы имели названия: «Петровская горка», «Покровская горка», «Карачиж», «Городище», «Рабочая слободка», «Соловьи», «Лесные сараи», «Кирпичные выселки».
«Городом» называлась часть улицы Калинина от завода «Дормаш» до «Дома офицеров». Естественно, все дороги вели в «Город», ведь здесь размещались базар, вокзал, ресторан, кинотеатр и все основные торговые точки. По оврагам, лесенкам, мощеным булыжником улочкам стекался в «Город» народ. Было принято говорить «пошли в город» даже у тех, кто жил в районе площади Ленина или Карла Маркса.
На старом базаре
Теперь, спустя столько лет, даже старожилам трудно восстановить в памяти место, называвшееся Базарной площадью, а еще раньше, до революции, «Привозом» — по аналогии с Одессой-мамой.
Базарная площадь являлась центром города. Здесь размещались все основные магазины, за мостом через Десну находился вокзал, а в самом центре площади — базар. Официально он именовался колхозным рынком, о чем гордо извещала вывеска над аркой, но колхозам в то время было не до торговли. Впрочем, учитывая, что все крестьяне числились колхозниками, вывеска не противоречила действительности: колхозники там торговали.
На месте теперешнего киноконцертного зала «Дружба» находился дивной красоты заросший деревьями холм, почти отвесно нависавший над базаром. Выходя главным фасадом на улицу Калинина, высился полуразрушенный старинной постройки собор, одно из главных украшений старого Б-ска. Холм поднимался сзади собора круто вверх, метров на 30 — 40, а затем почти отвесно обрывался. В этом месте, у основания холма, сохранились остатки то ли крепостной стены, то ли каких-то построек. В одной из них располагалась керосиновая лавка.
С лицевой стороны собора, по обе стороны от главного здания, шли приземистые кирпичные одноэтажки, в которых разместились магазинчики и автостанция. Сам собор употребили под склад облкинопроката. На вершине холма сохранились звонница и двухэтажный деревянный особнячок. Справа от собора, на улице, ведущей к деревянному мосту, находился двухэтажный кирпичный дом с остатками ажурных металлических ворот. На первом этаже его находился магазин «Одежда», на втором — бюро инвентаризации.
…Собор долго не сдавался безбожным властям. В тридцатые годы сумели уничтожить только главный вход и купол. Уже после войны его стены регулярно крошили, ломали отбойными молотками специально выделенные солдаты. Не сумели осилить собственными силами, вызвали из Москвы подрывников и, наконец, в 60-е годы взорвали. О взрыве торжественно сообщили по радио и в газетах. На этом не остановились и срезали холм «до основания». Впоследствии на его месте возвели помпезный киноконцертный зал «Дружба», фонтан в форме план-шайбы токарного станка и пустынную набережную, на которой нынче выгуливают собак. А тогда справа от собора красовались арочные деревянные ворота — центральный вход на базар. По Калининской, подымая едкую пыль, тарахтели редкие «эмки», «полуторки», «трехтонки» или же ленд-лизовские «студебеккеры» и «виллисы». Их было меньше, чем пугливых лошадей, которые шарахались от машин, не слушая возчиков. Напротив базара, на стене теперешней школы рабочей молодежи, висело огромное панно. Бравый румянощекий солдат, с лихим русым чубом из-под заломленной набок пилотки держал в руке, как бы угощая, раскрытую пачку папирос «Казбек». В другой руке он держал уже дымящуюся колечками, наполовину скуренную папиросину. Весь его вид выражал довольство и силу. Внизу призывно алела надпись: «На папиросы не сетую. Сам курю и вам советую!» До борьбы с курением дело еще не дошло.
Сам рынок представлял собой экзотическое зрелище — разнокалиберные деревянные магазинчики, киоски, туалеты, навесы и крытые прилавки. Торговали здесь овощами, фруктами, мясными и молочными продуктами, трофейными вещами и тканями, скотиной и птицей, жестянкой, скобянкой, патефонными пластинками и семечками.
На задах, вдоль берега, ютились катакомбы из разномастных ангарчиков, сарайчиков и навесов — цеха артели инвалидов «Металлист».
Здесь делали металлические кровати, оцинкованную посуду и садово-огородный инвентарь. На заднем выезде стояла кузница, где можно было подковать лошадей.
На левом берегу, напротив базара, к городу подходила железнодорожная ветка. Поутру окутанный дымом паровозик серии «СУ» притаскивал к вокзалу полдюжины вагонов со станции Б-ск I. Из вагонов высыпал увешанный корзинами, авоськами, мешками торговый люд и через мост спешил на рынок. Территория рынка заполнялась телегами, тачками, коромыслами и «парашютами» — этим чисто брянским изобретением (корзина в платке за спиной).
Горами высились глиняные кувшины, горшки, миски. Гроздьями висели деревянные ложки и лыковые лапти, громоздились дубовые бочки и кадки. Китайцы развешивали бумажные веера, гирлянды, надувные шарики с пищалками. Демонстрировались традиционные безворсовые коврики с расписными лебедями и пухленькими ангелами. Тупо поглядывали свинки-копилки, фарфоровые волки и слоники. Народ толкался, шумел и спорил. Тут и там целыми таборами носились цыгане, карманники, торговцы водой и морсом, леденцами на палочках.
Типажи
— Бабоньки-дамоньки! — зазывал зрителей небритый верзила, потряхивая мешком. — Продаю поросенка! Дешево продаю поросенка!
Верзила шарил рукой в мешке, пытаясь вытащить на свет божий отчаянно визжащего поросенка. Тот не давался. Потеряв надежду справиться с тварью, хозяин зло пинал мешок сапожищем.
— Ты чо, гад, над скотиной издеваешься? — вставал на защиту несчастного кто-то из зрителей под возмущенный ропот остальных.
— А ты не встревай, тебе не продаю!
— Ну, прибил, наверно, свинку, обормот, — сожалела, вздыхая, женщина.
Верзила добивал исходившую визгом свинью об угол киоска и вытряхивал из мешка под ноги зрителей… кирзовый сапог. Мужики хохотали, а бабы с воплями прыгали в стороны.
— О-ё-ёй! — вдруг заходилась одна из зрительниц. — Сумку срезали!
А злодей, подхватив сапог, уже растворялся в толпе. Услышав милицейский свисток, все спешили покинуть место происшествия…
Раздвигая толпу выставленной вперед палкой, скакал одноногий инвалид по кличке Журавель. На линялой гимнастерке звенели боевые ордена и медали. На голове Журавеля, как на витрине, красовалась новенькая восьмиклинка.
— Кому картуз бостоновый? Картуз кому? — зазывал он покупателей.
Пустая брючина по самую культю была набита товаром. Найдя покупателя, Журавель подозрительно осматривался — нет ли рядом милиционера, залезал в расстегнутую ширинку и молниеносно выхватывал из штанины восьмиклинку.
Извлеченный картуз был какого-то линялого цвета и никак не тянул на витринного собрата. Журавель тут же пресекал все возражения: «Энтот не продается, для себя шил!»
Как бабочку сачком, он ловил восьмиклинкой голову клиента, несмотря на то, что тот упирался и крутил головой. Недовольный покупатель возвращал товар и настаивал на витринном образце. Тяжело вздыхая и закатывая глаза, словно расставаясь с самым дорогим в своей жизни, Журавель стаскивал с головы картуз. Когда покупатель рассчитывался, Журавель вынимал из штанины копию проданного и водружал на голову. Несимпатичный экземпляр занимал место в штанине.
— Дяденька, солдатик! — хватали за руки и полы шинели проходящих мужчин цыганята. — Дай рупь!
Чумазые, немытые, они отталкивали друг друга, стараясь первыми схватить подачку.
— Дяденька, дай еще, на пузе и на голове станцуем!
Мужчина нехотя лез в карман: «Ну, давайте, танцуйте!» Цыганята плюхались животами в пыль, били себя по ляжкам и делали корявые кувырки, в то время как девочки хлопали в ладоши и пели противными голосами: «Арбуз-дыня, Шахна синя…»
— Чистим-блистим! Чистим-блистим! — зазывал клиентов чистильщик обуви, стуча над головой, как турецкими тарелками, щетками.
Прямо на проходе, под ногами у прохожих, безногий гармонист рвал меха. Он пел о трагической истории батальонного разведчика.
«Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной,
Я был за Расею ответчик,
А он спал с моею жаной…»
А вот заключительные, рвущие души слова:
«Ох, Клава, ты, милая Клава,
Понять не могу я того,
Как ты променяла, шалава,
Меня на такое говно!
Я бил его в белые груди,
Срывая с него ордена…
Эх, люди, вы, русские люди,
Подайте на чарку вина!»
Гармонист утирал ушанкой пот и протягивал ее слушателям. В ушанку летели медяки. Мужчины матерно ругались, глядя на женщин. Женщины сочувственно вздыхали, глядя на мужчин.
На другом конце рынка плотный крутоплечий мужчина в тельняшке зазывал сиплым голосом: «Граждане, перед вами легендарный русский силач, чемпион мира по французской борьбе — дядя Ваня Бежицкий! Па-апрашу образовать круг!»
Обычно дядя Ваня Бежицкий гастролировал в пригородных поездах, играя роль слепого.
— Подведите меня к Ташкенту, — приказывал он своим жуликоватого вида ассистентам. Те подводили его к раскаленной буржуйке в центре вагона. Дядя Ваня отогревал здоровенные ручищи: «А теперь внимание. Снаряд!» Ассистенты ставили у его ног двухпудовую гирю.
— Па-апрашу публику проверить снаряд!
Если желающих не находилось, он клал гирю кому-нибудь из пассажиров на колени. Убедив публику в подлинности «снаряда», захватывал гирю мизинцем и несколько раз выжимал. На этом представление обычно оканчивалось, и ассистенты обходили зрителей с шапкой, чутко следя, чтобы медяк бросил каждый.
Птичий рынок
На самых задах базара ближе к мосту, ютился птичий рынок. Из многочисленных садков и клеток неслось щебетание. Голубятники собирались в отдельном уголке у керосиновой лавки, зажав птиц в ладонях, помахивали белоснежными голубиными хвостами, словно веерами, рассматривали голубей и хвалились «охотой». Голубятники называли друг друга «охотниками», а голубятня именовалась «охотой». Было несколько десятков различных игр на голубей. За пойманного чужого — «чужака», платили выкуп. На каждой улице имелось по нескольку «охотников», которые на утренней и вечерней заре свистали, поднимая в небо тряпками, прикрепленными к шестам, разномастные стаи голубей. Большинство почему-то держало голубей николаевской породы или «тучерезов». Все соседние области водили короткоклювых голубей (почтарей, бойных, косматых). Но у нас кто-то, видно еще до революции, развел николаевских, а косматых и бойных не любили, называя их презрительно «куркотами». Часами вся улица стояла, задрав головы в небо, любуясь полетом белохвостых «бабочек». Самым лучшим голубем считался тот, что летал, почти не описывая кругов, — на одном месте. Такие голуби стоили баснословных денег. Из-за голубей-чемпионов возникали ссоры и драки. О них ходили легенды
Впрочем, других птиц на рынке тоже хватало.
— Эт чо у тебя?
— Как чо — реполов!
— Ля-кось ты, реполов! А чо он на воробья похож?
— Сам та на воробья похож! Говорят те — реполов!
— Да чо я, реполовов не видел?
— Ух ты, говорок!
— Говорок!
— Один такой-то говорок с транды сало уволок!
— А таких мы говорков сшибали… с бугорков! Чо, нечем крыть? Полезай мне в зад картошку рыть!
Назревала драка, обоих уже держали сотоварищи.
— Да пустите его, — кипятился продавец, — да я таких рвал, метал и через себя кидал!
— Борец-бамбула поднимает два венских стула и делает прыжок с кровати на горшок!
— Канай отсюда, пока трамваи ходят!
— Сам канай, аферист чертов! Воробья за реполова продает!
— Да не воробей это, — вступались другие птицеловы. — Это реполов, молодой только…
— А чо у него перья снизу синие?
— А ты сам на морозе три часа постой, — кричал продавец, — сам посинеешь!
Публика хохотала…
Чуть поодаль бабенка торговала курицу.
— А чего ты мне петуха подсовываешь?
— Какого петуха, погляди на лицо, на гребень погляди! Разве у петухов такие гребни?
— Это молодой петушок, — кипятилась женщина.
— Люди, будьте свидетелями, — призывал продавец, — разве петухи яйцы носют? На, щупай! — совал он птицу, — щупай — она ж с яйцом!
Женщина профессионально запускала палец в гузку и довольно долго копалась внутри.
— На, сам щупай, — возвращала она птицу. — Откель у петуха яйцы?
— О господи, как же нету, — суетился продавец, — только что было, сам щупал!
Мужчина с неподдельным удивлением лазил пальцем в гузке. Вдруг глаза его загорались от догадки: «Значит, снеслась в корзине! Как я сразу не догадался!» — он шарил рукой в завязанной сверху тряпкой корзине и торжественно извлекал на свет божий яйцо.
— Теплое еще, — показывал он яйцо окружающим, — только снеслась!
Все враз признавали в птице курицу. Женщина подозрительно отсчитывала деньги и засовывала упирающуюся покупку в сетку.
— На, и яйцо бери, — суетился продавец. — Хотя нет. Яйцо она снесла, когда еще моей была! Яйцо себе оставлю, на память… Хорошая несушка была!
Нравы
Над рынком висели гвалт, скрип телег и лошадиное ржание. Бригадами стояли увешанные пилами и топорами приехавшие в город на подработку крестьяне, за небольшую плату готовые срубить избу, распилить и наколоть дров, вскопать огород. Рыбаки торговали вареными раками и речной рыбой.
Пацаны жевали жмых. Когда на рынок ненароком заруливали редкие машины, лошади бились в упряжи, ломая оглобли.
Горланили торговцы семечками, папиросной бумагой и махоркой, шитыми бурками и клееными «армяшками». Редкие нацмены предлагали диковинный урюк и кишмиш. Возле пивного ларька хохотали над анекдотами типа «собрались раз Сталин, Черчилль и Рузвельт» или «собрались раз русский, англичанин и американец». Сюжеты были аналогичны: англичане и американцы оказывались просто кретинами. Правее базара, на том месте, где сейчас высится стела в честь трудовых резервов, прямо напротив горки Фокинской улицы, стояло здание ресторана. Поначалу его назвали «Москва», но в соответствующих инстанциях решили, что пить в «Москве» аполитично, и быстренько переименовали в «Десну». В «Десне» пей хоть до упаду, не позоря столицу Родины! Место выбрали неудачно, так как послевоенные машины едва осиливали подъем на гору. Было несколько случаев, когда, сорвавшись, машины таранили ресторанную стену. В те времена рестораны посещали одни мужчины. О женщинах, которые бывали в ресторане, тут же узнавал весь город, и это было неизгладимым пятном на их репутации. Говорили полушепотом: «А знаете, она в ресторан ходит!» Основными посетителями ресторана являлись офицеры расквартированного в городе авиационного полка, деловые люди с базара и редкие командированные. Ресторан был небольшой, обставленный в старом стиле. В нем царили уют и скромность нэповских времен: в холле стояли фикусы…
…На рынок опускались сумерки. Телега со скрипом разъезжались. «Парашютистки» гуськом спешили по домам. Расходились и покупатели. Паровозик у вокзала призывно гудел, заставляя поспешить задержавшихся.
Уборщики нехотя сгребали мусор, милиция проверяла территорию. Рынок затихал до следующего утра.
Заводской барак №3
На самой окраине Б-ска, за парком, напротив тюрьмы, там, где кончалась тупиком Васильевская (Горького) улица, на небольшом пустыре притулился заводской барак N 3. Единственным выходом из барака на Трудовую улицу был узкий проход между заборами и огромной, метра в четыре глубиной, ямой. Выходящие на барак частные сады были обнесены высочайшими заборами, поверх которых шло несколько рядов колючей проволоки, отчего территория походила на зону. Третий заводской барак был известен в округе вовсе не тем, что там проживали Манька Тяни-толкай, Маруська Черная и Эдик Черныш, многочисленное племя Киреев — Витька, Эдик, Толик и еще трое меньшего возраста, гермафродит Тонька-Антон, Симута и Бздера, Верка Рябая, Старый Водень и Серега Водень, семья Ковалевой во главе с тетей Дашей, у которой кроме своих Фрузы, Тоньки и Витьки Коваля жили еще племянники Чинарик и Хнык, Колька Великан, Калыба, Титик, Кабан, Хайбик, Тата-Катой, Милка-Ссака, Верка Железная Кобыла, Роза Цыганка и ее сын Коля-дурачок… Нет! Более всего известность бараку приносило то, что там обитали Богатырь Никитушка и Юра Хам.
В то время все барачные жители от рождения вместе с именем получали кличку. В разговоре человека называли обычно и по имени, и по кличке одновременно.
Например: Эдик Кирей, Толик Чинарик, Женька Хнык, Юра Хам. Последний был неординарной личностью, о чем свидетельствовали его многочисленные клички: Челада, Пяла, Осмодей, Коки, Отладка, Цыпка, Гаврош… Юра Хам был сыном Кабанихи, огромной женщины по кличке Богатырь Никитушка.
Сколько в бараке жило народу, точно сказать было совершенно невозможно. Детей в возрасте до 14 лет было, пожалуй, раза четыре больше, чем взрослых, мальчишек — раза три больше, чем девчонок. Среди взрослого населения женщин было раз в пять больше, чем мужчин.
Зимой заводской барак замирал: взрослые работали, а у детей не было зимней одежды, и они после школы сидели по домам. Зато весной он начинал гудеть, как растревоженный улей.
Барак просыпался засветло и разом. Над сортиром роились миллионы разноцветных мух, комаров и прочей кровососущей нечисти.
Когда сходил снег, в овраге начинались футбольные баталии. Матчи длились от рассвета до заката. Футболом болели все, особенно после триумфальной поездки московского «Динамо» в 1945 году в Англию, где наши любители разгромили знаменитых английских профессионалов с общим счетом 19:9. Книжка с таким названием — «19:9» — ходила по рукам, зачитывалась до дыр, а имена Боброва, Хомича, Бескова звучали наравне с именами героев-фронтовиков. На любой мало-мальски подходящей площадке кипели футбольные баталии. Мячи не выдерживали. Покрышки штопали, а камеры заклеивали до тех пор, пока живого места не оставалась. Когда камера приходила в полную негодность, покрышки набивали сеном, тряпками, ватой, стружками. Такие мячи были тяжелыми, отбивали руки и ноги, тем более что играли в футбол босиком. В футбол играли все, даже Тата Катой, даже гермафродит Тонька-Антон.
Тату Катого ставили в центр защиты. Тата стоял на месте и косил всех попадающих в радиус действия его длинных ног с острыми, как бритва, ногтями. Тата Катой на самом деле означало Саша Косой. Из его сплющенной физиономии с двумя косыми разномастными глазами выходил какой-то сип, в котором отчетливо слышалась почему-то только согласная буква Т.
Вечером на гребне оврага появлялась монументальная Богатырь Никитушка, громовым голосом загонявшая сына домой:
— Юра Хам, змей нявдобный! Чтоб на табе порча нашла! Ты увайдешь домой али нет?
Играющие затихали, но матч продолжался, Не добившись ответа, Богатырь Никитушка зло поворачивала домой, бросив перед уходом:
— Ну, ляди, туруруй! Приди только домой, я те патлы повыдираю, паралик на тебя!
Юру Хама называли хозяином садов и огородов, потому что не было ни одного двора в округе, где бы Хам не побывал, опустошив деревья или грядки. Основной одеждой его во все времена тогда были поношенные рейтузы старшей сестры. Рейтузы были набедренной повязкой, запазухой, кошельком, авоськой и даже рыбацким неводом. В этих рейтузах всегда находились яблоки, сухари, конфеты, огурцы, помидоры и прочие продукты. Юра Хам знал наизусть распорядок почти всех владельцев садов-огородов: когда и в какую смену работают хозяева, когда бабки ходят на рынок или в церковь, когда учатся дети.
Лазил он дерзко и наверняка, хотя случались проколы. Однажды Юра Хам спрятался в гастрономе за бочки и, дождавшись закрытия магазина, стал хозяйничать. Наевшись всего понемногу, он решил переспать за бочками. После полуночи начальник брянской милиции майор Гуркин, проверив все посты и заключенных в КПЗ, умиротворенный шествовал домой. У гастронома он встретил бодрствующего сторожа. Майор Гуркин оглядел объект:
— Лампочку надо б поярче ввернуть!
— Дык все видно.
Майор Гуркин заглянул в полутемный тамбур и остолбенел: на полу распластался человек в сатиновых рейтузах без признаков жизни. И майор говорят, стал свистеть в свисток, пока не потерял сознание. «Скорая» увезла обоих. Из Юры Хама в тот раз выкачали почти полведра меда, а майор Гуркин поседел в ту страшную ночь… Так, по крайней мере, рассказывали у нас в бараке.
Для голодных барачных лучшей порой было лето. Мы сосали цветы клевера и какие-то стебли, откапывали корни, жевали почки. На костре в овраге кипели крапивные щи с грачатиной. В дело шли еще не оперившиеся птенцы. Гермафродит Тонька-Антон лазила на самые высоченные тополя и сбрасывала вниз грачиные гнезда.
Тонька-Антон была угрюма и немногословна. В гимнастерке, в свалявшейся юбке над стоптанными сапогами, она держалась особняком, зверски курила и материлась. В отличие от живущего через несколько подъездов Коли-дурачка, вечно напомаженного и подкрашенного, Тонька-Антон была всегда нечесана и немыта.
С утра барачная ребятня собиралась в кучки и разрабатывала разнообразные планы: где и что можно украсть, стырить, стибрить, сбондить, увести, замылить, спиговать, вертануть. Тащили все — и что плохо лежит, и что хорошо охраняется. Особый урон наносили Огороднику Кузнецову. Огородник обеспечивал весь Б-ск рассадой и ранними овощами. Это был гигантского сложения старик, вечно под градусом, с красной индюшачьей шеей. Даже в морозы он ходил без головного убора и в расстегнутой до пупа толстовке. Что только не придумывал Огородник, чтобы уберечь свои парники от посягательств. Никакой забор не был препятствием, а собака через некоторое время становилась послушной Юре Хаму, который находил с ней общий язык, как цыган с лошадью.
Наконец Огородник решил сделать в одном из парников засаду. Юра Хам разведал эту хитрость и, подкравшись к задремавшему в парнике сторожу, забросил туда «дымовуху», предварительно сбив с рамы парника подпорку Через минуту из парника выскочил весь обезумевший Огородник и, круша по пути драгоценные парники, понесся к дому…
С ранней весны до поздней осени барачная ребятня не знала обуви, а Юра Хам умудрялся бегать босиком между подъездами или до сортира даже зимой. Ноги его были круглогодично покрыты цыпками, а на подошвах была такая толстая кожа, что Хам запросто втыкал в нее горящую спичку, и она сгорала на коже, не причиняя, похоже, ему особой боли.
Однажды по бараку разнесся слух, будто под полом поселились чьи-то кролики. Были да они там на самом деле, никто толком не знал, но слухи будоражили воображение: кто-то видел уже троих, кто-то даже десятерых кроликов.
Барак зажил тревожной и напряженной жизнью: изловить и сожрать чудесного кролика стало делом чести каждого жильца. Юра Хам и тут решил опередить конкурентов. Втихаря Хам вбил у крыльца кол с проволочной петлей. Утром ничего не подозревающая Богатырь Никитушка, как всегда, бежала в сортир. Попав в петлю, она вырвала ее вместе с колом и, пролетев ракетой десяток метров, рухнула на чей-то сарайчик.
Юра Хам сердцем почувствовал беду и, выглянув в окно, увидел выползающую из дров маму с тянущимся за ее ногой колом. Хам смылся вовремя, потому что Богатырь Никитушка жаждала мести. Еще с неделю она ходила по краю оврага, держась за ушибленную ягодицу, и призывала сына явить благоразумие и добровольно вернуться домой. В глубоких сумерках над бездной оврага гремел ее вулканический голос:
— Юра… Хам… Антонов огонь на табе! Приди только домой, бычачьи твои яйцы! Обезьян лопуухай! Ты думаешь домой идти аль нет?
Когда на крыльце Богатыря Никитушки, самом многолюдном и вместительном, разгорался очередной скандал, из комнаты вылезал заспанный Коля-дурачок, выходил в центр и скидывал портки. Скандал враз прекращался, и бабы, проклиная дурака, бросались врассыпную.
Коля-дурачок был старшим сыном Розы Цыганки. Была ли Роза на самом деле цыганкой и был ли Коля на самом деле дураком? Кто знает! Но Роза была похожа на цыганку, а Коля придуривался. Он развлекал публику песнями, танцами, прибаутками и разными пошлостями. До того, как приобщился к спиртному, был всеобщим любимцем.
Коля-дурачок неохотно общался с простолюдинами, зато изощрялся перед власть имущими и богатыми, понимая, где можно урвать кусок пожирнее. Он играл роль придворного шута. После войны Коля-дурачок развлекал в ресторанах офицеров, которые угощали и поили его.
Несмотря на то, что петь, плясать и паясничать ему приходилось, как говорится, по долгу службы, Коля был исключительно артистичен и музыкален. Музыка возбуждала его настолько, что он буквально преображался, начинал подергивать плечами и закатывать глаза. Он знал наизусть все транслируемые по радио песни, оперетты и арии из опер.
Когда на крыльце собиралось достаточно публики, Коля-дурачок давал представление. Особенно он любил «Сильву», где играл и пел одновременно за Эдвина, Сильву, Бонни и Воляпюк, умудряясь играть и за оркестр марши, увертюры и антракты.
Особенно возбуждали Колю-дурачка цыганские мелодии. Когда в городе гастролировали цыганские ансамбли, накрашенный и напомаженный Коля-дурачок с завитыми волосами, в бессменном кителе с украденной медалью «За отвагу» пробирался к самой рампе и пожирал глазами исполнителей. Иногда его артистическая душа не выдерживала, и он прыгал на сцену.
Однажды на летней эстраде городского парка культуры шел концерт ансамбля «московских и венгерских цыган». Несмотря на столь экзотическое название, ансамбль ничем бы не отличался от других, если бы не солистка — худющая двухметровая девица с невероятным именем Колумба Цветная и пронзительным голосом. В самый разгар таборного веселья из-за кулис появился разукрашенный Коля-дурачок. Глаза его остановились, он словно окостенел, завороженный происходящим на сцене. В следующий миг с криком «Сильва!» он подскочил к Колумбе и попытался поцеловать ей руку. Ансамбль «московских и венгерских цыган» пришел в замешательство. Колумба выдернула руку, но Коля-дурачок грохнулся на колени и, раскопав в куче юбок ногу Колумбы, припал к ней губами. Колумба с криками прыгала вокруг Коли на одной ноге — вторую он держал мертвой хваткой.
— Сильва, ты меня не любишь! — кричал он. — Сильва, ты меня погубишь!
Затем Коля бросил Колумбу и зашелся в чечетке, вращая глазами.
И только с опозданием появившийся на сцене майор Гуркин сумел прекратить это форменное безобразие.
— Я Баранела, я Чебурела! — кричал Коля-дурачок, покорно отдавая себя в руки начальника милиции.
А потом в третьем бараке произошло знаменательное событие: впервые за десять послевоенных лет игралась свадьба. Женился Коля-дурачок. Наряженный в синий костюм с цветком в петлице, он шел счастливый и обалдевший, держа под руку также нарядную и счастливую Лиду-дурочку, сосватанную ему в Теменичах. Молодые шествовали по Трудовой в окружении шаферов, сватов и друзей. Многочисленная толпа радостно гудела.
Наиболее удачливые попали за стол, остальные расположились на крыльце или просто под окнами. Самогон завезли родственники невесты, закуска была скудной. В комнате пахло жареным салом и картошкой. Кричали «горько» и пели про «молодого Хасбулата», на улицу страждущим сваты выносили кружки самогона и соленые огурчики. Мужики дымили махрой и мочились у крыльца. Бабы, отплясывая, голосили частушки.
Но уже утром Коля-дурачок, как обычно, забежал в кусты за сортиром и занялся «детским грехом». Неделю спустя Лида забрала пуховую подушку и ушла восвояси. На недоуменные вопросы баб она произнесла философскую фразу:
— Не такая уж я дура, чтоб с таким дураком жить!
Все вернулось на круги своя. Иначе и быть не могло: Коля-дурачок не должен был принадлежать никому — он принадлежал всему городу.
Когда намыли дамбы через Судки и стал ходить автобус, Коля забирался на сиденье кондуктора и объявлял остановки. Причем делал это с юмором и очень оригинально:
— Остановка Горбоедова!
— Остановка драмтеатр! Кому за водкой, 35-й гастроном напротив!
— Остановка чуть-чево (имелась в виду улица Тютчева).
Последние годы своей жизни Коля погрустнел. Умерла его мать. Он часто ходил нетрезвым и всем встречным рассказывал, как ее любил.
Кстати, у Коли-дурачка был конкурент Эдик-дурачок. Это был Колин антипод, хотя и носил такой же офицерский китель. Эдик был суров и не очень общителен. Друг друга они не любили и называли не иначе как дураками. Правда, территория города была негласно ими поделена. Если Коля-дурачок со временем сменил китель на гражданский пиджак с цветком в петлице, то Эдик до конца не изменил военному прошлому. На кителе Эдика с каждым годом появлялось все больше орденских колодок и гвардейских значков. Самыми радостными минутами были для него парады. Эдик пристраивался к увешанным наградами ветеранам и гордо вышагивал во главе колонны.
…Однажды холодной осенней ночью в последний троллейбус второго маршрута на остановке «Мясокомбинат» ввалился Эдик. Вид его был дик. Кроме промокших трусов и майки на нем ничего не было. Эдик опирался на березовый кол. В глазах горел огонь подвига.
— Эдик, что с тобой?
— С фосфоритного сбежал! Они меня, гады, решили в дурдом засадить! Меня! — Эдик ударил себя в грудь кулаком. — Да меня весь город знает! А врач там придурок приезжий и меня не знает!..
…И вот пронесся слух, что барак будут расселять. Слух оказался правдой. Когда расселили уже весь барак, в одной из комнат продолжало светиться окошко. Это Симутиха вела борьбу с властями за отдельную жилплощадь.
Жаркой июльской ночью барак занялся сразу с четырех углов. Трухлявые его стены факельно чадили, с крыши в разные стороны летела с гранатным треском черепица. Прибывшие, как всегда, с опозданием пожарные не столько тушили пожар, сколько следили, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Среди любопытных бегала Симутиха в наброшенном поверх ночной рубахи пальто и галошах.
— Надо же, я как с пожара: не оделась, не обулась, — говорила она отрешенно.
Часам к десяти утра третий барак перестал существовать. Сгорел он натурально дотла. Еще долго на этом месте не росла трава.
…Жизнь разметала детских товарищей моих. Исчез куда-то Юра Хам. Кто-то уехал, кто-то помер. Но когда встречаешь кого-то из старых друзей по бараку, после коротких приветствий обычно начинается: «А помнишь?..»
«Одесский» персонаж
Каждый входящий на рынок через центральный вход при всем желании не мог разминуться с растопырившейся прямо на проходе деревянной треногой. Над треногой, предупреждая возможные сомнения, красовалась рукописная табличка с категоричной надписью «ФОТОГРАФИЯ-ПЯТИМИНУТКА». Рядом на видавшей виды табуретке покачивался эмалированный тазик с косячком плавающей поверху готовой продукции. Хлопотал тут невысокий, худощавый, с блестящей золотом фиксой во рту хозяин «пятиминутки» Фимка Маковский. Вокруг треноги всегда кучковались клиенты, фарцовщики, мазурики и просто охочие до зрелища зеваки. Фимка не столько работал, сколько давал представление. Фимка как падишах восседал на табуретке. Время от времени, помешивая пожелтевшим от химикатов пальцем в тазике, он непринужденно зазывал клиентов: — Мальчики, девочки, граждане, дамочки! Делайте портреты на паспорта и анкеты, на пропуска и дипломы, в семейные альбомы…
С Великой Отечественной он вернулся с боевыми наградами, контузиями и потерянным глазом. Убедившись, что потеря не является помехой в работе, он продолжил семейный гешефт. Маковский числился частником и, естественно, вступал в невольное противостояние с генеральной линией государства. Не выдержал борьбы и прикрыл дело сшивший форменки всему командному составу гарнизона Аврущенко. Сошли с дистанции зубные техники сестры Рейдер, озолотившие челюсти каждому второму жителю города, включая партийный и советский аппараты. Зачехлив зингеровскую машинку, сдался на работу в ателье лучший городской закройщик Король… А Фимкина тренога с трудом, но держалась, как Брестская крепость. Однако в стране было объявлено о строительстве коммунизма, чей призрак, по утверждению классиков, не отводил частнику места под солнцем. Но пока Фимка еще священнодействовал у аппарата.
— Мальчик, мальчик, смотри сюда, в глазок. Сейчас птичка вылетит!
— А птичка где?
— Как где? Улетела!.. Ну а ты, милый, куда шнобелем крутишь? Куда я тебе говорил смотреть?
Мужчина неуверенно поджимал ноги под табуреткой:
— У дырку етту, откель птичка вылетит! Птичка уже вылетела, когда тут мальчик сидел. Больше птички нету!..
— А ты куда должна смотреть? — ласково вопрошал он оседлавшую табуретку бабенку.
— В глазок энтот вот! — уверенно отвечала та, нет-нет, да и зыркая глазами исподтишка в зажатое в руке зеркальце.
— Да не в глазок, а в глазки. Смотри в мои глазки! Убедившись, что клиентка смотрит на него во все глаза, он вдруг выгребал из глазницы свой стеклянный протез, держал его некоторое время двумя пальцами и… отправлял в рот. Клиентка в испуге выкатывала глаза.
— Ну вот, другое дело! — Фимка делал снимок. — Все, милая, готово. Слезай!
Клиентка продолжала сидеть, ухватившись руками за табуретку.
— Ну ладно. — Он доставал глаз изо рта и вставлял его на свое место, возвращая бабенку к жизни.
— Ой, ой, — крестилась та, сваливаясь с табуретки, — ой, страсти господни!
— Через пять минут, не забудь, я возвращаю ваш портрет! — кричал он вслед улепетывающей женщине. Место на табуретке занимал угрюмый гражданин. — Картуз снимите, милейший!
— Так сымай! Сымай так, говорю, я босый!
— Так я тебя не разуваться прошу. Может, ты лысый?
— Ну!
— Баранки гну! Снимай картуз, а то брат не узнает!
— Не, в картузе узнает. А то подумает, что меня замели!..
— Давай без фокусов, — усаживался на табуретку, как курица на гнездо, очень серьезный с виду мужик. Он стаскивал картуз, раскладывал аккуратно его на коленях и грациозно пятерней расчесывал свалявшиеся волосы.
— Готов? — вопрошал ставший тоже серьезным фотограф.
— Чичас гимнастерку заправлю и готов!
Фимка скрывался под накидкой:
— Да ты не дуйся, дядя. Сиди спокойно, как на допросе!
Тот принимал на мгновение расслабленную позу, но затем непроизвольно снова хмурил брови и набычивал шею. Фимка вылез из-под накидки:
— Ты кто, колхозник?
— А чо?
— А то, что с такой физиономией тебя за кулака примут. Раскулачат, а я виноват буду!
Пока тот соображал, как отреагировать на реплику, Фимка снимал колпачок с объектива.
— Слышь, ты, снимай. Хватит ляскать!
— Так снял уже!
— Не, я сурьезно говорю, снимай!
— И я серьезно говорю, снял уже. Все!
— Как все?
— Так, все! Погуляй чуток и приходи за фото! Мужик неуверенно покидал табуретку и, бурча под нос, отходил в сторону. Спустя время сфотографировавшиеся возвращались к треноге.
— Ну, готово?
— Быстрый какой! Ты ж только снялся!
— Как только, — мужик вытащил из брючного кармана часы на цепочке и поднес к глазам, — уже восемь минут прошло!
— Ух, ты быстрый какой. Быстро только кошки дерутся! Погуляй еще чуть-чуть.
— Эт сколь же чуть-чуть? — он снова смотрел на часы.
— А как проявится, закрепится…
— Так что ж получается, не пять минут?
— Ух, ты какой бухгалтер! Давай считать. Я тебя снял за одну минуту, так?
— Ну, так…
— Минута во сколько раз меньше пяти? В пять раз, так? — Ну! — Баранки гну! Значит, я тебя снял в пять раз быстрее. А на все остальное осталось четыре минуты!
— Ну!
— А раз снял в пять раз быстрее, имею полное право все остальное сделать в пять раз медленнее, для баланса. Вот теперь четыре минуты умножь на пять, умножил? Сколько получилось? Двадцать! Двадцать и одна — это двадцать одна минута! Иди, веди любого бухгалтера, пусть проверит расчет!
И мужик отходил в смятении.
— А чой-то у меня глаза мутные? — разглядывал фотокарточку другой.
— Пить меньше надо!
— Дык это я теперь выпимши, а когда фотографировался — ни в одном глазу!.. Слухай, ты мне яйцы не крути! Я три раза на хронте контуженный! На хрена мне такая фотокарточка? Я счас этот твой гребаный миномет к хреновой матери разнесу!
— Ну, дорогой мой, чем тебе глаза не нравятся — нормальные глаза! Ну, посмотрите, — он совал фото окружающим, — глаза как глаза!
Все признавали его правоту. Клиент успокаивался и забирал фотокарточку.
— Ты, может, меня потом всю жизнь благодарить будешь, — говорил Фимка, дружески обнимая клиента. — Может, это твоя последняя фотография в жизни!
— Эт чегой-то? — настораживался клиент. — Всякое может случиться: или аппарат сломается, или я помру, или тебя посадят!
У тазика стоял и копался в растворе пальцем лысый в картузе:
— Дык нет меня тута!
— Есть, куда же ты денешься? Лучше гляди!
— А чо глядеть, тут бабы одни!
Фимка подошел к тазику:
— Ну как бабы, а это что, не ты?
— Вроде не…
— Как не? Пиджак твой? Твой! Рубаха твоя?
— Вроде моя…
— А говорил, одни бабы, — бурчал фотограф, вылавливая фотографию и стряхивая с нее воду. Он мгновенно стащил с головы мужика картуз и припечатал фотокарточку к лысине. Затем нахлобучил сверху картуз.
— Не трогай, — напутствовал он клиента, — отглянцуется, сама отскочит!
Тот нерешительно делал несколько шагов в сторону от треноги, с сомнением щупая через материю прилипшее к черепу фото.
— Эт чо ты мне такую морду наворотил? — удивлялся следующий.
— Я ж тебе говорил, не дуйся! — улыбался Фимка.
— Да я вроде и не дулся…
— Вроде Володи. Выходит, это я за тебя дулся?
— Мужики, — искал сочувствия тот у окружающих, — да у меня сроду такой морды не было! Чо я, в зеркало не глядюсь?
Он взял ручное зеркальце и очень внимательно стал изучать свою физиономию.
— Не моя это морда! — категорично заявлял клиент. — На хрен мне эта твоя фотография!
— Не твоя?
— Нет, не моя!
Фимка было хотел и дальше убеждать строптивца, но вдруг глаз его загорелся огнем первооткрывателя.
— Эй, мужик, стой! Вот ты, лысый, иди сюда! Снимай картуз, покажи фотокарточку! Ну вот, — удовлетворенно говорил фотограф, передавая карточку хозяину, — схватил случайно чужую карточку. Извини, друг!
— Ну, энто другое дело! — говорил тот удовлетворенно. — А как жа ж я? — растерянно разводил руками лысый.
— Что ты переживаешь, там их полный тазик плавает, найдем и тебя. А не найдем, так сфотографируем еще хоть десять раз!
***
…Время шло. Маковский еще не терял оптимизма и по-прежнему заказывал в ресторане «Роземунду», но его обкладывали все упорней. Финалом стали статьи в газете и стенд в скверике Карла Маркса, где последнего частника выводили халтурщиком и пережитком прошлого. Вдобавок ко всему ему пришили дело по спекуляции. В последнем слове на суде Фимка произнес знаменитый монолог «А судьи кто?!» Это привело к смятению в стане судей и народных заседателей. Одни удивлялись тому, что Маковский написал такие талантливые стихи, другие доказывали, что он украл их у Грибоедова. Рассказывали, что в колонии он руководил самодеятельностью. Начальство упорно не хотело с ним расставаться… Так или иначе, в один прекрасный день Фимка вышел на волю, но фотографией больше не занимался. Однажды на площади Ленина появилась телега, на которой как ни в чем не бывало восседал, натягивая вожжи, Фимка Маковский. И телега, и кобыла с заплетенной в косички гривой принадлежали славной артели «Искра». Сам возница числился в штатном расписании агентом по сбору вторичного сырья. …А где, как вы думаете, мог жить Фимка Маковский? Конечно же, только в самом центре города, на площади Ленина. На том месте, где теперь торчит десятиэтажная коробка здания городской администрации, стоял особнячок горисполкома (бывший дом купцов Могилевцевых). Рядом притулился одноэтажный деревянный домик, в котором кроме семьи Маковских проживали еще и легендарные братья Кузерины, с чьими именами связаны яркие страницы послевоенного городского футбола. Так вот после вступления в артель «Искра» Фимке снова пришлось вступить в противостояние с властями за право проезда на телеге через площадь Ленина к собственной квартире. У ЦУМа был поставлен регулировщик с белым жезлом и в белых перчатках. Удивительно, но именно этот регулировщик вызывал весьма странную реакцию у лошади Маковского: подлая наловчилась справлять физиологическую нужду прямо перед стражем порядка. Регулировщик подал рапорт на имя командира отделения. Командир отделения — командиру отряда, тот — начальнику ГАИ, начальник — председателю райисполкома, а уж тот, соответственно, председателю горисполкома. Кончилось тем, что на перекрестке торжественно установили знак, запрещающий въезд на площадь гужевому транспорту. И тогда Маковский навесил на телегу подфарник. Возница упорно доказывал, что не нарушает ПДД и что телега, оборудованная электрооборудованием, уже не телега, а относится по всесоюзному классификатору к классу автомобилей мощностью двигателя в одну лошадиную силу.
***
В офицерской столовой стояли обеденная толкотня и гул. Очередь росла и роилась. К дверям столовой подкатила телега. Фимка деловито укрыл спину кобылы пледом от насекомых и поспешил к кассе. Вы замечали, отчего люди начинают спешить? Они начинают спешить, когда обзаводятся транспортом. Фимка приехал на телеге и уже поэтому торопился. Но ни его авторитет, ни знакомые официантки, ни ссылки на нехватку времени, ни шуточки-прибауточки не могли поколебать очередь. Дежурный офицер неуважительно оттащил его от кассы. Фимка, не говоря ни слова, подвел офицера к окну и королевским жестом откинул занавеску. Стоящая за окном кобыла бросила жевать сено, просунула голову в окно и, задрожав верхней губой и страшно оскалив желтые зубы, заржала на офицера. — Мы мирные люди — продекламировал Фимка, — но наш бронепоезд стоит на запасном пути!
И под одобрительный шум проследовал к кассе.
— Может, я что-то не понимаю, — делился своими сомнениями Фимка, — или среди вас есть умный человек? Вы мне можете объяснить, что такое врач? — Так вы не знаете? Тогда слушайте меня! Врач — первый человек в городе! Так вот мой сын, чтоб он так жил, получил три образования: начальное, среднее и высшее. Он кончил медицинский институт. Так я думал, он теперь обеспеченный человек! А сколько, вы думаете, ему положили? Ему положили сто рублей в месяц! Так для этого, я спрашиваю вас, надо было учиться 15 лет? Слава Богу, что у него есть папа, и, слава Богу, что папа еще зарабатывает копейку!
***
…Все проходит. Все меняется. Теперешние рынки мало чем напоминают тот, на котором стояла его тренога, и улицы Б-ска совсем не те, по которым пылила его телега. «Нашел о чем писать, — сказал мне один очень серьезный товарищ. — Мало ли в городе было интересных людей! Их именами названы улицы, о них рассказывают музейные стенды и памятные доски, они строили, творили, писали, открывали… Да тут только копни!» Он, конечно, прав, этот серьезный товарищ. Наверное, даже наверняка среди них были интересные люди. Но они сидели в кабинетах, залах заседаний или в творческих мастерских, и мне с ними общаться не доводилось. Зато я прожил жизнь бок о бок с теми, без которых вряд ли в полной мере можно составить полное представление о нашем городе. Вот о них я знаю. О них и рассказываю…
Уллуна
Город жался к реке. Когда на единственной, проложенной вдоль правого берега Десны, улице не стало хватать места, строения, торопливо расталкивая друг друга, полезли на горки, отгораживаясь разномастными и разнокалиберными заборами и палисадниками. Совсем недавно по городу прокатилась война, о чем напоминали многочисленные смотрящие черными глазницами окон развалины и преобладающий защитный цвет одежды несношенных еще после демобилизации гимнастерок и шинелей. На самой макушке Ленинской» улицы, где ее пересекала улица Луначарского, стояли два двухэтажных, еще дореволюционной постройки дома с кирпичными первыми этажами и бревенчатыми вторыми. Дома объединяла в общий ансамбль массивная кирпичная арка. Арка вела в затененный двор, ограниченный по всему периметру приземистыми кирпичными строениями, служившими, видимо, ранее амбарами и конюшнями, а теперь приспособленными под жилье. До революции дома принадлежали то ли купцам, то ли приказчикам, а теперь их населяла пестрая армия жактовских квартиросъемщиков.
Один из них, жестянщик и отличник промкооперации Лазарь Рабинович, принялся как-то за общественно полезное дело — изготовление нового номерного знака. Старый насквозь проржавел и скособочился, отчего Лазаря никак не мог отыскать объявившийся родственник из Жмеринки. К тому же старый номерной знак вызывал неудовольствие участкового милиционера Полтора Ивана. Лазарь Рабинович подошел к делу основательно и ответственно: смастерил из оцинкованной жести рамку, вставил в нее стекло и, обставившись кистями, растворителями и красками, приступил к написанию текста.
Лазарь Рабинович носил галифе с вечно болтающимися штрипками и гимнастерку с медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», орден Красной Звезды и значок «Отличник промкооперации». Орденом Красной Звезды награждали за серьезные ранения. Лазарь получил на фронте контузию, был инвалидом войны, а потому и работал в артели инвалидов жестянщиком, где и был награжден за ударный труд значком «Отличник промкооперации». Лазарь очень гордился значком. Еще бы! Если ордена и медали были почти у всех фронтовиков, то такого значка не было больше ни у кого, даже у маршала Буденного. Вокруг скамьи, облюбованной им под творческую мастерскую, толкались любопытные. Мишка Милорадов, грузчик железнодорожной станции, отгреб несколько в сторону и долго, внимательно смотрел нефокусирующимся взглядом на Лазареву работу.
— На морду Рабинович, а в натуре Левитан! — констатировал Мишка, удивляясь, как Лазарь умудряется писать буквы на обратной стороне стекла и в зеркальном изображении.
Рамку оставили сохнуть до утра под застрехой. Утром Лазарь Рабинович, жестянщик и отличник промкооперации, поспешил во двор к своему творению. В прозрачной синеве зарождающегося утра кружились пушинки. Сонька Кац на веранде второго этажа потрошила курочку. Пушинки, как магнитом, притягивало к крашеной рамке. Увидев подобное безобразие, Лазарь Рабинович задохнулся от возмущения и выразил в сторону Сонькиной веранды свое категорическое «фе!». Сонька выглянула наружу и, увидев Лазаря, завелась с пол-оборота. Сонька всегда находилась в страшно возбужденном состоянии, с ней старались не вступать в пререкания и «за глаза» называли «мишугенэ». С Лазарем Рабиновичем у нее была родовая вражда. То ли его прадед охмурил ее бабку, то ли наоборот, толком уже никто не помнил, но они враждовали семьями, как Монтекки и Капулетти.
Лазарь Рабинович, жестянщик и отличник промкооперации, пытался снять пух со стекла и матерно выражался.
— Об чем увесь этот шум, детка? — выползла во двор подслеповатая тетя Песя Курцер.
— Да вот, — как можно вежливее объяснил Лазарь, поднося к ее глазам рамку, — опять эта «мишугенэ» весь двор своими перьями забросала!
Сонька взвыла наверху, как раненая волчица, и на еврейском языке призвала Всевышнего ниспослать на голову супостата пару простых и пару гнойных фурункулов.
Жестянщик и отличник промкооперации, естественно, такого спустить не мог и уже на русском, для большей убедительности, отпарировал трехэтажным матом, так как тот еврейский, кроме этих пресловутых фурункулов да еще лихорадки и повышенной температуры, не располагал более весомыми аргументами. Из квартир на территорию двора стали выползать заспанные квартиросъемщики. Дело в том, что мирная жизнь протекала внутри квартир, тогда как скандалы выплескивались на всеобщее обозрение.
— Шо, опять скандал? — выскочил во двор в шароварах и белых тапочках подполковник Захаров, служивший где-то в органах и совершавший по утрам пробежки и гимнастические упражнения.
— Да вот опять Сонька, — пожаловался ему жестянщик и отличник промкооперации, — на голову всякую дрянь сыпет!
Подполковник Захаров безучастно посмотрел на веранду и побежал трусцой со двора.
— Где вы видите голову? — неслось с веранды. — Если это голова, то что такое у Ароновой кобылы жопа?
— Что, где кобыла? — протирал со сна глаза Арон, агент по сбору утильсырья артели «Искра» — Я ж ее сам вчера распряг и в станок поставил!
— Соня, — как можно убедительней обратилась к веранде тетя Песя, — Соня, как Вы так можете ругаться? Вы уже с утра поставили на ноги весь город!
— Покажите мине город, — бушевала Сонька. — Она называет городом каких-то 50 тысяч недоделков!
— Бешеный баб! Ну, сапсем бешеный баб! — с опаской поглядывая на веранду, констатировал. Зенатулла Шамсияров. — На цэп сажат нада!
Какой национальности был Зенатулла, ведал, пожалуй, только участковый Полтора Ивана, а все остальные знали, что он «нацмен» и присматривает в колонии за овчарками. То, что профессия его именовалась «кинолог», не ведал никто, включая самого Шамсияра. Все считали, что он «собаковод».
— А этого собаковода кто здесь звал? — заорала Сонька дурным голосом. — Это тебе не с собаками гавкать!
Шамсияр поспешно ретиро вался со двора.
— Соня, — прикрыв глаза от солнца ладошкой, заговорил с верандой неистребимый юморист, фотограф Фимка Маковский, — Соня, это Вы повесили на веранде сушить бюстгальтер? — Сонька на минуту умолкла и выглянула наружу.
— Вы, да, — продолжил Фимка, — так идите и сгоните детей! Они думают, что это гамак, и катаются в нем парами!
— Свои, снюхайтесь! — пытался утихомирить скандалящих Васька Астахов, кузнец с «Арсенала». — Говорят, евреи дружный народ, а эти, как собаки!
— Шо за шум, а драки нету! — перед Лазарем появился еще не совсем отрезвевший ото сна Мишка Милорадов.
— Да вот, Миш, — жаловался ему Лазарь Рабинович, снимая с лысины пушинки.
— Да черт с ней, с головой! — рыгнул Мишка, — А за такую вещь, — он указал крючковатым пальцем на рамку номерного знака, — за такую вещь я пасть порву — дело обчественное! — Мишка явно придавал случившемуся политическое значение.
Сонька быстро смекнула, что противостояние такому оппоненту, как Мишка, да еще с такой трактовкой, чревато и захлопнула створки. Двор опустел, а на том месте, где только что толкались квартиросъемщики, делал приседания подполковник Захаров. Удрученный Лазарь Рабинович осторожно обирал со стекла пушинки. Когда день спустя он прибил новую вывеску, равнодушных не было. Вывеска стала всеобщей гордостью жильцов. На утренней и вечерней зорьках она отсвечивала рубиновыми бликами. Все, кто мог читать, раз за разом останавливались и по слогам произносили выведенные там слова: «Ул. Луначарского 57». Даже Сонька, бросив попервости пару ехидных замечаний, в душе осталась довольна Лазаревым творением. Особый же восторг новый номерной знак вызвал у Полтора Ивана, который водил, как на экскурсию, домовладельцев даже с других улиц и, показывая на вывеску, не находил слов:
— Ить ёксель-моксельздорово живешь! А ить того-етого, надоть додуматься! Ведь ежели оно кажный тым-той в сознательность вошел, так оно, я думаю, фактически так-то вот… и кругом порядок.
Вывеска гордо провисела до весны, пока отвалившийся вместе с наледью кусок карниза не выбил в ней брешь посередине, оставив непонятное Луна 57». Гораздый на выдумки фотограф Фимка Маковский стёр точку после «Ул» и назвал дом «Уллуной», а жильцов соответственно «уллуновцами».
Сады нашего детства
Б-ск был всегда яблоневым краем. Москвичи, уральцы, северяне ехали сюда специально за яблоками.
Как бы вознаграждая хозяев, сады выплеснули после войны всё своё великолепие. Каждую весну послевоенный деревянный город заливало по самые крыши вишнево-яблоневым цветом. Красно-сиреневые яблоневые и белоснежные вишнево-сливовые языки пламени полыхали по оврагам и улицам, заполняя ароматом воздух и засыпая цветом землю вокруг.
Кто был тот безвестный садовод, заполнивший местные сады таким разнообразием сортов яблок и груш? Теперь многие и слыхом не слыхали о таких яблоках, как титовка, лимоновка, карабковка, ранет, золотой налив, антоновка-полуторафунтовка, цыганочка, штрифель, репка, райка, малиновка, апорт, китайка. А какие груши висели в садах: дули, бере зимняя, бессемянка! И куда только всё подевалось, почему перевелось? Госпитомникам нужен только план и быстрые в росте сорта. Все начали гнаться за долго сохраняющимися яблоками. Потому и стали редкостью сорта яблок нашего детства.
Из сегодняшнего дня почему-то кажется, что и урожаи яблок были тогда каждый год. То ли климат потом изменился? То ли земля устала?
Помню, как приходилось лазить на вишневые деревья мальчишкам (ветки не выдерживали взрослых) и вёдрами собирать вишни. Теперь в нашем в саду во много раз больше вишневых деревьев, чем в саду деда, да вишня «не та».
Сады были общей заботой не только владельцев, но и мальчишек на улице. Мальчишки всегда хотят есть, а яблоки в садах были самой доступной, хотя и небезопасной, добычей. Любой высоты заборы с колючей проволокой поверху, цепные собаки и даже двустволки, заряженные солью, были нипочём послевоенным мальчишкам.
Обычно налёту на сад предшествовала разведка. Много, правда, яблок не брали, не ломали стволов — брали только, чтобы наесться. А в своё оправдание говорили такую присказку: «Из большого взять немножко — не воровство, а дележка». Притом рвали не у всех подряд, а старались у более богатых или вредных. Жадных на улице презирали.
Улица была самой лучшей коллективной воспитательницей. Не могу согласиться с теми, кто считает, что улица, компания сверстников портят детей. Может быть, в современных условиях — да! Но послевоенные улицы с домами частного сектора, где прожило не одно поколение и все знали друг друга от мала до велика — вряд ли. Улица сохраняла традиции и быт, атмосферу добрососедства и взаимопомощи, уважения к старшим и заботу о младших.
Ну, разве можно было на нашей улице оскорбить старика и нагрубить женщине, чтобы это прошло незаметно и не дошло до родителей?
Улица вставала на защиту слабых. После прочтения гайдаровского «Тимура и его команды» и просмотра одноименного фильма симпатии наши, несмотря на все старания авторов, были всё же не на стороне Тимура, а Мишки Квакина. Дело в том, что за Тимура были все очень хорошие пионеры и военные, и профессора, и весь пузатенько-богатенький дачный люд. Но главное, их было много. А у Квакина с Фигурой почти никого не было, а это было, с нашей точки зрения, несправедливо. Мы становились на сторону слабых.
О своих уличных друзьях-единомышленниках с уважением и гордостью говорили: «Этот пацан с наших огородов». Лето было любимым временем года. После полуголодной зимы все — и птицы и животные, и пацаны — «паслись на травке». Теперь даже трудно припомнить, какие только травы и коренья не отправлялись в рот. Однако самым любимым блюдом были сваренные на костре щи из щавеля и крапивы.
Компания устраивала где-нибудь в овраге шалаш или блиндажи, натаскивались из дому продукты, а затем уже готовился общий стол. Самым лучшим был десерт из плодов близлежащих садов. Целыми днями мальчишки были заняты делом: на них лежали обязанности по дому, по уходу за скотиной, огородом, но всё свободное время было отдано играм.
Мои ровесники росли на природе. Ну, разве проблемой было тогда отличить ворону от грача, чижа от чечётки? Недавно я провел эксперимент: стал спрашивать у прохожих, указывая на усевшуюся стайку свиристелей: что за птица? За полчаса услышал: «воробьи», «скворцы», «вороны»…
А тогда никто еще не ведал о грядущих экологических катастрофах, озоновых дырах, парниковом эффекте, урбанизации, радиации, нуклеидах и пестицидах. Может, оттого и сады родили, и птицы пели?
Мы знали, что яблоки портят червяки, и потому ставили скворечники. Птицы сами наводили порядок, да и пели вдобавок.
Судки были настоящим зоопарком в черте города. Земля, вода и воздух там кишмя кишели всякой живностью. В водах стайками носились вьюны, пескари, мальки рыбешек, заплывавших сюда нереститься из Десны. Вода рябила от невероятного числа разного вида головастиков, а по поверхности сновали водомерки, стрекозы разных размеров и расцветок. Воздух гудел от невообразимого количества мух, комаров, жуков, стрекоз, бабочек, пчел, оводов, ос, а выше, в небе, стаями носились стрижи и ласточки. На утренних и вечерних зорях овраги наполнялись трелями соловьев, малиновок, овсянок, щеглов и чижей, которые гнездились тут же в кустарнике и на деревьях.
Как только с наступлением сумерек замолкал птичий концерт, вступал хор лягушек, старавшихся перекричать друг друга. Из-под ног в разные стороны рассыпались разноцветные и разнокалиберные кузнечики, ящерицы, ужи, ежи. Иногда можно было встретить и белку, лису, зайца.
В пещерах водились летучие мыши, которые бесшумными привидениями носились при лунном свете. А по краям оврагов, обрамляя их чудесным ожерельем, бушевали сады. И все это было не где-нибудь, а в двух шагах от центра.
Какими мы были наивными, полагая, что все это великолепие вечно. Не подозревали, что через каких-нибудь полвека от всего этого останутся одни воспоминания.
Да, мы все хотели жить лучше, строить заводы, асфальтировать улицы, возводить многоэтажки, развивать транспорт, не ведая, что вместе с этим вольно или невольно нанесем непоправимый урон природе.
Как чеховский вишневый сад, б-ские сады поглотил и растоптал наступивший на них каменный город. Но вот, обезумев от жизни в загазованных каменных джунглях, люди стали прозревать. За последние лет пять вокруг города вырос огромный дачный сад. Посажено великое множество фруктовых деревьев.
Пройдет, надеюсь, с десяток лет, и эти яблоневые сады станут похожими на сады нашего детства.
Школа нашего детства
Фронт проходил где-то в нескольких сотнях километров от Б-ска, небо содрогалось от рева фашистских бомбардировщиков и разрывов зенитных снарядов, еще не отчадили головешки на городских пожарищах, а мы уже потянулись к школе.
Господи, на кого были похожи школьники нашего детства, во что только ни были одеты и обуты! Тут и шитые-перешитые из родительских довоенных одежд рубашки и пиджаки. А солдатские гимнастерки, изготовленные из парашютного шелка матроски? На головах — пилотки, буденовки, солдатские ушанки. На ногах — всевозможные тапочки, а то и просто галоши поверх шерстяных носков и не по размеру большие сапоги. Зимой надевались бурки — матерчатые на вате валенки с кожаными пятками. На бурки — «армяшки», склеенные из автомобильных камер галоши. Мало у кого были портфели или ранцы.
Большинство тащило учебники в матерчатых мешочках, планшетках, а то и просто за пазухой. Каждый первоклассник таскал сшитую из материи «кассу» с карманчиками, в которые был вложены картонные квадратики с написанными буквами.
В матерчатых кисетах болтались на шнурках чернильницы «непроливашки», наполненные фиолетовыми чернилами. Зимой чернила замерзали, и их отогревали дыханием.
Каждый ученик экипировался круглым пеналом с деревянными ручками, карандашами и набором разнокалиберных перьев. Учебники ценились на вес золота. Их было всего по нескольку штук на весь класс. Помню, букварь начинался словами «Рабы не мы, мы не рабы». Возраст первоклассников колебался от 8 до 10 лет. С нами учился сын полка, которому было уже двенадцать, а он был неграмотным: война.
Наши школы в основном были разрушены. Первые годы мы учились в приспособленных для этих целей подвальных помещениях технологического института. Там находилась мужская школа, а в здании бывшего горисполкома (доме купца Могилевцева), находившемся на месте теперешнего здания горсовета, женская школа.
Во время большой перемены младшеклассникам давали кусочек хлеба с ложкой сахарного песка. Вокруг хлеба с песком существовало множество азартных игр. Тем, кто послабее, хлеба могло и не доставаться
В классах, расположенных в подвале, топились печки-буржуйки, куда нередко вместе с дровами подбрасывались патроны, и они взрывались. Подрывников обычно не находили, а во время ремонта ребята естественно, не учились.
Чуть позже, году в 1946-м, открылись школы №4 и №2 на улице Фокина. Школа №4 была мужская, №2 — женская, хотя и располагались они в одном здании. Обучение было раздельное, и двор тоже разделили высоким забором.
Перед занятиями устраивались пионерские линейки с рапортами, салютами и барабанным боем, чем-то напоминавшие утренний развод на воинском плацу. Помню первого директора 4-й школы Степана Ивановича Бондаренко. Все почему-то боялись его как огня. При его появлении моментально прекращались драки, всякие, особенно азартные, игры и даже игра «в жостку» — повальное увлечение мальчишек тех лет. «Жостка» — это небольшой кусочек меха с прикрепленным к нему кусочком свинца. Мех обеспечивал плавность полета. Особенно ценились жостки из козьего или кроличьего меха. Жостку набивали (подбрасывали) внутренней стороной стопы. Были мастаки, умудрявшиеся набивать по 150 — 200 раз.
Ребята тех лет росли в суровом быту: синяки, ушибы и разбитые носы были обычным делом. Почему-то особый страх нагоняли уколы. Уколы и прививки делались во множестве, особенно свирепствовала тогда малярия. Пацаны под всякими благовидными предлогами избегали этих уколов, удирая из классов по пожарным лестницам, с шиком спускаясь из окон на веревках.
Еще одну унизительную с точки зрения уличного достоинства процедуру не выносили пацаны — медицинские осмотры, на которых проверяли вшивость, чистоту рук, ног, ушей. Особо одичавшим стригли ногти и прочищали уши прямо в классе.
Драки были обычным делом на школьных переменах. В них пацаны выясняли (до первой крови) свой статус-кво в ребячьей иерархии.
Снарядов, патронов и прочих атрибутов военного времени было множество, и ребята нет-нет, да и получали раны и увечья, утоляя свое любопытство к этим опасным игрушкам.
Модное и опасное увлечение — разрядка снарядов, патронов. Из свинца в глиняных формах отливались ордена и медали, пользовавшиеся большим авторитетом в ребячьем кругу. Из гильз и разных малого диаметра трубочек изготавливались так называемые «поджигала» и прочие стреляющие «игрушки», набиваемые порохом и серой от спичек. Особой любовью пользовались «дымовки» или «дымовухи».
Где-то в 1951 году была построена новая, первая послевоенная школа в Советском районе на улице Луначарского — школа №14. Теперь это школа №5. Она была не только первой новой брянской школой, но и первой смешанной школой, где в виде эксперимента начали совместное обучение девочек и мальчиков…
До 1951 года обучение в школах было раздельным. Хотя учились мы по одним и тем же учебникам, у одних и тех же учителей. Наконец что-то, видно, сдвинулось и в «верхах». В Брянске открыли первую смешанную школу №14 (теперь №5).
Контингент учеников был весьма оригинальным. Директора спихнули в новую школу всех своих оболтусов. Более того, из старшеклассников было не так-то просто сформировать классы, потому что в женских школах изучали французский, а в мужских — немецкий языки. В нашем классе было всего четыре девочки, да и то приезжие, в другом — наоборот.
Директором школы назначили И. Селищева. Селищев запомнился тем, что вылавливал по оврагам прогульщиков и устраивал в туалетах засады на курильщиков. Через год для укрепления школы из гороно была направлена директором Клавдия Ивановна Пушнова. Пушнова круто взялась за наше перевоспитание. Мы за глаза дали ей прозвище Кабаниха в честь известной героини пьесы Островского. Одним из ее излюбленных методов воспитания были приводы 9—10-классников на уроки в начальные классы. Верзилу ставили в угол на весь урок.
— Смотрите, дети, — обращалась к ним директор, указывая на провинившегося. — Смотрите внимательно и запомните: вот из этого молодого человека не получится Олег Кошевой, Ульяна Громовая, Зоя Космодемьянская!
Дети строили рожи. Для усиления борьбы с прогульщиками и нарушителями дисциплины был введен журнал поведения, из которого в конце каждой недели все прегрешения выписывались и рассылались домой родителям. Какими только ухищрениями не занимались ученики, чтобы ненавистный журнал исчез к субботе! Особая роль по его изъятию отводилась девчонкам, которые сидели ближе к столу учителя. Похищенный журнал уничтожался торжественно всем классом.
Затем, когда мы вступили в комсомол, вопросами дисциплины занялись вместе с учителями комсомольские активисты. Помню, как в нашей школе проходил прием в ВЛКСМ. Весь класс под диктовку написал заявление и строем отправился в райком. Где-то через час они вернулись назад, одаренные членскими книжками. Из всего класса лишь двое избежали посвящения (в том числе и я), отсутствовавшие по болезни во время подачи заявления.
После образования в школе комсомольской организации (а о силе партийной можно судить по тому, что школьный парторг В. Стельмах затем стала многолетним первым секретарем Советского райкома) школу захлестнули комсомольские собрания-разборки. Главной темой был, как вы сами догадываетесь, «моральный облик комсомольца».
В то время школьники о спиртном и понятия не имели, курили редкие экземпляры, да и то нерегулярно. Помнится, лет в 17 скинулись мы, человек пять, и купили за рубль восемьдесят кубинскую сигару — хотели узнать, какое удовольствие получает от этого «дядя Сэм». Пошли в овраг, сняли упаковку и раскурили на пятерых… Некоторых тут же вырвало, другим стало дурно. Так что на собраниях стоял в основном вопрос «О любви и дружбе». Ни о какой любви в стенах школы у комсомольцев, конечно, не могло быть и речи. Любовь — это для взрослых, для юношей и девушек только дружба, комсомольская дружба!
Попавшиеся на изъявлении своих чувств подвергались обструкции. Преследовался маникюр, завивки или накрашенные губы. За подобные «развратные» дела можно было запросто получить строгий выговор, а то и вылететь из рядов ВЛКСМ. Еще большим грехом было посещение танцев в Доме офицеров (особенно девчонками) и посещение вечерних сеансов в кинотеатрах. Где-то с 1953 года в школе стали проводить вечера. Но ребята танцевать не умели, стеснялись, стояли у стенок и смотрели, как вальсируют девчонки.
Особенно любимым, несмотря на крутой характер, был Николай Александрович Фролов — учитель немецкого языка. Высокий красивый блондин арийского типа, в зеленом офицерском кителе. Когда он нервничал, щеку подергивал нервный тик. Любимым выражением Дойча, как мы его называли, была фраза:
— Я подойду! Я буду ждать, но я подойду!
И если уж он подходил, нерадивец мог вылететь из-за парты вместе с крышкой и получить вдогонку по горбу портфелем. Мы его не столько боялись, сколько уважали и принимали наказание как должное. Дойч не признавал авторитетов и не шел ни на какие компромиссы. Помню, как он категорично ответил пришедшей «качать права» жене главврача обкомовской поликлиники Николаевой:
— Да пусть ваш муж хоть десять шляп одну на одну наденет, я вашего Ивана из девятого класса не выпущу!
И ведь не выпустил, несмотря на давление «сверху»! На пенсии Дойч пошел на производство — мастером в домоуправление и при встрече делился:
— Да если бы я знал, что на производстве так хорошо работать, давно бы бросил эту школу! Ты не представляешь, какие теперь ученики. Вы были просто золотыми: дашь кому подзатыльник — и весь конфликт исчерпан.
Он и сейчас еще помнит первых своих учеников поименно, интересуется их судьбой.
Математику преподавал Александр Николаевич Щеглов, ходивший в черном кителе и таких же брюках-галифе, заправленных в хромовые сапоги с галошами. Он был полноват и имел прозвище Самовар. Говорили, что на фронте Самовар был разведчиком. Во всяком случае навыки, приобретенные им в разведке, помогали ему, когда он по бумажной пульке находил, из чьей тетради она была сделана, и разоблачал незадачливого стрелка. Иногда, устав от нашего нежелания вникать в премудрости алгебры и геометрии, он задумчиво говорил:
— Сосновский, я вижу твое будущее! Я вижу тебя сидящим на бочке ассенизатором!
— Павлов, тебе о жилье заботиться не придется. На тебя уже за стадионом место заготовлено!
Он имел в виду тюремную камеру. Ни одно из его пророчеств не сбылось. Самовар был очень богат по тем временам: у него имелся мотоцикл, чуть ли не единственный во всем городе. Впрочем, тогда из трех наших классов часы были у двух-трех человек.
Русский язык вела у нас М. Юршева по прозвищу Вура. Русский был нашей ахиллесовой пятой, несмотря на все старания Вуры. Она была влюблена в словесность и часто тянулась за валидолом, не выдерживая нашего варварского языка…
Праздники нашего детства
Вспомните, давно ли мы все жили от праздника до праздника? Трудовые будни были праздником для нас, воскресные дни — праздником какой-нибудь отрасли или профессии, а кроме того, революционные праздники, дни рождения, юбилеи, открытия, закрытия, события, аванс, получка. Гуляй — не хочу! Было в них много от бутафорско-показушного фарса, но и много веселого, памятного.
Праздник Октября
Октябрьская демонстрация 1965 года: театрализованное представление, где перед трибуной разыгрывались сцены героической истории города, области и государства. Группы озябших студентов, одетых в матросские бушлаты, солдатские шинели и комиссарские кожанки, в перехлест опутанные пулеметными лентами и увешанные гранатами, изображали штурм Зимнего. В самый ответственный момент, перед правительственной трибуной, солдат-знаменосец дважды упал, запутавшись в размотавшейся обмотке. Папаха покатилась под трибуну, а знамя попало под «газик», закамуфлированный под броневик. Растерявшийся солдат, прыгая боком перед трибуной, отчаянно разматывал с ноги злополучную обмотку. Освободившись, он вдруг заорал, махая ею над головой: За Родину! За Сталина!
Студенты с криком «ура» бросились на штурм, целя штыками в ненавистных буржуев. Комиссар отряда выковыривал штыком закатившуюся под трибуну папаху, взятую напрокат в драмтеатре. Вдоль колонны, отдуваясь и тяжело дыша, семенили загримированные под партизан артисты драмтеатра Богатырев и Лисовский. Время от времени снимали папахи и утирали пот с лица. — Пьедестал не видели? — с мольбой в голосах спрашивали они демонстрантов. — Какой еще пьедестал? — Ну, машину бортовую, с партизанской землянкой и макетом «голубого моста». Мы его должны рвануть перед трибуной! — А… так этот пьедестал давно проехал… — О, ты, черт! — ругались артисты-партизаны. Демонстрация короткими перебежками вливалась на площадь, неся несметное количество портретов очередного вождя, флагов, флажков, шаров и транспарантов. Впереди каждой из колонн катили специально изготовленные тележки с красочными панно и праздничными призывами. — А где? А какой? — спрашивали, проходя мимо трибуны, демонстранты. — Да вон в центре, в шляпе! — А там все в шляпах! — Ну этот вот… ну в самом центре… Люди почему-то кричали «ура» и радостно махали флажками в сторону трибуны…
Праздник футбола
Открытие футбольного сезона в городе становилось праздником для болельщиков. Праздник начинался обычно парадом команд всех возрастов. Затем бессменный председатель облспорткомитета Борис Старовойт произносил раз и навсегда написанный спич и давал команду на подъем флага. Право первого удара по мячу в течение десятилетий предоставлялось одному и тому же человеку — преподавателю Брянского лесохозяйственного института А. В. Федосову. Марксообразный Федосов бодро вышагивал к центру и, отдав подержать судье свою трость-костыль, под аплодисменты болельщиков пинал мяч ногой. Последние годы Федосову уже было трудно самостоятельно добираться до центра поля, его сопровождали ассистенты, поддерживающие мастера после нанесения по мячу символического удара. Частенько открытие сезона жаловали отцы города и генералы, о чем восторженно сообщали народу громкоговорители. В такие дни на «правительственной» трибуне бывало многолюдно. Но и когда никого не было, милиция все равно не пускала туда обычных болельщиков, даже во время дождя…
Основным спортивным клубом города было «Динамо», представляющее МВД, ибо по всей области, чуть ли не в каждом районе, была или тюрьма, или колония, а в самом областном центре — аж несколько. И все эти заведения имели чрезвычайно многочисленный штат сотрудников. Вот общество «Динамо» и стало основным и чуть ли не единственным.
Футбольный клуб «Динамо» у нас любили, и болели от души. Да и как было не болеть, если играли, за редким исключением, свои — с соседних дворов, с соседних улиц. В 60-е годы каждый матч с участием столичных команд был для города праздником. Расскажу об одном. Душным июльским вечером 1963 года б-ское «Динамо» принимало на своем поле лидера зоны ленинградский «Спартак». На стадионе яблоку негде было упасть. Перед стадионом — столпотворение. Народ прорывал кордоны контролеров, через заборы сыпались, как картошка из дырявого мешка, безбилетники. Плотная толпа стояла вокруг беговой дорожки, удерживаемая слабыми металлическими барьерами, которые то тут, то там падали вместе со зрителями. На деревьях вокруг стадиона гроздьями висели пацаны. Балконы и окна близлежащих домов превратились в трибуны. Наиболее предприимчивые заняли крышу трехэтажного дома за южной трибуной стадиона. Сразу после начала игры над стадионом разразилась гроза. Небывалой силы ливень накрыл стадион, превратив футбольное поле в болото. Футболисты и болельщики промокли до нитки, но никто и не думал покидать трибуны. Рев и свист над стадионом заглушали раскаты грома. На поле творилось что-то невероятное: мячи один за другим влетали в спартаковские ворота. После каждого падения футболисты горстями счищали с лица и тела жирную грязь и умывались в какой-нибудь наиболее глубокой луже. Вратарь спартаковцев явно нервничал, пытаясь ногами и руками разогнать воду от своих ворот. Долговязый дружинник в шляпе, посланный прогнать пацанов из-за ворот, сам занял их место и сказал что-то обидное вратарю. Ленинградец повернулся в сторону обидчика и стал огрызаться. В этот момент в его ворота влетел очередной мяч. Рассвирепевший вратарь бросился за дружинником. Дружинник, прыгая по лужам, как заяц, драпанул под защиту болельщиков, потеряв на бегу шляпу, которая была тут же растоптана. Вратаря еще долго оттаскивали от шляпы и всей командой упрашивали занять место в воротах. После окончания первого тайма светился фантастический счет — «Динамо» выигрывало 4: 0. В перерыве между таймами на стадионе царило веселье, не уступающее, думается, карнавалу в Рио по случаю завоевания бразильцами звания чемпионов мира. Торжествующие люди прыгали в обнимку, что-то кричали и пели. Часть болельщиков бросилась помогать работникам стадиона готовить поле. Добровольцы сгоняли воду с динамовской половины поля и засыпали штрафную и вратарскую площадку песком. Как водится, подручных средств на стадионе не оказалось. Мужчины носили песок в шляпах и картузах. Несколько женщин таскали в подолах. После того как «наша половина» была приведена в порядок, несколько особо патриотичных болельщиков вылили пару ведер воды на «чужую» вратарскую площадку. Сидевший на трибуне солидного вида мужчина призывал окружающих вести себя прилично. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу «Динамо», а болельщики все не расходились, чтобы еще и еще раз посмотреть на своих героев и продлить праздник.
Русская берёзка
Вдоль бульвара Гагарина наспех вкопали привезенные из леса березы, которые для большей устойчивости крепились распорками. На площади Ленина, напротив драмтеатра смастерили эстраду. Праздник «Русская березка» начался в полдень с общего, но организованного гулянья. Под палящими лучами солнца потели одетые снегурочками мороженщицы. Молодые люди, скользя по столбу, тщетно пытались достать с его верхушки сапоги. Самодеятельные коллективы домов культуры водили хороводы, голосили и отплясывали под гармошки. Играли духовые оркестры. На площади Карла Маркса разряженные тройки с бубенцами катали детей. Вечером почти весь центр был запружен гуляющим народом, ожидавшим обещанного афишами фейерверка. Ближе к полуночи у здания райкома комсомола собралась колонна факельщиков, которая, чадя зажженными факелами, под звуки марша двинулась к площади Ленина. У эстрады факельщики остановились. Ведущая обратилась к публике: — А теперь, друзья, споем наши комсомольские песни! Сейчас вам раздадут тексты! Несколько активистов стали разносить в толпе тексты, которые в сумерках все равно невозможно было прочитать. После первого куплета испортился микрофон. Факельщики пели, оркестр играл, ведущая боролась с микрофоном. Песня совсем было начала угасать, когда на эстраду вывалился из толпы одетый в довольно потрепанный китель мужчина и, обняв ведущую за талию, завопил в отнятый у нее микрофон: Пока я стоять умею, Пока я ходить умею, Я буду итить вперед… Все радостно зашумели, узнав в мужчине Колю-дурачка. Площадь ликовала, милиция оттаскивала Колю от ведущей. — А теперь, — прокричала та, вновь овладев микрофоном, — когда мы спели свои комсомольские песни, можно потушить факелы.
Факельщики радостно затоптали тлеющие тряпки и смешались с толпой. В воздух взвились ракеты — начался фейерверк…
Праздник молодости
Праздник молодости, который город ожидал в течение месяца, начался на стадионе «Динамо», с парада. Проследовали коллективы духовых оркестров, каждый в своей форме. Замыкал парад детский оркестр Дома пионеров. Дети вдохновенно дули в трубы, сверкая золотыми эполетами на красных камзолах. Впереди, с выражением муки на лице, вышагивал тамбурмажор Геваргис Бит-Юнан. Он беспрерывно поправлял съезжающий на нос кивер, махая над головой белой перчаткой. Следом за музыкантами проехали самые маленькие участники праздника на трех велосипедах. За ними бежали счастливые мамы. Промаршировали, чеканя шаг, отряды юнармейцев. Лица их были сосредоточены и суровы, деревянные автоматы прижаты к груди. Большинство юнармейцев почему-то составляли девочки. Со страшным ревом, изрыгая тучи гари, проехали мотоциклисты. На сооруженной над коляской головного мотоцикла площадке стоял «воин-освободитель» с огромным бутафорским мечом в руке. К груди он прижимал девочку. У воина было бледное, напряженное лицо — он с трудом удерживал равновесие. За ноги его держали два ассистента. Замыкая парад спортивной молодежи, на беговую дорожку выкатила кавалькада разномастных коней и всадников, в которых без труда можно было узнать славную дружину ассенизаторов из «треста очистки». Возчики изображали конников разных времен нашей славной истории от Ильи Муромца до Семена Буденного. Рядами ехали Алеши Поповичи, Александры Невские, — голубые гусары и буденовцы. У правительственной трибуны наиболее ретивые пришпорили коней: буденовцы врезались в голубых гусар, Александры Невские перемешались с Алешами Поповичами. Какие-то две кобылы начали кусаться. Один из коней сбросил на гаревую дорожку своего Невского, налетел на мотоцикл и поскакал через футбольное поле. Александр Невский кинул щит и с пикой наперевес бросился преследовать обидчика… Появились артисты Мосцирка. На футбольное поле разом высыпали десятка два ходулистов на разновысоких ходулях и большое количество клоунов, устроивших такой кавардак, что зарябило в глазах. Общую сумятицу усугубил выехавший на поле в клубах едкого дыма автомобиль, похожий на «Антилопу-гну». Клоуны стали прыгать в автомобиль и имитировать падения и ушибы. Ходулисты перешагивали через кувыркавшихся клоунов и автомобиль. Праздник продолжался…
Река нашего детства
До чего же неудачно выбрали место для нашего города! На высоком крутом берегу Десны, а тут и Болва, и Снежеть рядом. Снежка — тихоходная, спокойная, с многочисленными заводями. Болва — полная противоположность, одна из самых быстротечных равнинных рек. За памятником артиллеристам до последнего времени было озерцо, называемое «Пердушкой» за то, что на его поверхности постоянно лопались поднимающиеся со дна пузырьки. Вода там была чистая и холодная. Несколько лет назад «Пердушка» стараниями городских властей приказала долго жить. Уверен, будь среди этих товарищей хоть один местный житель, а не периферийные выдвиженцы, он бы не загнал в «Пердушку» земснаряд и не вычерпал оттуда песок для строительных целей. Теперь за платной стоянкой высится песчаный карьер, а увеличенный раз в 20 водоем «Пердушки» уже не может обеспечить ее подземный источник, и вода там к середине июля покрывается ряской.
Пройдитесь па старым улочкам: Ямской, Верхней и Нижней Лубянке, Калининской, Судкам. Домики теснятся на гористых неудобицах, без подъездов, без приличных приусадебных участков. Казалось бы, возьмите ровное место подальше, километрах в 2—3, и стройтесь, ан нет — люди жались к реке. Каких-нибудь 80 — 100 лет назад Десна была глубоководной и судоходной. До революции по Десне бегали до Киева колесные пароходики. Один из них, «Константин», даже попал на старинную открытку. Городская пристань-гавань располагалась в районе фабрики РТИ на Пионерской улице. Старики мне, тогда мальчику, рассказывали, что в гражданскую напротив дормаша затонул пароходик. Из воды торчали только верхушки мачт — такая вот была глубина.
На левом берегу Десны в месте слияния со Снежетью еще до войны находилась так называемая Бабаева роща. Мы ее уж не застали, но можно себе представить, что это была за прелесть по сохранившимся дубам левобережья рощи «Соловьи».
Десна меняет постоянно русло, даже в черте города. После войны дорога от станции Б-ск-I проходила через три моста: один через Десну и два через старицы. Одна из этих стариц, правда, отрезанная искусно от основного русла, сохранилась и теперь. Ее, как прежде, называют ласково «старушка».
Каждую весну после войны весь город ждал ледохода. Все, от мала до велика, высыпали на берег, наблюдая, как набухшая река с ревом и грохотом рвала на себе ледяные оковы. Нагромождая одна на другую льдины, закипая в торосах и запрудах, река увеличивалась на глазах в объеме и катила воды мимо города.
Половодье растягивалось иногда на целый месяц. Радио ежедневно передавало сводки об уровне подъема воды. Чтобы сохранить опоры моста (мост у Набережной ежегодно разбирался), сооружались специальные ледорезы. Перед самым половодьем город ночами сотрясали взрывы — это подрывники рвали лед у Черного моста, чтобы его не снесло напором. «Черным» назвали мост, соединивший город со станцией Б-ск-II, за его черные, просмоленные опоры. Во время войны мост был разбомблен, но и новый, послевоенный мост, по традиции называли тоже «черным».
Десна в половодье разливалась широко и раздольно, сливаясь в одно пространство со Снежетью и затопляя всю пойму до горизонта. Среди бескрайнего водяного простора, как игрушечные корабли, покачивались на воде затопленные домики Зареченской улицы. Хотя дома строились на высоких сваях, вода доходила до полов. В отдельные годы Десна выходила даже на высокий правый берег, затопляя рынок и Калининскую улицу. В течение всего разлива, пока не навели новый мост, зареченские сообщались с городом при помощи лодок, из которых мальчишки кошелками вылавливали карасей и щурят.
Рыбой Десна была богата. После войны тут же на рынке можно было приобрести и мелких красноперок, и крупных щук. Году в 1946-м братья Сафроновы с Горьковской улицы зацепили сетью у Набережной сома. Его удалось вытащить только с помощью лошади, хвост его свешивался с телеги. Не каждый мальчишка в то время отваживался переплыть Десну, хотя плавать умели все. Тут же проводились соревнования по плаванию — для этого натягивали канаты и устраивали водные дорожки. Геройством было ныряние с моста. Особо отважные прыгали с перил, но этих смельчаков было немного. Они собирали зрителей.
Нырял с перил и известный в Б-ске Эдик-дурачок. Это бывало зрелище. Эдик снимал на мосту свой поношенный офицерский китель с орденскими планками, залезал неуклюже на перила и долго, дрожа синими коленками, готовился к прыжку. Затем он издавал свое фирменное, «тхрррх», прочищая носоглотку, зажимал пальцами нос и, закрыв глаза, топориком кувыркался вниз.
Полет его каждый раз был непредсказуем и неописуем. Эдик плюхался в воду животом или спиной и, подняв море брызг, со стоном уходил под воду.
По-собачьи выгребал на берег и, отдышавшись, снова залезал на перила, вообще послевоенный город даже трудно представить без Эдика-дурачка и Коли-дурачка. Недаром даже бывшая председатель облисполкома Домна Комарова, делясь воспоминаниями, наряду с первыми секретарями обкома вспомнила и о Коле-дурачке.
Ныряние с моста запретили в 1955 году, когда десятиклассник Ю. Сулимов разбился, ударившись головой о прошлогоднюю сваю — река мелела на глазах.
В пятидесятые годы основной городской пляж размещался на противоположном от дормаша берегу. Затем, когда стали намывать площади под новые цеха завода, горожане обжили рощу «Соловьи». Пляж обустроили, поставили павильоны, грибки, туалеты, но кому-то в голову взбрело и в этом месте спрямить русло Десны. После этого течением снесло с пляжа песок, берега заилились, и люди покинули этот чудесный когда-то уголок. Сейчас там пустота и полуразвалившиеся строения..
Мода нашего детства
В первые послевоенные годы улицы города, как и всего Союза, были окрашены в защитные цвета. Солдаты и офицеры донашивали военную форму, кто мог, с удовольствием меняли ее на гражданскую. Случалось видеть сплошь и рядом гражданский пиджак поверх галифе и сапог.
Номенклатура одевалась в темного цвета полувоенные кители и такого же цвета галифе. Хромовые сапоги обязательно венчали галоши. Вид обладателей хромовых сапог был величав и недоступен. Многие держали, в подражание вождю, правую руку за лацканом кителя. Для большей убедительности обладатели черных кителей именовались руководителями, сокращенно «рук», например: технорук, худрук, военрук, физрук.
Но отходила в прошлое война, и постепенно пришло время гражданской моды. Мужчины оделись в двубортные темно-синие или коричневые костюмы с невероятно широкими штанинами. Головной убор (кепка шести- или восьмиклинка) была обязательной частью костюма. Наиболее представительные позволяли себе заменить картузы на шляпы и носить галстуки. Это было, однако, совсем небезопасно. Десятилетиями в народе культивировалась ненависть к этому атрибуту капиталистического гардероба. В любой момент обладатель шляпы мог услышать обидное: «Буржуйская рожа!».
У молодежи обязательным являлся косой чубчик из-под сдвинутого на лоб картуза, тельняшка и тупоносые лакировки, показывавшиеся только при ходьбе из-под нависавших над ними, как трубы, брючин. Верхом шика считалась зажатая зубами в блеске золотой коронки папиросина.
Внешнему виду соответствовал свой стиль поведения и отношения к женщине, исключающий всякое проявление сентиментальности. Среди уличного фольклора в жанре городского романса распевалась песенка «Парень в кепке и зуб золотой» — о похождениях этого пролетарского героя. Очень образно показал такого парня незабвенный Леонид Осипович Утесов в постановке «Эволюция танца»:
— Мань, сбацаем фокстрот?
— Не, отвали!
— Пойдем сбацаем!
— Не пойду!
— А и с Жёрой пойдешь?
— А и с Жёрой пойду!
— Ну, смотри, пойдешь и с Жёрой, живая с танцев не уйдешь!..
Женщины щеголяли в простеньких ситцевых по щиколотку платьицах и бесформенных на широких каблуках туфлях. Жены ответственных работников вечерами, перед походами в кино или театр, надевали тяжелые крепдешиновые платья с плечиками, рюшечками и полным отсутствием декольте.
Зимой все население переходило на ношение валенок с галошами или бурок с «армяжками», самодельными подобиями галош, вырезанными из автомобильных камер. Элитная часть мужского населения облачалась в пальто с каракулевыми воротниками и такие же ушанки, женщины обвешивались чернобурками. Особым шиком считалось ношение так называемой «муфты», которая делалась из того же меха, что и воротник, и носилась вместо перчаток. У дамы, идущей с муфтой, обязательно должна была быть домработница, так как сумку нести она уже сама не могла: руки были заняты «муфтой». Кстати, «слуги народа» не видели ничего зазорного в эксплуатации наемного труда в виде домработниц. Почему-то у значительной части номенклатуры были нездоровые супруги, и кто-то же должен был при неразвитой сфере централизованных бытовых услуг заниматься этими проблемами на дому… Вольно чувствовали себя в то время мальчишки, не связанные никакими условностями. Босоногие ватаги день и ночь носились по пыльным улицам и заливным лугам, обуваясь только для посещения школы. Это было в городе, а в деревне…
В середине 50-х деревенские бабы, увидев на приехавших студентках спортивные шаровары, бросали работу и поднимали невероятный визг: «Ой, бабоньки, глядите, девки в портках, срамота!» Еще больший переполох вызывало появление загорающих в плавках. Плавки и купальные костюмы шили себе сами. Промышленность такие товары не производила. Одно время стало модным использовать в качестве плавок детские машинной вязки трусики. Девочки перешивали себе разноцветные борцовские трико под купальные костюмы.
Мужские прически того времени подчеркивали мужество и непритязательную простоту. Самыми модными были «полька», «бокс», «полубокс» и «под горшок», когда под машинку выстригались вкруговую волосы чуть выше ушей. У женщин верхом шика считалась «шестимесячная завивка». Женщины стали носить шляпки с вуалью на манер начала века и длинные по локоть сетчатые перчатки. Наиболее смелые использовали губную помаду, тушь для ресниц и делали маникюр. Любой случай использования косметики даже в старших классах школы становился ЧП, зато после просмотра фильма «Тарзан» молодые люди начали отпускать волосы, а девочки, наоборот, стричь косы.
В 1954 году до Б-ска стали доходить слухи о появлении в столичных городах загадочных «стиляг» или «узкобрючников». Центральные газеты и журналы развернули массовый агитационный психоз, изображая стиляг пьяницами, развратниками, насильниками, а там уж недалеко и до предателей Родины. Не повстречав в жизни ни одного «стиляги», люди уже проникались к ним лютой ненавистью. Первым, на кого вылилась эта провинциальная лютость, оказался приехавший на зимние каникулы студент столичного вуза Э. Шишлянников. Одет он был в светлое, чуть ниже колен однобортное полупальто, шапку-боярку и боты с металлическими пряжками спереди, прозванными в народе «прощай молодость». Самыми заметными в его наряде были выпирающий из бортов пальто ярко-оранжевый шарф и узкие брюки. Когда он появлялся на улице, вслед ему катились возмущенные крики: «Стиляга! Мериканец! Боярин! Выродок! Куда смотрит милиция? На Колыму их!»
Мальчишки под одобрительные возгласы родителей бросались в Шишлянникова снежками. Однако молодежи его вид очень понравился, и после отъезда студента спешно началось укорачивание остроплечих двубортных пальто, перешивка пуговиц и переглаживание лацканов, чтобы «открыть» наружу шарфы.
В 1956 году Бежицкий камвольный комбинат заполнил магазины тканью «аргон» зеленого и синего цвета. Тут же многие появились в пошитых из «аргона» зеленых узких брюках. Что до других нарядов, то нашим стилягам было тяжело тягаться со столицей — в магазинах не было импортных вещей, а в столицу просто так не ездили, разве что к родственникам или в командировку. Шили и переделывали то, что было в наличии, и выглядели зачастую довольно нелепо.
Первыми «стиляжничать» начали ребята. Девчонки втянулись в это только через пару лет. Особой гордостью стиляги была прическа: длинные, гладко зачесанные назад волосы, собранные впереди в так называемый «кок». Чем выше и дальше нависал кок надо лбом, тем было престижней, а чтобы держался и не разрушался на ветру, волосы густо смазывали «бриолином». Спали на спине, боясь помять во сне. Такие прически не могли делать в парикмахерских, поэтому стиляги стригли друг друга сами, и некоторые делали это довольно профессионально.
Особо мучились провинциальные стиляги от обуви. В Москве продавались чешские туфли на толстой микропористой подошве, так называемой «каше», а в Б-ске, кроме пресловутых тупоносых лакировок и полуботинок, ничего не было. Обладателям туфель «на каше» жутко завидовали.
Если наши стиляги постепенно приближались к столичным, то девушки заметно отставали. Приезжавшие на каникулы, всего лишь год пожившие в столице, уже носили другие прически, пользовались косметикой, по-другому одевались и даже походкой отличались от оставшихся в провинции подруг!
«Стиляга» — стало выражением нарицательным. Сами же модники называли себя «чуваками» и «чувихами», основные отличия которых были (кроме модной одежды) любовь к джазовой музыке, новым течениям в литературе и искусстве, а также критическое отношение к существующим устоям нашего общества.
Стиляги появились в то время, когда внутренние враги все были уже ликвидированы. Но соцобщество не могло поддерживать своих граждан в должной воинствующей форме против врагов внешних без постоянной борьбы с врагами внутренними. И «стиляги» быстро заполнили этот вакуум. Сколько молодых корреспондентов, поэтов и композиторов сделало себе карьеру на борьбе со «стилягами»! С провинциальной патриотичностью взялись борзописцы за стиляг. Все стенгазеты школ и учебных заведений обязательно разносили кого-нибудь из своих учеников. В районных городах появились витрины «комсомольских прожекторов» с карикатурами и частушечными творениями. На бульваре Гагарина, где совсем недавно была портретная галерея лучших людей города, были расставлены вырезанные из фанеры уродливые фигуры «стиляг» в диких нарядах. Комсомольские патрули и бригадмильцы вылавливали «узкобрючников», пороли им штанины и отрезали «коки».
Но странно, чем активнее велась борьба, тем больше появлялось «стиляг». Вероятно, пришло время, когда люди захотели, наконец, одеваться и жить лучше. Ведь как-никак, а шел уже пятый десяток Великой Октябрьской социалистической революции. Но Б-ск еще долго, по-партизански сопротивлялся этим пережиткам и тяжело привыкал к европейской моде.
Особенно сопротивлялись окраины. Даже в середине семидесятых можно было наблюдать такую картину. Одетый в шорты Э. Гнездовский (известный в городе под кличкой Мэр), шел на пляж по погружавшимся в сон от аванса до получки соловьевским улочкам с мирно грызущими на крылечках семечки хозяевами и детско-куриным криком вокруг. Проходя мимо крылечек, Мэр вежливо здоровался. На крыльце при виде его обнаженных коленок воцарялась настороженная тишина: дети и куры любопытно вытягивали шеи, а взрослые, оставив семечки, с гневом испепеляли взглядами наглеца. Затем с близлежащих крылечек прибегали, поспешая, соседи, и начинался стихийный митинг. Мужики матерно ругались и чесали пудовые кулаки, бабы осеняли себя крестным знамением и посылали вослед «антихристу» и «супостату» проклятия.
Зачем боролись? С чём боролись?
Каток нашего детства
Послевоенные зимы, не в пример теперешним, помнятся снежными и морозными. Снег ложился уже к середине ноября, иногда раньше, и никаких тебе оттепелей. Заносило улицы по самые верхушки заборов. Самыми распространенными коньками после войны были «пролетарки» или «пролетарские». До примитивного простые, они привязывались веревками к обуви. Коньки с ботинками являлись недостижимой мечтой. Да мальчишки особенно и не рвались к ботинкам, так как в валенках было теплей. Веревки на коньках затягивались специальной палочкой. Выглядело неказисто, зато надежно.
После «пролетарок» по популярности стояли «снегурочки» или «снегурки», с загнутыми кверху закругленными носами. Особую зависть вызывали обладатели «хоккеев» или «дутышей», и уж совсем редкостными были «ножи» или беговые.
Особое возбуждение у пацанов вызывало появление на улице редких грузовиков, чадящих газогенераторными установками. Мальчишки цеплялись за борта проволочными крючьями и катили вслед вихляющими шеренгами, ухватившись за хлястики и полы друг друга, рассыпаясь. как горох, от выскочившего из кабины шофера.
Самой популярной игрой был хоккей с мячом или русский хоккей. Целыми днями мастерились клюшки и расчищались площадки. Больше везло зареченским, игравшим на замерзшей Десне. Мальчишки так поднаторели в уличных баталиях, что, когда стали заливать каток и создавать хоккейные команды, проблем с игроками не было. Какие скорость и удаль демонстрировал русский хоккей! Самыми яркими игроками у нас были Иосиф Мочанис, Эдуард Кузерин, Валерий Жуков, Сергей Кухарев, Виктор Соловьев, Анатолий Елисеев.
О канадском хоккее (или хоккее с шайбой) в начале пятидесятых знали только понаслышке, но когда пришла его пора, те же ребята, взяв в руки непривычные клюшки, показывали чудеса. Пока осваивался новый вид, возникало много курьезов. Вратари пытались ловить шайбу двумя руками, бросив клюшку. Особой гордостью являлось сидеть на скамье штрафников — нарушители были в почете и за пределами площадки. Казалось, б-ские хоккеисты достигли верха совершенства, но тут, как ушат холодной воды на головы — приезд команды «Торпедо» из Горького (высшая лига). В ее составе был игрок сборной СССР Солодов. Наши даже забросили, под ликование трибун, шайбу. Но затем все стало на свои места, и шайбы, одна за другой, посыпались в наши ворота. Кончилось тем, что горьковчане стали играть одной пятеркой, а их вратарь, сбросив щитки, оставил пустыми ворота и выкатился на площадку шестым полевым игроком. Конечный счет 27:1 в пользу гостей. И при этом б-цы сражались, как львы. Горьковчане с удивлением взирали на носящихся, как ракеты, наших. Зрители, поначалу болевшие за своих, хохотали затем до слез над обескураженными хозяевами. Центром жизни зимнего города был, несомненно, каток. Каток на стадионе «Динамо» работал регулярно с 17 до 24 часов в любую погоду. Как только из стадионных динамиков начинала играть музыка, к стадиону слетался народ. С 17 до 20 каток отдавался детям. С 8-ми вечера начинали пускать взрослых, но дети не хотели покидать лед, и поставленным на коньки милиционерам стоило большого труда выловить всех шустрых мальчишек. Через полчаса после открытия на катке яблоку негде было упасть. Возрастной состав катающихся был от 14 до 60-ти. Спрессованная масса катающихся непрерывно скользила по часовой стрелке, оставив в центре катка небольшой пятачок, где спасались начинающие. Чем дальше от центра, тем скорости возрастали, а по большому радиусу носились самые быстрые. Репродукторы без конца предупреждали об опасности катания «против течения», так как от столкновений иногда образовывалась куча-мала из десятков людей, многие получали травмы. Увернуться от столкновения в такой массе не было возможности. Наиболее лихие умудрялись в этой гуще ещё и играть в догонялки или устраивали «паровозик: десятка три-четыре становились друг за дружкой, держась за талии, и катили, все ускоряясь, по кругу. На поворотах хвост «паровозика» заносило, сметая зазевавшихся. Тогда к месту инцидента мчались милиционеры, тоже на коньках… Раздевалки стадиона и на треть не могли вместить всех желающих. Большинство добиралось до стадиона уже на коньках, а подростки в основном прыгали через заборы стадиона. Взрослых, как и детей, с трудом удавалось выдворить со льда даже после закрытия стадиона и выключения на катке света. На Новый год в центре катка ставили огромную наряженную елку, а скульптуру футболистов у входа преображали в Деда Мороза. Однажды неожиданно ударила оттепель, Дед Мороз осел, подтаял и уменьшился в размерах настолько, что сзади из него показалась рука одного из футболистов скульптурной группы. Скрежет коньков катающихся был слышен далеко за пределами стадиона. Чтобы разгрузить каток, пробовали заливать льдом дорожки в парке Толстого, но людей, несмотря на тесноту, тянуло на стадион. Тут же под трибунами можно было наточить коньки, «приклеить» их к ботинкам. Под трибуной работал буфет. Сколько радости дарил людям каток, сколько бодрости и здоровья прибавлял он людям!
Милиция нашего детства
В стародавние времена
Архивист В. Кузьменко уверял, что до революции в Б-ске жило двое городовых: один — на вокзале, другой — на базаре. Тот городовой, который дежурил на вокзале, кроме прямых обязанностей, представлял собой в одном лице уголовный розыск, отдел по борьбе с организованной преступностью, отдел по борьбе с хищениями на транспорте, медвытрезвитель и детскую комнату милиции. Другой курировал базар и выполнял одновременно функции санэпидемстанции, комитета по охране природы, вневедомственной охраны, госторгинспекции, налоговой инспекции, ОБХСС, милиции, госавтоинспекции, управлении торговли, а также комиссии по урегулированию трудовых споров. Он указывал места парковки телег, торговли, пробовал на вкус продукты, недоброкачественная продукция тут же опрокидывалась на голову зарвавшегося продавца. Городовых уважали. Завидев ещё за квартал, снимали шапки и раскланивались. Любой случай неповиновения становился историческим событием. На здании теперешнего пассажирского вокзала станции Б-ск-I висит мемориальная доска с надписью «Здесь 18 декабря 1905 года произошло столкновение рабочих-железнодорожников, вылившееся в политическую демонстрацию». Так вот, по словам архивиста, все «волнения» тогда начались с крепкой выпивки железнодорожников, которая в конфликте со здешним жандармом приобрела политический характер, так как после взаимной перебранки закончилась рукоприкладством.
Но это всё — устная летопись легенды. Я той полиции не знал. Я помню только нашу, послевоенную милицию.
Верхом на коне
После войны милиция была малочисленна, да ведь и город был невелик. Для большей мобильности милицию посадили на коней. Конная милиция выезжала на Б-ск-I встречать возвращавшиеся после демобилизации эшелоны. Демобилизованные на радостях крушили пристанционные магазины и киоски, конники бесстрашно отстаивали народное добро. Руководил милицией майор Гуркин. Известная журналистка Татьяна Тэсс, описывая в журнале «Крокодил» один из судебных процессов, по ошибке назвала его Чуркиным. Но пусть это остаётся на её совести. Всю госавтоинспекцию представлял один милиционер по фамилии Иванов. Машин в городе было не более сотни, и надо ж такому случиться: Иванова раздавила машина!
До появления светофоров уличным движением управляли регулировщики. Один из них на самом ответственном перекрестке у ЦУМа не пропускал на площадь Ленина гужевой транспорт. Исключение составляли только возчики «треста очистки», или попросту ассенизаторы. Они ездили всегда обозом из нескольких телег, на которых стояли бочки. Из бочек торчали ведерные черпаки, а над обозом роились мухи. Когда ассенизаторы проезжали мимо регулировщика, тот оторачивался и зажимал нос.
Одним из первых государственных учреждений, вступивших в строй после освобождении от немецко-фашистских захватчиков, была тюрьма. Тюрьма в центре города до сих пор является одной из достопримечательностей города. Для того чтобы не вызывать в обществе отрицательных эмоций, не так давно вокруг тюрьмы возвели высоченный забор и административно-культурные служебные помещения, а на выходящие на улицу и детскую поликлинику окна навесили жалюзи. После войны стена была на треть ниже, на углах стояли сторожевые будки, где дежурили вооруженные стрелки. В народе их звали «мухобоями». Перед тюремной стеной регулярно вскапывалась полоса земли, обнесенная колючей проволокой. Из-за зарешеченных окон тюрьмы выглядывали зэки и бросали завернутые в кусочки материи камушки с записками на волю. Стрелки отгоняли прохожих, не давая подбирать эти записки, но мальчишки нет-нет да и умудрялись незаметно ухватить их. В записках указывался адрес родственников, чаще всего просили прислать передачу с сухарями и табачком. Большинство адресатов было из сельской местности.
Весёлые времена
Сталин когда-то произнес исторические слова: «Жить стало лучше, жизнь стала веселей». Но веселей стало жить, пожалуй, при Хрущёве. Выполняя лозунги партии о слиянии города с деревней, деревни двинулись в более сытые города. Население города росло не по дням, а по часам, и одной из первых селянами осваивалась профессия порядка. Учились профессии по ходу дела. Для поддержания порядка в помощь милиции была создана добровольная народная дружина. В нее записывали добровольно-принудительно, поощряли дополнительными отпусками, учитывали активность в итоговых показателях соцсоревнования.
С начала 60-х годов вином и водкой забили все гастрономы, открыли отделы торговли в розлив. В розлив торговали многочисленные буфеты и лотки. Вино лилось рекой, сосед поил соседа, вытрезвители не справлялись с возросшей нагрузкой. В скверах, дворовых палисадниках и других укромных местах на кустах висели граненые стаканы, предусмотрительно оставленные любителями выпить «на троих». Но и милиция не дремала. В находившемся на месте теперешнего музея «Б-ский лес» летнем кинотеатре парка Толстого за сценой размешалась дежурная комната милиции. Сюда же в парк, а зимой на каток собиралась выяснять отношения молодежь со всех районов города. Милиция со шпаной особо не церемонилась.
«Все сидят»
Центром жизни тогда стали винные отделы гастрономов. Один знакомый, приехав после десятилетнего отсутствия, встретил у гастронома бывшего однокашника и стал расспрашивать о друзьях детства.
— А все сидят! — ответил тот.
— Как сидят?
— А раз к магазину не ходят, значит, сидят!
«Сидели», однако, далеко не все. Сколько было в ту пору преступлений, сколько сидело, каков процент раскрываемости — никто из простых смертных не знал.
Когда говорит, что раньше не грабили и не убивали, не соглашаюсь и привожу собственный пример. Меня ограбили с покушением на убийство в пяти шагах от собственного дома и в сотне шагов от управления внутренних дел. Когда пришел в себя, увидел на свежем снегу следы преступника. Было около двух часов ночи, транспорт уже не ходил, и не надо было быть Пинкертоном, чтобы по свежим следам взять грабителя, тем более, что и подобрал-то меня шедший на дежурство милиционер минут через 10—15 после нападения. Но то ли жалко было будить ночью служебную собаку, то ли милицию, но прибыли стражи порядка на место происшествии только к 9-ти часам утра, когда от улик не осталось и следа. Более того, следователи с неделю отрабатывали версию: не долбанул ли я сам себя металлическим прутом по голове с целью запутать следствие?
Но это были частности. А в общем на улицах пьяные не лежали…
На посту
Даже самые отъявленные пьяницы и хулиганы, завидев грозную двухметровую фигуру милиционера по кличке «Полтора Ивана», переставали качаться, начинали выражать возмущение американским империализмом. В те времена основными охраняемыми милицией объектами были партийные и советские комитеты и «пост №1» у памятника Ленину.
Пост №1 вряд ли нуждался в охране, причиняли ущерб «чугунному» монументу только голуби. Из бытовых объектов особой заботой милиции пользовался обкомовский дом на углу Октябрьской и Горьковской улиц. В этом доме жили «первые» — от Крахмалёва до Войстроченко, а также другие люди, далеко не последние в структуре партийной власти. На Октябрьской улице было совсем перекрыто движение автотранспорта, по улице Горького запретили проезжать грузовикам, а легковухам — с 10 вечера до 7 утра.
Стражей порядка с годами становилось всё больше и больше, а порядка все меньше и меньше. Впрочем, вы и сами это видите, а о том, почему так получается, я, честное слово, ничего сказать не могу.
Музыка нашего детства
Как только отгремела война, в нашу жизнь вошла музыка. Стоило кому-то вынести баян или заиграть радиоле, тут же приходили люди, и начинались танцы. На самодельных эстрадках заезжие артисты исполняли народные куплеты на побежденных фашистов типа:
Капусту с картошкой я очень люблю
Айн, цвай, драй…
У редких счастливчиков сохранились довоенные пластинки и патефоны. Слушать их собирались толпами. Мальчишки пальцем крутили самодельные диски с пластинками. Появились первые отечественные радиоприемники «Балтика» и «Рекорд». Наряду с народной и военной музыкой звучали джазовые композиции, записанные еще в довоенные годы знаменитыми оркестрами Пола Уайтмена, Рэя Нобля, Джека Хилтона, Генри Холла, а также отечественными — Леонида Утесова, Александра Варламова, Виктора Кнушевицкого, песни запрещенных в то время Вертинского и Петра Лещенко.
Говорили, в Б-ске до войны были неплохие музыканты. Существовал даже женский семейный оркестр, игравший в кинотеатре. В нем играли чехи Борины и Стокласки. В пятидесятых годах в кинотеатре «Октябрь» перед сеансами играл небольшой ансамбль, в котором выделялись саксофонист Низяев и ударник Хасин. Особый интерес вызывал у публики Хасин. Он стучал на панцире черепахи, прикрепленном к барабану, или трещал на кастаньетах. Чтобы вытравить даже само понятие джаза, оркестры стали называть эстрадными. Вовсю развернулись глушилки в радиоэфире.
Саксофон объявили «буржуазным инструментом» и не разрешали на нем играть. Зато такие истинно джазовые инструменты, как труба, тромбон, кларнет, считались почему-то «нормальными», а значит, безвредными для. нашего строя. Леонид Утесов вспоминал, что один высокопоставленный вельможа советовал ему распрямить саксофоны, чтобы изгнать из них буржуазную форму…
Когда началась «холодная война», над соцлагерем опустился «железный занавес». Думаю, что определение «железный занавес» не совсем адекватно тому, что происходило на самом деле. Через железный занавес пусть ничего не видно, но хоть что-то слышно. А было-то много хуже: ничего не видно и ничего не слышно. Все, что находилось по ту сторону занавеса, называлось плохим и античеловечным, все, что по эту сторону, — прогрессивным и передовым.
Джаз объявили буржуазной культурой. С выпускаемых пластинок исчезли фокстроты и танго, их заменяли созвучные соцкультуре вальсы, польки, краковяки, па-де-катры. В эфире с утра до ночи звучали частушки и арии из опер и оперетт.
Последним аргументом для защитников джаза был:
— А вы что, против Советской власти?
Крыть было нечем, так как за Советскую власть были все: не только любители джаза, но и партработники, алкоголики, возчики «треста очистки» и даже зэки. Тем более, что в «стране желтого дьявола» царили бесправие, разбой и расовая дискриминация. Исполнявшиеся в то время песни их нравов наводили ужас.
На Бродвее шумном чистил негр ботинки,
И в глазах у негра лишь зрачки блестят.
Он влюбился в ножки тоненькой блондинки —
Машинистки Полли фирмы «Джеймс-Уатт»…
Дальше, естественно, шла крутая развязка с трагическим для негра исходом и душевным криком:
Мы тоже люди,
Мы тоже любим,
Хоть кожа черная у нас.
Но кровь красна!
Песня вызывала справедливое возмущение и желание уничтожить на корню общество насилия и капитала.
Все эти представления были подорваны в 1957 году, когда в Москве прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Поезда с участниками фестиваля шли через Б-ск. Представителей стран соцдемократии пропускали днем, а поезда с «капиталистами» — далеко заполночь. Эти поезда шли по безлюдному пути через Вязьму и прибывали на Белорусский вокзал столицы. По нашему перрону сновали переодетые кэгэбэшники, отнимали сувениры и проспекты, прогоняли от вагонов. Но люди уже поняли: эти «капиталисты» такие же люди, правда, лучше одетые и более свободные. И негры не чистили ботинки, а чувствовали себя очень даже нормально. Музыка с фестиваля прорвалась во все уголки страны.
На этот период приходится расцвет духовой музыки. В каждом районе, на каждом предприятии создали свои духовые оркестры. С появлением в городе А. Шустерова, имевшего диплом военного дирижера, духовые оркестры приобрели еще большую значимость, участвуя во всех мероприятиях. Шустеров обучал и руководил одновременно оркестрами завода «Дормаш», лесохозяйственного института, строительного техникума, дирижировал на танцах в парке. Естественно, руководить сводным оркестром на парадах поручалось тоже Шустерову. Когда он под трубный гром и барабанный бой проносил, чеканя шаг, свою монолитную фигуру, в такт его шагам подпрыгивала кумачовая правительственная трибуна со всеми стоящими на ней партийными и советскими «генералами». Шустеров пытался организовать и эстрадный оркестр в лесохозяйственном институте, но сообразил, что кроме неприятностей, с этого ничего не получишь.
Тем не менее, в лесохозяйственном институте в течение нескольких лет играл наш небольшой ансамбль. Кроме концертов и танцевальных вечеров в своем институте мы много гастролировали по городу и области в составе институтской самодеятельности. Это был разгар борьбы с джазом и, естественно, со «стилягами». Приходилось играть, соблюдая необходимую маскировку. Например, объявлялось, что исполняется пьеса прогрессивного негритянского (упаси Бог сказать — американского!) композитора, отдавшего жизнь в борьбе за классовую справедливость… Или еще что-нибудь в этом роде.
Особый восторг у публики вызывала песня «Стиляга» со словами:
Мы с подружкою видали —
Ходит парень молодой.
Как Наташа, или Галя,
Или Валя завитой.
Яркий галстук, туфли с кашей,
Стильный в клеточку костюм.
И на лбу его высоком
Нет следа высоких дум.
Толпа ликовала (особенно первые ряды) и подпевала в такт, не подозревая, что с этими дурацкими словами в их души проникал вирус, имя которому — джаз.
В то же время организовал небольшой ансамбль Л. Климов. Ансамбль оказался бесхозным, а потому, более смелым в выборе репертуара.
Репетировать было негде. Одно время музицировали под трибуной стадиона «Динамо», в спортзале, на главпочтамте. Наконец, оркестр приютил клуб МВД (ныне клуб им. Дзержинского). Однако и в клубе продержаться долго не удалось. Все кончилось на какой-то партийной конференции работников МВД, где директор попросил повеселить делегатов во время перерыва. Когда вошедшие в фойе партделегаты увидели улыбающуюся во всю площадь большого барабана рожу диснеевского Микки-Мауса и модных молодых ребят вокруг, они стушевались. А первые же синкопированные джазовые аккорды вызвали шок, равный брошенной в толпу противотанковой гранате. Через минуту прибежал лишившийся дара речи директор клуба и выставил музыкантов.
В Бежице организовал джаз-оркестр С. Хаит. Этот оркестр играл во Дворце культуры машиностроителей и клубе «Строитель». В нем выделялись пианист А. Долгинов и саксофонист А. Корб, ставший впоследствии в Ленинграде профессиональным музыкантом. В 1957 году при клубе завода, дормаш организовался эстрадный оркестр под управлением Е. Акуленко, собравший лучших музыкантов со всех районов города.
Заканчивалось время «хрущевской оттепели», которое у нас в провинции вроде бы и не начиналось. В музыке уже ничего не запрещалось, но ничего и не разрешалось. Даже танцевальный репертуар на каких-нибудь танцульках требовалось утверждать в отделах культуры. Вместо слова «фокстрот» или «свинг» следовало писать «быстрый танец», вместо «блюз» — «медленный танец». По радио запели новые соцшлягеры типа: «Здравствуй, земля целинная». В клубе завода «Дормаш» оркестру были созданы более или менее сносные условия, приобретен инструмент. Благодаря директору клуба И. Яшину оркестр получил полную свободу в выборе репертуара. Оркестр имел довольно обширную концертную и танцевальную программы и собирал тысячные аудитории. Клуб заказал оркестрантам одинаковую форму. Даже на танцах музыканты держались солидно. На танцевальные вечера оркестр приходили слушать люди зрелого и даже пожилого возраста. Казалось, что у оркестра хорошие перспективы, но рано или поздно его должны были поставить на место. Чересчур он «вылезал» из общих стандартов. Но об этом — позже.
Скульптура нашего детства
После войны Б-ск, как и многие другие города Союза, в короткий срок уставили гипсовыми скульптурами. Скульптуры стояли в скверах и парках, торчали из кустов и газонов, прививая строителям новой жизни новую культуру. Со временем гипсовые фигуры ветшали, разрушались, мешали прокладке магистралей и строительству. Их переносили на другие места, передавали с баланса на баланс, подмазывали, подклеивали, всячески пытаясь сохранить для потомков. Останки их изредка можно встретить и теперь.
Центральной фигурой в ту пору был «спортсмен с веслом», установленный в центре сквера Карла Маркса на месте теперешнего декоративного фонтана. Гребец стоял в расслабленной позе Аполлона Бельведерского, поигрывая рельефом мышц, крепко сжимая в правой руке деревянное весло. Лик спортсмена был суров и задумчив. Чело омрачали невеселые думы о невозможности спуститься к Десне и применить весло по назначению. Со временем власти пошли бедолаге навстречу, соорудив вокруг фонтан, струи которого обливали его в жаркую погоду.
Зимой рядом с гребцом устанавливали елку, а самого «Аполлона» наряжали в Деда Мороза. В такие дни он выглядел счастливым, гордо держа весло под видом посоха.
Наконец кто-то из ответственных работников догадался о многолетней мечте гребца и дал команду на перенос скульптуры ближе к водной стихии, на территорию водно-спасательной станции в роще Соловьи. Там он и дожил свой век. Напротив, под каштаном, располагалась скульптура дискоболки. Оставалось предполагать: то ли она пыталась привлечь внимание соседа с веслом своими спортивными упражнениями, то ли примерялась, как более метко запустить в него этим самым диском. Со временем диск разрушился. Полинявшая и похудевшая дискоболка стояла, склонившись, в разросшихся кустах, как будто пряталась от посторонних глаз. Последним ее прибежищем стал — она и сейчас там — небольшой палисадник у ворот тюрьмы.
Во дворе клавишной фабрики «Десна» на полутораметровом пьедестале почему-то стояла гипсовая, похожая на ткачиху, муза Евтерна с гипсовой же лирой в руках. Когда фабрика переехала по новому адресу, музу бросили на произвол судьбы. Года два маялась брошенная Евтерна, потеряв лиру вместе с обеими руками. Но однажды ревизия на фабрике обнаружила, что гипсовая муза все еще числится у них на балансе. Была срочно организована экспедиция, и собратья по искусству увезли музу на грузовой машине в свои владения.
«Девочка с гусенком» стояла в парке Толстого на месте теперешнего фонтана с бегемотиком. Ко времени превращения парка в музей деревянных идолов эта скульптурная группа стала звучать диссонансом. На её месте установили красного бегемотика, окруженного металлическими, одному создателю известными, символами птичьего царства. «Девочку с гусенком» перенесли на территорию яслей-сада по улице Октябрьской, а незадачливых родителей бедного гусенка — там было еще три гипсовых гуся, вывезли на свалку. Стоит теперь эта девочка, с повзрослевшим от времени лицом, среди цветника и горестно прижимает к груди бесформенный кусок гипса, бывший когда-то пушистым гусенком…
Драматичной оказалась судьба памятника «отцу всех времен и народов» в парке Толстого (на месте теперешней «Чертовой мельницы»). Когда началась борьба с культом личности, его закрыли фанерным саваном. Традиционно консервативные б-ские руководители продержали его с год под этим колпаком, ожидая, не переменится ли ветер, а затем ликвидировали в одночасье. Теперь место одного дьявола заняли три чёрта. Почти равнозначная замена.
С довоенных времен дошел до нас один бетонный памятник, копия петербургского «Самсона, разрывающего пасть льву». Стоял он на Петровской горе у церкви, позади теперешней гостиницы «Б-ск». Памятник били и ломали все, кому ни лень, но он, хоть и в изуродованном виде, но стоял долгие годы, пока не был вырван с корнем при строительстве гостиницы. Слева от центрального входа в ТЮЗ (бывший Дворец пионеров и школьников) после войны была установлена скульптурная композиция: буревестник революции М. Горький рядом с отцом всемирного пролетариата В. Лениным. Последние годы гипсовую композицию регулярно красят в черный цвет. Под мрамор.
Этот же самый буревестник, но уже белого цвета и без мудрого собеседника, одиноко стоит посреди клумбы перед входом в школу №4, носящую его имя. Вид у него более чем вопросительный и недоумевающий. Как будто он всё время мучается вопросом: кому пришла в голову мысль оторвать от композиции второго участника сюжета.
До наших дней сохранились скульптуры львов у входа в сквер на площади Ленина со стороны Фокинской улицы. Царь зверей уже имеет не такой гордый вид, как прежде, у него оторваны хвост и кусок правой ягодицы. Да и поза поверженного львом кабанчика выглядит теперь не так трагично. По всему видно, что льву с оторванным задом уже не до трапезы. Львица тоже не в лучшем состоянии, но что поделаешь — старость не радость.
Изобиловала гипсовой скульптурой и Бежица: тут и «Девочка с олененком», и «Эстафета», и «Сталевар», и «Ткачиха», и «Олень». Все это сильно украшало, а кое-где и сейчас украшает еще наши улицы. «Время стирает города и цивилизации», — говорится в телерекламе «Инкомбанка». Стирает оно и эту цивилизацию, яркими символами которой была массовая гипсовая скульптура.
Танцы нашего детства
Сороковые годы невозможно себе представить без танцев. Танцевали везде, где только предоставлялась возможность: танцевали во дворах, в парках, в кинотеатрах перед сеансами или просто на улицах, если из какого-нибудь окна играл патефон или аккордеон. Партнеров явно недоставало, поэтому женщины танцевали с женщинами. Но все равно танцевали. Самыми популярными танцами 40-х — 50-х годов были вальсы, танго, фокстроты и блюзы. Чуть позже польки и краковяки окончательно «сошли», а фокстроты и блюзы (по идеологическим соображениям) переименовали в «быстрый» и «медленный» танцы. Должны же мы были отмежеваться от пресловутого Запада! Быстрый танец (фокстрот) танцевался в классической позе парного танца. Два с половиной шага вперед и назад, перемена направления, переходы. Наиболее форсистые пары размахивали сцепленными свободными руками вниз-вверх в такт движения ног, напоминая дровоколов. Особым шиком было пройтись линдой — мелкими шажками. В медленном танце (блюзе) партнер мог брать партнершу за талию обеими руками. Со стороны это выглядело интимно и не приветствовалось массами. Вообще парные танцы по-своему воспитывали рыцарское отношение к женщине. Многие из девушек тех лет и теперь вспоминают, с каким трепетом ожидали приглашения на танец. С каким волнением она проходила на середину зала, ведомая партнером под руку. Какие радостные минуты дарил танец! Разве это теперь объяснишь молодым, привыкшим к общей куче-мале? Самым популярным в те времена был Дом офицеров, клуб промкооперации, а летом, конечно же, парк. В Дом офицеров старались попасть более взрослые девушки — выйти замуж за офицера было мечтой многих. Гражданские профессии были тогда малооплачиваемы и непрестижны. В клуб промкооперации ходили те, кто помоложе, там игрались более современные мелодии и разрешались относительные вольности. Билеты раскупались задолго до начало танцев, а в вестибюлях и на улицах толпилось народу во много раз больше, чем счастливчиков, попавших внутрь. В залах яблоку негде было упасть. Особенно модными были новогодние бал-маскарады. Молодежь шила себе карнавальные костюмы из подручных материалов. Самые интересные балы были в лесохозяйственном институте. Затем, после клубных балов, самые лучшие костюмы приглашались на общегородской бал. Жили тогда кучно, в основном, в коммуналках. Отдельные квартиры были редкостью. Телевизоры еще не держали людей в квартирах. Каждый вечер все население города высыпало на улицы, особенно в летние месяцы. Молодежь гуляла по так называемому «Бродвею» («Броду», «кругу»). Старики рассаживались на многочисленных скамейках. «Круг» проходил мимо технологического института, областной библиотеки, кинотеатра «Октябрь», площади Ленина. Плотная вереница людей двигалась и в том, и в другом направлениях. Гулянье продолжалось непрерывно с 7 — 8 часов вечера до 12 ночи. Из теперешней дали даже непонятно, что тянуло людей на это бесконечное гулянье по кругу. А ведь здесь знакомились, влюблялись, страдали и ревновали, выясняли отношения, обсуждали книги и кинокартины, спорили о спорте, делились впечатлениями, обсуждали внутренние и внешние проблемы, мирились и ссорились. И даже женившись, продолжали выходить на «круг»… Более взрослая, самостоятельная молодежь шла в парк на танцы. Вход в парк был платный, и посещать его, при всеобщей бедности, было далеко не всем по карману. Тем более танцплощадку, где брали отдельную плату за вход. Это теперь для выявления «королевы красоты» необходимо проводить специальные конкурсы с узким кругом отобранных претенденток и жюри. В прошлом, когда жизнь проходила на улицах, в этих негласных конкурсах участвовали буквально все. И все являлись не только участниками, но и членами жюри. Самыми красивыми женщинами города, по общему мнению, тогда были Виктория Красикова, Софья Каплан и чуть позже Нелли Жаринова. Но «королевой», несомненно, на протяжении добрых двух десятков лет была все-таки Виктория Красикова. На танцах обязательно присутствовал «массовик-затейник», объявлявший танцы, дававший команды на «два притопа — три прихлопа» или смену партнеров в общем танце. После фильма «Мост Ватерлоо» стало модным танцевать вальс-бостон на конкурс. Конкурсный танец объявлялся один раз за вечер, и неизменными победителями становились Аза Кузина и И. Ульяницкий. Когда они выходили на середину зала, все бросали танцевать — настолько велико было их превосходство.
Лучшим массовиком считался Иван Прокошин, которого пытались перетянуть к себе все клубы, устраивавшие танцевальные вечера. Прокошин, кроме объявления танцев, заполнял паузы репризами типа детской игры «угадай-ка» и репертуаром комсомольских затейников. Он так преуспел в этом, что был приглашен в один из южных санаториев. На городских вечерах после его ухода стало много свободней и раскованней.
Посещал танцы и дурачок Эдик. Эдик не танцевал, а поднимался на эстраду к оркестру и просил трубачей «дунуть в ухо». Трубачи приставляли Эдику трубы к ушам и дули фортиссимо «ля» третьей октавы. Любой человек после такой процедуры сошел бы с ума, а Эдик с просветленным взором удалялся…
Такие танцы, как «буги-вуги», «чарльстон», «мамбо», «рок энд ролл», популярные в шестидесятых годах, обошли наши танцплощадки стороной. Их просто не разрешали танцевать. Танцевали их только в узком кругу у кого-нибудь на квартире. В начале семидесятых модными стали «липси», «летка-енка» и «трясучка». «Трясучку» исполняли, уже отказавшись от заповедей парного танца. Участники просто стояли рядом, взявшись за руки, и тряслись в такт музыке. Позже наступила эра «твиста».
Постепенно танцы переместились с танцевальных площадок в рестораны. Первоначально в ресторанах не танцевали. Туда приходили провести вечер солидные люди, а женщины в ресторане были редкостью. Музыку там просто слушали, как на концертах. Да и ресторан поначалу имелся на весь город один, и тот не очень вместительный.
По мере того, как молодежь стала заполнять рестораны, туда перемещались и танцы. Кончилось тем, что танцплощадки в парках опустели и были ликвидированы. В клубах прекратились танцевальные вечера, а танцы в ресторанах потеряли свое первоначальное значение и стали средством выхода энергии и винных паров. Другое наступило время…
Футбол нашего детства
…Город — в руинах. Наши родители после работы растаскивают развалины, очищают площадки. Мы помогаем им. У теперешней северной трибуны стадиона «Динамо» стоят орудия, неубранные еще после победного салюта, а на поле стадиона устанавливают футбольные ворота. Трибун нет, только два ряда деревянных скамеек вдоль поля, но на них еще задолго до начала матча полно болельщиков. И… мальчишки, мальчишки вокруг поля, на деревьях, на заборах и особенно за воротами — мальчишки, дерущиеся за счастье подержать настоящий футбольный мяч. Сколько же их было! Казалось, в городе были одни мальчишки. Девчонок или не было вовсе, или их просто не замечали. Обучение в школах велось раздельно. Если школы находились в смежных зданиях, то отделялись глухими заборами. У мальчишек — своя среда, своя компания, а где мальчишки — там соревнования, там игры от зари до зари. Играли во все: на деньги, на пуговицы, на перышки, играли в лапту, в клец, в городки, в чехарду, в «жостку», в догонялки, в салочки. Но все эти игры моментально забывались, если кто-то выносил на улицу мяч. В городе в ту пору было всего несколько мощенных булыжником улиц: Ленина (ныне Фокина), Советская, III Интернационала (ныне Калинина), Красноармейская. А все остальное — овраги, поляны, дворы и пыльные улицы — принадлежало пацанам. В футбол играли все. Кто не играл в футбол, был презираем. Самым большим авторитетом считался искусный футболист. Обычно команды составлялись по следующему принципу: самые сильные и ловкие играли в нападении, похуже — в полузащите, неуклюжие и слабаки — в защите, а уж в воротах не хотел стоять никто, все хотели забивать голы. Мяч являлся вожделенной мечтой каждой улицы, но они имелись только у редких счастливчиков. Играли босиком. Мячи шили из старых чулок, набивая их тряпками и ватой и придавая им шарообразную форму. Штопали каждые полчаса. Лучшим вариантом считалась покрышка, набитая тряпками, травой или соломой. Такой мяч, особенно намокший, отбивал ноги, но приходилось терпеть. Бумажные репродукторы доносили в неповторимых репортажах Вадима Синявского фантастический футбол в исполнении легендарных Боброва, Федотова, Семичастного, Бескова, Хомича и других московских звезд. Но это происходило где-то далеко, в Москве, загадочной Москве, где жил сам Сталин и все вожди. У нас были свои футбольные кумиры, которые штурмовали ворота и забивали неповторимые мячи. Вокруг поля стоял невообразимый свист и крики: «бобры», «сапожники». Звучали незнакомые иностранные слова «бек», «хавбек», «инсайд», «голкипер», «аут», «офсайд», «пенальти», «корнер» и легендарные рассказы о довоенном футболе. Сразу после войны в Б-ске играло несколько команд: «Дом офицеров», «Динамо», «Дормаш», «Спартак», в Бежице — «Дзержинец». В то время все болели в основном за армию, а значит, за «Дом офицеров» и «Динамо», болели за рабочих, а значит, за «Дормаш». Естественно, все лучшие игроки были собраны в этих командах. За «Спартак» болело мало народа, да и то «втихаря». Спартаковцев называли кооператорами, торговцами из-за принадлежности общества к промкооперации. Это было в ту пору непрестижно. Из послевоенного «Спартака» запомнился лишь правый крайний Зубарев. Он был без руки — инвалид войны. Высокий, статный Зубарев не страшился идти на обводку сразу нескольких защитников, вдохновляя всю команду. В «Доме офицеров» выделялся Юрий Елагин. Вел игру тонко и умно: вроде и не бегал особо, и бил не сильно, но много забивал. «Дормаш» был истинно рабочей командой. Футболисты приходили на игру прямо со смены, сбрасывали за воротами «робы», надевали футболки. Никаких тренерских установок, никаких тренировок и сборов. Девиз: «Вышел на поле — играй!» И как играли! С азартом, по-мужски: на поле не падали, не симулировали травмы. Забив мяч, не кувыркались и не прыгали козлами, не крестились и не вздымали руки к небу, не обнимались и не устраивали кучу-малу. Это было не принято. Ведь в футбол для того и играют, чтобы забивать — чего ж тут прыгать? В центре защиты «Дормаша» играл Андреев по кличке Кочерга. Старые болельщики говорили, что он бил дальше и выше всех, но после войны Андреев был уже в возрасте и заметно проигрывал в скорости. Основные же звезды играли за «Динамо». Борис Смирнов — вратарь, высокий, атлетичный блондин. Глядя на его игру, все мальчишки хотели стать вратарями, ему подражали, и даже кепки, стоя в воротах, сдвигали на глаза «как Смирнов». В то время вратари играли в кепках. Михаил Титивкин — неистовый центральный защитник. Тогда еще команды играли по системе «дубль-В» с одним центральным защитником, и Титивкин бесстрашно сражался с пятеркой нападающих противника, не щадя ни своих, ни чужих, если возникала опасность на его штрафной площадке. Центральный нападающий Константин Шипилов бегал, немного сутулясь, и раз за разом таранил, таранил защиту противника. Шипилов выходил на поле с наколенником на левой ноге. Про этот наколенник среди ребят ходили легенды. Говорили, что у Шипилова с левой ноги «смертельный удар», и он однажды убил вратаря. Задолго до Лобановского он закручивал мячи с углового, а как-то даже забил таким ударом гол. Когда же Константин надевал свою гимнастерку, всю в орденах и медалях (он был герой-малоземелец), восторгу, мальчишек не было предела. Высокий, легкий инсайд — Шишенин вдвоем с Шипиловым проходили любую защиту. Их и называли вместе: «Шишенин с Шипиловым» или «Шипилов с Шишениным». Невысокий, коренастый полузащитник Иосиф Мочанис (Зюня) был фанатиком футбола. Казалось, не было у него ни семьи, ни детей. Он проводил на стадионе с мячом все время, и если партнеры уходили со стадиона, то брал пацанов и тренировался, тренировался… Когда окончил играть, стал тренировать мальчишек. Не одно поколение городских футболистов прошло через его руки, его школу. Однажды, не поладив с руководством «Динамо», Мочанис ушел в «Спартак», и уже в следующем сезоне мальчишки «Спартака» изрядно попортили нервы фаворитам. В районе теперешней городской телефонной станции на Чермете был лагерь немецких военнопленных. Там тоже играли в футбол. Через колючую проволоку мы смотрели эти игры. Особенно нам нравилось, что за пять минут до окончания игры бил колокол. Все были уверены, что наши играют лучше, и ждали игры с немцами. Даже, по слухам, и назначались даты матча, но он так и не состоялся. Зато соперничество с соседями, бежицким «Дзержинцем», носило престижный характер. Бежицкие приезжали на грузовиках. Игры проходили с переменным успехом до тех пор, пока в Бежице не появилась команда «Звезда». В ней собрали лучших армейских футболистов, справиться с которыми даже сборной Б-ска было не под силу. Каждый год на улицах и во дворах, как грибы после дождя, появлялись молодые футболисты и пополняли местные команды. Помню, в перерыве между таймами матча «Динамо» — «Дзержинец», когда динамовцы никак не могли распечатать ворота соперников, кто-то из игроков «Дзержинца» съехидничал по этому поводу. — Ну, держитесь, мужики, — ответил им Константин Шипилов, — мы во втором тайме вам «жука» подкинем — почухаетесь!
И вот у «Динамо» на поле появился светловолосый мальчишка Валерий Жуков. За каких-то пятнадцать минут новичок растерзал опытную защиту бежичан. С этой игры пошла слава «Жука», как его любовно называли болельщики. Маленького роста, крепкий, верткий, Жуков изменил почерк игры прежде тяжеловесного «Динамо». Почти одновременно с ним появился в «Динамо» еще один мальчишка — Эдуард Кузерин. Он пришел — и сразу стал ведущим футболистом, несмотря на возраст. Это был местный Эдуард Стрельцов. В семнадцать лет его взяли в бежицкую «Звезду», где играли такие мастера, как Белоусов, Карутин, Лапин. На взгляд многих старых болельщиков, игрока такого таланта у нас больше не появилось. Эдуард редко уходил с поля без забитого мяча. Со стороны казалось, что ему просто везло. Вот он коряво зацепил мяч почти от центра поля, и завороженный вратарь стоит и смотрит, как мяч вкатывается в его ворота. Но в том-то и дело, что это был мастер. Эдуард обладал редчайшим талантом! Жаль, конечно, что в то время не было у провинциального футбола выхода на союзную орбиту. На каждой улице тогда имелась одна или две детские команды, в зависимости от величины улицы. Игры между уличными командами велись по договору: заранее обговаривалось количество игроков, длительность таймов или максимальный счет. К этим играм готовились особо и сражались насмерть, часто такие игры кончались общими потасовками — никто не хотел уступать! На каждой улице были свои лидеры. На Васильевской — Сергей Кухарев, на Советской — Эдуард Кузерин, на Ленинской — Виктор Кузин, на Калининской — Аркадий Басин. Когда в начале 50-х решили провести организованное первенство города среди уличных команд на стадионе «Динамо», город стал напоминать разворошенный муравейник. Игры уличных команд судили футболисты основного состава «Динамо». Заявок подали много больше, чем определял регламент. Естественно, отобрать команду «Советских» (по названию улицы) взялся сам Эдуард Кузерин. Около сотни мальчишек с Советской, Ленинской, Васильевской улиц на конкурсной основе надеялись попасть в команду под названием «Непобедимые». Те, кого отобрал Кузерин, были счастливы, многие, не попавшие в команду, утирали слезы. Но так как игроков набралось на два состава, решили играть двумя составами. Второй состав назвали «Звездочкой»… …Сколько лет прошло, но я не перестал любить футбол. Хожу на игры «Динамо», однако, глядя наших профессионалов — сосредоточенных, мрачных, я почему-то все чаще вспоминаю то послевоенное время и тот необыкновенный любительский футбол — бесшабашный, радостный, азартный, любимый футбол моего детства.
Дорогие мои учителя
О ректоре, не отчислившем ни одного студента
Свои воспоминания о преподавателях послевоенных лет славного Б-ского лесохозяйственного института (ныне БТИ) хочу начать с Григория Никитича Моисеева. Одних запоминаешь по имени-отчеству, других — по фамилии, но хоть убей, не можешь вспомнить имени. А есть люди, которые запоминаются полностью, и уже нельзя отделить или отбросить что-то: они звучат только полностью, в полном наборе. Почему так, объяснить не берусь.
Такой незабываемой личностью был директор лесохозяйственного института Григорий Никитич Моисеев — «отец родной», как называли его студенты. Что верно, то верно: был он студентам и родным отцом, и старшим товарищем, и добрым другом. Послевоенные студенты-фронтовики, жившие на одну стипендию, запросто одалживали у него деньги, а некоторые даже столовались или чаёвничали за его щедрым столом. Невысокого роста, с приветливой улыбкой на полноватом лице и вечной хитринкой в голубоватых мальчишеских глазах, он, особенно в старости, ходил, не расставаясь со своей супругой.
— Она у меня геройская женщина, — с гордостью говорил Григорий Никитич, указывая на жену. — Когда я в леспромхозе работал, бывало, снег, мороз, рабочие лес грузить по ночам отказывались после дня работы. Так она первая лезет громадные бревна ворочать. А нам уже стыдно отставать — и мы за ней!
Незадолго до кончины Моисеев вспоминал: — Я ни одного студента в жизни не исключил из института. Бывало, осудят, а я подожду, пока официальная бумага не придет. А вдруг ошибка? Выпустят человека, а я его уже исключил?!
Не каждый знает, сколько Григорий Никитич потратил сил и скольким студентам он помог. Учился после войны в институте И. Смольянинов. Отец его был репрессирован в 1937 году, сам он с 14 лет был на фронте, пришел раненым, на руках мать-инвалид и младшая сестренка. Григорий Никитич устроил его кочегаром в котельную, а затем диктором на радио. И. Смольянинов окончил институт, защитил диссертацию. А еще был студент Майоров, который осмелился в то время доказывать, что колхозы ведут к полному разорению крестьян. Естественно, Майоров попал под колпак КГБ. Сколько потребовалось Григорию Никитичу сил, чтобы отстоять студента!
Несмотря на возраст и положение, Григорий Никитич сохранял какую-то детскую непосредственность и озорство. Работал в институте преподаватель С. Маевский. Григорий Никитич каждое утро по пути на работу заходил в подъезд к Маевскому, звонил в квартиру и, как мальчишка, прятался.
Представьте себе, каково же было состояние Маевского, когда однажды, желая проучить проказника, он выскочил из квартиры на очередной звонок и схватил за ворот… своего же ректора!
Григорий Никитич прекрасно разбирался в людях. Студент Иван Хрысков, комсорг института, по любому поводу и без повода лез на трибуну, лишь бы она стояла, эта трибуна, и рядом сидел президиум. Григорий Никитич, помнится, после очередного выброса с трибуны Хрысковым обычных дежурных лозунгов доверительно делился с нами:
— Вот видите, Хрысков без голоса, а петь рвется. Если его петь научить — далеко пойдет! Как в воду глядел Григорий Никитич: Иван Хрысков после окончания института далеко пошел — инструктором ЦК комсомола стал и даже советником ООН. Григорий Никитич никогда не юлил. Говорил в глаза. Всё, что думал. Меня он называл не иначе как «капельдудка» — за то, что я играл на кларнете. Помню, он знакомил с институтом назначенного на должность заведующего спецкафедрой генерала Сандалова. Я не успел вовремя ретироваться и попался на глаза Григорию Никитичу, когда они с генералом «инспектировали» туалет.
— Стой, капельдудка! — закричал Григорий Никитич и, обращаясь к генералу: — Во, смотри, какие у меня тут засранцы учатся!
И расхохотался, повергнув старого служаку в полное недоумение!
На экзаменах Моисеев запускал сразу всю группу или даже поток студентов. Придирчиво высматривал самую ядреную девицу и спрашивал: — А ты, красавица, замужем? — Нет. Брежневские брови Григория Никитича возмущенно взлетали к мужской половине аудитории: — А вы куда смотрите, женихи, тоже мне! Куда ваши глаза только глядят? Ну, давай, красавица, зачетку. И он ставил изумленной красавице «отлично». Всем остальным даже за отметку «удовлетворительно» нужно было еще попотеть.
В то время в институте бурлила жизнь. В спортзале переполненные секции боролись за каждую лишнюю минуту занятий, репетировали кружки самодеятельности, вечерами «крутили» фильмы или давали концерты, дважды в неделю проводились танцевальные вечера, выпускались стенгазеты, световые и звуковые радиогазеты.
Мы даже не предполагали, что во всей этой веселой студенческой жизни основная роль принадлежит нашему Григорию Никитичу. Это мы узнали только в 1958 году, когда Моисеева сняли с работы, а ректором назначили В. Панфилова. Вся общественная жизнь мгновенно как бы ушла в подполье. Мы не знали причин, по которым произошла смена ректора, и могли только догадываться, какому нажиму подвергался ректор со стороны институтской парторганизации и основной воспитательницы коммунистической идеологии — кафедры марксизма-ленинизма. Как-то Григорий Никитич сказал нам: — А у нас на кафедре марксизма-ленинизма половина раненых в ногу, половина в голову. Очень образно, если иметь в виду, что там действительно работали трое преподавателей-инвалидов войны, а остальные — бывшие партийные и советские работники.
Мне рассказывали, что на одном из обкомовских пленумов, в перерыве, увидев сходящего с трибуны второго секретаря обкома, Григорий Никитич довольно громко сказал: — Велика фигура — да дура! Тот поворотил в его сторону голову. Сидевшие вокруг заслуженные партийцы в страхе бросились укрываться за спинки кресел, вызвав гомерический смех Григория Никитича.
Океаныч
Одной из самых оригинальных личностей в 50-е годы слыл лаборант кафедры физики и механики БТИ Океанов, или, как его называли студенты, Океаныч. Океаныч имел атлетическое сложение, сократовских размеров лысый череп и длинный тонкий нос между лохматых бровей. Вид его был величав, но глаза выдавали скромность души. Океаныч нигде не расставался с потертым портфелем, в котором, по слухам, хранилась его, пока не оценённая, диссертация. В диссертации была разработана какая-то новая квантовая теория, опубликование которой поставило бы вверх ногами все основы физики. Как-то, будучи на практике, студенты выкрали загадочный портфель у спящего Океаныча. В портфеле покоилась смена белья, четыре бутылки из-под кефира и две папки, набитые вырезками из технических журналов. Утром Океаныч перевернул все общежитие и выглядел самым несчастным учёным на белом свете. Успокоился он, только убедившись в полной сохранности содержимого портфеля. Когда мы восторгались сложностью электрических схем, собранных им для лабораторных работ, Океаныч довольно улыбался и говорил, что собирает их с закрытыми глазами. Каково же бывало его отчаяние, когда студенты специально путали клеммы на схемах.
Розовский
Розовский вел курс сопротивления материалов. Лекции его слушались с большим интересом, так как он пересыпал скучные формулы анекдотами и каламбурами. Он был большой знаток основ религии и очень оригинально трактовал догмы Ветхого завета. Особенно удавались ему рассказы о первородном грехе. Его страстью было выследить пользующегося шпаргалкой студента. Однажды он подкрался к поглощённому списыванием недотепе и, нырнув под стол, выхватил оттуда учебник. Когда он с учебником в руках выпрямился, то ударился головой о раскрытую форточку. Удар был так силен, что свалил его с ног. — Кто меня ударил больно по голове… сзади? — спрашивал он, сидя на полу и держа двумя руками на глазах растущую шишку. Бросил он нас неожиданно, так и не дочитав курса. А дело было так. Низко над городом пролетел диковинный в то время аппарат — вертолёт. Студенты бросились к окнам и даже закричали «ура». Когда вертолет улетел, а возбужденные студенты заняли свои места, Розовского на кафедре не оказалось. Не нашли его ни в деканате, ни вообще в институте. Его обнаружили дома, но он наотрез отказался продолжать у нас лекции, заявив, что, если его предмет неинтересней вертолета, ему нам сказать больше нечего.
Капель
Александр Давыдович Шустеров не был преподавателем института, он был просто руководителем институтского духового оркестра. Труд его был поистине титаническим, потому что в духовой оркестр, как правило, почему-то записывались лишенные слуха и музыкальных способностей студенты. И Капелю, как называли Шустерова, нужно было в максимально короткий срок научить их не только извлекать звуки, но и исполнять гимн Советского Союза и пару маршей для демонстраций. Лучше же всего музыканты осваивали похоронные марши и подрабатывали на «жмурах». Вероятно, поэтому на двери помещения духового оркестра какой-то остряк написал: «Похоронное бюро «Добро пожаловать». Духовой оркестр репетировал в котельной института. От нестройного напора духовых инструментов осыпалась с потолка штукатурка и срывалось пламя на газовых горелках котлов. Монументальная фигура Капеля выражала непримиримую решительность добиться стройности звучания. Он утирал огромным, как простыня, платком лысину. — Ой, мама, роди меня обратно! — обессиленно вздыхал Капель, грустно глядя на облезлые раструбы инструментов и представляя, какой позор падёт на его голову, если оркестранты собьются перед «правительственной трибуной» на параде. Капель клал на пюпитр галошу и грозился запустить ею в этот «жопкин хор», как он в сердцах называл оркестр. — Куда ты смотришь? — обращался он к тенору, — смотри на меня! Я тебе дирижер или дирижобель? — Гарик, — кричал он альтисту, — ты можешь сыграть ис-тат-та-та? — А я так и играю! — Нет, ты играешь ис-тат-ти-ти! — Нет, ис-тат-та-та. — Филон! — Капель поднимал над головой галошу. Присутствовать на репетициях Капеля было одно удовольствие. — Вы понимаете, что такое тутти? ТУТТИ — это со всей мочи дути! — объяснял он оркестрантам. — Да не «доселева» играем, а «до сенио!» И не «отселева» а «от сенио». Сенио, болваны! — Я сказал играть «от фонаря», а не «до фонаря!» От сенио до сенио и от фонаря на птичку — и на коду! А вы мне играете отселева доселева и не от фонаря, а до лампочки! Худо-бедно Капель доводил духовиков до нужной кондиции, и те браво исполняли марши на парадах. Последние годы Шустеров преподавал в музучилище. Он поименно помнил своих первых учеников, начисто лишенных музыкальных способностей, но горящих страстным желанием шагать впереди колонн.
Муза
В перерывах между лекциями или по их окончании мужская половина студентов старалась побыстрее выскользнуть из аудитории и занять места вдоль лестничной клетки. Директор института, не понимая этой коллективной страсти, многократно спрашивал, чем это лестница так притягивает их. Студенты опускали глаза, отшучивались или молчали. Хитрый Григорий Никитич как-то раз, как бы случайно, тоже задержался на лестнице, заняв место среди студентов. Вдруг сверху по рядам пошло какое-то напряжение. По лестнице, просвечиваемая насквозь через шелковое платьице лучами солнца, бьющими из окон, спускалась Муза. Григорий Никитич открыл рот и вместе со студентами минуту стоял, очарованный этой прелестью, а затем со свойственной ему прямотой заявил: — Ну, ты мне всех студентов соблазнишь! Муза Филипповна Прожеева, преподаватель кафедры иняза, была ненамного старше студентов. Смуглая, стройненькая, с мушкой-родинкой над верхней губой, она выделялась среди окружающих не только красотой, но и какой-то оригинальностью, нестандартностью. Поговаривали, что она не то болгарка, не то гречанка. Влюблены в неё были, если не все, так точно добрая половина студентов. Помню, как все переживали, когда она вышла замуж, и хотели видеть её мужа — это должен был быть принц. Оказалось — обычный человек. Муза и теперь еще встречается мне на улице: она, как прежде, хороша…
Таисия Семёновна
Таисия Семеновна Иванова, зав. кафедрой физвоспитания института, в то время совсем недавно преодолела студенческий возраст. Она была из тех немногих женщин, чье имя было на слуху у горожан. Она была исключительно красива. Она была ещё и спортсменка, а спортсмены в 50-е годы пользовались особым уважением и славой. При Таисии Семеновне маленький спортзал института был переполнен. Главной задачей было выкроить время, чтобы его хватило для занятий всем желающим. В институте при ней были сильнейшие в области баскетболистки, гимнасты, легкоатлеты. Казалось, Таисия Семеновна не уходила домой из спортзала, заражая всех своим энтузиазмом и ослепительной белозубой улыбкой. Встретил её недавно, такую же стройненькую, подтянутую, как и 30 лет назад, она спешила на занятия оздоровительной секции в областную больницу. До сих пор предана своему делу.
А спутник совершает обилие поворотов…
М. М. Добровольский, зав. кафедрой механики, полный, интеллигентного вида учёный, вёл курс «Теория машин и механизмов». Он был увлечен этой теорией. Рассказывал о её законах и премудростях так, как будто пел под балконом у любимой. Одним из его приёмов привлечения внимания был удар с разбега полутораметровой металлической линейкой по доске с возгласом: — А теперь проводим параллельную линию! Иногда линейка стреляла с силой противотанковой гранаты, напрочь отбивая желание дремать во время посвящения в таинства теории машин и механизмов. Как большинство ученых мужей, Добровольский обладал множеством странностей. Он мог, встретив в коридоре студента, остановить его и авторитетно заявить: — А вот я в ваши годы, молодой человек, прыгал выше всех и всегда забивал мяч головой! Когда к нему на кафедру студенты отправили делегацию с целью упросить его уменьшить объем курсовой работы, он удивленно выслушал их и заявил, как бы разговаривая сам с собой: — А какое совершает обилие поворотов спутник вокруг земли? Одним из первых в Брянске он купил мотороллер «Тула». Душа экспериментатора взяла в нем верх над автолюбителем, и он, взгромоздившись на чемоданоподобный мотороллер и посадив сзади себя еще полутораметрового полуглухого деда Кирилленко, преподавателя технологии металлов, стал описывать во дворе института восьмерки, объясняя действия центробежной и центростремительной сил. Пока до Кирилленко дошло, как действуют эти силы, и в какую сторону надо наклонять тело, преодолевая их, Добровольский на крутом вираже выкинул старика в клумбу. Целый семестр тот провел в гипсе…
Последний из…
Обрамленное элегантной бородкой лицо, костюм-тройка, обязательная трость в руке и чистые-чистые глаза. Таким встает в памяти Алексей Владимирович Федосов, преподаватель кафедры энтомологии Б-ского лесохозяйственного института. Он носил бородку «под Тимирязева» и имел вид тех интеллигентов-профессоров дореволюционной России, которых в течение семидесяти лет упорно вычищали из нашего общества. Я не учился у Федосова, но он был такой заметной фигурой в институте и городе, что не вспомнить о нем нельзя. Эрудит не только в своей непосредственной профессии, но и в знании иностранных языков, спорте, искусстве, музыке, собаководстве и т. д. Он прекрасно знал и любил симфоническую музыку. Послушав однажды, как я глиссирую звук на кларнете, он возмущенно заметил, что кларнет — это благородный инструмент, и за «такие петухи» раньше гнали из оркестра. Болельщик он был авторитетнейший и не пропускал ни единого матча, за что удостаивался права первого удара по мячу во время открытия футбольных сезонов в Б-ске. В конце жизни Федосова уже доводили под руку до центра поля и даже ловили после ритуального удара, но он до последних дней никому не уступал права открыть футбольный сезон. Федосов вел в «Б-ском рабочем» рубрику «Заметки фенолога», ежегодно с восторгом под неизменным заголовком «Грачи прилетели» сообщал читателям о наступлении весны. Особенно авторитетен был Федосов в роли главного судьи на выставках собаководства. Когда он разбирал преимущества и недостатки конституции и экстерьера конкурсантов, можно было подумать, что находишься не на выставке собак, а на конкурсе красоты.
А вы кто такой?
Мои одноклассники при встречах одним из первых вспоминают Якова Павловича Беккера, преподавателя английского языка. Невысокий, лысеющий, с одутловатым лицом и какой-то испуганной улыбкой. По-русски он говорил с заметным акцентом. Ходили слухи, что он окончил то ли Кембридж, то ли Оксфорд. Выведать, как он попал в Б-ск, нам так и не удалось.
— Яков Павлович, — провоцировали мы, — расскажите, как в Америке живут? Он в явном замешательстве отворачивался от аудитории, а затем, с видимым раздражением, часто-часто моргая, говорил: — А ви кто такой? Ви что, много знаете, да? Ви ничего не знаете! Я дам вам сейчас транскрибировать 20—15 слов, и ви увидите, что ничего не знаете… Иногда, в минуты лирического настроя, он вспоминал о своих студенческих годах: — Я открываю свой старый учебник, а там между страниц волос. Вот я как учился! Возьму голову в руки и учу так, что волосы падают на страницы. А ви ничего не знаете, ви сплошной лодырь, да… Обычно, слушая ответы студентов или собеседников, он повторял, закрыв глаза, «да… да… да». Мы любили его подловить на этом «да… да» — Яков Павлович, — обращались после «колхозного семестра», — а ведь правда в колхозах у нас плохо живут? — Да-да… — Ни радио, ни света нет, и на трудодни ничего не получают… — Да… да… — Даже помыться негде — нет бани. — Да… да… — Яков Павлович, а лучше бы этих колхозов вообще не было! — Да… да… — и вдруг глаза его вылезают из орбит. — Ой, нет! Ви что говорите? Ви думаете своей головой, что говорите! И он быстренько ретировался. Основным его аргументом при ответах на какие-нибудь требования с нашей стороны или вопросы, на его взгляд, превышающие наши полномочия, была фраза: — А ви кто такой? Ви что, директор, да? В особое раздражение приводило его наше произношение английских слов, хотя русский в его интерпретации звучал, думаю, не лучше нашего английского. Особо он коверкал наши фамилии. Когда он доходил до моей, то всегда удивленно смотрел в журнал, затем на меня и, подняв на лоб очки, удивленно произносил: — Ные… ные… ные… помнясчи. Ныепомнясчи? Когда он доходил до фамилии Шугар, каждый урок повторялась одна и та же сцена. — Шюга? — Я, — отвечал Шугар. — Ви Шюга? А знаете, что такое «шюга» по-английски? Мы хором отвечали «нет». — Шюга — это сахар… — говорил Яков Павлович и, как ребенок, радовался своему открытию. Помнится, сдавая экзамен, я при переводе текста обнаружил, что в словаре отсутствует целая страница с нужным мне словом. Я перевел текст без этого слова, но Яков Павлович захотел, чтобы я перевел именно его. Но как я его мог перевести, если в словаре не было целой страницы? Я покопался для вида в словаре и заявил, что такого слова нет. Яков Павлович заморгал глазами и ухватился за голову. — С тех пор, как существует язык Шекспира и Байрона, это слово было, есть и будет! Взяв у меня словарь, он к своему ужасу обнаружил, что не только слова, но и такой буквы в словаре нет. Беккер был на грани обморока. — Где буква «эйчь»? — потрошил он учебник. — Где буква «эйчь»? Не может быть английский язык без этой буквы! Но вдруг его лицо прояснилось: — Ой-вей, какой тихий ужас! Нет страницы в словаре Ныепомнясчи, а не буквы «эйчь» в английском языке! Английский язык был спасен, а я отправлен на второй заход. Было у Якова Павловича одно, но трепетное хобби: он сочинял стихи в стенгазету. Правда, с рифмой там было не все в порядке, и мы подозревали даже, что это авторские переводы на русский язык своих же, написанных по-английски стихов. Но зато глубина содержания поражала. Я до сих пор храню заключительные строки его стиха в честь денежной реформы 61-го года. Жизнь идет вперед Заре навстречу! Мы каждый на своем месте Строим новую жизнь: На заводе, на стройке, В поле и за партой! И пусть беснуется колонизатор, А мы мирно увеличиваем курс нашего рубля!
Богомаз
Василий Авраамович Богомаз, профессор кафедры химии, был личностью загадочной и легендарной. Говорили, что в молодости он был бурлаком на Волге. Повредил там ногу. В городе его побаивались. В самом центре, в Мичуринском саду, рядом с парком Горького он образовал лабораторию, где «химичил» с радиоактивными веществами. Громадный, мощный, с простыми чертами лица, он читал лекции по химии чуть ли не стихами, вставляя мудреные для тех времен словечки типа «коллоквиум», «симпозиум»… Василий Авраамович все делал сам. Особое отвращение вызывала в нем любая эксплуатация человека. — Да я бы, — с презрением говорил он, — тех, кто держит домработницу, отправил на Соловки. Ишь, баре стали: тарелку щей им, видите ли, приготовить трудно и полы подмести. Да я бы их всех и мужей ихних в колхоз, да в поле! Принципам он своим не изменял. Как-то летом можно было наблюдать такую картину. Идет, прихрамывая, по улице профессор Богомаз в шляпе и тащит на плече здоровенное сосновое бревно. Он разгрузил машину леса во дворе института и перетаскивал бревна через весь город к себе во двор…
Как я не стал музыкантом
Трофейный скрип
Отец мой вернулся с войны с трофеями — двумя скрипками. Вечерами, после работы, он уходил из переполненного дома, укрывался в зарослях бузины на задах сада и самозабвенно, на слух, играл популярные в то время мелодии.
Естественно, вторая скрипка-половинка предназначалась мне. Во мне видели будущего Давида Ойстраха или же вундеркинда Бусю Гольдштейна, об успехах которого денно и нощно трубили по радио. И хотя в музыкальной школе преподаватель Белодубровская открыла во мне какие-то способности, учился я играть на скрипке из-под палки. Жили мы на Трудовой улице, а музыкальная школа размещалась на другом конце города — у сквера Кравцова (сейчас в этом здании кафе «Василий»). В этой музыкальной школе учились, в основном, дети с Урицкой, Пионерской и других близлежащих улиц. И как же некомфортно было мне таскаться с Трудовой со скрипочкой под ехидные замечания гоняющих по улицам сверстников! Скрипка вызывала у ребят ассоциации типа «интеллигент» и «белоручка». Особенно обидным было оказаться в категории «белоручек». Это было, пожалуй, почище, чем барчук, чистоплюй, маменькин сынок.
А уж быть маменькиным сынком и белоручкой значило быть изгоем. Не знаю, почему, но умываться, а тем более, стричь ногти, пацаны боялись как огня. И несмотря на пропаганду примерных гайдаровских Тимура и его команды, большей симпатией пользовались как раз их антиподы — Мишка Квакин и Фигура. В те послевоенные годы вся жизнь с раннего утра и до позднего вечера проходила на улицах и в оврагах в различных играх и соревнованиях, о многих из которых теперь даже и не слышали.
Да и по возрасту я уже был для школы переростком. Поэтому при первой возможности я бросал футляр за ворота и бежал гонять мяч, там более что был на своей улице не последней «футбольной звездой». Промаявшись пару лет в музыкалькой школе, я с радостью ее бросил. Наверное, не обладал я талантами того знаменитого Буси Гольдштейна…
Уже где-то в 9—10 классе я заболел джазом и после поступления в БЛХИ начал осваивать кларнет, мечтая стать Арти Шоу или Бенни Гудманом, статьи о которых вычитал в журнале «Америка». Этого журнала не было ни в продаже, ни в подписке. Выписывать его разрешалось только очень доверенным и морально устойчивым товарищам. А так как отец моего друга Митьки Иванова — Дмитрий Порфирьич — был зампредседателя райисполкома, а до того чекистом, ему разрешалось выписывать «Америку». Вот из этого журнала да еще глушеного-переглушеного эфира мы и черпали знания о джазе.
Весь этот джаз
В то время в любой, даже самой маленькой организации была самодеятельность, а уж в институтах каких только самодеятельных кружков не было. Поначалу я ходил в духовой оркестр, а затем мы создали инструментальный квартет. В 1958 году институт приобрел альт-саксофон, который я тоже освоил. Вместе с другими городскими ребятами мы создали довольно примитивненький диксиленд и играли модные в те времена отечественные мелодии и блюзы.
Особой популярностью пользовался «Сан-Луи блюз»:
Сан-Франциско, Лос-Анджелос
Объединились в один колхоз.
В колхозе этом ударный труд,
И даже негры тут все поют.
А если вкалываешь день
Получишь палку за трудодень.
А вечерами, как на заказ,
В избе-читальне играет джаз,
И самогону полным-полно,
И что ни баба — Мерлин Монро.
Колхозный сторож Иван Кузьмич
Загнал кобылу, купил «Москвич».
А председатель Семен Ильич
В защиту мира толкает спич.
Парторг Афоня, прищуря глаз,
На саксофоне лабает джаз…
Конечно, такую крамолу мы пели для себя, а на публике только играли. Оркестрик пользовался успехом у молодежи, и где бы мы ни «играли танцы», народу было битком. А тут еще Вольдемар Коновалов (Вальдон), демобилизовавшись после службы в Германии, привез, пожалуй, первую в городе шестиструнную гитару и пару новых мелодий, одна из которых в его интерпретации звучала как «Бляу-гау». Как потом выяснилось, на самом деле она называлась «Блауауген» — «Голубые глаза», но «Бляу-гау» было как-то пpивычней для нашего уха.
Естественно, не имея постоянного места и состава, оркестрик распался. В это время, где-то в 1959 году, при клубе завода «Дормаш» собрался «биг бенд» (большой оркестр) под руководством Е. Акуленка, и я стал поигрывать там. В этом оркестре я по-настоящему почувствовал прелесть оркестровой музыки и сталзадумываться о карьере музыканта, но подошло время окончания института, и я отбыл по назначению в леспромхоз Костромской области. Определили меня мастером в поселок Мостовик. Проработал там недолго, потому что попал в аварию. Кто-то ночью перевел стрелку на узкоколейке в тупик, а тупик не был тупиком в общепринятом на железнодорожном транспорте понятии, просто рельсы заведены в огромную сухостойную березу. Вот в эту березу мы и врезались мотовозом.
Музыканты от станка
Оказалось, что у меня сломаны три пальца левой руки. Кое-как приспособился играть своими изуродованными пальцами, и был принят в дормашевский оркестр. В оркестре собрались настоящие любители: Евгений Акуленко (трубач) — слесарь завода «Дормаш», Ярослав Стокласка (альт-саксофон) — разметчик, Юрий Алилуев (гитара) — фрезеровщик, Алексей Дашанов (тромбон) — токарь, Владимир Осин (аккордеон) — конструктор, Геннадий Васильев (альт-саксофон) — слесарь, Иван Борзыкин (альт-саксофон) — слесарь, Николай Васильев (тенор-саксофон), Георгий Мацкевич (тромбон) — технолог, Василий Новиков (труба) — слесарь вагонного депо, Лев Кукуев (ударник) — наладчик швейной фабрики им. Сталина. Многие уже были обременены семьями, но все равно несколько раз в неделю после работы ходили на репетиции, концерты и танцевальные вечера, получая символическую плату, которой некоторым не хватало даже на погашение черного списка в дормашевском буфете.
Теперь уже мало кто помнит знаменитый фильм Г. Александрова «Веселые ребята», главными героями в котором были музыканты джаз-оркестра. Так вот где-где, а в дормашевском оркестре были настоящие веселые ребята. Розыгрыши и хохмы сопровождали оркестрантов и на репетициях, и на концертах. Одно время играл в оркестре на фортепиано здоровенный, килограммов под сто, Коля Теодорович. Фортепиано в его огромных лапах прыгало, как пришпоренный мустанг, на крышке инструмента постоянно стояли графинчик и стакан — «для промывания горла», объяснял Теодорович. На одном из концертов конферансье тоже решил воспользоваться Кол иным стаканчиком. После первого глотка глаза его вылезли из орбит — в графинчике оказался слабо разбавленный спирт.
Но самым большим хохмачом был ударник Лева Кукуев. Маленький, толстенький, с глазами-блюдцами — точная копия Луи Армстронга в белокожем варианте. Когда Лёва входил в раж, глаза его становились как тарелки, а палочки путались в коротких толстых пальцах. Повадился к нам в оркестр один скрипач. На включении его в состав настаивало руководство клуба, хотя он никак не вписывался к нам ни инструментом, ни менталитетом, тем более что наши оркестровки не предусматривали наличие струнной группы. Но скрипач приходил и играл без нот, и избавиться от него не было никакой возможности. И вот однажды перед концертом Лёва намазал ему смычок свиным салом. Надо было видеть ужас скрипача, когда он начал водить смычком по струнам, которые не издавали звука. В конце концов он понюхал смычок, собрал инструмент — и больше мы его не видели.
Визитной карточкой любого аккордеониста являлась тогда виртуознейшая пьеса Б. Шахнова «Карусель». Наш Владимир Осин исполнял ее виртуозно. К тому же он писал оркестровки и руководил вокальным трио, затем квартетом. Мордочка у него была всегда какая-то удивленная — он напоминал болонку, за что и получил кличку Шавка.
Однажды по причине пристрастия к горячительным напиткам его вызвали на партбюро и поставили вопрос ребром:
— Осин, дайте слово, что больше пить не будете!
— Товарищи коммунисты, — серьезно сказал Осин, — даю вам честное слово, что больше пить не буду… — и, выдержав паузу, тихо добавил: — И меньше не буду!
Зудила
Мы знали, что где-то на мясокомбинате обитает музыкант, который раньше играл чуть ли не в оркестре самого Якова Скоморовского. И вот он появился у нас. Звали его Николай Митрофанович Зудилкин (Зудила). Полноватый, лет 50-ти с гаком, с огромной обрамленной седовато-рыжими кудряшками лысиной, он сразу стал у нас заводилой. У него был редкий деревянный крытый кларнет и тенор-саксофон довоенного производства ленинградского завода музинструментов. Зудила был нрава бесшабашного. Когда он играл, его массивная челюсть вибрировала, как незастывший студень, глаза горели неоновым пламенем, а из раструба вылетали массивные сочные звуки.
— Николай Митрофанович, — приставал я, — а как получить такой звук?
— Запросто, чувачок, — отвечал Зудила. — Ты берешь дудочку и дуешь… Час, два, день, десять… И у тебя получится! Лет через десять!
В футляре Зудилкиного саксофона кроме разобранного кларнета в отсеке с мундштуками и тростями всегда находились самые необходимые для поднятия настроения вещи: стограммовый стаканчик (гленчик), кусочек сырка «Дружба» или сальца, луковичка и ломтик хлеба. Зудила был почти всегда в приподнятом настроении, поэтому играл весело. Кроме того, он был еще и философ.
— Чувачок, — говариал он, — запомни: в оркестре все инструменты должны играть, а саксофон петь!
— Ну как же, — возражал я, — а говорят «поющая скрипка», «поющая гитара»…
— Ты же умный вроде мужик, чувачок, и с верхним уже образованием! — Зудила поводил плечами. — Ну как можно петь, пойми, на бычачьей жиле или медной проволоке? Поют легкими, горлышком, губками… А так только можно играть на кларнете или на саксофоне! Вот, чувачок, слушай, колесо от телеги может нарисовать почти любой. А вот так нарисовать, чтобы оно ехало, может только художник. Так же и в музыке. Тренькать могут почти все, а вот играть, чтоб из инструмента выходила музыка, могут только музыканты!
Играл Зудила самозабвенно, иногда забываясь и теряя ориентировку. На одном из концертов под сильным шофе он выпустил изо рта мундштук и никак не мог поймать его снова. Пришлось мне поддержать его качающуюся голову и всунуть в рот мундштук. Зудила удивленно похлопал глазами и заиграл…
Стояли мы как-то в страшную метель на остановке в Фокинском районе. Где-то вдалеке слышались звуки похоронного марша. Затем звуки оркестра стали отдаляться, но рыдающий кларнет двигался в нашу сторону. Наконец на проезжей части показалась одинокая фигура Зудилы. Он шёл, ссутулившись, в своем бессменном буклированном пальто и такой же кепке, в руках кларнет. Его слегка покачивало, но он с упорством наяривал марш во всю мощь своих легких.
— Николай Митрофанович, — окликнули мы его, — куда это ты пилишь?
— Чуваки, а где я? — испугался Зудила, выныривая из поднятого воротника.
— Да в Советский район идёшь.
— Как? — в глазах Зудилы отразилось великое удивление. — А где они? Когда это они свернули?
Он огляделся и трусцой бросился догонять процессию.
Играли мы как-то в новогодний вечер в драмтеатре.
— Ой, а у меня инструмент дома! Я сейчас, минут через 30 приду, — сказал Зудила и побежал ловить такси.
Однако ни через 30 минут, ни через час он не появился. Мы играли без него. Где-то уже заполночь вышли покурить на балкон. Вокруг стоящей на площади перед театром елки в мерцании огней и круговерти снежинок кружились в вальсе пары. На ступеньках сидел Зудила и на саксофоне наяривал вальс.
— Николай Митрофанович, так ты чего не заходишь, мы ждем-ждем?
— Так, чувачки, — оправдывался Зудила, — меня дружинники туда не пустили!
Форменный грабёж
Поздней зимней ночью 1963 года после одного из концертов я, проводив девушку, возвращался домой с футляром в руках. В футляре покоились саксофон-альт и кларнет.
Уже где-то в районе площади Партизан я обратил внимание на идущего за мной на расстоянии 30 — 40 метров парня. Он шел, выдерживая дистанцию, с точностью повторяя все мои маневры. Улицы были пустынны, и это меня насторожило, но не сильно — в городе меня знала, как говорится, каждая собака, а недругов не было. Свернув на свою Трудовую улицу, совсем забыл о попутчике и, уже открывая калитку дома, получил страшный удар по голове и потерял сознание. Ударили меня монтировкой или металлической трубой, и если бы не зимняя шапка-ушанка, последствия могли были быть печальными.
Когда очнулся, никого рядом не было. Не было и футляра с инструментами. По какой-то причине, обливаясь кровью и поминутно теряя сознание, я пополз не домой, а обратно на улицу Горького, к музучилищу. Там на меня и наткнулся возвращавшийся с дежурства милиционер, который вызвал «скорую». Было часа два ночи, падал легкий, пушистый снежок, на котором четко отпечатались следы грабителя. Пойти по этим следам и задержать грабителя не представляло труда. Но то ли не было милиционеров, то ли не хотели будить дежурную собаку, но группа оперов прибыла, по словам моих родителей, только утром, когда все следы были затоптаны. Оперы произвели какие-то замеры, нарисовали схемы и отбыли восвояси, а я с проломленным черепом оказался в нейрохирургии.
Когда я немного отошел, ко мне в палату заявился следователь. Сельского вида паренек задавал стандартные вопросы. Мне пришлось долго объяснять, что такое саксофон и чем он отличается от самовара. К тому же следователь отрабатывал невероятнейшую версию: не мог ли я, дабы завладеть принадлежавшими клубу инструментами, садануть себя по черепу сам или подговорить совершить это кого-нибудь из своих подельников.
Где-то через полгода, когда я уже был на ногах, он повез меня в Орел, где, по оперативным данным, появился «левый» инструмент. Следователь поехал в командировку, а я взял на заводе отпуск без содержания и должен был за свои деньги питаться, оплачивать проезд и гостиницу. Поэтому в следующий раз ехать в Курск я отказался…
Николай Митрофанович Зудилкин утешал, мол шрам украшает мужчину, а голова не задница — на ней не сидят.
Собачья радость
Жил Зудила на мясокомбинате, и у него в чулане на бельевых веревках всегда висела дефицитная в то время колбасная продукция. Как-то в чулане у Зудилы не оказалось колбасы, а у нас была бутылка.
— Стой тут, — указал он мне место за забором, — я пойду колбаски выброшу.
Была зима. Я замерз и стал бегать туда-сюда вдоль забора. Вдруг метрах в тридцати от меня через забор перелетела палка колбасы. Медленно, чтобы не вызвать подозрений, я направился в сторону колбасы. В это время из ближайших кустов выскочила стая собак. Псы схватили колбасу у меня из-под носа.
— Давай, колбасу, пошли! — появился Зудилкин.
— Так нет колбасы!
— Как нет?! — удивился Зудила.
— Николай Митрофанович, ее собаки схватили…
— Так что ж ты, не мог у собак колбасу отнять? — презрительно сказал Зудила и снова отправился на проходную.
Идеологическая диверсия
…Хотя на концертах мы старались исполнять «художественные по форме и идейные по содержанию» произведения, случались и довольно скандальные истории.
Участвовали мы однажды в заключительном концерте в честь какой-то областной партконференции. По регламенту исполнили «Фантазию на темы песен советских композиторов» и «Танец с саблями» А. Хачатуряна. Зал бисировал. Мы еще раз сыграли «Танец с саблями». Зал снова не отпускал нас со сцены.
И тогда мы, опьяненные неожиданным успехом, выдали «вне регламента» свою коронку — «Праздник трубачей» (мамбо с 16-ю тактами соло ударника). Наш ударник Лева Кукуев чуть не раздолбал в бреке свою установку. Зал ревел от восторга.
— Во врезали по мозгам партийцам! — хрипел Лева, таща за кулисы свои барабаны.
— Кто сказал «дали партийцам по мозгам»? — дрожа от возмущения, полушепотом спросил ответственный за концерт работник райкома Семиохин, неожиданно появившийся за кулисами. Ткнул в меня пальцем — Это он сказал? Подождите, с вами мы еще разберемся!
Я был единственный из оркестрантов, кого Семиохин знал по совместной учебе в институте. В то время в любом учреждении (тем более в вузе) было два типа людей. Одни «грызли науку», сочиняли стихи, играли или пели, занимались спортом, коллекционировали, рыбачили или увлекались искусством. Другие «разбирались» с ними. И чем больше и круче были разборки, тем виднее и заметнее рос их авторитет. Так как я никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, то и был тем самым «материалом», на котором комсомольские активисты делали свои карьеры, пополняя всевозможные «органы». Лесохозяйственный институт был кузницей кадров комсомольских функционеров всех уровней. Его выпускниками были и первый секретарь обкома комсомола, и третий, и тот же Семиохин.
Дело принимало серьезный оборот. Через неделю в клубе завода «Дормаш» состоялось собрание. На него прибыла секретарь райкома Стельмах с многочисленной свитой ответработников. Но произошел конфуз.
Повестка собрания была «Состояние политико-воспитательной работы», однако вместо «лабухов» — противников пролетарской культуры, разложившихся под влиянием Непомнящего, в оркестре оказались работяги от станка и верстака, передовики и даже ударники комтруда.
Рабочий класс есть рабочий класс, даже в эпоху развитого социализма. Разбора не получилось, мало того, высказалось немало нелицеприятных слов в адрес «контролеров» от искусства, которые сами не могут отличить «дома Жора» от «до мажора». Особо досталось самому Семиохину, тем более что все утверждали, будто никто ничего крамольного не говорил, а все это выдумки самого Семиохина…
Стельмах в заключительном слове пообещала всестороннюю помощь и поддержку, извинялась за неправильно понятую суть оркестра и благодарила за большую работу «на пользу городу».
Помощь оркестру была оказана более чем оперативно. Через несколько дней из штатного расписания изъяли должность руководителя оркестра. Сократили, а затем и вовсе прикрыли танцевальные вечера, пусть небольшой, но единственный источник доходов музыкантов.
«А гицин паровоз»
В1964 году оркестр перешел во Дворец культуры железнодорожников. Перешел потому, что председатель дорпрофсожа В. Столовицкий пожелал, чтобы у него в ведомстве была самая лучшая самодеятельность. Во Дворце оркестру были созданы идеальные условия: приобретен новый комплект инструментов, выделены помещения для репетиций и т. д. Директор Дворца Михаил Семенович Морголин (Соломон) носился с нами как с писаной торбой. Соломон был строг, но справедлив. Во Дворце ему не нужны были ни дружинники, ни наряды милиции. Соломон сам наводил порядок, и его боялись все хулиганы.
Оркестр давал массу концертов, участвовал во многих мероприятиях и неоднократно выезжал в столицу, где участвовал даже в юбилейном концерте, посвященном 50-летию СССР. По протекции Столовицкого шефство над оркестром взял известный советский композитор и руководитель эстрадного оркестра ЦДКЖ Дмитрий Покрасс, присылавший нам свои оркестровки. Но в городе оркестр как бы и не замечали, потому что строителям коммунизма «другая музыка нужна».
Однажды решили дать нашему оркестру название. Предлагались разные — «Экспресс» и «Паровоз», «Магистраль» и «Гудок»… Известный конферансье Олег Милявский предложил назвать оркестр «А гицин паровоз», что переводится с идиш как «тяга в паровозе», а означает «до лампочки».
…В середине 80-х годов оркестр перестал существовать. Вслед за Остапом Бендером я мог сказать: «Музыканта из меня не получилось, пора переквалифицироваться в инженеры».
Как меняется время… Интересно было бы послушать неистовых борцов с джазом, многие из которых здравствуют и поныне. Как же они терпят теперь на сценах беспредел полуголых пиратов с гитарами наперевес?!
Истинная история брянской литературно-террористической организации «Божья коровка»
В город приехал сам Эдди Рознер, волшебник трубы, с оркестром. Играли настоящий джаз. В воздухе было разлито то, что позже назовут «хрущевской оттепелью». И вот после «Каравана» Дюка Эллингтона вышли на сцену солистки-куплетистки. Они пели знаменитые куплеты про стилягу:
Ты его, подружка, не ругай,
Может, он заморский попугай,
Может, когда маленьким он был,
Папа его на пол уронил.
Или болен он, бедняга,
Или просто-напросто — стиляга!
«Стиляга, стиляга, стиляга», — трижды повторялось под скандирование зала. «Стиляга, стиляга», — повторял за куплетистками партер под неодобрительный свист галерки, где и сидели эти местные, до жути провинциальные «стиляги». На них с недавнего времени ополчился, казалось, весь белый свет. Возмущение общества было настолько мощным, что не уступало «борьбе за мир против поджигателей войны».
Воровство, грабежи, поножовщина, походы района на район — все было отодвинуто на задний план. Еще бы! Эти стиляги сняли священные пролетарские картузы-восьмиклинки и ходили даже зимой без головных уборов. Ко всему прочему вместо социально близких причесок «бокс», «полубокс», «полька», «чубчик» начали отпускать тарзаньи патлы и украшать их набриолиненными «коками».
Девушки надумали делать стрижки и распускать волосы. Более того, некоторые осмелились напялить на себя узкие брюки, а самые обнаглевшие даже показывать коленки. Эти узкие брюки и юбки шили из цветных материй. Стилягам, видите ли, подавай джаз — порождение капиталистического мира. А тут, сами понимаете, недалеко и до предательства: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!»
На бедных стиляг ополчились стар и млад, частник и общественность, милиция и блатные. Комсомольские патрули и бригадмильцы гоняли «узкобрючников» с танцплощадок, торжественно выстригали плешины в «коках» и пороли ножницами брючины.
— Вот оно, пагубное влияние фестиваля! — собирала на улице прохожих комсомолка 20-х годов, а ныне персональная пенсионерка Шустер. — Посмотрите — это наша молодежь?! И откуда такие выродки берутся!
Московский фестиваль молодёжи и студентов действительно взбаламутил застоявшееся болото не только в столице. Поезда с участниками фестиваля следовали через Б-ск: демократов везли днем, а капиталистов — обязательно ночью. И уж, как ни старались «органы» воспрепятствовать общению, главное, наконец, было выяснено: иностранцы такие же люди, только намного лучше одетые, более раскованные.
Именно после фестиваля на улицах городов появились обнимающиеся, и даже целующиеся парочки. В школах по такому случаю проводили комсомольские собрания, завершавшиеся осуждением, а то и исключением из рядов.
И в первых рядах покусившихся на социалистическую нравственность были стиляги. Страна мобилизовала все силы: появились «комсомольские прожекторы», пошли собрания, засуетились бригадмильцы. Каждый уважающий себя гражданин, включая блатных, считал своим долгом охаять или избить «узкобрючника». Каждый город проводил свой показательный процесс над стилягами.
Самое ужасное, что иностранное в Союз все равно проникало: фильмы, журналы, сигареты, вина. На прилавках киосков продавались только журналы соцстран, зато номенклатурным работникам разрешалось (чтоб лучше знать врага) выписывать журналы «Америка», «Великобритания» на русском языке. Но номенклатурные брянские дети выносили эти журналы на улицу, давали читать друзьям, знакомым.
Зимой на каникулы приехал из Москвы Эдик Шишлянников. За полгода столичной жизни он преобразился до неузнаваемости. Короткополое бежевое пальто, ярко-красный шарф и боты на огромной металлической застежке. На его голове красовалась боярка из искусственного меха… Шишлянников вызвал неописуемый фурор: за ним бегали толпой мальчишки и под одобрительные возгласы взрослых забрасывали снежками.
— Боярин! Стиляга! — неслись вслед разложенцу возмущенные голоса. Шиш промаялся в Б-ске все каникулы и отбыл в столицу, посетовав напоследок:
— Как вы тут живете, чуваки? В городе нет ни одной барухи!
От Шиша мы и узнали, что в столице стиляги называют друг друга «чуваками» и «чувихами», Провинция была в состоянии грогги. Нет, что касается «чуваков», то они были, пусть похуже столичных, но были. А вот «чувих» было мало, да к тому же они не были «барухами». Девиц в обилии поставлял «кильдим» (женское общежитие «Б-скстроя»), но все они — такая незадача! — не были «чувихами».
Поогорчались от такой несправедливости провинциальные стиляги и с головой ушли в джаз. Кое-кто владел аккордеоном, кто-то дул на кларнете, остальные стучали на пионерских барабанах, стульях, кастрюлях:
О Сан-Луи — город стильных дам.
Моя Москва не уступит вам.
Колхозный сторож Иван Кузьмич
В защиту мира толкает спич.
А председатель Степан Ильич,
Продав кобылу, купил «Москвич»…
Был среди нас Митька Иванов, карикатурист-самородок. Однажды Митька засел за богохульную картину. Многодневная работа по сюжету знаменитого полотна художника Иванова также называлась «Явление Христа народу». Действие картины разворачивалось на спуске Советской горки. От забора ликероводочного завода спускался высокий, в поношенных сапогах, латаной майке и трусах, подпоясанный солдатским ремнем, небритый и нечесаный человек. В распростертой над толпой руке он держал бутылку. Перед ним; затоптав лоточниц-мороженщиц, лошадей и треногу Фимки Маковского толпились, протягивая руки к спасителю, легко узнаваемые горожане. Приглядевшись внимательнее, каждый узнавал в «спасителе» Джоя.
Джой, он же Сева Саратовцев, двухметровый верзила с сорок-последним размером обуви, был учащимся технического училища. Обуви на его размер отечественная промышленность не выпускала, и потому Сева ходил в невообразимо скрипучих ботинках из униформы скалолазов. Был сильно близорук, лохмат, неухожен, но при этом — поэт! Тот, у кого душа живет в обнимку с музой, редко обращает внимание на мирские догмы. Сева бился в сетях ямба и хорея, но признания не находил и все больше озлоблялся. Особенно на редакцию «Б-ского рабочего», упорно не признававшую в нем творца. Первое время Саратовцев посылал стихи в редакцию по почте. Затем носил лично, но результат был абсолютно отрицательным. Саратовцев, однако, был упорен и продолжал писать. В конце концов, при появлении Саратовцева литсотрудники просто стали прятаться по туалетам.
Жил на Луначарской улице Юрка Пилипец. Семья Пилипцов дружила с Ивановыми, а дядька Юрки Пилипца был заместителем редактора «Б-ского рабочего». Так как Митька Иванов был карикатурист-самородок, то Киселев, этот самый дядька Юрки Пилипца, привлек его к сотрудничеству. Как-то раз Киселев, отчаявшийся избавиться от Севы Саратовцева, предложил Митьке Иванову разобраться с поэтом:
— Ходит тут один, житья не дает. Носит ахинею. Грозится, что поедет в Москву и передаст стихи в иностранное посольство. Митя, вы б его как-нибудь отвадили от редакции!
— «Темную» устроить?
— Ну, зачем так грубо? Надо для него придумать какую-нибудь неформальную литературную организацию, опекающую непризнанных литераторов, ну, навроде «Союза меча и орала» из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Ну, вроде того, что эта организация берет на себя выпуск произведений…
— И переправляет на Запад, — стал фантазировать Митька, — где их издают в оригиналах и авторизованных переводах. В целях конспирации их не будут возвращать в Союз, и автор их никогда больше не увидит.
Киселев удивленно посмотрел на Митьку:
— Ну, это ты не туда погнал…
Но Митьку уже понесло:
— А чтобы у автора не возникло сомнений, ему время от времени пересылают со связником копии счетов из швейцарского банка!
Киселев замахал руками и предупредил, что он ничего такого не предлагал. Но, как говорил Бендер, лед тронулся. Дальше уже ничего не надо было выдумывать. Все печатные формы были наводнены сюжетами о борьбе бдительных органов во главе со славным майором Прониным против резидентов иностранных разведок…
Литературно-террористическая организация «Божья коровка» была создана в несколько дней. Тут же состоялась официальная встреча с кандидатом в литературо-террористы Севой Саратовцевым.
Саратовцев, щупая руками стены неосвещенной лестницы, скатился к бронированной двери атомного убежища и, моргая от яркого света, предстал перед очами будущих соратников. Это противоатомное убежище было обнаружено случайно. Находилось оно на Горьковской под детской библиотекой. Вход в убежище по какой-то причине оказался открытым.
В 60-х было такое постановление правительства об обязательном оборудовании в строящихся домах атомных убежищ. Тогда считалось, что грядущую атомную войну можно вот эдак пересидеть.
Наше убежище представляло собой вместительное помещение с побеленными потолками и стенами. Далее шли еще несколько комнат, туалеты, не укомплектованные сантехникой, коридоры-переходы, которые вели, вероятно, к другим убежищам под другими зданиями. Митька Иванов разрисовал стены «резиденции» героями диснеевских фильмов. Кто-то принес старенький трофейный приемник «Телефункен», и в убежище зазвучал джаз.
И вот перед Севой Саратовцевым, под улыбающейся во всю стену рожей Микки Мауса, сидели руководящие кадры литературно-террористической организации «Божья коровка». Митька Иванов — Рыжий, невообразимый юморист и выдумщик. Вовка Кузьменко — Канцлер, Эдик Косенков — Аппполон (конечно, не Аполлон, а именно Аппполон). Славка Прохаль, но Прохаль — не кличка, а фамилия. Юрка Николаев — спортсмен, студент и любитель джаза. Валерий Бабушкин — тоже студент и тоже любитель, хотя и не спортсмен. Юрка Михайлов — улыбка во все лицо, Вовка Афонин — Аф-старший и Витька Афонин — Аф-младший. Вовка Малашенко — Боб, он же Чиполлино, обладатель огромного луковицеобразного черепа, всегда задумчивый. Сенька Беленький — Сэм, в отличие от худосочного «дяди Сэма» полон, как стратостат. Толик Веселков — Толян, балагур и рубаха-парень. Валерка Веселков — Лев, много улыбался, мало говорил, много думал. А о чем он думал — ни с кем не делился, зато прыгал тройным прыжком и был чемпионом области. Вовка Веселков — Кава, чудо-мальчик, красавчик с вечной улыбкой на светлом личике, тайно пишущий стихи. Боря Шварц — неоднократный чемпион области по классической борьбе — Тяж. Валька Сотириадис — Трактор, сын Жоры Сотириадиса и старший брат Гаги — Германа Сотириадиса. На любые просьбы и вопросы отвечал одинаково: «Пусть трактор работает — он железный». Шурка Дружинин — Чимба, обладатель гомерического хохота. Когда он хохотал или кричал «тарзаном», у беременных женщин начинались схватки, а у милиционеров заходились сердца. Вовка Плавинский — Марта, ходячее пособие по анатомии человека. Олег Башкарев — Ходя, которому кличка досталась в наследство от родителя. Вовка Цурков — Цурик, любитель анекдотов и розыгрышей. И наконец, Шурик Зинов — Джон, неисправимый оптимист, несмотря на свое увечье: в детстве он переболел полиомиелитом и ходил с костылем. Костыль служил ему третьей ногой, орудием защиты и палочкой ударника, которой он отбивал ритмы на всех подворачивавшихся под руку предметах…
Вот какой была данная представительная организация.
Митька Иванов представил Севе Саратовцеву руководящих товарищей. Пояснил, что в целях конспирации все имеют клички.
— Мы знаем в общих чертах, что вас привело сюда, — сказал Митька Иванов. — Я попрошу более обстоятельно изложить мотивы.
Сева смущенно начал изливать свои обиды, постепенно смелея и повышая голос:
— … Ни одного стиха не напечатали. Печатают только родственников да знакомых. У меня стихи — настоящие, а они говорят: «Сыры». Сами они сырые!
— А о чем вы пишете, какая тематика? — застенчиво задал вопрос Кава, сам втихаря пописывавший стихи.
— Обо всем, — смутившись, ответил Сева, — про родной край, про борьбу за мир… Обо всем.
— Не станем вас обнадеживать, — сухо заметил Прохаль. — Мы должны ознакомиться с вашим творчеством. Руководство нашей организации очень строго относится к кандидатам в члены. Когда вы сможете представить стихи?
— Да хоть завтра! — с готовностью сообщил Сева.
— Но это еще не все, — вступил Юрка Михайлов. — Даже при положительном решении вопроса о вашем литературном наследии, чтобы стать полноценным членом организации, нужно пройти испытательный срок и выполнить необходимые тесты. Только тогда может идти речь об издании ваших произведений!
— Хочу внести ясность, — добавил Кава. — Наша организация прежде всего литературная, а уж потом террористическая. Нам нужны физически сильные люди. У нас есть оружие: противогаз, солдатская каска… Есть даже танк, находящийся в селе Чаусы. Но это на крайний случай, на случай самообороны. А в основном мы ведем только организацию помощи непризнанным литераторам. Однако если наступит крайний случай, мы должны быть готовы морально и физически!
Саратовцев пообещал быть готовым.
На следующее заседание он притащил в убежище кучу исписанных ученических тетрадей. Началось открытое, пусть иногда и совсем нелицеприятное обсуждение. Поэзия Саратовцева представляла собой помесь Маяковского, Твардовского, Исаковского, Долматовского и Трубецкого-Ляписа. Основным мотивом была борьба за мир и свободу порабощенных народов. Одно из стихотворений так и называлось: «Выкусите, колонизаторы!»
…Хинди-руси бхай-бхай!
Любой империалист это знай!..
После продолжительного и бурного обсуждения творчество Саратовцева было признано актуальным, и Севу представили «шефу», специально прибывшему «из-за» для ознакомления с кандидатом. Встреча происходила средь бела дня на трибуне стадиона «Динамо». Для конспирации, как объяснили Севе. В «шефы» был срочно произведен приехавший на каникулы Бабушкин. К великому своему огорчению, из всего английского он знал только: «вери гуд», «вери велл», «о'кей», «гоу хоум» и «вери мач». Общаться с ним приходилось через «переводчика», которым оказался Цурик.
— Гуд бай. Вери мач! — обратился к Севе «шеф».
— В каких войсках служили? — перевел Цурик.
— У меня белый билет… — засмущался Сева.
— О, вери велл, гоу хоум!
— Он спрашивает, — переводил Цурик, — у вас белый билет выдается белым, а черный — неграм?
— У нас негров нет, — ответил Сева. — У меня плохое зрение, не берут в армию.
— О, вери мач, — зачмокал губами «шеф», — Луи Армстронг, Нат Кинг Коул!
— А что он спрашивает? — напрягся Сева.
— Он спрашивает, давно ли занимаетесь литературной деятельностью?
— Нет, недавно: лет десять.
— О йес, вери велл, Бенни Гудман, Оскар Питерсон, Би Би Кинг, о'кей!
— Он спрашивает, — переводил Цурик, — чем еще кроме литературы занимаетесь?
Сева заметно засмущался и признался, что он — бильярдист. «Шеф» зашелся в длинной тираде, чаще всего слышались имена джазовых знаменитостей вперемешку с «феней» и английскими восклицаниями.
«Шеф» говорит, — переводил Цурик, — что несмотря на то, что организация богата, все деньги находятся на счетах в швейцарских банках, поэтому нет возможности легально перевести их в рубли. Необходимо изыскивать любую возможность пополнять местную кассу организации за счет своих возможностей. Вы должны играть в бильярд, но только без проигрыша!
Глаза «шефа» вдруг стали жесткими, он положил руку на плечо Севы:
— Гуд бай, вери мач!
— Мы верим в вас! — перевел Цурик.
Первым заданием Севы стало изменить походку и аннулировать скрип в ботинках. На удивленный вопрос о мелочности данного поручения Аф-старший, взяв его за лацкан пиджака, сурово разъяснил: «Все великое, товарищ Саратовцев, начинается с мелочей! И только добросовестное выполнение всех заданий организации будет являться пропуском в мировое читательское пространство и мировую литературу!»
Родственники и знакомые Севы были озадачены его состоянием. Он отчаянно припадал на правую ногу, а из его огромных ботинок при каждом шаге выделялся слой машинного масла, которым они были пропитаны насквозь. Но пропитка не срабатывала: ботинки, изменив тональность, скрипели по-прежнему.
Новое заседание было посвящено дальнейшей адаптации кандидата.
— Вчера, — доложил Кава, — поступил запрос по цыганской почте из центра о том, каким псевдонимом подписывать издаваемые стихи.
После долгого, детального обсуждения и тайного голосования Саратовцеву была присвоена кличка Джой. В качестве презента Джою была вручена детская книжка «Волшебные очки» с подписями всех членов организации и вырезанная из крышки консервной банки божья коровка, которую полагалось носить на отвороте пиджака. Для ознакомления Джою была выдана программа обязательных тестов, выполнение которых являлось пропуском в ряды организации. Среди прочего там значилось:
— пробежать стометровку за 13 секунд;
— подтянуться 14 раз на перекладине;
— отжаться 25 раз из положения лежа;
— забить гол в рэгби;
— совершить поступок;
— написать эпиграмму на первого секретаря обкома Петухова.
После того, как Джой высказал сомнение в компетентности «шефа» из-за его англофени, тот срочно был заменен приехавшим на каникулы студентом иняза Генкой Каганом. Из всех иностранных языков он более всего владел еврейским.
— Шлимазул, бесаме мучо! — говорил Каган, отечески поддерживая Джоя за лацкан.
— Какой поступок вам более по душе, — переводил Цурик, — физического или духовного порядка?
Джой в смущении повел плечами.
— Фаркактер шлимазул, — покачал головой новый «шеф». — Азохунвей аф эм!
— Шеф предлагает, — сказал Цурик, — взобраться на крышу второй школы и крикнуть оттуда «Да здравствует свобода!»
Предложение «шефа», к которому Джой сразу проникся доверием, прошло единогласно. Джой приступил к изнурительным тренировкам.
Посетители стадиона «Динамо» в течение нескольких недель могли наблюдать, как по беговой дорожке носится босой, в подобранных под коленки брюках, очкастый исполин, подбадриваемый узкобрючниками. Время от времени кто-нибудь из них сбрасывал одежду и бежал рядом с Джоем. Увлечение было настолько всеобщим, что в состязаниях принимали участие даже тяжеловес Шварц и чемпион по тройному прыжку Лев — Веселков. Кончилось это тем, что Джой стал стабильно пробегать стометровку за 15 секунд.
Намечался сдвиг и с подтягиванием. А вот с рэгби было совсем плохо. Дело в том, что брянское рэгби было не совсем рэгби и даже совсем не рэгби, оно представляло собой некую игру с мячом, в которой разрешались любые приемы, исключая лишь применение холодного и огнестрельного оружия. Игра проводилась на пляже и походила скорее на коллективную драку. После игры даже такие испытанные бойцы, как чемпион области Боря Шварц, выглядели помятыми и потрепанными. После того, как Джойс побывал в нескольких свалках и его собирали по частям обе команды, он наотрез отказался забивать голы. Складывалась почти тупиковая ситуация. Но когда Джойс средь бела дня проорал с крыши второй школы «Да здравствует свобода!», даже самые непреклонные литтеррористы решил принять его в «Божью коровку» без всяких оговорок.
На поросших бурьяном развалинах разбомбленного во время войны роддома в свете зарождающегося месяца выстроились две шеренги членов литературно-террористического общества «Божья коровка». Перед строем, стоя на одном колене, Джой обреченным голосом читает торжественную клятву.
Назавтра вдохновленный Джой принес эпиграмму на первого секретаря обкома Петухова:
Петухов, Петухов, ты встаешь до петухов…
Далее речь шла о том, как первый секретарь весь день занят делами по подъему сельского хозяйства и промышленности области.
— Вам же поручалось написать эпиграмму, а не оду! — сурово сказал Аппполон.
Началась совместная корректировка. В конце концов, текст принял такой вид:
Петухов, Петухов,
Ты встаешь до петухов,
Ты из местных петухов
Самый первый Петухов!
Дело осталось за малым: как вручить эпиграмму адресату? Дом Петухова охранялся милиционером, на улице его сопровождали телохранители, а посылать по почте было неинтересно. В конце концов, операцию отложили до лучших времен, а Джою было поручено посещение квартиры одного из резидентов.
Ясным августовским утром в квартире комсомолки 20-х годов, а ныне персональной пенсионерки Шустер раздался звонок. Шустер открыла. На лестничной клетке топтался Джой. Привыкшая к разного рода делегациям от пионерских и комсомольских отрядов, участница различных съездов и конференций без обиняков спросила:
— Вы от школы или трудового коллектива?
— Я из технического училища! — как на духу признался Джой.
— Ага, — сказала Шустер, чуть не силой затаскивая его в квартиру, — люблю молодую рабочую смену!
Дальнейшее поведение «резидентши» окончательно сбило Джоя с панталыку: вместо того, чтобы обменяться паролями, она, не переставая чирикать, усадила его за стол и предложила чаю.
— Ну, рассказывайте же о своих делах, молодая смена, — пионерским фальцетом, похлопывая Джоя по коленке, призывала комсомолка 20-х.
Джой подозрительно молчал, боясь забыть или перепутать текст пароля. А Шустер не умолкала ни на минуту. За первым стаканом она успела рассказать биографию страны с 1918 по 1941-й, за вторым — от начала Великой Отечественной до исторического XX съезда КПСС. От третьего стакана Джой решительно отказался. Воспользовавшись некоторой паузой, выложил наконец пароль:
— Вы Сапожникова?
— Я — Шустер!
— Шустер — это кличка, а фамилия ваша Сапожникова?
— Ха-ха-ха, — разрядила обстановку Шустер. — Вы имеете в виду перевод моей фамилии на русский язык? Да, «шустер» по-немецки –«сапожник». Вы немецкий изучаете?
— Немецкий, немецкий, — торопился Джой выложить пароль до конца. — Если вы «сапожник», то у меня есть для вас партия импортных сапожек.
Комсомолка 20-х просидела минуту с отвалившейся челюстью.
— Так вы не студент, а фарцовщик! Кто вас ко мне прислал?
Джой чистосердечно признался, что его прислала «Божья коровка». И показал старушке прикрепленную на отвороте пиджака железку-значок. Шустер лишилась дара речи.
Назавтра город облетела весть о подрывной организации, которая, воспользовавшись нашими трудностями, предлагает импортную обувь в обмен на секретную информацию. Народ, посудачив, решил, что деятельность организации в нашем городе бесперспективна: те, кто владел секретной информацией, в импортной обуви не нуждались, а те, кто желал бы иметь импортную обувь, не располагали секретной информацией.
Слух о простодушном Джое и придуманной для его розыгрыша организации быстро облетел окрестные улицы. Желающих принять участие в бесплатном развлечении становилось все больше. Через пару недель в «Божьей коровке» так или иначе принимали участие почти все юноши, проживающие в центре Советского района.
Естественно, что познакомиться с Джоем пожелал сам Мэр — Эдик Гнездовский. Официальной власти в России понадобится еще сорок лет, чтобы ввести такую должность, но уже в 1956 году она была учреждена самостийно. Мэр пришел не один, а с девицей, которую представил как «мисс Лолу — правую руку швейцарского шефа организации». Всю беседу Мэра с Джоем «мисс Лола» удивленно молчала, вероятно, из конспиративных соображений.
Мэр одобрил деятельность нового члена организации и пожелал ему дальнейших творческих успехов.
— Крепитесь, Запад нам поможет! — сказал он на прощание голосом Остапа Бендера.
Организация испытывала острые финансовые трудности. Бильярдные турниры Джоя доходов не приносили. Старые члены общества выдохлись и не могли предложить свежих литературных шедевров. Так что на издание произведений Джоя пришлось взять кредит в швейцарском банке. Автора успокоили: после издания все расходы будут покрыты с лихвой. Пока же деньги решили брать у КЭБа. Вообще-то КЭБ — это концертно-эстрадное бюро, но в городе так звали Федорова, который это бюро возглавлял.
КЭБ имел рост метр с кепкой, и когда «Трест очистки» не успевал убирать с улиц снег, кепку КЭБа не видно было из-за сугробов. В служебную «Эмку» он запрыгивал с какого-нибудь бугорка, как ребенок на кобылу.
У КЭБа было много жен, много детей, много поклонниц, много юмора, много авторитета и, как говорили злые языки, много денег. КЭБ наводнял Б-ск цыганскими ансамблями, хорами, опереттами и зверинцами с такими измученными недоеданием хищниками, что их было жаль даже больше, чем людей.
Вот у этого человека Джой попытался ночью в подъезде отнять папку, «в которой деньги лежат». КЭБ, несмотря на миниатюрные размеры, оказался не робкого десятка. Борьба закончилась тем, что оба, сцепившись, скатились с лестницы. Операция была провалена…
Организация на время прекратила активную деятельность, тем более что кончились студенческие каникулы и многие ее члены разъехались на учебу. Джою это было преподнесено как отъезды в целях конспирации. Самому ему были вручены командировочное удостоверение и билет в общий вагон до Москвы, где он должен был связаться с резидентом и предъявить в качестве пароля половинку пятикопеечной монеты. Джой всячески пытался уклониться от командировки, и был посажен в вагон чуть ли не силой.
— Помни, у нас длинные руки, — зловеще предупредил Толян, оттесняя его грудью в тамбур. — Командировочные мы тебе не даем, так как ты по прибытии будешь поставлен на полное довольствие. Обратный билет тебе тоже возьмут.
Поезд тронулся. Джой стоял у окна и то ли махал, то ли грозил провожающим рукой.
Джой исчез. Напрасно ждали от него вестей, караулили у дома, спрашивали у знакомых. Наконец всё прояснилось: Джой не поехал в Москву, а добровольно явился в милицию с повинной.
Через какое-то время на дверях атомного убежища появился замок. За членами организации началась слежка. Вычислить «хвост» было несложно — из-под гражданского пальто виднелись галифе и сапоги. Литераторы-террористы водили его по квартирам советских и партийных работников, посещая под разными предлогами всех знакомых и незнакомых, по репетициям драмкружков и духовых оркестров, танцверандам, ресторанам и спортзалам.
Видимо, не получив нужного результата, органы решили использовать «перевербованного» Джоя. Появившись, как ни в чем не бывало, он стал требовать активизации подрывной работы, освобождения заключенных, захвата банка, диверсий на железной дороге и еще бог весть чего. Основной задачей, как все понимали, было выявление наличия оружия у организации. Ради достижения этой цели Джой готов был даже ехать в село Чаусы, где, как ему когда-то говорили, спрятана танкетка.
Игру пора было кончать. Все это понимали, но расходиться так бесславно никому не хотелось, и было решено имитировать взрыв моста через Нижний Судок.
Поздней сентябрьской ночью «диверсионная группа» в кромешной тьме, по мокрому от дождя репейнику пробиралась к центральной опоре моста. «Группа прикрытия» окопалась на кромке оврага, блокируя возможные контратаки. Наконец подрывники достигли цели и начали готовить адскую машину. Джой видел, как заводили часовой механизм и маскировали место установки. Когда была дана команда на отход, Джой, прыгая кошкой, понесся наверх, тяжело дыша и ломая кусты.
Часом позже у опоры колдовала приведенная Джоем оперативная группа. Ей удалось успешно обезвредить картонный ящик из-под конфет горпищекомбината с силикатными кирпичами и стареньким будильником внутри…
* * *
На этом можно было бы поставить точку, так как литературно-террористическая организация «Божья коровка» прекратила свое существование.
Прошли годы. Участники розыгрыша повзрослели: кто-то уехал из города, кто-то женился. Через четыре года после описанных событий Кава (Владимир Веселков) по никому не понятным причинам снял со стены отцовское ружье, уехал в лес за мясокомбинатом и застрелился. И тут история «Божьей коровки» получила свое скандальное продолжение — в Б-ске был старательно подготовлен истеричный, показательный судебный процесс.
Пафос его заключался в следующем. Вот, посмотрите, каковы те, кто «смотрит на Запад». Вот каков наш коммунистический ответ на ваши «шуточки». Вот что с вами будет. Зарубите себе на носу! Название «Божья коровка» стало нарицательным. …С фотографии одного из надгробий на б-ском кладбище смотрит улыбающееся лицо 19-летнего красавца Кавы, и в страшном сне не представлявшего, что все его друзья, включая увечного Джона и вечных девственников Боба и Чижа, станут «насильниками» и злодеями, которыми многие десятилетия будут пугать городских обывателей.
P.S. В б-ской истории судебный процесс над «Божьей коровкой» был, пожалуй, самым истеричным. Областной суд еще только допрашивал подсудимых и свидетелей (процесс продолжался с 20 сентября по 11 октября 1960 года), а в газетах уже сообщалось, что «общественность области поднимает свой гневный голос против тех, кто надругался над светлыми чувствами юношества».
Всего по делу «Божьей коровки» осудили десять человек. Двое получили по 10 лет, остальные — от года до трех. Через четыре года заместитель прокурора РСФСР Б. Кравцов написал протест, посчитав большинство доводов следствия неубедительны ми. Из всех заключенных в местах лишения свободы оставались только двое. Президиум Верховного суда РСФСР снизил им меру наказания — полностью реабилитировать стиляг было бы бестактно и политически неправильно…
Мостовщиков +
Дети мои!
На днях при участии программы Ылнзу (в английской раскладке клавиатуры — Skype) я получил следующее электронное сообщение: «Смысл всякой деятельности лежит вне ее пределов». Я бросился наводить справки, откуда нынче такая мудрость? Естественно, выяснилось, что — китайская. Пришлось русифицировать ее своими силами. Получилось что-то типа такого: Всякая деятельность состоит из бессмысленных поступков. Не знаю, как у вас, дети мои, но на меня это правило распространяется всецело. Лично я совершаю в своей жизни только бессмысленные поступки, которых наверняка хватит, чтобы никогда о них не писать. Но сегодня я хочу рассказать о трех наиболее странных из них. 20 с лишним лет назад родился Егор Сергеевич, мой старший сын. Когда это произошло, добрые врачи за цветы и водку, улыбаясь, сказали мне: он у вас первым делом обкакал хирурга, громко орет, хороший парень, жаль никогда не сможет ходить — слишком косолап. Егора Сергеевича на всякий случай сразу закатали по шею в гипс и велели так моего первенца и носить, в качестве небольшого памятника вечной молодости человечества.
Первое, что я сделал — взял ножницы и срезал весь этот гипс. Из стелек собственных кроссовок я сшил Егору Сергеевичу грудные ортопедические ботинки, и теперь он редко ночует дома, поскольку шляется в них черт знает где. Хотя вполне возможно, желание странствовать развилось у него от того, что в возрасте 17 дней я забыл его на прилавке киоска «Союзпечать», куда поставил, чтобы поймать такси в пять часов утра после ночи игры в преферанс. Таксист оказался святым человеком — когда мы отъехали пару километров, он спросил, не важная ли сумка осталась стоять в предрассветной Москве. Увидев в сумке ребенка, он назвал меня уродом, с чем трудно не согласиться.
Ровно 16 лет назад родился второй мой сын Василий Сергеевич. Когда он еще только созревал для бесконечных мелочей жизни, добрые врачи за коньяк и конфеты посоветовали мне отказаться от него, пока еще не поздно. Они просветили задумчивый зародыш Василия Сергеевича своим деятельным прибором и сказали: хороший парень, дышит глубоко, жаль окажется идиотом — у него водянка головного мозга. Первое, что я сделал, посоветовал добрым людям засунуть свой прибор себе в какое-нибудь другое, более темное место. Я и сам идиот, поэтому воспитывать себе подобных — главная задача моей осмысленной деятельности. Немного позже выяснилось, что за водянку мозга добрые люди приняли непосредственно мозг Василия Сергеевича, который, как выяснилось буквально на днях, теперь составляет в ходе обучения экстерном какие-то таблицы истинности. Василий Сергеевич даже показывал мне одну из них и, к счастью, позволил убедиться, что отец его так и остался кромешным идиотом, с чем бессмысленно даже спорить.
10 лет назад родилась моя дочь Пелагея Сергеевна. Когда это случилось, у нее не раскрылось одно легкое. Ее завернули в одеяло и снесли в реанимацию. Там ее положили в стеклянную капсулу, привинтили к голове мерцающую красную лампочку и, видимо, собирались за доллары и виски сделать из нее космонавтку, которая никогда не вернется на Землю. Добрые реаниматоры сказали мне: хорошая девчонка, жаль ничего поделать нельзя. Давайте мы поступим так: вы будете покупать итальянский иммуноглобулин по цене героина, мы будем его понапрасну тратить, и если она сама не захочет жить, ничего у нас не получится. И я покупал в подвалах этот иммуноглобулин, и меня пускали постоять у стеклянной космической капсулы в белом халате тишины. И пока никто не видел, я сказал капсуле с Пелагеей Сергеевной так: — Послушай, красавица Пелагея Сергеевна. Я понимаю, что сейчас ты похожа на носатую космическую ворону. Что у тебя сейчас и без меня полно всяких планов и дел. Но послушай меня — оставайся. Здесь у нас на Земле на самом деле столько всего интересного, дурацкого и ненужного, что я тебе все это покажу. И красавица Пелагея Сергеевна согласилась и, конечно, не дает теперь никому никакого житья. Хотя вчера в полночь она и подарила Василию Сергеевичу полотенце с собственноручно вышитой надписью «Don’t panic». И знаете, дети мои, с этим полотенцем трудно поспорить. Я по-прежнему совершенно без паники отношусь к тому, что я — абсолютно бессмысленный человек. Спасибо вам за это.
***
Дети мои!
Сегодня произошло невероятное событие, о котором я намерен немедленно вам сообщить: утром я спал.
Это было то самое сладкое в мире занятие, в процессе которого общеизвестная вам кошка Индульгенция по кличке Дуля, полосатая бесстыдная женщина, агрессивно занята только самой собой и носится по вашему лицу в погоне за пылью и комарами, но можно еще кинуть в нее подушкой, закричать «пойди прочь, бессмысленная божья тварь, сестра наша меньшая», перевернуться на другой бок и снова заснуть. Надо сказать, накануне ночью я от нечего делать пересматривал фотографии, которые сделал прошлой осенью на Белом море, когда мы с двумя моими полоумными дружками проплыли по нему на резиновой лодке с мотором 500 с лишним километров. Так что нет ничего удивительного в том, что мне снилось, будто я королевская мидия, которую выращивают на опущенных в холодную воду канатах вблизи знаменитого острова, носящего потустороннее имя Соностров.
Мне снилось, будто я, обычный двустворчатый моллюск, на самом деле происхожу из древней столицы Мидии города Экбатаны (ныне Хамадан), являюсь потомком царя царей и говорю с людьми на смеси бытового мата и урартской клинописи. Мои сильные мускулы-аддукторы гордо смыкались и изолировали меня от внешней среды вместе с ее зубаткой, премьер-министром Путиным, треской инфляции и селедкой социальной энтропии. Я просто спал. Я сопел, фильтруя соленые воды современности, и от этого у меня нарастал гипостракум (перламутровый слой). И вот как раз в эту минуту… та-та-та-там… зазвонил телефон.
Здесь опять потребуется небольшое лирическое отступление, потому что как раз накануне от нечего делать (вы, видимо, давно догадываетесь, что старику вообще нечего делать), я путем нечеловеческих усилий совершил акт интеллектуального пиратства и записал на свой iPhone новый рингтон. Он содержал фрагмент выступления какой-то французской бабушки-изуверки по имени Mme St. Onge, поющей, как бездомный пес, охраняющий дворовые гаражи-ракушки. В определенный, самый страшный момент пения (приблизительно 99-я секунда, 1 минута 39 секунд), когда музыка становится настолько реальной, что вы не слышите, а уже видите ее прямо перед собой и ясно, сильно, всем телом понимаете, как важно размозжить старушке череп табуреткой, Mme St. Onge окончательно срывается на крик и следующие тридцать бесконечных секунд повторяет: ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-аааааааааа!!!! Вот это и есть теперь мой.
И именно он зазвонил в момент, когда канат, на котором я, королевская мидия, рос всю свою сознательную жизнь медиа-моллюска (ладно, согласен, это поганый каламбур, но почему не позволить себе такое дешевое сравнение медиа- и мидия-бизнеса, в конце концов они мало сейчас отличаются друг от друга?), стали вытаскивать на поверхность, чтобы продать меня туристам по 200 рублей за килограмм (вместе с раковиной). — Не-е-е-е-е-ет!!!!! — закричал я, поднеся трубку к сонному еще уху.
— Здравствуйте, Сергей Александрович, — сказала трубка человеческим голосом. — Я сотрудница пятого канала питерского телевидения. Меня-Зовут-Та-Кто-Звонит-Вам-Утром-Сергей-Александрович-Когда-Вы-Думаете-Что-Вы-Такая-Охренительно-Важная-Мидия-Что-Идите-Вы-Все-В-Жопу-И-Не-Зоните-Мне-По-Утрам-Сергей-Александрович.
— Очень приятно, — ответил я.
— Сергей Александрович, мы снимаем фильм о пакте Молотова-Риббентропа.
— Я — то, что вам нужно прямо сейчас, — ответил я, стараясь побороть в себе ощущения, только что навеянные мне пением Mme St. Onge.
— Сергей Александрович, нам нужен архив журнала «Крокодил».
Журнал «Крокодил», дети мои, как вы знаете, я не редактирую второй год подряд, после того, как в процессе мидия-бизнеса выяснилось, что редкий турист хочет покупать его за 200 рублей (вместе с красивой упаковкой). Когда деньги на издание кончились, я вообще решил больше не писать ничего, не редактировать, бросил все и оставил архив для нарастания на него перламутрового слоя на попечение великого и нежно любимого мною Димы Муратова в сложной коридорной системе «Новой газеты».
— Вам надо позвонить полковнику Ваняйкину, — сказал я трубке, повергнув ее в долгое напряженное молчание, связанное, по всей видимости, с переоценкой значения пакта Молотова-Риббентропа.
Я очень люблю называть полковником подполковника Ваняйкина, бывшего Диминого военного командира, который служит теперь в «Новой газете» завхозом, а, стало быть, настоящим Мидийским царем. Урартсткая клинопись — это детский лепет по сравнению с тем, что видел и знает полковник Ваняйкин, поэтому при встрече с ним я всегда прикладываю руку к своей непокрытой голове отставного ефрейтора и произношу одну только фразу, способную спасти двустворчатого моллюска, которому все еще дорога его глубоководная, но бессмысленная жизнь: «Молодой. Исправлюсь. Желание есть».
— Мммм-даааа, — послышался наконец в трубке голос культурной столицы Отечества. — Архив мне, судя по всему, сегодня не найти…
— Мммм-даааа, — попытался я закончить явно неудавшийся разговор. — Выход один — звонить Риббентропу.
И тут, дети мои, собственно, и произошло событие, о котором я хочу рассказать.
— Сергей Александрович, — повеселела трубка. — А может быть, вы знаете телефон Мостовщикова-Старшего?
Здесь пришлось взять паузу уже мне. Человек, известный мне, как Мостовщиков-Старший, то есть, собственно, мой отец и ваш, дети мои, дед, умер 12 лет тому назад. Умер, не дав мне возможности толком наговориться с ним, наплакаться, нажаловаться и нарадоваться вместе с ним.
— Телефона Мостовщикова-Старшего у меня нет, — сказал я после некоторого раздумья. — Но если вы его найдете, я буду вам страшно благодарен.
— Нет, вы просто поймите Сергей Александрович, — попытался утешить меня голос из эфира. — Просто говорят, что есть еще теперь какой-то Младший Мостовщиков, тоже журналист. Вы не он?
— Теперь я за Старшего, — ответил я и положил трубку.
Я теперь за Старшего, дети мои.
Граф с Чермета
Умер Граф
Умер Граф. Официальные лица и малознакомые люди знали его как Владимира Александровича Бизюкина. Друзья его звали Граф. Говорят, ещё со школы. Я, хоть и могу считать себя его другом, так и не начал обращаться к нему «Граф». Только в лесу. Так кричать удобнее.
Как-то странно, что Граф умер. Он вроде не собирался. Всегда всем говорил: «Ни за что не волнуйся. Я тебя очень хорошо похороню». И ещё говорил: «Похороны лучше, чем день рождения. Подарок нести не надо». Он вообще много чего говорил. Только его слушали мало. Можно понять. Не всем нравится, когда тебе в морду курят «Приму» или что там он последние годы курил? «Святой Георгий»? Или ещё какую-то гадость? Я слушал.
Тема, с которой начинался разговор с Графом, не имела совершенно никакого значения. Это могло быть про грибы (он безумно любил искать грибы), про рыбалку (хотя лес он любил больше), про его деревянную резьбу (всю жизнь он что-то вырезал), про школу (в начале трудовой биографии он преподавал литературу, а в конце — труды), про газету «Б-ское время» (номинально он работал там в отделе рекламы, а фактически он работал Графом), про массовые праздники (он поставил их множество), про КВН (он знал в нём толк, в том, изначальном, со смешными и умными текстами), про его книги (он тут затеял мемуары писать про старый Б-ск, да не закончил), про детей и внуков (их у него есть). Неважно про что. Но рано или поздно разговор обязательно уходил в театр и оттуда уже не возвращался. Мне кажется, про театр Граф знал всё. Не в энциклопедическом смысле, хоть и этого не отнять. Он, я думаю, понимал, как театр делается.
А его никто не слушал. Вернее, почти никто. И я не дослушал.
Похороны послезавтра. В кругу моих знакомых как-то повелось на похоронах вспоминать смешные истории про виновника торжества. Нет, не специально. Просто так получается. И не за поминальным столом, конечно. На курилке, среди своих. Возможно, это кощунство, но мне нравится. И послезавтра мы наверняка вспомним, как Граф в «Б-ском времени» каждый обеденный перерыв жарил сало с луком прямо в отделе рекламы. И как он второпях написал песню для фольклорного ансамбля, а её потом напечатали в сборнике как народную 17 века. И много ещё чего вспомним. И вынесем гроб под аплодисменты, как и положено выносить гроб Артиста.
Не волнуйтесь, Владимир Александрович, мы Вас хорошо похороним.
Петренко (м)
Мой Чермет
— Ты где живёшь?
— На Чермете…
— А это где?
— Чермет?.. Чермет — это на Чермете.
Чермет начала 50-х — это было совершенно особое городское образование. Хотя и за городом-то он только числился, оставаясь по существу пригородом, при том довольно обособленным пригородом. «Пошли в город», — говорили у нас, направляясь в центр, тем самым как бы отделяя свой район от собственно Б-ска. О том, где проходит граница между «городом» и Черметом, среди брянской шпаны шли ожесточённые, часто доходившие до драк, споры. При том все спорщики доказывали свою принадлежность именно к Чермету, а уж никак не к «городу». «Городскими» почему-то быть никому не хотелось, высоко котировались также Макаронка, Карачиж, но о них пусть вспоминают другие. Черметообразующими были три улицы: Ленина (ныне Фокина), Советская, Пролетарская, к ним примыкала куча улочек, проулков и тупичков. Бесспорно, черметовская территория начиналась от роддома. Хоть самого роддома тогда еще здесь не было, на этом месте за дощатым забором была какая-то заготконтора. Что она заготавливала, сегодня вряд ли кто вспомнит, помню лишь, что мы, пацаны, лазали туда воровать (или, как у нас говорили, тырить) мочёные яблоки из огромных дубовых бочек, стоявших прямо у забора.
Прямо в этот забор был встроен деревянный продовольственный ларёк. Непривычное понятие для современного слуха — сегодня всюду киоски, но в те годы не было понятия «киоск», да и не тянул на «киоск» наш черметовский ларёк — на улицу одно окошко и под ним узкий подоконник, он же прилавок. В ларьке продавали хлеб, а иногда, при большом стечении народа, муку и сахар. Это были очень нужные и очень дефицитные товары: торговля ими сопровождалась извечным: «Всем не хватит! Больше кило в одни руки не давать!» Поэтому за подобными товарами ходили семьями — чем больше пришло, тем больше купили.
Первыми у ларька, зачастую раньше появления самого товара, всегда оказывались вездесущие и всезнающие черметовские старушки. Они занимали очередь и бежали домой поднимать семейство. В считанные минуты весь Чермет от старого до малого выстраивался в галдящую очередь…
— Что давать будут? (заметь читатель: не «продавать», а именно «давать» — тоже примета времени, знаете ли)
— Муку…
— Да нет, сахар! Клава сказала, что может даже гречку привезёт…
— Иди ты?!!!
— Точно?
— Говорила…
Вокруг толпы, которая ещё не стала очередью, сновали мы, малолетняя черметовская шпана. Это был наш звёздный час. Мы тогда ещё не знали слова «бизнес», но именно им мы и занимались. Каждый спешил договориться с несколькими семьями и на время становился их ребёнком, а это лишнее «кило» в семью. На Чермете жило не так уж много народа, взрослые хорошо знали друг друга, знали кто из какого дома, из какой семьи. Другое дело дети. Кто чей знали только родители да самые близкие соседи, а сосед соседу, как известно, глаз не выклюет, по крайней мере в очереди — сосед за соседа горой. Поэтому у ларька все семьи становились очень многодетными. Но были и свои тонкости: нельзя договариваться с близкостоящими семьями — запомнят; нельзя слишком увлекаться договорами — примелькаешься; нельзя маячить в одном месте, надо двигаться и подскочить к ларьку в самый последний момент.
Вообще очередь, как основной признак социализма, была школой, в которой мы познавали жизнь. «Кило в руки», «Вас здесь не стояло» или авоськой по физиономии, особенно, если авоська в руках известной актрисы или твоего школьного учителя, — это, знаете ли, воспитывает…
И, видимо, чтобы по возможности уменьшить воспитательный эффект, торговля начиналась только после прибытия участкового милиционера. Тот по-хозяйски проходил вдоль собравшихся, у ларька резко на каблуках поворачивался кругом, а толпы уже не было, была длинная колонна людей, как на первомайской демонстрации. Участковый делал еще один поворот, стучал в окошко ларька, и звучало заветное: «Клава, давай…»
Клава пересчитывала по головам первую семью, включая «временноусыновлённых» детей, и отвешивала соответствующее количество килограммов дефицита. «Приёмные дети» тут же получали своё вознаграждение и мчались к новым «родителям». Это скоротечное усыновление продолжалось, пока не заканчивался товар в ларьке.
Кстати именно здесь, у ларька я, трёхлетний пацан, получил первый урок вежливости, здесь понял великую силу культуры. Моя бабушка Дуня учила меня здороваться со всеми взрослыми первым: «Культурный мальчик должен уважать старших». Бабушку свою я очень любил и говорил своё «здрасте, дяденька (тётенька)» каждому встречному-поперечному не потому, что был «культурным мальчиком», а просто из любви к бабушке. Своё «здрасте, дяденька» я раз десять в день говорил здоровенному старшине милиции с пышными буденовскими усами. Тот неизменно отвечал: «Здравствуй, здравствуй, племянничек». Однажды, когда в наш ларек в очередной раз завезли дефицит, моя бабушка как-то вовремя не сориентировалась, и мы с ней оказались в самом конце очереди. Надежд достоять до своей доли дефицита практически не было, магическая фраза «Всем не хватит» буквально висела над всеми, народ начинал звереть, и участковый вызвал подкрепление… Этим подкреплением был тот самый старшина милиции, он пришёл помогать наводить порядок и тут же получил моё «здрасте, дяденька».
— А племянничек, привет, а ты тут чего?
— А мы с бабушкой…
— И где ж твоя бабушка?
— Вон там…
Старшина взглянул в конец очереди и понял всю безнадежность нашего положения. Но он был мне «дяденька», а я ему — «племянничек», то есть родня… Старшина одним движением руки отодвинул всю очередь от ларька и поставил нас с бабушкой к самому прилавку. Очередь даже не пискнула — власть в те времена почитали.
А этот известный всему Чермету ларёк был важной точкой на карте Б-ска 50-х, пограничным столбом между «городом» и Черметом. Возможно, кто-то будет спорить и говорить вам, что я не прав, и граница Чермета проходила гораздо ближе к центру, где-то возле тюрьмы или около стадиона «Динамо»… Не верьте. Это всё происки тех, кто хотел жить на Чермете, но не случилось — вот и пытаются передвигать границы. Но Чермету чужой земли не надо… Поверьте старому черметовцу, не раз кулаками доказывавшему эту истину — пограничным столбом был именно ларёк. По одну сторону ларька жили «наши», по другую «не наши».
Давно уже нет того ларька… А Чермет? Чермет есть, куда он денется…
Чермет давно уже не пригород, а чуть ли не центр города. А когда-то пустыри составляли основу черметовского ландшафта. Сразу после пограничного ларька город заканчивался даже внешне: булыжная мостовая превращалась в грунтовку, всё чаще появлялись пустыри с отдельно стоящими домами, бараками и сарайчиками, переделанными под жильё. Около моего дома огромный пустырь с озером соединял две основные черметовские улицы: с одной стороны пустыря стояло несколько чётных домов улицы Ленина (ныне Фокина), с другой — нечетные домишки Пролетарской улицы, пустырь заканчивался бараками…
Бараки, как впрочем и всё черметовское жильё, тема особого разговора. У моей семьи по черметовским понятиям было хорошее жильё: коммуналка на три семьи в двухэтажном срубе на два подъезда. Десятка два подобных домов построили на Чермете пленные немцы для комсостава авиационного полка, который размещался сразу за оврагами. В 60-е годы военный аэродром стал гражданским, а в 90-е его вообще перенесли за город. Но в 50-е мы,
мальчишки, с восторгом любовались взлётами и посадками серебристых «ястребков» сквозь аэродромовскую «колючку». Видимо, военных лётчиков оказалось меньше, чем предполагалось, и часть построенных для них домов перешла к городу. Городское руководство передало дома самым нужным и важным для города организациям. Как ни странно сегодня это слышать, но самым нужным для послевоенного Б-ска был признан театр — ему выделили целый дом, в котором мои родители, работники театра, получили комнату. Это была неслыханная удача.
Это была проходная комната. В другой — жила другая семья, и, чтобы попасть к себе, они ходили через нас. Это были молодые артисты, к ним естественно приходили гости, пели песни, танцевали, часто до утра, иногда они заглядывали к нам, спрашивая: «Мы вам не мешаем?» — «Да нет, что вы, всё нормально».
Третья семья имела отдельную комнату со своим выходом на общую кухню, где на длинных, сбитых из досок столах, постоянно пыхтели примусы, а для серьёзных готовок или стирок растапливали огромную плиту. Но плита потребляла много дров, а с дровами было туго, их экономили, берегли до зимы — отопление было печное. О стирках соседей предупреждали заранее, чтобы те успели приготовить обед: во время стирки даже две семьи на кухне не помещались.
В общем, жили мирно, кухонные скандалы возникали, но не очень часто. Другое дело в бараках — там скандалы практически не затихали. И причины тому были.
Барак — жуткая примета послевоенного Б-ска. Длинное с покатой крышей сколоченное из досок строение, скорее напоминающее коровник, нежели жильё человека. Внутри оно фанерными перегородками было поделено на небольшие комнатки. В такой комнате могли жить иногда до десяти человек — семьи бывали разные. В конце тёмного коридора находилась общая для всех кухня, на которой в любое время дня и ночи кто-то что-то делал — семей в бараке жило много, а кухня была одна. Именно из-за неё жильцы барака ссорились, неделями враждовали, иногда даже дрались, но всё равно терпели и верили в светлое будущее, когда государство решит жилищную проблему.
Правда, на государство надеялись далеко не все. С каждым годом росло число домовладельцев. Как эти люди ухитрялись, отказывая себе во всем, преодолевая всевозможные административные препоны, доставать стройматериалы и строиться, я до сих пор понять не могу. Такая стройка могла тянуться десятилетиями. Поначалу этих людей жалели, им сочувствовали, но после завершения строительства начинали завидовать и называть «кулаками». Власть тоже не жаловала эту категорию черметовцев, мучая их постоянными проверками и придирками.
Была на Чермете и своя «элита» — «прокурорские дома». Несколько двухквартирных домиков было построено над самым оврагом для работников областной прокуратуры. В плане наличия или, вернее, отсутствия каких-либо «удобств» эти дома ничем не отличались от остальных, но жильё от государства в несколько комнат и без соседей по кухне было пределом мечтаний любого черметовца.
Но если отбросить «квартирный вопрос», то в остальной жизни черметовский люд мало чем отличался друг от друга. Все примерно одинаково мало зарабатывали, все в основном кормились со своего подворья, все держали кур и свиней, выращивали свеклу, капусту, морковку, спасительницу картошку — благо пустующей земли на Чермете хватало. По вечерам во всех семьях стучали швейные машинки — хозяйки что-то перешивали, перекраивали, вечно обменивались какими-то выкройками, решали неразрешимые проблемы, типа, как из протертых отцовских брюк построить сыну штаны с курточкой. Пошив же новой одежды для взрослых был вообще событием неординарным: накопить денег, «достать мануфактуру», выбрать фасон…
Шитье любой серьёзной обновки по суете вокруг неё внешне мало чем отличалось от создания знаменитой гоголевской шинели. Купить готовый костюм, по-моему, вообще было негде.
Никогда не забуду, как рыдала мать над своим случайно порванным единственным крепдешиновым платьем, как всей семьёй несли это платье к театральной портнихе и долго мудрили с реставрацией. Люди, способные что-то починить, вообще очень высоко котировались на Чермете: черметовцы редко покупали что-то новое, чаще чинили старое. Всеми уважаемый черметовский сапожник дядя Гриша чинил мои сандалии несчётное число раз. В благодарность, кроме платы, ему несли найденные куски кожи, резины и всего, что могло сгодиться в его сапожном деле.
Бедно жил Чермет, трудно, но весело…
Наступление цивилизации
А как любил и умел гулять Чермет!.. В те годы у нас не праздновали что-то, закрывшись в своих комнатах. Если торжество касалось нескольких семей, то чью-то комнату освобождали от мебели и превращали в банкетный зал, а если позволяла погода, столы накрывали во дворе. Зачастую в накрытии такого стола принимали участие почти все соседи. Повод есть, а присоединиться к чужой радости черметовцы всегда были готовы, и несли на стол всё, чем в данный момент были богаты. Хозяйки в огромные тазы крошили овощи для винегрета (всякие изыски типа салатов появились значительно позже), резали сало, варили картошку, мужчины скидывались на спиртное (покупали, как правило, только водку и хлеб).
Наконец, все усаживались за столы и начиналось… При этом поводом ко всеобщему торжеству могло быть что угодно: от приезда дорогой родни до 5-летнего юбилея ребёнка. К примеру, на каком-то моём дне рождения стол тянулся через весь наш двор. На одном его конце во главе с моей бабушкой сидели все мои друзья, на другом — все наши родители. В какой-то момент детей отводили спать, но застольные песни взрослых могли звучать до утра.
Иногда летом, в особо жаркую погоду, выносились матрасы, подушки, одеяла, и весь дом после застолья оставался ночевать во дворе, чтобы, проснувшись, продолжить праздник. Во дни народных торжеств: 1 и 9 мая, на Пасху — весь огромный луг вокруг озера превращался в один большой пикник. Вокруг расстеленных на траве скатертей сидели веселые компании взрослых, между ними, в надежде на вкусную жамку, носилась малолетняя ребятня, ребята постарше играли в городки, иногда, если был мяч, в волейбол. В какой-то момент вставали «отцы семейств» и начиналась большая игра в лапту. Дети умирали от смеха, мамаши прыскали в платочки, глядя на «игру» своих изрядно подвыпивших мужчин.
Когда Чермет перестал играть в лапту, трудно теперь сказать. Наверно, с началом строительства больших домов или булыжной мостовой. Ведь именно эти события постепенно присоединили Чермет к «городу» и также постепенно изменили его психологию.
Наступление цивилизации начиналось как-то незаметно и даже по инициативе самих черметовцев — с водопровода. Никаких бытовых удобств в домах на Чермете не было, но в городе уже появились дома с водопроводом. Черметовцы решили, что они не хуже городских, и решили провести себе в дома водопровод самостоятельно, т. е. вскладчину. Директор театра, живший в нашем доме, добыл в горсовете разрешение, среди жильцов нашлись специалисты-сантехники, где-то закупили трубы, отрыли траншеи… Словом, всем миром провели на Чермет воду. Вообще-то, честно говоря, вода на Чермете была и раньше — за ней ходили на колонку, ходили обычно женщины или старшие дети. Человек с двумя ведрами на коромысле — довольно привычная черметовская картина. От каждого дома через луг к колонке вела своя тропинка, двигаясь по которой нужно было быть предельно внимательным, чтобы уберечься от жестокой детской шутки — манка. «Манок» — петля из тонкой проволоки, прибитая к земле длинным гвоздём. Если зазевался, нога попадает в манок, и ты летишь на землю носом и моментально оказываешься в луже из своей же воды.
Черметовская шпана вообще любила жестокие шутки. В нашем доме жила одна очень суеверная молодая женщина. Каждый день она находила около своей двери иголку или булавку, а это к несчастью. Несколько пустых ржавых вёдер специально для неё лежали в кустах. И стоило ей появиться на улице, как тут же к ней навстречу направлялся кто-нибудь с пустым ведром, что тоже, как известно, счастья не приносит.
Но истинная беда случалась, если малолетки узнавали, что она собирается на свидание. Такую ценную информацию, живя в коммуналке, утаить практически невозможно — она ещё не успела допудрить носик, а уже в кустах на всех возможных направлениях её движения сидели пацаны с кошками в руках. Кошка переходит дорогу, соседка начинает метаться вправо, влево, назад, но всюду её ждут эти «хвостатые твари», предвестники беды. В конце концов, набравшись мужества, она шла на свое свидание, трижды плюнув через плечо, что полной гарантии предотвращения грядущей беды всё-таки не даёт. Не знаю, кошки ли тому были виной или что другое, но все её свидания ни во что не вылились — мужа себе она так и не нашла.
Не менее изощренно шутили ещё над одной молодкой. Она жила вдвоём с матерью, которая часто работала в ночную смену. В такие дни к дочке приходил «дорогой гость», что тоже не оставалось незамеченным черметовскими шутниками. К её окну на нитке привязывалась маленькая картошка, которой, издали дёргая за нитку, после того как погас свет, стучали в стекло, словно мать вернулась и просит открыть дверь… В квартире загорался свет, начиналась всем понятная суета, но открывать дверь было некому… Через какое-то время всё повторялось.
Почему-то у нас больше всего шутили над влюблёнными. Над своими, а особенно над чужими. В те далекие годы овраги, ещё не застроенные дачами, были любимым местом прогулок и уединений парочек. Заметив в каком-нибудь из ответвлений оврага «воркующих голубков», черметовская братия тихо подползала к кромке оврага, укладывала на него винтовочные патроны, присыпала их сухой травой, которую затем поджигала. Грохот выстрелов, над головами влюблённых свист пуль… Что испытывали парочки, трудно передать, но черметовской шпане всё это нравилось очень.
Кто-то может усомниться в правдивости моего повествования — откуда у детей боевые патроны? Вот уж чего-чего, а патронов на Чермете было завались, и всё из-за наступления той же цивилизации. На Чермете сломали первый барак, приличные доски растащили по дворам, щепки, опилки и прочий мусор бульдозером сгребли в кучу, подожгли и… началась канонада.
В бараках сразу после войны жили солдаты, для которых собственно эти бараки и строились, и на чердаках под опилками оказалось много боеприпасов и наших, и немецких. Стреляющие остатки барака кое-как затушили, но пока власти сориентировались в случившемся, мы, мальчишки, буквально просеяли своими руками все опилки не только от сломанного барака, но и на чердаках всех остальных черметовских строений. Результаты раскопок, надо вам сказать, потрясли бы любое воображение… Так что патроны были пустячком, детской игрушкой.
Кстати об игрушках. На Чермете редко кому из детей покупали игрушки, их делали из всего, что попадало в руки: обод от автомобильного колеса катали крючком из проволоки по дороге, нашел пару-тройку подшипников, сделал самокат — можно кататься, рейка и крышка от консервов превращались в шпагу — можно устраивать поединки… А сколько всего «полезного и нужного» лежало на складах конторы «Вторчермета», имя которого стало именем всего района. Короче, что нашёл, в то и играй.
Но у меня была покупная игрушка — железный самосвал с «заводилкой», при помощи которой поднимался кузов. Этот самосвал делали понимающие люди, делали «на века» с большим запасом прочности. Моим он был чисто номинально: девочки возили в нём на прогулку своих самодельных кукол, старшие пацаны использовали его как самокат, становясь одной ногой в кузов и отталкиваясь другой, я подвозил в нём кирпичи (два кирпича за рейс) на стройку первого на чермете кирпичного дома. Дом этот и сейчас
стоит на углу улицы Фокина и бетонного моста через овраг.
Одновременно со строительством этого дома стали мостить черметовские улицы. Первой обустроили улицу Советскую — булыжная мостовая протянулась от центра до военного аэродрома, по ней даже пустили рейсовый автобус, а вот с улицей Ленина (ныне — Фокина) вышла заминка. Разворошив бульдозерами веками утрамбованную грунтовку, в середине лета строители резко прекратили все работы прямо напротив строящегося первого кирпичного дома.
И как по заказу сразу пошли дожди, дом кое-как достроили, а вот недостроенная дорога превратилась в такую непролазную хлябь, что перейти с одной стороны улицы на другую стало практически невозможно. В начале осени прямо напротив моего дома по самые стекла в эту глинистую жижу провалился «газик». Шофёр, видимо, не знал, где кончается мостовая, и на полной скорости слетел с дороги в самое месиво… «Ох, и тяжкая это работа — из болота тащить…» — писал о похожей ситуации Чуковский.
На следующий год булыжную мостовую разобрали, булыжник куда-то увезли и стали класть на щебёнку асфальт. По завершении этой стройки века строительство на Чермете стало набирать обороты, пустыри быстро застраивались двухэтажными кирпичными домами, но это уже были не привычные коммуналки, а дома с отдельными квартирами и сантехническими удобствами. В первый такой дом, как на экскурсию, ходили смотреть на индивидуальные ванны и унитазы. В одном из таких домов получила квартиру семья артиста А. Бабаева, и все жильцы нашего «дома артистов» считали обязательным хоть раз помыться в бабаевской ванне и посетить бабаевский туалет. Хозяева не противились этим стремлениям, понимая тягу черметовцев к «светлому будущему».
А строительство продолжалось. Чермет всё больше терял свой первоначальный облик. Срубили знаменитую черметовскую грушу — огромное дерево, на ветвях которого могла поместиться вся наша детвора. Дошла очередь и до озера — любимого нашего места отдыха.
У меня и сейчас перед глазами его покатые зелёные берега, водная гладь с плавающими утками.
С этими утками вышла забавная история. Моя соседка купила на рынке десяток яиц какой-то новой породы кур, подложила их под свою наседку, а вывелись утята — бедная мамаша хохлатка долго не могла привыкнуть к плавающим деткам.
В этом озере однажды весной я чуть не утонул. Взрослые ребята катались на льдинах, и я четырёхлетний дурачок тоже полез. Спасла меня бабушка, восклицая: «Ах, какой смелый у нас Вовочка! Ах, как он далеко заплыл!» — бабушка указывала мне дорогу к берегу. Правда, когда я на него ступил, её восторженный тон куда-то сразу исчез. Ну, о порке рассказывать не буду.
Зимой озеро превращалось в каток. Коньки «снегурки», крепившиеся ключиком к ботинкам, у девочек; «канадки» — гордость парней; просто где-то найденные разнокалиберные полозья привязанные верёвками к валенкам, какая разница, главное — выйти на лёд. В городе катка ещё не было, и «городские» с беговыми коньками (как у нас говорили, «ножами») тоже приходили на наше озеро и носились по кругу. Именно от «городских» я впервые услышал мат.
Надо сказать, что в те годы на Чермете редко матерились, а при женщинах и детях вообще никогда. Мне было лет пять, коньков у меня не было, а на лёд хотелось, я катался «на ногах» и попал под ноги «городскому на ножах»… Он-то меня и послал к матери. Я удивился странному словосочетанию и пошёл проконсультироваться к бабушке…
И вот это озеро, этот источник информации, было решено засыпать и на его месте построить дом. Сегодня бы какие-нибудь «зелёные» подняли бы шум, у озера нашлось бы много защитников, но тогда все молчали; сопротивлялось только само озеро. Его засыпали — оно прорывалось, его снова засыпали, а оно снова прорывалось, теряя глубину, но увеличиваясь в размерах. Борьба была неравной: озеро одно, а строителей много, у них «наука и техника». Последний раз взбрыкнуло озеро, когда уже почти построили дом — прорвался ключ, но его засыпали и укатали тракторами.
Ещё доламывали последние бараки и наиболее ветхие строения, но уже не было обособленного пригорода — город поглотил Чермет, изменив и его внешний вид, и его психологию.
Последний и самый жестокий удар по черметовской вольнице нанесло дачное строительство в оврагах. Овраги были нашей естественной средой обитания, местом «великих боёв» и не менее великих замирений, местом детских пикников вокруг костра с печёной картошкой и уже взрослых «соображений на троих». В сегодняшних оврагах и собакам-то погулять негде, не то что детям. А когда-то…
Овраги
В 50-е годы лишь плоские вершины отдельных отрогов оврагов были распаханы под картошку, но это никому из нас не мешало, наоборот: наличие картошки решало наши продовольственные проблемы. Сероватый дымок костров и запах печёной картошки постоянно витал над оврагом. Можно сказать, что это были своеобразные черметовские маяки: подошёл к оврагу, поводил носом, втягивая запахи, и ты уже знаешь, где искать своих друзей-приятелей.
Спустился в лощину, подошел к костру, выкатил прутиком картофелину, побросал на ладонях, разломил…
— Эх, хорошо!
— Соль есть?
— Не-а…
— Без соли это не дело…
— Надо чеснок искать.
— Ага, надо. Ты за костром последи…
И вся шатия-братия поползла по горкам в поисках дикого чеснока, которого росло на склонах оврагов превеликое множество. А чеснок с картошкой — это уже пиршество. Кроме чеснока в оврагах росло ещё очень много всякой съедобной травы. Умение находить её, как и желание её искать, передалось нам, видимо, по наследству от детей военного времени — голода уже не было, а привычки голодной поры остались. Мы, собрав нужное количество «подножного корма», возвращались к костру, раскладывали свои зелёные трофеи, и пиршество продолжалось…
— Что-то сегодня тихо… Нет что ль никого?
— Почему нет? Вон прокурорские на «Длинке» крепость роют…
— А вы чего к ним не пошли?
— Да мы к Алексею-рыбаку собирались, он там за «Мелом» коптильню вырыл…
— Себилей коптить?
— Ага. Пойдем глянем, а потом к прокурорским на «Длинку»
Покончив с картошкой и дожевывая на ходу пучки тонких стеблей дикого чеснока, наша ватага двигается в сторону «Мела».
«Мелом» назывался склон оврага в районе нынешнего бетонного моста. Здесь черметовские хозяйки копали мел для побелки своих квартир — магазинные краски были дороги и в дефиците, а о таких изысках, как обои, у нас ещё слыхом не слыхивали. Чуть дальше всего изрытого мелокопателями склона на одной из горок возится Алексей-рыбак.
Этот парнишка был по-своему знаковой фигурой для Чермета. Все черметовцы были, так сказать, «домоседами», то есть покидали свой район довольно редко: малышей пасли бабушки и особо далеко не отпускали, старшие ребята если и ходили, то на футбол. Алексей каждое утро с ореховым удилищем на плече шёл на рыбалку. То ли родители за ним следили не так усердно, как за нами, то ли развивали в нём самостоятельность… Но мне иногда кажется, что ходить и ловить рыбу Алексей-рыбак начал одновременно.
Рыбаков на Чермете хватало, но все они ездили на свои рыбалки от случая к случаю, долго готовились, налаживали снасти, колдовали над прикормками и наживками, а в результате… А в результате вся их рыба помещалась в их собственных рыбацких историях. Мой отец со своими театральными приятелями регулярно рыбачил, у одного из них была лодка с мотором, и они уезжали куда-то далеко с ночёвкой, но всех привезённых из этих речных вояжей рыб я до сих пор, как мне кажется, помню в лицо; помню и гордый отцовский профиль, когда он выкладывал на кухонный стол пяток окуней из своего садка.
У Алексея-рыбака садка не было, не было бамбуковых удилищ, покупных поплавков, и уж, конечно, не было лодки. Зато у него была рыба, всегда была, каждый день… Окуни, краснопёрки, плотва, нанизанные на кусок суровой нитки, солидной снизкой покачивались у его ног, когда он возвращался с рыбалки. Эта неизменная вечерняя снизка рыбы была предметом зависти и уважения всей нашей черметовской ребятни.
Вот к этому самому Алексею-рыбаку и направлялась наша разудалая компания, не зря направлялась, было на что посмотреть: Алексей коптил рыбу. Коптил способом простым до гениальности. Он вырыл под вершиной холма небольшую пещерку, проковырял в ней сверху дырку на манер печной трубы, развёл в пещере костерок — и коптильня готова. Костерок дымит себе помаленьку, в шалашике из веток над трубой коптится рыба, а Алексей-рыбак лежит на травке, покуривает да нас дожидается, может и рыбкой свежего копчения угостить — душа-то широкая, не жалко.
Отведав копчёности, хвалим радушного хозяина и тут же предлагаем некоторые усовершенствования коптильни, но понимания не находим — Алексея и его конструкция вполне устраивает. Обиженные в своих лучших чувствах, оставляем рыбака и направляемся к «прокурорским» на «Длинку».
«Длинка», самая большая расщелина в нашем овраге, с каждым годом становилась всё больше — талые воды и дожди делали своё дело, размывая её всё дальше и дальше, чему мы все были рады. Ее длинный (что и определило ее название), пологий спуск в зимнее время собирал всех начинающих лыжников и любителей санок.
Овраг зимой был, пожалуй, самым густонаселенным местом в городе вообще и на Чермете в частности. Катание на лыжах и санках было всеобщим повальным увлечением. При том мало кто занимался скоростным бегом на лыжах, все исключительно скоростными спусками. Благо конфигурация оврагов позволяла найти спуск любой сложности. На иную горку и посмотреть-то страшно, а по ней уже несётся очередной головорез с развевающимися завязками шапки-ушанки. Незавязанные уши шапки-ушанки были особым черметовским шиком… Малыши завязывали уши шапок под подбородком (а то упадешь, шапку потеряешь, и вся голова в снегу!). Ребята поопытней завязывали на затылке — шапка сидит глубоко, просто так не свалится, и собственные уши прикрыты…
Шапка с ушами, завязанными на макушке, слишком добропорядочна, в такой только в гости ходить… А вот шапка, не завязанная совсем, но обязательно с длинными развевающимися завязками говорила о мастере горнолыжного спуска. У этих сорвиголов даже лыжи были особые: не более полуметра спереди и практически без задка, ну так, сантиметров пять из-под пятки торчит. Эти лыжи делались или из старых детских, или из обломков взрослых. Сделать их было не трудно — трудно на них было ездить, тут требовалась особая сноровка, но овладевшие ею становились виртуозами. Они, как обезьяны, быстро взбегали на любую вершину по любому склону, как черти, неслись вниз, делая при этом немыслимые зигзаги, и резко тормозили поворотом кругом, обдав фонтаном снежной крошки какую-нибудь зазевавшуюся бабулю с «унучеком» на санках.
А санки?.. Это сегодня они зимний прогулочный транспорт для малышей. А по крутому склону да через трамплин?.. А вдвоём на одних санках?.. А паровозиком, когда несколько санок связаны друг с другом, да по крутой извилистой трассе?.. Говорят, что бобслей пришёл в наш спорт из-за границы… Ой, не знаю, не знаю.. У нас в черметовсих оврагах был такой бобслей — никакому ихнему бобслею и не снилось. Находились умельцы, делавшие санки на пять-десять человек. Представьте себе, как эта доска на полозьях, полная народа, несется вниз по склону и вдруг переворачивается на одном из поворотов: крик, гомон, смех — хорошо! А как саночники любили «Длинку»! Почти полкилометра извилистого спуска — красота! А летом «Длинка» манила нас своими крутыми обрывами, в которых так удобно было устраивать «крепости».
Вот именно к такому фортификационному сооружению и направлялась наша компания. «Прокурорские», т. е. дети работников прокуратуры, жившие, как теперь бы сказали, в коттеджах над оврагом, с азартом рыли ямы у самой кромки обрыва. «Крепость» представляла собой систему окопов, соединённых между собой подземными лазами, край обрыва становился «крепостной стеной», в ней порезались бойницы для отражения «вражеских атак». В задних стенках вырывались печки, наподобие коптильни Алексея-рыбака, в которых можно было и картошку испечь, и так у огонька покемарить.
Здесь наша помощь тоже не понадобилась: «прокурорские» уже заканчивали работу. Крепость получилась знатная, просторная, с удобными ходами сообщения, с довольно толстой внешней стеной (такую враз не сломаешь) — одним словом, удобная и для мирной жизни, и для военных действий, в чём вскорости мы убедились. Вступать в общую игру в качестве нападающей стороны особого желания не было, строить свою крепость на противоположной стороне — тоже, мы уже собрались уходить, как появились «заовражные».
«Заовражными» у нас называли живущих в районе нынешнего 311 квартала, здесь был совхоз «Красный кооператор», ребят жило много. Чермет и Заовражье вели постоянные войны за обладание той или иной сопкой, тем или иным склоном. Главным же предметом взаимных территориальных претензий была «Длинка», на которой мы как раз и находились. Поделить «Длинку» не было никакой возможности, уступить не позволяло чувство «национальной гордости». В воздухе запахло дракой, «заовражных» было значительно больше, битва предстояла жестокая. После небольшой словесной дуэли типа: «Валите отсюда!» «Сами валите, придурки!» «Кто придурки? Сами вы…» — далее после использования всех возможностей «великого и могучего русского языка» с чьей-то стороны летел первый камень, и побоище начиналось.
«Заовражные» лезли к крепости по склону обрыва вверх, мы всеми подручными средствами сбрасывали их вниз, в воздухе летали куски засохшей глины, то к одной, то к другой стороне подходило подкрепление… Иногда такая драка могла разрастись до вселенского масштаба, втянув в себя и весь Чермет, и всё Заовражье. Разбитые носы, синяки по всему телу, ссадины на локтях и коленках, иногда переломы и небольшие сотрясения… Уже разрушена до основания крепость, уже большая часть воюющих понятия не имеет о первопричине конфликта, уже даже победа не является целью — важен процесс, важна сама драка… «Горячая точка», одним словом. Всё как в настоящих, сегодняшних, взрослых межнациональных конфликтах, разве что масштабом поменьше.
В наших баталиях правила были. Их никто не писал, за их соблюдением никто не следил, но им все следовали. Никакого «железа» — можно покалечить или, чего доброго, убить. Не бить лежачего — подло! Также подло бить кучей одного — не можешь справиться сам, выставь против обидчика друга, брата, но один на один. Нельзя нападать из-за угла, сзади, неожиданно — подлая победа недорого стоит. И, наконец, самое главное — нужно, как говорят японцы, «сохранить лицо». Мало войти в драку человеком, нужно выйти из драки человеком, необязательно победителем, но обязательно человеком. Может быть, поэтому наши черметовские драки никогда не перерастали в поножовщину, хотя кастеты, ножи (и какие ножи!) были у всех, но это так, для форсу.
Драка «один на один» да ещё принародно — дело серьёзное: подрались, выяснили отношения, к вечеру уже друзья — никакой мести и ненависти.
Массовая драка — это вообще почти игра, молодецкая забава: кости поразмять, силами померяться, а синяки и шишки — так, «производственные травмы». Массовая драка, рождаясь на пустом месте, как правило, ничем и не заканчивалась: и овраг делили не всерьёз, и пограничные столбы никто ставить не собирался. Да и заканчивалась драка, как только начиналось что-то более интересное, например, футбол — раз, и все вместе пошли смотреть игру.
Стоит ли удивляться, что зимой массовых драк не было. Словно объявляя зимние олимпийские, зима прекращала все военные действия. Зачем делить овраг зимой, когда есть столько других способов показать свою удаль…
Чермет оружейный
Оружие на Чермете любили и имели. Это сегодня существуют особые бригады «чёрных копателей», которые едут чёрте-куда, перелопачивают тонны земли, чтобы найти какой-нибудь насквозь проржавевший ствол. Их отлавливает милиция, конфискует находки, а они опять едут в надежде отрыть что-то стоящее. В 50-е годы всё вокруг ещё пахло войной, ещё в центре города стояли обгорелые коробки домов, ещё не заросли бурьяном окопы, ещё сохраняли свой первоначальный вид землянки и блиндажи — этих следов войны было полным-полно… Конечно, 53-й это не 43-й, когда оружие буквально валялось под ногами, но наткнуться в походе на речку или за грибами на что-нибудь стреляющее можно было легко, без всяческих особых поисков. Где-то в 80-х годах слышал, что в каком-то черметовском сарае обнаружили трехдюймовку (пушка такая) … Не знаю, не знаю, сам не видел, но в возможность такого верю абсолютно. Винтовки, точнее обрезы из них, автоматы: наш ППШ и немецкий шмайсер, наганы неоднократно держал в руках, из карабина один раз даже стрелял в овраге — и это в семь-восемь лет. Скажи моей жене, что наш великовозрастный сынок постреливает в овраге из боевого оружия, — она ночь спать не будет, а в те годы… Нет, не скажу, что подобные известия радовали наших родителей, но и леденящего ужаса не вызывали.
Конечно у нас, малолеток, рождённых в конце 40-х, настоящего огнестрельного оружия не было, а если и попадало что-то к нам в руки, то «старшие товарищи» быстро нас разоружали. Но вот у ребят постарше было из чего пострелять. Естественно, мы тоже отставать не хотели, а если есть желание, то… В каждом черметовском дворе была своя маленькая «оружейная мастерская». Что в огнестрельном оружии больше всего нравится малолетке? Конечно же, громкий «бух», хорошо, если ещё и пуля летит, но это не обязательно, главное, чтобы бухало. И наши «оружейные мастерские» производили «бухалки» в неограниченном количестве.
Самой простой «бухалкой» был ключ от замка с отверстием в его стержне. Девочки в такие ключики свистели, а пацаны к кольцу ключа привязывали кусок верёвки, к её второму концу — обыкновенный гвоздь толщиной, соответствующей отверстию в ключе. Острый кончик гвоздя стачивался, и всё, орудие готово. Оставалось набить отверстие в ключе серой от спичек, вставить гвоздь и, раскрутив «бухалку» за верёвку, шарахнуть её об стену. Если все сделано правильно, замечательный «бух» вам гарантирован.
Но бухающий ключ — игрушка для дошколят. Чуть подрос, и этого уже мало, хочется ощущения стрельбы, и ключ сменяется пугачом. Пугач делался по тому же принципу, только вместо ключа использовалась медная трубка, заклёпанная с одной стороны и прикреплённая к деревянному пистолету. Гвоздь превращался в боёк при помощи тугой резинки. Зарядил пугач серой от спичек, отвёл боёк, и можешь нажимать на курок. А если на дощечке разместить несколько трубочек с гвоздями то это уже пугач-пулемёт, чем больше трубочек, тем длиннее «очередь». С таким пугачом уже можно и в войну поиграть. И не только в войну, как позже выяснилось.
Второе рождение пугачи получили на Чермете после выхода не экраны фильма «Фантомас». По всему городу, как и по всей стране, прокатилась волна шутников с черными чулками на головах. Появился свой «фантомас» и на Чермете. Местом своего обитания он выбрал скверик на улице Советской напротив пожарной части. Это сегодня этот сквер просматривается насквозь, а в те годы он скорее напоминал небольшой лесок: деревья росли густо, а кустарник вокруг сквера, никогда не знавший стрижки, был выше человеческого роста… Словом, лучшей среды обитания черметовский «Фантомас» выбрать не мог. А если учесть, что этот район освещало всего два фонаря, которые в нужный момент легко разбивались, то место было просто идеальное.
Итак, представьте: по тёмной улице спокойно едет автомобиль, и вдруг фары высвечивают на дороге три фигуры. У крайних на груди висят автоматы, а средний с чёрным лицом стоит, подняв одну руку вверх, как бы требуя остановиться. Улица тёмная, безлюдная, кто это такие: взрослые или дети, сразу не разберёшь. Шофер тормозит, «Фантомас» резко опускает руку, и что-то летит под колеса машины… Громкий взрыв, яркая вспышка… Не хочу делиться опытом изготовления гранат-шутих, но поверьте старому черметовцу, все современные китайские петарды — это просто пшикалки. У наших «бомбочек» и звук, и вспышка были лучше, чем у настоящих. А если ещё из кустов пулеметная пальба… Когда насмерть перепуганный шофер приходил в себя, вокруг опять были тишина, мир и покой.
Чеметовского «Фантомаса» не раз пытались отловить, устраивали милицейские засады, но результат деятельности брянских стражей порядка мало чем отличался от их французских коллег. «Фантомас» как-то исчез сам собой. Подрос, наверное, и появились другие увлечения. Ребята ведь в общем-то просто веселились и дальше пугачей не шли, хотя в черметовских оружейках делались еще и «поджигалы» — оружие вполне серьёзное.
Лучше всего поджигалы получались из винтовочных стволов… Помните обрезы «старших товарищей»? Обрезки-то глупо выбрасывать… Не буду от греха описывать всю технологию производства, скажу лишь, что в результате получалось что-то похожее на средневековый мушкет, стреляющий свинцовыми шариками. Согласитесь, что это уже серьёзно. Будь сегодня такие «игрушки» у наших детей, детские комнаты милиции с ног бы сбились, учителя криком бы кричали, а в те не такие уж далекие времена всё это воспринималось как-то спокойно — шалят ребята.
Один мой приятель долго пытался увеличить поджигалу до размеров если не пушки, то по крайней мере небольшой мортиры. Попытки его так успехом и не увенчались. Его монстры, сделанные из труб различных диаметров, или шипели, неспособные вытолкнуть заряд, или просто взрывались — не выдерживали порохового заряда. Как ему самому ничего не оторвало, до сих пор не пойму. Хотя чем я-то лучше — под тем же Богом ходил, как и все черметовцы. Наши стреляюшие и бухающие изделия надёжностью не отличались и взрывались достаточно часто, особенно когда в изобилии появился порох.
Бездонным пороховым складом стал артиллерийский полигон при военном аэродроме. Страна на армию денег не жалела, и учебные стрельбы на полигоне проходили чуть ли не каждую неделю. Как только смолкали орудийные залпы, вся черметовская шпана устремлялась к пустырю, в который упирались Фокинская и Советская улицы. Этот пустырь и сейчас только начинают застраивать, а когда-то здесь грохотали пушки, стреляли автоматы, солдаты поднимались в атаку. Не будучи военным спецом, не могу объяснить, почему так происходило, но после выстрела из орудия значительная часть пороха не успевала сгореть и, вылетев из ствола, рассеивалась по лугу. Этот артиллерийский, похожий на коричневые макаронины, порох мы сумками уносили домой. А теперь пофантазируйте, что может понапридумывать малолетка, имея порох в неограниченном количестве… Да, весело жили на Чермете, весело и громко…
Но кроме шумного «огнестрельного» оружия в среде черметовских детишек гуляло много тихого «холодного». Немецкие штык-ножи и русские армейские «финки» ценились очень высоко благодаря качеству стали и именно поэтому ненадолго задерживались в детских руках: отцы семейств периодически изымали их для своих взрослых дел: охота, рыбалка и прочее. На Чермете все держали свиней, и забивали их исключительно подобным «инструментом». У меня мой отец дважды конфисковывал штык-ножи и относил их в реквизит брянского театра, где работал. В театре же осело много холодного оружия и моих друзей. Долго я прятал от своих родителей обломок шпаги с красивым, медного литья эфесом. На эфесе были якоря, русалки и еще какая-то морская атрибутика. Клинок хоть и был обломан, но я сделал ножны из алюминиевой трубки, перевязь из старого ремня, и он стал предметом зависти многих приятелей. Фехтование настоящей шпагой — это вам не деревянным мечом размахивать, но после того, как в одном из «боёв» я случайно рубанул по носу своего соседа, моя шпага тоже попала в театральный реквизит.
Но ни родители, ни «старшие товарищи» не могли поспеть за черметовскими «оружейными мастерскими». Финки из напильников с наборными ручками, кривые ножи из обломков немецких сабель, свинцовые кастеты сходили, как с конвейера. Очень часто различные клинки попадали к нам без рукояток, приходилось восстанавливать. Надо сказать, что в этом процессе восстановления многие добивались поразительных успехов. Живший в нашем доме театральный бутафор Женя Дерябин зачастую в изумлении только головой крутил, разглядывая очередную конфискованную и переданную родителями в театр «детскую игрушку».
У меня и сейчас дома хранятся остатки моего арсенала, когда-то с любовью и старанием сделанные и ни разу не использованные по своему прямому кровавому назначению. Чермет, несмотря на всю свою вооруженность, всё-таки всегда оставался мирным. Оружие любили, имели, делали, но носили больше для форсу… Ну, не прилично было ходить «голым». Я сам до третьего класса, не имея настоящего кастета, носил в кармане большой водопроводный вентиль. В его отверстия удобно укладывалась рука, превращая его почти в настоящий кастет. Но вот это самое «почти» больше всего и раздражало, хотелось иметь кастет без всякого «почти», а для этого нужно было собрать приличное количество свинца. Где собрать? Да на армейском стрельбище.
График работы стрельбища при военном аэродроме распадался на две составляющие: в первой половине дня здесь стреляли солдаты, во второй половине, когда снималось оцепление, стрельбище превращалось в свинцовый рудник, и его оккупировали малолетки. Стрельбище располагалось в небольшой ложбинке около аэродрома, в его глубине торцом к стреляющим было уложено рядов десять толстенных брёвен, перед которыми ставились мишени. Пули, пробив мишень, застревали в брёвнах. А в пулях под медной оболочкой что? Правильно, свинец! Только выковыривай… Торцы брёвен от постоянных попаданий стали рыхлыми, вынимать застрявшие в них пули было легко. Набрав какое-то количество пуль, мы на костерках выплавляли из них свинец. Кто-то, вспомнив мои прежние рассказы, спросит, зачем собирать стреляные пули, если у каждого мальчишки немерено полных патронов? Ну, знаете ли, во-первых, патрон он всё-таки патрон, и просто так разламывать жалко, им ведь и стрельнуть можно из того же винтовочного обреза, а во-вторых, патроны у нас были в основном немецкие, в которых вместо свинца была железная сердцевина. Видимо, в Германии была напряжёнка со свинцом. Короче, без отечественных пуль свинца не добудешь. Проще всего было выплавлять свинец из автоматных пуль: коротенькие, толстенькие, с круглыми носиками, из них свинец вытекал легко, но его было мало. Из винтовочных пуль свинец вытекал неохотно, но самого свинца было раза в три больше, чем в автоматных. Словом изготовление собственного кастета требовало времени и определенных усилий. Но вот нужное количество свинца собрано, кастет выплавлен и приятно оттягивает карман, осталась куча медных оболочек, которым тоже нужно найти применение — из них получались замечательные наконечники для стрел.
Луки и стрелы на Чермете любили не меньше «бухалок» и «поджигалок» — тут можно и твердую руку, и верный глаз показать. А как радостно бьётся сердце, когда твоя стрела с хорошо заточенным наконечником из оболочки винтовочного патрона, воткнувшись, дрожит в самом центре мишени!.. Словами не передать. Тупоносые оболочки от автоматных пуль великодушно дарились малышам — им острые стрелы иметь рано, пусть пока так тренируются. Ребята постарше постоянно соревновались в дальности (тут нужен тугой лук и крепкая рука) и в меткости.
Но меткое попадание — это не только верная рука и острый глаз, это ещё и хорошее оружие. Чем опытнее стрелок, тем качественнее у него и лук, и стрелы. Хороший лук выстругивался из дуба, высушивался, затем вымачивался в горячей воде, размоченным выгибался и снова высушивался, а уж затем натягивалась тетива. В изготовлении тетивы было тоже много тонкостей… А оперение стрел… А изготовление арбалета…
Но вот всё сделано, вот твои стрелы вонзаются только в центр мишени, вот ты уже признанный стрелок… Что дальше? Рано или поздно возникает желание выстрелить во что-нибудь живое…
В нашем дворе жил очень злой петух. Во всех петушиных боях он неизменно одерживал верх. Он был красив, как никакой другой, но и сволочь был первостатейный. Он нападал на всех, включая своих хозяев. Взмахнув своими огромными крыльями, он взлетал человеку на голову и начинал долбить, долбить с остервенением до крови. Из нашей братии от него пострадали почти все. В конце концов чаша терпения переполнилась, и мы приговорили петуха к смерти. По команде «огонь» дюжина стрел вонзилась во всеобщего обидчика… Петух был сильной птицей и умер не сразу, он дергался, падал, вставал и снова падал… Не знаю, как у кого, а у меня с тех пор больше не возникало желания стрелять в живое, хотя смерть свою петух и заслужил… Мы даже отказались от своего первоначального намеренья использовать перья из его прекрасного хвоста для своих театральных костюмов. Жуткая смерть петуха как-то не вязалась с нашими театральными устремлениями…
А тяга к театру, к актерству в нашем кругу была неистребима… Но это уже совсем другая история.
Чермет театральный
Может быть, определенное влияние на весь Чермет оказал находящийся здесь «дом артистов»? Ведь почти все театральные «звёзды» Б-ска жили у нас, именно в этом доме — было кому подражать.. Может быть, сказалось то, что многие из нашей черметовской братии хорошо знали театральное закулисье, ибо были детьми театральных работников. Может, повлияло само послевоенное время с его непомерной тягой к чему-то светлому, красивому, чего так не хватало в военные годы и чем долго не могли насытиться в послевоенные. Черметовский люд знал весь репертуар местного театра. Были театралы, которые смотрели отдельные спектакли по нескольку раз, если одну и ту же роль играли разные артисты.
Я что-то не слыхал, чтобы сегодня в каком-либо районе дети без всякой «организационной помощи» взрослых подготовили представление для родителей. А мы даже афиши вывешивали, чтобы приходили не только свои, но и все, кому интересно. А интересно было многим. Из дальних переулков приходили со своими табуретками, чинно усаживались, смотрели, аплодировали…
В нашем доме жила Бешеная Галка, девчонка огромной энергии и неуёмного темперамента. Собрав кучу старых театральных и филармонических афиш и вырезав из них нужные буквы, мы под её руководством клеили афиши к своим представлениям. Она была одновременно и страшная выдумщица, и великий организатор. Стоило ей только появиться, как все сразу начинало крутиться вокруг неё. Остановить Галку в её порыве было невозможно по определению.
Вот она, влетев как метеор в наш круг с очередной идеей, размахивает руками, что-то объясняет, раздаёт задания… А через какое-то время я, не имея ни голоса, ни слуха, уже репетирую песню милиционера из какой-то филармонической программы… Именно Галка убедила меня в том, что я не только могу, но с «такими данными» просто обязан петь на сцене, и я пел, и мне аплодировала публика, и слава вокалиста уже маячила на горизонте, но… В нашей школе был хор, очень хороший хор, руководил им тогда ещё начинающий композитор Бумагин, к нему я и пришёл. После прослушивания выяснилось, что никаких «таких данных» у меня нет, а те, которые есть, не позволяют мне петь даже в последней шеренге школьного хора.
Но это где-то там, на школьной сцене мне, видите ли, нельзя петь, а у себя на Чермете — МОЖНО! Здесь мой талант ценят! Здесь МОЙ ЗРИТЕЛЬ! И я пел, читал стихи, играл в наших же самопальных спектаклях, а зритель… Не знаю, право, чего было больше у нашего тогдашнего зрителя: взрослой снисходительности к нашим «шедеврам» или потребности в зрелищах вообще, но приходили ведь они на наши «действа», любили своих маленьких артистов, а мы любили их и играли для них… Хорошо ли играли, плохо ли — разве это сегодня важно.
Приятелю Андрею подарили немецкую книжку-раскладушку по сказке братьев Гримм «Пряничный домик». Для Чермета 50-х это было восьмым чудом света. Раскрываешь книжку, и перед тобой встаёт яркое глянцевое строение, у которого двери и окна открываются, стенка отходит, внутри — столик, стульчики, вокруг дома — лес, и лесная тропинка через небольшую лужайку перед домом ведёт прямо к крыльцу. К книжке прилагался лист с двухсторонним изображением всех героев сказки — вырезай, склеивай и разыгрывай представление — готовый кукольный театр. Но как может существовать театр с одним спектаклем в репертуаре?.. Мы стали создавать новых героев, писать новые сказки, разыгрывать новые представления: над пряничным домиком полетели самолёты с красными звёздами, по лесу поползли танки, мог проскакать Чапаев на коне, в самом домике мог обосноваться восточный принц или принцесса — фантазия наша била ключом. Придумав очередной шедевр, мы выставляли книжку, ставшую театром, на подоконник и показывали спектакль всем, желающим его посмотреть.
А желание смотреть любые «постановки» было большое, но ещё большим было желание самим в «постановках» участвовать. Может быть, именно поэтому любая игра сразу обрастала элементами театрализации. На Чермете не играли просто в казаков-разбойников или в войну. Если играем в гражданскую — нужны будёновки, чапаевская бурка, шашки, винтовки, маузеры; если война 1812 года — кивера, треуголки, эполеты, кремневые пистолеты; если мушкетёры — шляпы, шпаги, плащи… Любая новая игра требовала нового реквизита, и наши дворовые оружейные мастерские превращались в бутафорские цеха, как в настоящем театре.
На Чермете у каждой семьи был свой сарай, и почти в каждом сарае была «детская стенка», на которой висело бутафорское «оружие» всех времен и народов: деревянные копья, мечи, шпаги, щиты, мушкеты, автоматы, винтовки, пистолеты всех систем и пр., и др., и т.п., и т. д. В моём сарае стоял даже пулемёт «Максим», сделанный из дерева в натуральную величину.
И весь этот реквизит делался с любовью и знанием дела. Здесь тоже свою не последнюю роль играл «дом артистов» — всегда было можно на время попросить из театра нужный образец. А уж театральное оружие, сделанное прекрасным брянским театральным бутафором Женей Дерябиным, — это предмет отдельного разговора… Женя был классным специалистом, и у него всегда в особо сложных случаях можно было получить консультацию — почти всему, что я умею «делать руками», я обязан ему.
Итак, игра придумана, роли распределены, реквизит заготовлен… И уже развеваются плащи и колышутся перья на мушкетёрских шляпах, уже ломаются деревянные копья о фанерные щиты, уже стоит на пригорке «маленький Наполеон» в неизменной треуголке и обозревает «бородинское сражение», но уже сзади по склону несутся «казаки Платова» и пленяют «великого полководца»…
И плевать, что при реальном Бородине Платов не сумел пленить Наполеона… То Бородино было-то всего один раз, и всего один раз в рейд водил своих казаков Платов… Мы-то свои «Бородино» прокручивали десятки раз, и далеко не всегда «французам» удавалось отбить своего «Бонапарта», как, впрочем, и Чапаев у нас погибал далеко не всегда…
В середине 50-х на экранах кинотеатров появился довоенный фильм «Остров сокровищ», его революционизированный сюжет не очень увлек моих сверстников, но колоритные пираты, рассказы о капитане Флинте, одноногий Сильвер, а главное — песня с разухабистым «йо-хо-хо», распеваемая пиратами в таверне, нас просто покорила. Наши ножи становились кривыми, как у пиратов; как у пиратов, в зубах появились дымящие трубки; мы опиратывались буквально на глазах… Не хватало только пиратской таверны… Но на Чермете не было невозможного. Если таверна нужна — таверна появляется. Сначала из древесного лома соорудили какую-то времянку, затем, захватив временно пустующий сарай, оборудовали его уже по всем правилам «пиратской науки»: верёвочные лестницы, трёхногие высокие табуреты, оружие по стенам и «Йо-хо-хо»… В «таверне» собирались «моряки», в «таверне» пели по гавань, в которую заходили корабли, в «таверну» приглашали девочек, правда, пригласив, не знали, что с ними делать дальше: «Йо-хо-хо» на них не очень действовало, а на большее нашей фантазии не хватало. Но вскоре у сарая появились хозяева, и наша «пиратская жизнь» кончилась и…
Началась другая — богатырская… На экраны вышел фильм «Илья Муромец»… Новый, цветной, яркий… Мечи, щиты и богатырские шлемы из картона (по рецепту всё того же Жени Дерябина) просто заполонили Чермет…
Фильм «Кочубей» — газыри, кубанки, кинжалы и шашки…
«Двенадцатая ночь» Шекспира на сцене брянского театра — плащи, шпаги и шляпы с перьями… Перья, конечно, были не страусиные, плащи тоже были далеко не из шелка, газыри из фольги, шашки из дерева… Но нас наш внешний вид вполне устраивал. А если что-то где-то в чём-то не совпадало с желаемым, то фантазия легко сглаживала все недостатки экипировки.
Хотя вопросам экипировки мы предавали очень большое значение, ради неё мы зачастую шли на большие жертвы и даже риск. Когда в каком-то иностранном фильме мы увидели рыцарский турнир, мы тут же начали готовить свой. На наше счастье или несчастье, на базе «Вторчермета» как раз в этот момент обнаружилось много подходящего железа. Мы «ковали» боевые топоры и мечи, клепали щиты, из алюминиевых пластин вычеканили даже нагрудники и наплечники, только копья остались деревянными, видимо, Бог уберёг нас от железных наконечников. К «рыцарскому турниру» было почти всё готово — не было только шлемов с забралами. Картонные шлемы были, но для настоящего боя они явно не годились: картонка голову от удара железякой, то есть «рыцарским мечом», ну никак уберечь не могла. Проблема казалась неразрешимой, но…
На Чермете построили новую пожарную часть, и в день её торжественного открытия мы увидели то, что нам было просто необходимо… На головах пожарных были НОВЕНЬКИЕ КАСКИ, сегодня у пожарных таких касок уже нет. Изящный козырек, над которым на блестящих металлических пуговицах подрагивал медный чеканный ремешок… Довольно внушительный гребень сверху каски, навевал воспоминания о героях античности… О таких головных уборах можно было только мечтать…
Пожарную часть открыли, оркестры отгремели, и первый дежурный пожарный наряд после небольшого банкета приступил к несению службы, то есть заснул, чем тут же и воспользовались. Пожарные были готовы уберечь город от огня, но оказались не готовы уберечь себя от черметовского набега. Правда, к чести нашей, могу сказать, что мы «свистнули» не все каски, а только две (для «рыцарского» турнира больше ведь и не нужно), остальные великодушно оставили борцам с огнём.
После того, как к каскам были приделаны забрала из жести, рога протрубили к началу «рыцарских» ристалищ, и первая пара героев в алюминиевых нагрудниках, в шлемах с петушиными перьями, прикрываясь железными щитами (крышками от выварок) и выставив копья наперевес, изготовилась к бою.
Поединок, как при дворе короля Артура, состоял из нескольких этапов. Сперва поединщики по сигналу неслись навстречу друг другу, стремясь сбить противника с ног копьем. Если оба бойца устояли — в ход шли боевые топоры, которые тут же подносили «верные оруженосцы». «Рыцари» молотили топорами по щитам, пока топоры не приходили в негодность, что происходило довольно быстро, так как изготовлены они были из не очень толстого листового железа, и лезвия топоров после нескольких ударов загибалось. Решающий этап — бой на мечах: щиты отбрасываются в сторону, и начинается «рубка». Скажи, читатель, тебя никогда не били четырёхмиллиметровой железной полосой (мечом) по рёбрам, плечам или по каким другим частям тела? Нет? Тогда ты не поймешь всей прелести рыцарства. Наверное, у леопарда на шкуре было меньше пятен, чем синяков на моём теле.
Но что леопард, его разрисовала природа, его пятна никому ничего не говорили, а мои синяки говорили! Говорили о «благородных забавах благородного рыцаря»… В мою честь трубили рога… У мена появился титул и герб… Я рисковал собой в бою… Лишь чудо спасло мой глаз, когда копье противника сорвало жестяное забрало с моего шлема…
Чермет вообще любил рисковые предприятия, и эти предприятия зачастую вели и к суме, и к тюрьме…
Чермет воровской
Надо сказать, ни сума, ни тюрьма не очень пугали черметовское население. Чермет жил бедно, поэтому сумой, то есть нищетой, его трудно было удивить. Чиненые-перечиненные ботинки, заплатки на штанах никого не смущали и ничего не определяли. Внешние признаки отсутствия благосостояния были у всех примерно одинаковые, поэтому на Чермете никого «по одёжке» не встречали, у нас вообще мало кто обращал внимание на одёжку. Многие мои приятели с мая по сентябрь бегали босиком — берегли обувь, превращая ступни своих ног в твёрдую, ничем не пробиваемую подмётку. Кусок стекла или ржавый гвоздь, попав под ногу, не оставляли на ней никакого следа, наступивший редко когда даже замечал это происшествие.
Также непритязательны были черметовцы и в еде. Пословица «щи да каша — пища наша» несла в себе вполне конкретный и всем понятный смысл, разве что и кашу-то на Чермете чаще всего заменяли картошкой — крупа продукт покупной и, значит, дефицитный, а картошка своя. От сумы не зарекались потому, что, образно говоря, каждый и так носил её на плече, другое дело тюрьма…
В тюрьму, конечно же, попадать никому не хотелось, но и зарекаться от такого жизненного поворота было глупо. Этот философский взгляд на возможность лишения свободы был продиктован многими обстоятельствами.
Во-первых, редкая семья не имела родственников «оттянувших больший или меньший срок» в местах не столь отдаленных. У кого-то родня так и осталась там «без права переписки», у кого-то вернулась. Мой дядя был освобожден ещё в начале войны, он был сталеваром, классным специалистом, таких всегда не хватало, а в войну особенно… Может по этой причине, может по какой другой, а может просто повезло, но дядю не просто освободили, его оправдали. Видимо, поэтому дядя не стеснялся рассказывать о своём тюремном опыте, хотя в целом люди старались не афишировать подобные факты своей биографии, но, впрочем, и скрывать особенно тоже не скрывали.
Во-вторых, после амнистии 53 года на Чермете появилось много людей, гордившихся своей тюремной биографией. С ними пришёл аромат воровской романтики, во дворах зазвучали блатные песни, а мы, молодая черметовская шпана, открыв рты, слушали рассказы о налётах и лихих ограблениях, о благородстве воров и подлости мильтонов, о верности слову и мести за измену… Каша, царившая в наших головах, бурлила и звала к действиям… Действия же не заставили себя ждать…
И вот уже два шестилетних сопляка (я и мой приятель), вырезав из белой жести что-то наподобие финок, идут на первое дело. На месте нынешнего бетонного моста через овраг были в ту пору деревянные пешеходные мостки. Освещения около мостков никакого не было — лучшего места для засады налетчиков придумать просто невозможно. Мы с Володькой засели в кустах и стали ждать первую жертву, которая и не замедлила появиться в виде пацана с кулёчком конфет-подушечек в руках. Парнишка был на год-два старше нас, но то ли блеск наших жестяных финок навёл на него ужас, то ли наши громкие вопли: «Кошёлек или жизнь!» — повергли его в смятение: испугался он страшно. Никакого кошелька у него не было, и он смиренно отдал нам то, что имел — кулёк с конфетами, что для первого раза тоже вполне годилось. Распевая песню про мешок чёрных сухарей, который так ждёт от своей любимой зек на зоне, и дожёвывая добытые «честным разбоем» конфеты, мы возвращались домой. Впереди, как нам казалось, уже маячило светлое будущее благородных разбойников, но… Как много этих самых «но» в жизни каждого приличного налётчика, мы убедились прямо у крыльца нашего дома, где нас давно дожидались наши родители и родители нашей жертвы. Сама жертва стояла тут же, размазывая слёзы по щекам.
Думаю, не стоит описывать весь процесс перевоспитания, который начался сразу после нашего появления… Скажу лишь, что сколь заметного влияния на атмосферу воровской романтики он не имел. Родитель, каким бы суровым он не был, не может заниматься воспитанием круглые сутки. Улица же не оставляет пацана без своего влияния ни на минуту. И вот я уже стою «на шухере» во время грабежа нашего черметовского ларька — взрослые ребята взяли меня и ещё несколько таких же огрызков в настоящее дело. Нашу задачу, подать сигнал «если что», нам выполнять не пришлось — грабёж прошел спокойно. Что добыли налётчики, я не знаю, поскольку к дележу допущен не был…
К слову надо сказать, что грабёж ларька на самом Чермете было совершенно нетипичное явление. Как уже сейчас понимаю, грабители были начинающие недоумки. Это нам, дошколятам, они казались взрослыми и отпетыми, будучи на самом деле молодыми сявками, не знающими или не признающими важнейший воровской закон — не воруй, где живёшь. Воров на Чермете жило много, но, чтя закон, воровали крайне редко, и то все больше по мелочёвке и по малолетке. Но, тем не менее, дорожка в воровской мир начиналась и где-то здесь тоже.
Сегодня я с ужасом думаю иногда о том, куда привела бы меня эта дорожка, по которой уже начали топать мои неразумные ножки. Но к счастью для меня и моих друзей наших учителей воровского дела вскорости «замели» на каком-то грабеже, и сей педагогический процесс прервался так же неожиданно, как и начался. Но далеко не всем черметовским малолеткам так же повезло, далеко не всех «учителей» также вовремя остановила милиция, многие мои сверстники годам к пятнадцати отправились на зоны узнавать истинное лицо воровской романтики, а многих только чудом миновала чаша сия.
Два моих одноклассника, сегодня вполне респектабельные и уважаемые люди, прошли буквально по самой черте, разделяющей наказание и преступление, при том преступление, связанное с кровью…
В 50-е годы понятия «авторитет» ещё не существовало, хотя сами авторитеты и в уголовном, и в приблатнённом мире были. Правда, у нас в те годы их называли «королями». В каждом районе были свои «короли». Все в городе по именам знали королей Макаронки, королей Карачижа, не меньшей популярностью пользовались короли Чермета. Их было несколько. По вполне понятным причинам не буду называть их настоящих имён — что было, то было и быльём поросло, зачем ворошить прошлое и напоминать людям о грехах их туманной юности.
Итак, черметовский король сидел в пивной городского парка… Старожилы, наверное, ещё помнят это занятное деревянное ажурное строение с симпатичными балюстрадами и с проросшими сквозь его крышу деревьями… Король сидел на террасе в компании себе подобных и равных по блатным понятиям собутыльников. Судя по дальнейшим событиям, разговор у них был важный, а предмет разговора спорный. О чём был спор, история умалчивает, но к моменту, когда все вскочили из-за стола, черметовский король оказался в явном меньшинстве…
Надо сказать, что в наше время короли, как правило, не носили с собой никакого оружия. Отношения с законом у них были напряжённые, милиция знала их всех в лицо, и «загреметь» по «дурной статье», типа незаконного ношения холодного оружия, никто не хотел.
Вот и на этот раз в карманах у короля пусто, разговор принял чересчур крутой оборот, и ему ничего другого не оставалось, как сигануть через балюстраду в парк. Но король не был бы королем, если бы просто так проглатывал оскорбления… Он окинул взглядом парк, высмотрел пару черметовских малолеток, они-то без ножей и кастетов шагу не делали, и кинулся к ним. Этими малолетками и оказались мои школьные товарищи, ножи у них, конечно же, были, и в руке короля блеснула сталь… Дальнейшее заняло несколько секунд и: двое раненых, один убитый, крик, гам, свистки милиции… Поскольку вся история происходила на глазах десятка людей, у следствия особых забот не было…
Зато много забот, а главное тревог появилось у двух моих одноклассников — ножи-то были их!.. Я думаю, что те недели, в течение которых шло следствие, были самые длинные в жизни моих приятелей. Но то ли следствие не интересовало происхождение орудия убийства, то ли король, как истинный король, всё брал на себя и не хотел никого тянуть за собой, но все страхи малолетних соучастников так и остались только страхами. Прошёл суд, король сел, его трон недолго оставался пустым. Как говорили в старину: король умер, да здравствует король.
Ах, короли Чермета! Сколько вас было на моей памяти! Злых и добрых, недосягаемых в своей гордыне и простых в своей демократичной доступности… Какое-то время к правящей блатной элите принадлежал даже мой приятель, с которым мы дружили до школы, но потом попали в разные классы, и жизнь нас как-то развела, хотя отношения не испортились. Именно благодаря этим отношениям, я знал, и, что важнее, меня знали многие черметовские короли. Это знакомство, незримо сопровождая меня повсюду, оберегало от многих неприятностей, было, как теперь бы сказали моей «крышей». Всю крепость и надежность этой крыши я осознал гораздо позднее, когда будучи десятиклассником попал на Карачиж.
Чермет был вольным, здесь бытовали простые и свободные нравы. Человек из другого района мог без страха идти на Чермет по делам, к знакомым, мог даже девушку проводить. Однако, такая вседозволенность была присуща далеко не всему городу. В Бежице чужака могли запросто отметелить, а провожать девушку на Карачиж могли себе позволить только ненормальные. Однажды обстоятельства так сложились, что таким ненормальным стал я сам.
Я познакомился с ней на какой-то, как теперь говорят, тусовке на «броде» (бульвар Гагарина — для тех, кто не помнит). Чем мы занимались в тот вечер на броде, я не помню, скорее, как всегда, ничем, так, шлялись туда-сюда… Но когда стемнело, она, лукаво улыбнувшись, довольно громко обратилась ко мне: «До дома проводишь?» — «Конечно!» — ответил я, совершенно не представляя, куда придётся идти. Осознание собственной глупости пришло, когда я оказался перед деревянным мосточком, ведущим на Карачиж, демонстрировать страх не позволяло чувство национальной черметовской гордости, да и отступать уже было поздно. Когда, проводив девушку, я вернулся к мостику, там меня уже дожидались. В намерениях встречающих ошибиться было трудно, но начиналось всё чинно и благородно:
— Кто такой? Откуда?
— С Чермета
— С Чермета? Кого знаешь?
Назвав имена своих знакомых черметовских королей, я сказал, что могу и карачижцев с ними познакомить. Моё предложение сперва повергло моих оппонентов в некоторое замешательство: впереди стоящие меня как бы разглядывали, задние что-то обсуждали… Наконец, кто-то заявил, что видел меня с кем-то из перечисленных мной серьёзных людей. Компания расступилась, дорога через мосток была свободна, и я шагнул на шаткие доски… Всё моё существо кричало мне: «Беги быстрей, а то передумают!» Но национальная черметовская гордость, наоборот, замедляла шаг. Так медленно, вразвалочку, я и покинул Карачиж…
Через каких-то пяток лет, уже после армии, попав в почти аналогичную ситуацию, я на своей шкуре испытал, как быстро и уже, видимо, навсегда закатились былые звёзды блатного мира.
Да что там говорить, 50-е годы ушли в прошлое, 60-е прямо на глазах меняли привычный мир. Типовые пятиэтажки, как грибы, вырастали на былых пустырях и пепелищах, меняя облик города, тасуя, как карты в колоде, его жителей, подтачивали и в итоге разрушали былую самобытность и монолитность районов города, расширяя при этом сам город. Типовые дома, типовые районы, типовой город требовали типовых жителей, и они появлялись. А как иначе: босоногое детство сменялось пионерским детством, пионерское детство — комсомольской юностью, комсомольская юность… Словом — типовой сценарий. Но это уже не о моём Чермете, а значит, уж точно совсем другая история.
Трава была зеленее
Моя память не сохранила неприятных моментов из той черметовской поры: все кажется каким-то добрым, светлым и чистым… Впрочем, именно с чистотой сложности были…
Вы наверняка обращали внимание, как сегодня возмущаются жители наших домов, если вовремя не вывезли бак с пищевыми отходами — запах, мухи, антисанитария!.. Ужас!!! А помойка во дворе — одна на двадцать семей?! А деревянное «удобство» рядом с помойкой на то же количество «посадочных мест»?! Мою взрослую дочку возмущает любая несчастная муха, неизвестно откуда случайно залетевшая в квартиру… О-хо-хо… Видела бы она наших черметовских мух — гиганты. Их гул был подобен гулу тяжёлых бомбардировщиков, а количество вообще не поддавалось описанию. С ними вели ожесточённую нескончаемую и безрезультатную войну все черметовские хозяйки: дуст, ДДТ (не путать с Шевчуком) на них не действовали. В магазинах продавались специальные отравленные листы бумаги с нарисованной дохлой мухой, их нужно было положить в блюдечко, залить сладким чаем, выпив который мухи должны отравиться. Но наши мухи выпивали отравленный настой и летели дальше по своим делам, оставив мёртвым в блюдечке только своего нарисованного собрата. Очень эффектны были ленты-липучки, они, как новогодний серпантин, свисали со всех потолков, быстро покрывались прилипшими мухами, но справиться со всей жужжащей армадой не могли.
Время от времени работники санэпидемстанции густо посыпали места «общего пользования» хлоркой, и перед её едким запахом мухи отступали на заранее подготовленные позиции. Но это отступление было временным, переждав где-то «газовую атаку», мухи возвращались в ещё большем количестве, и их многочисленные эскадрильи, торжествующе гудя, носились во всех направлениях, словно празднуя победу. Но главный праздник для мух наступал, когда во двор приезжали ассенизаторы, или, как у нас говорили «золотари». Здоровенные лошади-тяжеловозы везли огромные деревянные ящики на колёсах прямо к отхожему месту, и возчики, они же «золотари», начинали своими черпаками перегружать содержимое выгребной ямы в свои повозки. Эта необходимая процедура могла занимать несколько дней. На это время дворы пустели, и лишь мухи тучами носились над работающими «золотарями».
Куда сейчас подевались городские мухи? Помоек хватает, даже овраги превращены в свалку, а мух нет?.. Что это, благотворное влияние цивилизации? Не думаю… Скорее что-то не так с экологией… Вот на даче за городом мухи есть, и мыши есть, и крысы, и ласточки под крышей гнездо прилепили… Ну, прямо, как когда-то у нас на Чермете… Скажите, вы давно видели над своим домом ласточек? Вот и я давно не видел… Видимо, не нравится им сейчас жить рядом с нами. Жаль… Сегодня вообще мало рядом с нами животных, а если и есть, то какие-то уж чересчур домашние, даже скорее — комнатные. Не выходящая на улицу кошка… Собака, которую никогда с поводка не спускают, и от которой в испуге шарахаются чуть ли не все встречные… Наши черметовские собаки веселыми шумными ватагами носились по улицам и лишь к вечеру расходились по своим дворам нести охранную службу. А кошки ловили мышей и крыс. А куры несли яйца. А в овраге без всяких пастухов паслись коровы и козы. А у меня был замечательный приятель — поросёнок Ванька.
Ванька появился у нас в самом начале весны, ещё всюду лежал снег, в сарае было холодно, а поросёнок был совсем маленький, сосунок, и его оставили в комнате. Он был очень симпатичный, ещё плохо стоял на ножках и смешно повизгивал: «ань-ка, ань-ка». «Это он с тобой знакомится, — сказала мне бабушка, — слышишь, говорит: Ванька, Ванька». Вежливый Ванька мне сразу понравился, я выкармливал его молоком из бутылочки с соской, носился с ним по дому, но как только потеплело, Ваньку отправили жить в сарай. Раздельное проживание нисколько не нарушило нашей дружбы, просто наши игры переместились на улицу. Ванька, как собачонка, бегал за мной повсюду, прыгал через палочку и бегал за этой палочкой, если я её бросал. Он понравился и всем моим приятелям — поросят держали все, но такого весёлого, озорного пятнистого непоседы не было ни у кого. Во дворе постоянно раздавались крики: «Ванька, ко мне! Ко мне, Ванька!» И Ванька с радостью летел на любой зов, и все радовались его сообразительности.
Хотя нет, радовались не все. Одного нашего соседа звали Иваном, а его жена, очень мнительная женщина, почему-то решила, что поросёнку дали имя в насмешку над её мужем. И в нашем доме и в соседних домах были и другие Иваны, но они Ванькино имя на свой счёт не принимали, а эта вбила себе в голову, что её мужа оскорбляют и всё тут. Она несколько раз приходила к нам с требованием переименовать поросёнка, громко скандалила, но никто уже ничего поделать не мог. Нет, конечно, мои родители попытались звать его Хрюшей, но улица?!.. Наша милая, добрая черметовская улица не могла примириться с Ванькиным переименованием, тем более, если имечко это кого-то доводит до белого каления. Просто Ваньку Ванькой стали звать громче и чаще. Соседка бесилась, скандалила, но ничего поделать не могла. Вскоре поросёнок заболел, перестал есть, пропала резвость, ветеринар сказал, что похоже на отравление.
Не пойман — не вор, но все сразу подумали на скандальную соседку, и, то ли в отместку ей, то ли так по доброте душевной, всем двором стали выхаживать моего Ваньку. И выходили! Просёнок снова стал бегать вместе с нами по черметовским пустырям, но после болезни уж как-то быстро стал набирать вес и матереть. К середине лета он превратился в довольно крупного порося, в нём появилась взрослая степенность и исчезла былая игривость. А когда из-за его пятачка стали видны клыки, Ваньку навсегда переместили в сарай, и наша дружба постепенно сошла на нет, что, может быть, и к лучшему. По крайней мере, когда пришла пора его резать, у меня к этому огромному борову не было тех дружеских чувств, какие были к маленькому поросёнку Ваньке. И это не было чёрствостью с моей стороны — такое восприятие мира диктовал черметовский уклад жизни.
Этот уклад, как-то умудрялся делить в нашем сознании животных на животных, как таковых, и животных, предназначеных в пищу. И смерть «братьев наших меньших» воспринималась тоже по-разному — смотря какой «брат». Тетя Галя, моя соседка, горько оплакивала смерть своей кошки, а потом спокойно отрубила голову курице и, ощипывая её, продолжала горевать о своей четвероногой любимице.
Недалеко от нас жила Таня-живодёр. Свое прозвище она получила после того, как однажды на нашем озере просто так забавы ради убила лягушку, прибив бедняжку колышком к земле. Таню застали в тот момент, когда она наблюдала за последними судорогами жертвы. Мы, каждый день видевшие, как наши матери режут кур, как забивают свиней, никак не могли ни понять, ни принять этой бессмысленной жестокости. Убийство ради убийства было за пределами понимания.
А окорока моего Ваньки закоптили в нашей черметовской коптильне (да, на Чермете была своя коптильня), и окорока получились очень вкусные, и я ел ветчину из своего бывшего друга… Хотя нет, вру… Дружил я с поросенком, а на мясо пустили кабана, и это, как говорится, две большие разницы. Отравить маленького поросенка (помните подозрения на соседку) — жестоко, подло и, главное, бессмысленно, а заколоть взрослую свинью — нормально — ее на мясо и растили. Смерть коровы — семейная трагедия, а молодой бычок жив, пока зеленеет трава, на которой он пасётся, прошла осень, пожелтели склоны оврага — пора звать резчика.
У нас на Чермете и резчик был свой, профессиональный резчик. Он специализировался на крупных животных. Мелкую домашнюю живность типа кур-гусей хозяйки резали сами, а вот заколоть борова или крупную свинью, завалить бычка звали его.
Он приходил по первому зову в неизменных кирзовых сапогах, военной фуражке и с противогазной сумкой на плече. Содержимое этой сумки было известно всему Чермету: два немецких штык-ножа, брусок для заточки и табакерка. Наш резчик в отличие ото всех не курил, а нюхал табак. Именно ритуалом нюхания и чихания начинался и заканчивался его визит. Сам забой животного проходил очень быстро: животина редко когда и взвизгнуть-то успевала. Пока опаливали шкуру, он сидел где-нибудь на приступочке понюхивал табачок да почихивал, а потом также быстро разделывал тушу, после чего перемещался в дом к столу, где к этому времени уже дымилась жареная кровь с гречневой кашей, а на сковороде шкворчал ливер с салом. В долгое застолье это не перерастало: стопку за мастера, стопку за хозяев, стопку свинью помянуть, закусили свежатинкой, и мастер прощается, понимая, что у хозяев ещё не на один день работы.
А работы действительно много: разделать мясо, засолить сало, отнести окорока в коптильню, а я с бабушкой делаю домашнюю колбасу… Собственно колбасу делает, конечно, бабушка, а я помогаю в меру сил — кручу ручку мясорубки, что тоже, согласитесь, дело нужное… Мы ещё не со всем управились, а уже на крыльце слышно знакомое чихание — резчик пришёл к нашему соседу, завтра он будет в соседнем доме, потом на соседней улице — Чермет большой, а он один, и он всем нужен. Брал он за свою работу, видимо, немного, да много мяса в его противогазной сумке и не унесёшь, а деньгами у нас расплачиваться было не принято.
И всё-таки бывали случаи, когда на резчике решали экономить. Одна пожилая женщина (а может и не очень пожилая, в те времена мне все взрослые казались пожилыми) не захотела выделять резчику его законную долю и надумала колоть своего хряка сама. Она не раз видела, как это делают, и посчитала, что воткнуть нож под левую лопатку труда не составляет. Она вывела кабанчика во двор и, недолго думая, ткнула в него ножом…
Хряк завизжал, крутнулся на месте и рванулся прямо под ноги хозяйке… Не знаю уж, как там у них это получилось, но женщина оказалась на спине своей жертвы… Представляете картинку? Этакая амазонка на свинье мчится по черметовским закоулкам. Конечно, далеко наша всадница ускакать не смогла, свалилась на землю, а вот недорезанную свинью отлавливали чуть ли не до вечера. На другой день пришлось всё-таки звать резчика, тот одним ударом завалил кабана, а вот к его хозяйке надолго прилипло прозвище «Кавалеристка». Но в этом случае хоть особого материального ущерба не было, так, лишь небольшие моральные потери.
А вот, когда один мужик решил «пришить» свою свинью из строительного пистолета, одним моральным ущербом не обошлось. Строительный пистолет (для тех, кто не знает) — орудие страшной убойной силы. Он стреляет стальными гвоздями (дюбелями), прибивая металлические детали к железобетонным конструкциям. Пистолеты эти появились у нас, когда строительство на Чемете развернулось в полную силу. Получив каким-то образом в свои руки это «боевое орудие мирного труда», наш герой, не мудрствуя лукаво, приставил его к уху свиньи и стрельнул. Но это только в твердой бетонной стене выстрелянный дюбель идет ровно, а в мягком свином теле он крутится, как пропеллер, и творит черте что. Короче, опуская технические подробности, скажу лишь, что все содержимое кабаньей головы и добрая половина внутренностей оказались размазанными по стене сарая, в котором и проходило убиение бедного животного. Хотел сэкономить, стрельнул, и вот нет тебе ни холодца из головы, ни домашней колбасы — много чего нет. Одним словом, живой пример «экономной экономики», всю прелесть которой мы на себе ощутили значительно позже и в несколько иных масштабах.
А нужно было-то всего-навсего пригласить специалиста, мастера, прежде чем что-то начинать делать самому. Господи, как часто в жизни мне да, думаю, и тебе читатель приходилось сталкиваться с самоуверенным невежеством, с пренебрежением к мастеру!.. Может быть, поэтому и получается у нас «как всегда», когда собираемся сделать «как лучше». Не знаю, как кто, а я не люблю поговорку о том, что «не боги горшки обжигают».
Конечно, не боги, для этого есть мастера-гончары. И у нас на Чермете печки клали всё-таки печники, свиней колол резчик, одежду шил портной — в общем, мастера работали. А мастера на Чермете были.
Их любили и уважали… Почему?.. Действительно, почему? Трудная жизнь заставляла черметовцев уметь делать всё: пилить, строгать, ремонтировать немудреную технику (примуса починять) … И черметовцы всё время что-то строгали, пилили и починяли, но… Вот в этом-то «НО», по-моему, и весь вопрос вместе с ответом. Одно дело — подправить колченогий, самодельный стол (других столов, как правило, и не было). Другое дело — ремонтировать покупную вещь, если уж такая в доме появилась, за неё «деньги плачены», и ни одна уважающая себя хозяйка «своего безрукого вахлака» к этой драгоценности не подпустит, а позовёт мастера.
У нас в доме была одна покупная вещь — диван. Конструировали его явно не для черметовских семей, поскольку он по определению не был рассчитан на то, чтобы на нём спали, в отличие от своих более поздних собратьев, он не раскладывался, и лечь на него мог только один человек. В семье нас было четверо, и на диване никто не спал, на нём сидели, сидели всей семьёй и слушали радио, позже смотрели телевизор. Купили диван «с рук», но он был «как новый», с круглыми валиками по краям, с прекрасной «во век не сотрёшь» обивкой, с тугим пружинным матрацем — чудо, а не вещь, но пружины… Эти мягкие, нежные пружины, на которых так хорошо было мне, малолетке, подпрыгивать, как на батуте, эти пружины соединялись и натягивались шпагатом, который периодически перетирался, пружины начинали выпирать и… И наступало время звать мастера.
Далеко ходить было не нужно, мастер жил в соседнем доме, и вот уже вечером снимается обивка с дивана, и дядя Толя, отец моего приятеля, ловко орудуя мотком шпагата перетягивает наше мебельное чудо. Дело мастера боится: вот уже возвращена на своё место обивка и уже закреплена старыми обойными гвоздиками, которые мне доверили выпрямлять, вот уже, сидя за столом, отец с треском скручивает сургуч с поллитровки (в те времена пробки были картонные и заливались для крепости сургучом). Взрослые занялись своим взрослым делом, а я с восторгом прыгаю на перетянутом диване — блеск! Что значит мастер!
Черметовские мастера, и откуда вы такие брались? Ну, в каком ателье сегодня возьмутся переделать шинель в пальто или поставить новую подмётку к «вполне ещё пригодному» верху ботинка. Приди сегодня к кому-нибудь хоть к частнику, хоть в госструктуру — за ненормального сочтут. А перелицевать пальто, а раскроить мануфактуру, а одеяло состегать…
Делать было надо, создавать. Может быть именно из уважения к самому процессу создания ВЕЩИ и слова рождались образные, почти поэтические: одежду не шили — строили, свинью не резали — кололи… Уже в самом этом слове предполагалось, что будет не банальное убийство животного с визгом и стоном, а единственный точный укол виртуоза, кыль — и свинья, даже не ощутив боли и не издав ни звука, из живого существа превращается в несколько пудов мяса. Как это произошло, когда случилось, в какой момент, только что мастер почесывал свинку за ухом и та довольно хрюкала, и вот — всё, мастер вытирает нож, отходит в сторону и, присаживаясь, нюхает табачок. Все понимают — мастер, все оценили виртуозность удара, но никто не выказывает восторга, да и сам резчик понимает, что восторгаться особо нечем — убийство оно и есть убийство. Но, что делать, надо, животное не мучилось, и слава Богу.
Настоящие мастера редко хвастаются и гордятся своим умением. Некоторые как бы даже немножко стесняются своего превосходства.
Моя бабушка умела делать всё, что положено было уметь русской женщине, но признанным мастером она была в стегании одеял. Стегала одеяла бабушка нечасто, сей процесс требовал от заказчика определённых затрат и усилий. Нужно было достать (!) шёлк или чесучу (был такой материал), вату, нитки нужного номера… И только когда всё это было в наличии, приходили договариваться к бабушке. Громадные пяльцы на несколько дней, а то и недель, в зависимости от сложности работы, занимали всё свободное пространство в нашей однокомнатной квартире. Я-то мог пронырнуть под пяльцами куда угодно, но вот как передвигались по дому взрослые, я сегодня и представить не могу, а ведь как-то передвигались. Может быть, именно поэтому бабушка, как правило, стегала одеяла летом, когда мои родители уезжали на гастроли с театром. Ни у кого из бабушкиных товарок ватные одеяла не получались такими ровными и красивыми. Именно красивыми. Бабушкины стежки, расходясь и снова соединяясь, создавали на поверхности одеяла неповторимые узоры. Такое одеяло не требовало покрывала, поскольку само по себе было украшением постели. Кого угодно в гости пригласить не стыдно, все увидят, поймут и оценят: мастерская работа. А если ещё горку подушек прикрыть настоящей, кружевной накидкой, которую связала тетя Люба, а матрац перетянут дядей Толей, а…
Да, были на Чермете мастера… Тот же дед Матвей, какой печник был! Его знали все и, увидав ещё издалека этого невысокого благообразного старичка, обязательно останавливались и почтительно приветствовали его. И это не было заискиванием перед «нужным человеком», это было именно дань уважения мастерству. Печки были в каждой семье, даже когда на Чермете провели газ, отопление всё равно оставалось печным. Так что каждый мог, как говориться, на собственной шкуре ощутить разницу между печками деда Матвея и творениями его коллег.
Не хочу ничего плохого говорить о других печниках, их была целая бригада, но матвеевские печки служили долго, не трескались, не дымили, хорошо грели и, что самое главное, потребляли мало дров, поскольку быстро нагревались и долго держали тепло. Хотя нет, была одна печка, которая была сущим наказанием для хозяев, но тут виноваты были сами хозяева — обидели старика. Сам печник был невысокого роста, а работал всегда, по крайней мере, на моей памяти, с одной и той же помощницей, здоровущей девахой. Эта «бой баба» могла бы одним мизинцем раздавить своего начальника, но вместо этого безропотно выполняла всю самую тяжёлую работу: таскала кирпичи, воду, песок, месила глину. Процесс подготовки к работе занимал гораздо больше времени, чем сама работа. Время уже к полудню катится, а дедова помощница, вытирая седьмой пот, всё ещё месит глину, время от времени с надеждой в голосе спрашивая мастера: «Готово?» Старик, зачерпнув своей пятерней глину из корыта, долго перетирает её пальцами у своего уха, вслушиваясь в только ему понятные звуки. Потом в фильме Тарковского «Андрей Рублев» я увижу, как точно так же «слушал глину» колокольный мастер.
Но вот, наконец, качество глины Матвея устроило, и мастер, присев на корточки, приступает к кладке печи. А время-то уже к обеду подошло, хозяйка накрывает на стол, вся семья за него усаживается, приглашают отобедать и мастера с помощницей. Деду наливают рюмочку, которую он с удовольствием выпивает «для аппетиту», а от второй отказывается. Это своеобразный ритуал, который все знают, и все соблюдают. Деду Матвею, конечно, важны не рюмка водки и не обед, важен именно сам ритуал, важно, что люди, зачастую большие начальники, приглашают его к своему столу, специально для него покупают «чекушку» (больше двух рюмок дед никогда не выпивал) — уважают! А вот в семье моих соседей деда к столу не пригласили, уважения не оказали, когда домработница (в этой семье была таковая) указала глазами сидящим за столом на мастера, хозяйка только фыркнула: «Ещё чего! Пусть своё дело делает, ему за это зарплату платят!» Дед обиделся, но работу продолжал (в чём-то хозяйка была права: мастер был «сов. служащий» и бросить заказ и уйти не мог). Но поскольку к нему, МАСТЕРУ, отнеслись, как простому «сов. служащему», он и печку сложил, как «сов. служащий», то есть всё по гостам, всё по стандартам, (соседи потом жаловались на матвеевское творение во все возможные инстанции, но ни одна экспертная комиссия не смогла найти никакого изъяна). Печка получилась, как печка, только дров не напасёшься — пока огонь горит — тепло, огонь погас — и печка остыла.
Но случай этот для Чермета, в общем-то, не типичный, так, анекдот другим в назидание. Давно уже нет ни деда Матвея, ни его печек, давно никто не стегает одеяла и не перетягивает диваны, но по-прежнему рядом с бездарной, халтурной работой мы видим работу настоящих мастеров. И, в конце концов, как мне кажется, уважение к мастеру и к мастерству определяет очень многое в нашей жизни, а может быть и всё.
Заходишь в иной дом и обалдеваешь от какого-нибудь шкафа или стула. Покрутишься вокруг него, поцокаешь языком, а ушёл паровоз… Ведь и у вас в семье было что-то подобное, но выкинули, сменили в погоне за «новомодным дизайном»… А эти люди сохранили, понимая, что это мАстерская работа. А ты в своё время этого не понял. А теперь поздно, теперь такого в «бутике» не купишь.
Доброе слово о школе
Если черметообразующими были две улицы: Советская и Фокинская, то черметобразовывающими были две школы: вторая и четвёртая. Именно эти две школы и приняли на себя всю силу удара черметовской вольницы, именно они совершили почти невозможное, вырастив из нас не бандитов с большой дороги, а приличных и, как мне кажется, даже умных людей.
В четвёртой в основном учились ребята с Советской улицы, и они лучше меня могут рассказать о своей альма-матер… Фокинская и Пролетарская улицы вели своих детей, в том числе и меня, во вторую, и я благодарю судьбу за то, что она так мной распорядилась.
И сейчас помню восторг от своей первой, в чем-то похожей на военную, серой школьной формы, от фуражки с кокардой, от плотного дерматинового ранца… Почему-то я был уверен в «пятёрках с плюсом», которые буду приносить домой каждый день… Первой оценкой оказалась «четвёрка», притом без всякого плюса, потом стали появляться и «тройки», а уверенность в «пятерках» таяла на глазах, но эти мелкие неприятности всё равно не могли поколебать мою любовь к родной школе.
Любовь к школе… К школе целиком… К школе, как единому целому, где отдельные негативные моменты ничего не меняют по существу… А свою школу я полюбил сразу. Полюбил здание, ещё до того, как в него зашёл: четыре этажа для чермета — почти что небоскрёб. Полюбил огромные и, как мне тогда казалось, высоченные коридоры. Полюбил свой класс на втором этаже в углу. И, конечно же, полюбил свою первую учительницу Анну Ивановну. У нашего класса сложился даже своеобразный ритуал: мы, как приветствующие Цезаря римские воины мечами по щитам, били своими ладошками по портфелям и ранцам, едва завидев её в коридоре нашего этажа. И под этот приветственный грохот Анна Ивановна, немного снисходительно, но в то же время понимающе улыбаясь, входила в класс.
В первый школьный день Анна Ивановна, разбив нас по парам, поставила рядом со мной замечательную девочку Люсю. Я ей, видимо, не очень глянулся, и она всё время старалась, пока шла школьная линейка, куда-то улизнуть… Но мне-то Люся понравилась, и я так вцепился в её руку, что вырваться на свободу она никак не могла, и ей пришлось не только пройти рядом со мной до дверей класса, но и сесть за одну парту, где мы и просидели рядом несколько лет… Люся, Люся, первая школьная любовь… Как хорошо, что именно с этого чувства началась моя школьная жизнь… Как хорошо, что именно такой подарок к 1 сентября сделала мне моя первая учительница…
Анна Ивановна жила недалеко от моего дома в маленькой комнатке бревенчатого барака. Все стены её жилья были завешаны фотографиями классов, в которых она работала, и нехитрыми поделками её воспитанников, которые те дарили ей к праздникам. Это и было всё её богатство. Её жизнь была неразрывно связана со школой, или вернее школа и была её жизнью, может быть, именно поэтому она так быстро умерла после выхода на пенсию — жизнь кончилась. Кто-то сказал, что мы живы, пока нас любят… Я и мои одноклассники продолжаем любить и помнить эту тихую и добрую пожилую женщину, больше похожую на заботливую бабушку, чем на классного наставника.
Не знаю, может быть, это ностальгия, но мне порой кажется, что это чувство любви буквально витало по коридорам второй школы. Сегодня, по прошествии более тридцати лет, мне трудно вспомнить нелюбимого учителя, нелюбимого сверстника… Конфликты, конечно, возникали, но даже когда мне доставалось за какие-то дела, то я все равно чувствовал, что школа действует мне во благо. Ведь правда глупо обижаться на мать, которая выпорола тебя за курение или ещё какую твою пакость.
И на нашу вторую обижаться было также глупо, а вот любить было за что. Сегодня все школы жалуются на слабое финансирование, наверное, так оно и есть, но я не думаю, что в послевоенные 50-е годы дело с финансированием обстояло лучше… Однако в нашей школе как-то находили деньги для руководителей кружков и секций. У нас был свой театр, руководил которым артист Трубенков. Прекрасный хор организовал тогда ещё начинающий композитор Бумагин. Танцевальный коллектив, духовой и струнный оркестры, всего и не упомнишь… Школьный смотр самодеятельности проходил несколько дней. Отобрать лучшие номера и составить общешкольную сводную программу было поистине нелёгким делом. Сегодня мне кажется, что чуть ли не вся школа занималась художественной самодеятельностью, хотя мой друг и одноклассник убежден, что во второй превалировал спорт… Не знаю, кто из нас прав, знаю другое — выбор у нас был огромный.
Стоит ли удивляться, что при таком выборе мы все находили себе занятия, и наши уличные, не побоюсь этого слова, бандитские замашки постепенно куда-то исчезали. Школа причесывала наши непослушные вихры, но причесывала не одной, как это к несчастью часто бывает, гребёнкой… Гребёнок было много, и для каждого находилась своя.
Сегодня, я думаю, любой педколлектив взвыл бы, столкнувшись с нашей черметовской послевоенной шпаной. Да я сам, считавшийся тогда относительно спокойным ребёнком, учись я сегодня, сразу же загремел бы в инспекцию по делам несовершеннолетних со всеми своими кастетами, пугачами и кинжалами. А вторая школа терпела не только меня, терпела всех нас и не только терпела, она работала с нами и работала успешно. По крайней мере, мне и моим приятелям грех обижаться.
Конечно сейчас, повзрослев и поработав в школе, я понимаю, что всё это делалось не само собой. Понимаю, что была направляющая рука и даже знаю, чья это рука была. Своего тогдашнего директора Лисовскую я близко видел всего один раз. Мы, ученики, вообще её редко видели. Она была инвалидом, ей трудно было передвигаться, у неё что-то было с ногами, и она редко выходила из дверей своего кабинета. Но то, что за этими оббитыми кожей дверями находится наш директор, знали все и, проходя мимо них, сразу становились тише и спокойней. Но что происходит там за этими дверями мало кто знал. А я знал! Я видел!! Я однажды был там!!!
Надо сказать, что в те годы на Чермете проезд машины по улице был относительно редким событием, особенно зимой. И уж если машина появлялась, да ещё ехала в нужную тебе сторону, то перед соблазном прицепиться к ней и прокатиться «на ногах» мало кто мог устоять. И вот, когда однажды я, схватив одной рукой крюк грузовика и держа портфель в другой, «доехал» до самой школы, меня поймал за шиворот какой-то строгий прохожий и притащил в кабинет к САМОМУ ДИРЕКТОРУ. В глазах этого строгого дядьки я, видимо, казался страшным правонарушителем, о чем он тут же и доложил «по начальству». Лисовская сидела за столом, положив свою больную ногу на стул, и хмуро слушала рассказ о моих преступлениях. Пообещав дядьке разобраться со мной и дождавшись его ухода, она решила, что процесс перевоспитания завершён и выпроводила меня, буркнув вслед что-то типа: «Марш отсюда, шалопай!»
Я вышел из кабинета, а вслед мне слышался шепот: «Его к директору водили! Водили к директору!» Так в первый раз в жизни ко мне пришла слава: меня, паршивого третьеклассника, водили к самому директору. До сих пор не пойму, при всём своём педагогическом образовании, что сделала такого Лисовская, что я до сих пор помню этот «процесс перевоспитания».
Конечно, не каждый подобный «процесс» проходил так просто, как в моём случае. В школе рядом с такими «лопухами», как я, учились и уже вполне сформировавшиеся уголовники, не раз ходившие «на дело». Их нередко милиция забирала прямо с уроков. Но учеников не выбирают, и учителя работали с такими, какие были.
А работать наши учителя умели. Учитель литературы Мария Васильевна Попова, уже тогда пожилая женщина, научила нас чувствовать красоту русского слова. Сегодня её методика показалась бы многим слишком упрощенной, но именно благодаря ей мы полюбили литературу, полюбили чтение, а «программные произведения» не набивали оскомину. Многие мои молодые знакомые удивляются, когда узнают, что я перечитывал «Войну и мир» несколько раз. Они-то её и один раз не осилили, она им ещё в школе осточертела. Всеволод Константинович Цебровский, учитель истории — человек, окружённый школьными легендами. Говорили, что он мог преподавать любой предмет (на моих глазах он решил труднейшее упражнение по алгебре, с которым долго не могли справиться десятиклассники) … Говорили, в годы войны он был в высоком звании и, вроде, был даже на приёме в Кремле по случаю Дня Победы… Говорили, что он руководил кафедрой истории в каком-то институте… Всё могло быть, при его уме, кругозоре, умении говорить и общаться, всё могло быть, но…
Ох, уж это «но» Всеволода Константиновича… Выпивал он, как многие фронтовики. И иногда выпивал сильно, бывало, и на урок приходил «тяжёлым»… Но именно в эти моменты и проявлялась вся любовь и всё благородство его учеников. Видя, что Костыль (он ходил хромая, опираясь на палочку) не в состоянии вести урок, класс выставлял за дверь общепризнанного разгильдяя «на шухер» и замирал в полной тишине, а если появлялось начальство, кто-нибудь начинал «отвечать урок у доски»… Мы знали, что за пьянку его могут выгнать с работы и таким чисто детским способом спасали своего любимого учителя.
А любить его было за что. Мы готовы были слушать его часами. К каждой теме он давал огромное количество источников дополнительной информации, при том так давал, что мы их взахлёб читали. Благодаря ему, я и сегодня свободно ориентируюсь в мировой истории. А в нашем классе он был ещё и классным руководителем. Ничем особенно не руководя, ничего не организовывая, он как-то так поставил свою работу, что мы всё делали сами, а к нему бегали только за консультациями. Он нас выслушивал, высказывал своё мнение, давал какие-то советы, заканчивая неизменным: «Но это мое мнение, решать вам».
Федор Федорович Шаповалов — завуч школы, жёсткий в чём-то даже жестокий… Совсем недавно я узнал, что он всю войну проработал математиком ракетного проекта в «шарашке» вместе с Королёвым — это многое объяснило мне в его суровом характере. Но при всей своей жесткости, главным в нем было всё-таки чувство справедливости. Он не делил детей на своих и чужих, и награды и наказания выдавал строго по заслугам и его собственные сыновья, наравне со всеми, драили школьные полы после уроков в наказание за свои «подвиги». Только после школы я столкнулся с двойными стандартами. Во многом благодаря Федору Федоровичу в школе был один стандарт: что сделал, за то и получи.
Но этот же суровый Федор Федорович блистательно смешно играл главную роль в школьной инсценировке по Чеховскому «Медведю»…
Учитель физики, обычно такой до занудства придирчивый, на наших вечерах лихо наяривал на бабалайке… Учителя второй школы, я мог бы писать и писать о вас…
О Маргарите Сергеевне, любимице всей школы, водившей нас, не считаясь со своим временем, в многодневные походы по области, не говорившей красивых слов о любви к родному краю, но так много сделавшей, чтобы эта любовь появилась…
О Нине Ивановне, историке, директоре, неутомимом краеведе, основателе и хранителе школьного музея…
Об Элле Ивановне, ставшей на многие годы центром молодёжных инициатив чуть ли не для всех школьников города…
Об Ольге Леонидовне, Кузьме Егоровиче, о… Обо всех, кто работал в моё время, до меня и после. О тех, кто работает сейчас. В конце концов, школа это — и есть вы. Мы приходим, уходим, а вы остаётесь в ней, встречаете новых детей, и всё продолжается, как и должно продолжаться. И да будет так! Успехов вам и спасибо за всё.
Бродвей или просто Брод
Не ходите дети в школу,
Пейте дети кока-колу.
Из песенки 60-х
Эту песенку в модном тогда ритме буги-вуги я услышал в глубоком детстве. То ли благодаря Московскому Фестивалю молодежи, то ли вообще всей хрущевской оттепели, но приоткрылась форточка в мир «проклятого империализма». Увидеть сквозь эту форточку на той стороне ничего было невозможно, но какие-то отдельные звуки, ритмы и слова к нам стали долетать. Наши родители, как и все взрослые, все еще побаивались любой «иностранщины», а нас молодых и еще не пуганных манил этот неизвестный, и именно поэтому еще более тянущий к себе, запретный иностранный плод.
Сначала появились стиляги. Они отличались всем. Они сразу выделялись в любой толпе. Б-ск не Москва, никаких иностранных вещей у нас ни купить, ни достать не было возможности, но иностранные журналы до нас доходить стали, и иностранные фильмы были уже не только из стран «народной демократии». Короче мы увидели, что где-то там, живут иначе, иначе одеваются, слушают другую музыку, танцуют буги-вуги, и пьют КОКА-КОЛУ. Никто, ни взрослые стиляги, ни мы малолетки этой самой кока-колы в глаза не видели, не видели даже тех, кто эту штуку пробовал. И поскольку водка в нашем городе под запретом не была, а кока-кола считалась вредным буржуазным напитком, то нам она представлялась чем-то покрепче спирта. В нашем детском сознании пиратская «Ё-хо-хо, и бутылка рома» и «…Пейте дети кока-колу» были песнями одного порядка. Но это так, отвлечение в сторону. Мы по малолетству своему стилягами быть никак не могли, а взрослым одной песенки про кока-колу было маловато, одной песенкой из толпы не выделишься, а выделиться ой как хотелось. Взрослые мальчики до предела зауживали брюки клинцовского производства, расширяли при помощи ваты плечи своих пиджаков и нещадно бриалинили волосы, девочки вообще творили из своих платьев что-то немыслимое.
Фантазия известной литературной героини Эллочки-людоедки меркла на фоне изысков провинциальных модников и модниц. Одна прическа, прозванная в народе «взрыв на макаронной фабрике», чего стоила. Не заметить такую красавицу на улице было просто невозможно. И их заметили. А заметив, терпели не слишком долго. Судебные процессы над стилягами, прокатившиеся по всей стране, не миновали и нашего города. Кого-то посадили (конечно, не за прически и не за «модный прикид», статьи подобрали вполне «посадочные»), кого-то выслали в менее подверженные гнилому западному влиянию регионы. Короче, казалось, всю империалистическую заразу вырвали с корнем… Но нет… Джин из бутылки вылетел и назад залезать уже не собирался. А тут уже и мы подросли. Мы, может быть, были не столь вызывающе одеты, но свои законодатели мод имелись и у нас. Правда, клинцовские брюки уже не зауживали, а наоборот расширяли. В моду вошли клеши. У девочек «макаронный взрыв» сменился прическами «Бабетта» и «Я у мамы дурочка». И, наконец, главное! К нам пришел технический прогресс — транзисторный приемник. Еще вчера обычный ламповый радиоприемник был предметом роскоши, а сегодня транзисторы оказались в руках чуть ли не у каждого второго подростка. В нашу жизнь вошли «голоса». Что там по этим голосам говорили, нас не очень интересовало (время диссидентов еще не пришло), но там звучала музыка. И вот эта возможность слушать музыку на ходу, как мне кажется, и породила б-ский бродвей. Отчасти этому способствовали и некоторые градостроительные изменения.
Центр города в то время выглядел несколько иначе. Не было еще ни площади Ленина, ни памятника великому вождю. Нет, они, конечно, были, но в другом месте — напротив драмтеатра. А на месте нынешней площади просто продолжалась улица Советская. В эти годы по всей стране в городах стали создавать бульвары, то есть улицы для прогулок. Вот и у нас отрезок Советской от ворот стадиона до улицы Калинина (набережной тогда тоже еще не было) переименовали в бульвар имени Гагарина и от стадиона до проспекта Ленина движение автотранспорта запретили. Газоны посередине бульвара появились несколько позже, а в самом начале поставили несколько парковых лавочек и этим ограничились. Предполагалось, что по бульвару будут чинно прогуливаться пенсионеры, а на лавочках усядутся бабушки с внучатами. Но старики упорно продолжали забивать «козла» за столиками во дворах, да и бабушки от своих дворовых песочниц внучат ни на какой бульвар вести не торопились. Так что днем бульвар практически пустовал, но вечером…
Вечером здесь было не протолкнуться. Два нескончаемых потока двигались навстречу друг другу: от стадиона до проспекта и от проспекта к стадиону иногда с заходом в парк и опять назад к проспекту. На лавочках и вокруг них собираются шумные компании. Все лавочки практически именные. Вот на третьей лавочке слева по ходу от парка команда КВН второй школы, любимцы публики, острословы и выдумщики, уже не первый год не знающие поражений. Рядом стайка девчонок нарочито громко смеется, пытаясь привлечь к себе внимание, но парни (девочек в те годы в КВН не пускали — мужская игра) обсуждают что-то свое, и все старания красавиц пропадают зря. Чуть дальше на лавочке еще одна не менее шумная компания — толпегинцы — артисты детского театра Дворца пионеров. На противоположной стороне бульвара на лавочке чисто женская компания, выставка красавиц — пансион мадам Пушновой (так меж собой школьники Советского района именовали пятую школу — уж больно красивые девчонки там учились). Вот восседает «макаронка», вот ребята из молодежного опер отряда, компании, компании и нескончаемые потоки гуляющих рядом. Гуляющих по БРОДВЕЮ!!! Ну, прям, как у них там…
Что ни говори, русский язык действительно велик и могуч, легко вбирает в себя любые неологизмы, но тут же начинает русификацию нового понятия и, слегка, иногда почти незаметно, что-то изменив в слове, делает его своим, русским, точно выражающим суть происходящего. Именно поэтому, наш Бродвей так и не успел стать БРОДВЕЕМ. То ли все быстро заметили, что Б-ск все-таки не совсем Нью-Йорк… То ли, несмотря не перешитые клинцовские джинсы, поняли, что и мы не совсем американцы… Уже через месяц никто не говорил слово «Бродвей», все говорили «брод».
Слово «брод» было родным, и своей эмоциональной окраской точно определяло то, что происходило на отрезке улицы Советской, который еще не стал бульваром, но уже и не был БРОДВЕЕМ.
— Пойдем на брод, прошвырнемся…
Здесь редко знакомились, как правило, держась своих, уже сложившихся компаний. Здесь редко появлялись влюбленные парочки, находя для свои встреч более укромные уголки. Здесь даже «чувих клеили» редко. А уж свиданий здесь точно не назначали — в такой толпе одиночке было очень легко потеряться, а уж найти одиночку было почти невозможно.
Чем же занимались на броде, проводя там по несколько часов чуть ли не каждый вечер? По большому счету — ничем! Хотя у каждого пришедшего «прошвырнуться» какие-то свои цели и задачи конечно были…
Вот гордо шествует «чувак» в черных расклешенных брюках. То, что это стопроцентный чувак, видно сразу, как видно и то, что брюки он построил только сегодня — уж больно вид гордый и независимый. Еще бы, таких штанов ни у кого нет. Он ведь, расширяя брюки, не просто вставил клин… Нет! Он вставил БЕЛЫЙ клин, да еще загладил его гармошкой. В положении покоя — простые черные расклешенные брюки, ан нет, стоит пошевелиться, и клеш, колыхаясь, раскрывает белую вставку-гармошку. Красота! Есть, что людям показать! Но вот гордость сходит с лица чувака, лицо тускнеет прямо на глазах — навстречу ему идут еще более навороченные штаны. Тут не только клеш гармошкой, но еще над каждым клешем мигают маленькие цветные лампочки, от которых в замысловатом переплетении по швам брюк тянутся разноцветные проводки в задние карманы. Самая главная хитрость именно там и скрывается. В этих карманах по плоской батарейке, которые каким-то особым способом замыкают электроцепи при движении — лампочки загораются по очереди.
А вот уже группа чуваков. Эти берут не качеством выдумки, а общим стилем, то есть своим количеством. Клеши у них простые, но слегка скошенные назад, и края обшиты половинками металлических застежек-молний. Зубцы у этих молнии крупные, поэтому скошенные хвосты клешей постоянно звякаяют, касаясь асфальта. А в группе-то человек семь! Звон по броду, словно эскадрон гусар на променад вышел — на то и рассчитано!
Еще группа в черных болоньевых плащах (высший шик и дефицит 60-х), черных капроновых шляпах с короткими полями, черных кожаных перчатках… Одежка, конечно, не по сезону, жарковато малость… Но зато видок что надо! Им бы еще кольты под мышку, и точно — ганстеры на дело идут.
Демонстрация, как теперь говорят, «прикидов» не кончается. Описать все буйство фантазий тех лет нет ни каких возможностей: глаза разбегаются, слов не хватает… А это ведь только о «чуваках»… А тут же еще и «чувихи» косяками… И «чувих», как всегда, значительно больше чем «чуваков»…
Обитатели Брода
Конечно, элемент публичной демонстрации себя любимого был фактором немаловажным, но самопальным моделированием одежды, и ее демонстрацией занимались немногие. Просто, наверное, эта категория бродовцев сразу бросалась в глаза, а видок некоторых чуваков надолго оставался в памяти.
Но никакой показ самых распрекрасных мод не будет собирать каждый вечер толпы людей. А брод собирал. Даже в плохую погоду, даже в дождь проливной одна — две сотни, но появлялась прошвырнуться… Что это? Чем объяснить?
Наверное, тем, что брод был общим театром. Каждый приходящий на брод или случайно оказавшийся просто рядом, становился одновременно и его актером, и его зрителем. Не верите? Судите сами.
«Бан шумит, кипеж по бану…» — эта песенка, написанная по фене, одно время была очень популярна на броде. Популярна, потому что брод, как и тот никому не известный «бан», тоже шумел и еще как шумел, и кипеж по броду катился волнами без остановок.
Вот около поставленного на землю транзистора под «импортную» музыку ребята крутят твист…
Они не просто твистуют, здесь что-то вроде современного перепляса. Себя показать, конечно, важно, но так же важно и других посмотреть и не просто посмотреть, а спровоцировать на показ своих фенек. «Фенька», слово, рожденное на броде и сегодня слегка подзабытое, очень многое определяло в жизни брода. Странный костюм — фенька. Новое движение в твисте — тоже фенька. Лихо закрученная фраза, шутка, розыгрыш… Феньки, феньки и нет им конца… Придумать, показать, удивить, самому удивиться, чтобы завтра снова придумать, что-то новенькое…
Над бродом раздается какой-то душераздирающий звук… Что-то такое протяжно-воющее на каких-то верхних нечеловеческих регистрах. Этот звук на броде знают почти все. Это кричит мой приятель, сегодня известный и уважаемый человек в нашем городе… Это называется «рев единорога»… Это его фенька, и только его… Кроме него так ни у кого не получается… Пытались многие, похоже, но не то, так слабое подражание… Известив «ревом единорога» о своем прибытии, он присоединяется к приятелям.
А на соседней лавочке разыгрывается массовая фенька — радиоспектакль «Приезд Государя Императора в город Кострому». Я не знаток истории, но, говорят, было такое событие. Действо разыгрывается по всем законам радио — все делается методом звукоподражания. Одна группа «работает» духовой оркестр — каждый имитирует звучание какого-то инструмента: труб, барабанов тарелок — вместе получается играющий духовой оркестр… Кто-то «работает» поездом: лязг колей, гудок, шипение пара… «Хор гимназисток» поет «Боже царя храни… Прочие мелочи: шум толпы, призывы революционера «Долой самодержавие» (куда же без этого), свистки и крики полиции… И, наконец, финальная фраза «Поезд государя Императора проехал город без остановок!» — общий вопль «разочарования и возмущения». Поручи мне сегодня поставить такое произведение — не получилось бы. А у них получалось и классно получалось. Это была их фишка.
То там, то тут возникают группки вокруг гитаристов… Иногда поют и без гитары… Главное, что-то новенькое. Здесь я впервые услышал песни Окуджавы, Кима, Высоцкого, Городецкого, Клячкина… Эти песни и сегодня поют… А это значит, что с вкусом на броде в целом было нормально.
Не знаю почему, но в 60-е в городе не было нищих, зато из былых времен остался нищенский репертуар. Его почти все знали, но сделать эти песни своей фенькой додумалась только одна компания. Однажды они явились на брод в каких-то драных ватниках, шапчонках и с гармошкой и, буквально усевшись на асфальт и тыча одним пальцем в инструмент, затянули «жалестные» песни. У них и в мыслях не было просить милостыню, они хохмили, феньку казали… Они даже шапку перед собой не клали, шапка появилась потом, когда «музыкантам» под ноги полетели первые монеты. Когда на другой день ребята пришли в своем нормальном обличии, многие расстроились. Ансамбль нищих всем понравился. Народ требовал продолжения. И компания время от времени повторяла свои гастроли, и окружение с удовольствием подпевало новоявленным нищим. Чего здесь было больше музыкально-вокального или прикольного? Наверное, больше все-таки второго. Хорошая фенька, тем более фенька, заводящая толпу, на броде ценилась высоко.
В среде школьных КВНщиков в те годы была популярна игра-розыгрыш с садистским избиением. Группы со страшными криками гналась за кем-то, этот «несчастный», убегая, просил всех встречных помочь, спасти его от «этих гадов». Смельчаков связываться с хулиганской толпой, как правило, не находилось. Где-нибудь в густо населенном месте банда настигала «жертву», и начиналось «страшное» избиение: били руками, ногами, избиваемый летал от страшных ударов. Случайные свидетели «этого зверства» громко возмущались, жалели жертву, осуждали жестокость, но не приходили на помощь, а просто, высказав возмущение, уходили подальше «от греха». Все это зверство было простым постановочным трюком, техникой сценической драки КВНщики владели в совершенстве и так просто развлекались, проверяя реакцию зрителей и надеясь, что когда-нибудь зрительское возмущение перерастет в актерское действие… И дождались!
Одна команда, пробежав с гиками по броду, затеяла избиение в парке, недалеко от столов, за которыми бывшие фронтовики играли в настольные игры. Избиваемый, как и положено по сценарию, кричал, звал на помощь… И помощь пришла!.. Ветераны, встав из-за столов, заступаясь за мальчонку, стали охаживать нападавших своими костылями. При этом к «постановочному бою» это не имело никакого отношения. Они заступались по-настоящему и били по-настоящему. Потом «добрые люди» объяснили ветеранам, в каком спектакле им пришлось сыграть ключевую роль, те поохали, но не сильно расстроились на то, что перестарались со своим заступничеством. А шутники долго зализывали синяки и ушибы, на себе почувствовав, что искусство действительно требует жертв.
На броде жертвовали, как правило, не те, кто этим искусством занимался, так сказать, профессионально, а случайно вовлеченные в действо. Представьте: сидит на лавочке некая компания, уже не первый час сидит. Все новости обсудили, все вопросы решили, уже раз десять по броду прошвырнулись, пора бы и по домам, но как-то не хочется. Мимо дефилирует стайка девчонок…
— В паровозик?
— В паровозик!
— Поехали!
Опытным глазом завсегдатая брода определяется самая скромная, а значит и самая беззащитная девушка и… И вся мужская компания, выстроившись в затылок, пристраивается к ней сзади. Девушка и ее подруги не сразу замечают мужской экскорт, но его сразу замечают окружающие. Согласитесь, забавно выглядит, когда за некой особой в затылок с нарочито безразличными физиономиями идет с десяток парней.
Все оборачиваются, глядят вслед, хихикают. Наконец экскорт замечен. Уговоры отстать никакого воздействия не оказывают, мужики даже не вступают в диалог с жертвой, ее, как бы, не замечают. Попытки оторваться от преследователей успеха не имеют — «вагончики» намертво прилипли к своему «паровозику». Первыми сдаются подруги и оставляют несчастную на растерзание шутникам. Это только в правильных фильмах и книжках друзья и подруги верные. В жизни верность встречается куда реже. Оставшись одна, жертва оказывается в полной власти своего сопровождения. Чем сильнее и активнее девица борется за свободу, тем сильнее раззадоривает преследователей, зачастую своим поведением даже увеличивая их число. Желающие пристроиться к хорошему паровозику всегда находились в избытке.
Не один раз случались «паровозики» длиной чуть ли не во весь брод. Спасение было возможно только одно — уйти домой. Но уйти, это значит сдаться, проиграть, и потом, если ребята по-настоящему завелись, они могли и до дома через весь город проводить. Тоже еще то удовольствие!
Самым верным женским приемом борьбы было смирение: перестав реагировать на мужиков, девица начинала наматывать круги по броду, в ожидании, когда это тупое хождение им надоест. Действительно, если жертва никак не реагирует, не сопротивляется, она фактически перестает быть жертвой. Такой «паровозик» не вызывает зрительского ажиотажа. От такого «паровозика» «вагончики», как правило, быстро отцеплялись — артисты не любят играть в плохих спектаклях.
Но однажды одна девица нашла новый, можно сказать, радикальный способ борьбы с «паровозостроением». Наша героиня изначально не собиралась быть ни жертвой, ни статисткой в чужом спектакле. Она поставила свое представление. Перед входом в парк, то есть в самом людном и широком месте брода девица резко повернула в обратную сторону… Ее преследователи двинулись за ней… Но тут жертва неожиданно превратилась в нападающего.
Подойдя к последнему в преследующей ее цепочке парню, она еще раз резко развернулась и пристроилась за ним… (!?!) Образовался круг! Мышеловка захлопнулась! Мужиков, королей брода, которых знали все чуть ли не поименно, заставили у всех на виду водить хоровод?..
И кто? Девчонка! Какая-то девчонка сделала их посмешищем.. Покружившись какое-то время, и не найдя никакого достойного выхода из своего смешного положения, парни один за другим покинули поле боя или, если вам угодно, сцену… А виновница торжества только невинно смотрела им в след и разводила руками, как бы спрашивая: ну куда же вы, ребята, давайте еще поиграем. Быть может, эта девчонка, поставившая в тупик целую ораву далеко не самых глупых парней, была первой ласточкой провинциальной эмансипации…
Игра в паровозики прекратилась как-то сама собой, но на броде это не стало событием. Событий на броде хватало. Сюда стекались все новости, а многие здесь и рождались.
Истории Брода
Событий хватало. 60-е годы вообще были богаты на события. Сегодня это время называют «оттепелью». Но наше поколение «стылое время» практически не застало, так что оттаивать было нечему. Все новые проявления хрущевской свободы мы воспринимали, как должное, и сильно удивлялись «заскорузлости» (ходило в те годы в нашей среде такое словечко) наших родителей, которые то и дело старались удержать нас от тех или иных слишком на их взгляд смелых проявлений активности.
Году в 66 мы с друзьями написали и поставили оперу «из китайской жизни». В те годы Китай бурлил культурной революцией, там всенародно уничтожали воробьев и интеллигенцию, выплавляли в домашних печках сталь, совершали массовые заплывы во главе с Великим Кормчим (так тогда официально называли председателя Мао). Опера наша называлась «Так ли широка река Янзы» и посвящалась одному из таких заплывов. Мы с азартом репетировали, придумывали для своего детища все новые и новые «фишки», проверяли их действенность на броде и оставляли в спектакле только те, на которые брод должным образом отреагировал. У родителей же отношение к нашей задумке было, мягко говоря, неоднозначным. Опера частично была политической сатирой, а жизненный опыт навсегда отучил советского человека острить на политические темы. Короче, вся «творческая группа» пошла в райком комсомола и сама к себе на генеральную репетицию пригласила райкомовского цензора. Цензор, убрав некоторые «политически неверные» моменты (родители все-таки больше нас в этой жизни понимали), дал добро к показу. Показ прошел более чем успешно и закончился — где бы вы думали?.. Конечно на броде факельным шествием. Двигаясь колонной с факелами по броду, мы еще раз исполнили свое «гениальное оперное творение», но, как говорят музыканты, уже в концертном исполнении. На какое-то время опера стала фишкой брода и за его пределами, и даже была отмечена походом в «Ласточку».
«Ласточка» — еще одно овеществленное проявление «оттепели». В 60-е во всех крупных и особенно студенческих городах стали возникать молодежные кафе. Предполагалось, что именно в них молодежь будет за чашкой кофе раскрывать свой творческий потенциал. Даже несколько фильмов сняли про такие кафе, в которых читали стихи, пели песни и вообще всячески творчески росли. Может быть, где-то так и было, но к нашей «Ласточке» это никакого отношения не имеет. Нет, официально она считалась молодежным кафе, и даже кофе в ней было, но этим все и ограничивалось.
Кстати, первой ласточкой должна была стать совсем не «Ласточка». В парке издавна было «заведение», в чем-то даже удивительное деревянное строение с симпатичными верандочками, ажурными балюстрадами. Сквозь его крышу проросли деревья, что придавало особое очарование. Сохранить бы это, не побоюсь слова, украшение парка, но… То ли из-за ветхости, то ли по недомыслию, то ли еще по каким причинам, но деревянную кафешку снесли и на ее месте стали строить каменное «настоящее современное» кафе. Отрыли котлован, который показал нам молодым, незнающим истории своего города, что парк-то наш стоит на костях, то есть на кладбище. Все пространство вокруг стройки века было некоторое время завалено человеческими останками, потом их куда-то увезли, но все увезти не успели. У одного моего друга, собиравшегося стать врачом, долго хранился череп и еще что-то из того котлована. Работы в парке поначалу шли полным ходом, потом, как это у нас часто бывает, затормозились, замерли… А тут-то как раз и «Ласточку» построили. Построили без паркового размаха, внешне так стекляшку, но с гордым названием КАФЕ «ЛАСТОЧКА» и даже птичку на фронтон поместили, словно с эмблемы МХТа.
Географически «Ласточка» к броду не относилась, располагаясь в скверике напротив театра. Днем она была пельменной (план на чем-то делать надо), а к вечеру становилась КАФЕ. Поход в «Ласточку» был не слишком дорогим удовольствием, но каких-никаких денег все же требовал… А с деньгами у нас было туговато. Провинциальный люд жил небогато, отпрысков деньгами не баловал, и потрать запросто двухгривенный на кофе не каждый мог себе позволить. Поэтому уж если и шли пить кофе, то компаниями и по поводу, зачастую прибегая, как теперь говорят, к «спонсорской помощи». Например, походы по случаю побед нашей школьной команды КВН очень часто оплачивали влюбленные в нас наши учителя, и даже иногда, проявляя всю широту педагогической души, заказывали нам кофе с КОНЬЯКОМ. Чашечки были маленькие, сидели с ними мы подолгу, доходу заведению такая публика не приносила…
…За год, может чуть больше, вся школьная и студенческая молодежь перезнакомилась между собой. Сначала учащиеся разных заведений стали узнавать друг друга на улицах, потом здороваться, потом общаться, а там уже друзья, ну уж если и не друзья, то приятели — точно. А приятелям уже не до метких местечковых разборок.
Хотя отголоски этих разборок на брод перешли, правда поначалу в дозах умеренных и вполне приемлемых. Кто-то в кого-то влюбился, кому-то это не очень понравилось, кто-то кому-то набил лицо. Заметьте, не морду, а лицо. В те годы по экранам в «узком», т. е. почти запрещенном прокате прошел фильм «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА и КАТЮША», где и прозвучала эта фраза: «Набитьне морду, а лицо. В те годы по экранам в узком «осьлу в дозах умеренных и вполне приемлемых. лицо». В тот год страна фильма почти не заметила, но фраза из фильма на брод пришла. Постепенно драки свелись к чисто словесному поединку. Нет, конечно, все было: и конфликты непримиримые, и драки… Все было… Но не они определяли брод. Если «кровопролития» и случались, то на броде больше обсуждали не то, кто как кому «вдарил», а то, кто как себя вел и что сказал. Острое слово из-под разбитого носа ценилось гораздо выше удара, этот нос расквасившего. И эти внутрибродовские оценки влияли на молодежный менталитет гораздо сильнее, чем любые официальные проповеди.
На броде ругаться вроде никто не запрещал, и в морду можно было спокойно двинуть, и много еще чего можно было сделать, не боясь милиции или других каких-либо официальных санкций. Но неофициальных боялись пуще огня. Оказаться в дураках (или как теперь говорят лохом) на броде было страшней любого привода в милицию. Милиция что? Поругает и отпустит… А брод твой промах не только не забудет, но еще и долго обсуждать будет, и ты за своей спиной будешь слышать противный шепоток: «А, это тот, который…»
Закат Брода
Одна бродовская знакомая, уехав в начале 70-х из города на несколько лет, вернувшись, брода не обнаружила… Брод исчез! Как? Куда? Почему? Тайна веков.
Но ведь исчез, и с этим не поспоришь. Исчез так же стихийно, как и возник. Что случилось? Бульвар Гагарина не изменился — и сегодня такой же… Ну лавочки убрали… Но этих лавочек все равно на всех бродовцев не хватало, и не ради лавочек мы на брод шли. Шли, шли каждый вечер, шли, как на работу. И вдруг ходить перестали. Ну конечно, не вдруг. Конечно, брод хирел постепенно. Но это не его вина. Как, например, «сдохла» «Ласточка»? А просто… Какая интеллигентная беседа за чашкой кофе может проистекать, когда за соседним столиком пьяная компания орет про «шумел камыш»? Кофейных вечеров хватило на один сезон, «кофейный ассортимент» изменили, тут же изменилась и клиентура, и доходная часть, и «Ласточка» стала обычной распивочной… и на броде появились пьяные.
Да нет, и раньше пили… Но как-то в сторонке и втихаря, как правило, тут же расходясь по домам. Фланировать «под мухой» было как-то не принято, неприлично… Но ничто не вечно под луной.
Одновременно с «Ласточкой» в круглом сквере на площади К. Маркса открыли первый в городе красивый фонтан. Бетонные резервуары с более-менее крупными струйками воды кое-где в городе были, но в круглом сквере действительно построили ФОНТАН. Этот фонтан даже сегодня еще смотрится, хотя кроме гранитных берегов от былого великолепия ничего не осталось, а тогда дно его, выложенное цветными изразцами, уже само по себе привлекало взор. Б-ский житель, не избалованный монументальным искусством, как на выставку повалил к фонтану, особенно вечером, когда включалась подсветка, когда вода переливалась разными цветами, когда мозаичное дно начинало играть, проявляя то каких-то неведомых морских животных, то не менее экзотичные растения. И в этой чудесной цветной воде, над этим прекрасным сказочным дном плавали «ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ». Да-да, живые рыбки… И довольно крупные… Золотых было всего две, были красные, серебристые, все с пышными хвостами и плавниками… Восторгу зрителей не было предела и… И в фонтан полетели деньги.
Кто первый бросил монету, истории не известно. Зачем, тоже не понятно, но традиция прижилась, правда, не надолго. Первыми одна за другой пропали рыбки. Затем и мозаичное дно после первой зимы потеряло свой блеск и стало постепенно рассыпаться. И уже через год малолеткам с их приспособлениями для доставания со да фонтана монеток просто нечего стало выуживать. Детский фонтанный бизнес приказал долго жить. Но само появление фонтана несколько укоротило брод. Народ уже не гулял до улицы Луначарского… Бродовский маршрут сперва стал заканчиваться у фонтана, потом и в сам сквер заходить перестали, а с появлением нового (теперь уже всем привычного) памятника Ленину брод замкнулся в короткой стометровке от парка до памятника и обратно. Вслед за размерами скукоживалась и сама жизнь бродовская…
Примерно в это же время, спасибо Хрущеву, решившему, что негоже русскому человеку травить себя водкой, во всех отделах «Соки-воды» появилось разливное вино. Сначала сухое молдавское, потом не очень сухое, затем местное плодово-выгодное… Причём, на размеры водкопития кампания никак не отразилась, старшее поколение осталось верно традициям, а вот молодая поросль с радостью приобщилось к нововведению. Любой школьник за десять копеек мог купить полстакана сухого вина, а где полстакана там и стакан, где сухое там и не очень сухое…
Партия сказала «Надо!» — комсомол ответил: «Есть!» Вино оно ведь не только приятно на вкус, оно же еще и ПРИОБЩАЕТ… Ну что такое десять копеек за стакан? Два пончика? Пять звонков по телефону автомату? А ведь «двушку» позвонить тебе любой встречный даст, только попроси! И просили. И давали. Через какое-то время на броде просто со страшной силой возросла любовь к родителям и забота о них — такое количество школьников просто жаждало позвонить домой, чтобы «там не волновались». Легче всего стрельнуть «двушку» было у кого-то из более-менее взрослых или у девочек. И хотя все понимали, что такого количества домашних телефонов в городе просто нет, редко кто отказывал в желании «успокоить родных».
Брод пьянел на глазах, с этим нужно было что-то делать… Способ нашли. Как всегда, по-советски простой — пресекать! Благо уже было кому.
В городе уже давно были созданы оперотряды по содействию милиции. Долгое время они были простой формальностью, ходили по улицам, якобы следя за порядком. Но тут вдруг появился новый враг — музыка и танцы! Выяснилось, что западные музыка и танцы страшно развращают советскую молодежь. И над внешним видом молодых неплохо бы поработать, а то клеши прораспускали, галстуки оранжевые понаодевали. Оперотряды вперед!
И пошла работа: прямо на броде с корнем выдирали вшитые в брюки клеши, отрезали «битловские патлы» (длинные волосы), кулаком по сусалам отучали от пьянства. Все это произошло не вдруг, прессинг правопорядка накатывал постепенно, также постепенно менялся и бродовский уклад жизни. Выгнать «зеленого змия» с брода оперотрядовцы, естественно, не могли, а, поскольку и сами не чурались походов в отделы «Соки-воды», столкновения на почве призыва к порядку часто стали заканчиваться, мягко говоря, беспорядками. Оперотряд обладал корочками, у остальных таковых не было, а у нас юридически прав всегда тот, у кого корочка есть — остальные нарушители, а он — борец за правое дело. Постепенно все не-борцы стали искать иные места для прогулок. Тем более на скукоженном броде уменьшился уже ни в толпе не затеряться, ни от назойливого внимания не уберечься, так что лучше «гусей не дразнить». А гуси, кстати, могли здорово пощипать, могли и гуртом одного измолотить, былое бродовское благородство постепенно сходило на нет.
В 71 году, вернувшись из армии, я застал брод полуопустевшим, а у самого входа в парк группа парней, став в круг, молотила ногами какого-то лежащего на земле бедолагу. И это была не игра былых времен, не театрализованное действо, не фишка, нет, били по-настоящему и даже с остервенением. Бульвар по-прежнему носил гордое имя Гагарина, но это уже был не мой брод. На бульваре Гагарина и сегодня гуляют люди — на то он и бульвар. Но брода больше нет, он остался там, в 60-х. Хорошо это или плохо? Не знаю…
Но как пел по совершенно другому поводу Булат Окуджава: «А все-таки жаль…»
Мостовщиков +
300
Лестница
Все началось с пьянки в мастерской прославленного питерского художника Виктора Тихомирова на верхнем этаже дома, затерянного в Аптекарском переулке за храмом Спаса-на-Крови. Может быть, вы никогда не бывали в Петербурге, не знаете, где там этот храм и уж тем более Аптекарский переулок, но с творчеством Тихомирова сталкиваться всем приходилось наверняка. Этот художник с Божьей помощью создает небольшие картинки, на которых встречаются люди в шапках или простоволосые. Часть из них — мужики. Бывают и бабы. Иной раз творец не брезгует пририсовать к картине жизни еще и колбасу, какое-либо животное, небо, дом. То есть, охватывая своим творчеством разные аспекты бытия, Тихомиров как бы дает понять современникам: чем тупо напиваться в одиночестве, купили бы лучше водки и сельдей да зашли к нему в мастерскую. Здесь, глядя на тусклые крыши Петербурга, в глаза незнакомых, случайных мужиков и баб, вдыхая дым и алкоголь, вы могли бы гораздо быстрее, чем лежа под забором, сделаться обладателем какой-нибудь неожиданно ценной мысли или, наоборот, потерять себя как личность. К этому ведь и сводится в конечном итоге смысл странного сочетания в жизни любого человека храма, крови, аптек, переулков, мужиков, баб, творчества и сельдей. Не так ли?
Я вынужден объяснять столь очевидные вещи так подробно потому, что речь в этом повествовании пойдет о 300-летии Петербурга, которое случится в конце мая этого года. Торжества по этому поводу задуманы такие, что их последствия наверняка изменят и сам Петербург, и Россию, и мир. Как знать, прежней ли окажется старушка-планета, когда отгремят уже последние залпы салюта, когда завершится в акватории Невы лазерное шоу специально приглашенного японца Хиро Ямагато и состоятся специально запланированные для гостей Петербурга ретропоездки на паровой тяге в загородные резиденции русских царей? Я, например, в этом совершенно не убежден. Поэтому крайне важно уже сейчас не упустить любую мелочь, любую деталь, способную отразить происходящее.
Итак, первая же отмеченная мною странность 300-летнего Петербурга заключалась в том, что я не смог найти мастерскую художника Виктора Тихомирова в Аптекарском переулке за храмом Спаса-на-Крови. Еще более странным я считаю то обстоятельство, что я бывал в этой мастерской и прежде, и в кармане у меня лежала бумажка с точным адресом искомого места. Вообще посторонними, приезжими людьми за Петербургом давно замечено свойство запоминаться и забываться, как мимолетный сон. Казалось бы, вот только что перед глазами, как наяву, был прямой и роскошный Невский проспект, и вдруг вместо него появляется глухой закоулок, яма, обрыв. Знакомые вроде бы улицы в течение дня полностью меняют свое направление, речки — названия, мосты внезапно разламываются пополам и уложенный на них асфальт вместе с трамвайными путями, фонарями и лужами вздыбливается, образуя непреодолимую холодную стену. Вымолить объяснение этой загадки у самих петербуржцев невозможно. Они выплывают на свет из своих тайных каменных омутов, как большие величественные рыбы, выпускают в мутный океан атмосферы пузырьки непонятных слов, потом хватают ртом зазевавшегося закусочного червячка, бьют хвостом и исчезают за кораллами домов, покрытых темными водорослями времен.
Петербург всегда остается для чужого человека незнакомой средой, стихией, способной сбить с толку зазевавшегося ее испытателя. Вот, например, что рассказывал мне о своих удивительных наблюдениях журналист Алексей Казаков, который не так давно перебрался в Питер из столицы, чтобы редактировать здесь местную версию московского журнала «Афиша». Он, скажем, пытался нанять себе здесь жилье, для чего обошел в общей сложности 11 квартир. В девяти из них стояло черное пианино. А однажды в январе его сотрудница пришла на работу с заплывшим глазом. Он спросил ее: «Что случилось, милая?» Она ответила: «Шмель в трамвае укусил». Он спросил: «В январе?!» Она ответила: «Да я же говорю — в трамвае».
Короче говоря, путем нечеловеческих усилий, расспросив с десяток петербуржцев, ухватив за фалду милиционера и показав ему бумажку с адресом, я наконец-таки отыскал дом художника Тихомирова, перед которым, как выяснилось, все это время стоял. Замечу: это был самый что ни на есть центр города, но ни света, ни людей на лестнице не оказалось, и чем выше я поднимался, тем гуще становилась тьма. Снаружи дом представлялся мне невысоким и жилым. Но где-то, наверное, через час, преодолев непонятное количество вымерших этажей, я совсем потерялся. Я перевел дух и малодушно поглядел вниз, подумывая о побеге. Но и внизу теперь образовалась черная пустота — путь к отступлению был явно отрезан. И в этот момент мир закончился. Лестница оборвалась последней площадкой без квартир и каких-либо признаков человечества. Господи, что за дикость такая, подумал я. Я поднимался к небу, а оказался в преисподней. Что же мне делать теперь?
От отчаяния я начал ощупывать темноту и наткнулся на какую-то проволочку, торчавшую из стены. Я дернул за нее с мужеством сапера, решившегося на самоубийство, и вдруг услышал мелодичный звон. Добрый тихий колоколец спасения зазвучал где-то по ту сторону бытия, разбудил там неторопливые шаги, они стали приближаться, и внезапно стена распалась, открыв светлый проход в небольшую, но уютную квартирку под крышей, где имелись две комнатки, тесная кухня, стол, лампа, несколько стульев и пожилой просиженный диван.
В сущности, помещение представляло собой смысл, итог жизни: через сомнения, ужас и одышку я попал туда, куда и собирался — в мастерскую прославленного художника Тихомирова. Здесь были: сам прославленный художник, плоды его труда, занимавшие собою все стены квартиры, юная беловолосая барышня, по виду напоминающая невесту, и молодой человек непонятных наклонностей с величественным, но несколько упадническим профилем. Я все время потом пытался разглядеть его анфас, но он странным образом всегда оказывался обращенным ко мне именно что этим своим профилем. Более ничего сообщить о нем не могу. Невеста занята была разглядыванием мертвого белесого червячка на дне бутылки с текилой. Сам же хозяин мастерской, прославленный художник Тихомиров, открывший дверь, предложил мне присесть к столу, оказал знаки гостеприимства, но вскоре тоже утратил ко мне интерес, предпочтя заняться созиданием очередного труда о жизни мужиков, баб и колбасы. Вся эта удивительная компания старалась молчать и вести себя независимо от обстоятельств.
Не следовало удивляться и тем более обижаться на такой поворот событий. Ибо в этой странности и кроется еще одна суть 300-летнего Петербурга: многим занятиям здесь предпочитают тишину и отстраненность. Вот образец разговора типичного петербуржца с типичной петербурженкой по телефону: «Ангел, как вы? Будьте любезны, отвезите собак в Сестрорецк, а детям дайте ту книжку, о которой я вам говорил. И давайте встретимся с вами где-нибудь в ночи». Естественно, они живут вместе уже 12 лет. Естественно, не женаты. Так что я разложил на столе собою же принесенных сельдей, водку, хлеб и колбасу, выпил несколько долгожданных рюмок и развлек себя искристым монологом о свежих слухах, разнюханных в предпраздничной Северной Пальмире.
Слухи были такими: мне говорили, что на торжества в город приглашены и слетятся то ли 50, то ли 60 царей, царевен, королей и королевен из других стран. Что аэропорт «Пулково» в этой связи закроют для всех посторонних рейсов на несколько дней, потому что сначала будут завезены сюда кареты и пожитки почетных персон, а потом и сами персоны. Что в центр города будут пускать только по паспорту с пропиской. Что все будет перекрыто. Что петербуржцев просят на время торжеств покинуть город и каждому, кто это сделает, ликероводочный завод «Ливиз» обещает выдать по бутылке водки. Что японцы подарят Питеру тысячи сакур, и как они тут выживут, непонятно. Что скульптор Зураб Церетели уже соорудил для Питера 300 своих скульптур, и это ужасно. Что если не приедет Пугачева, то будет петь Пьеха, а если не Пьеха, то хор Водоканала. Что по квартирам ходят участковые и просят не высовываться в праздники из окон, потому что на всех крышах будут прятаться снайперы, и они откроют огонь.
В этот самый момент в окно мастерской постучали. Рюмка замерла у меня во рту. Невеста отвлеклась от созерцания червячка, профиль повернулся к свету обратной своей стороной, которая, кстати, оказалась ничуть не понятнее первой, художник Тихомиров отложил набросок колбасы. За окном на крыше стояли два молодых человека. Они попросились войти, чтобы через квартиру проникнуть на лестницу и спуститься в город. Когда им налили водки и они ее выпили, один из молодых людей оказался Дмитрием. Опустив рюмку на стол, Дмитрий сказал:
— Так вот, сижу я как-то дома. Скушал котлетку, как следует покурил. Вдруг звонок. Открываю — участковый. Он меня спрашивает: «Где ружье?» Я говорю: «Нет ружья». Он: «А где тогда Василий Иванович?» Я говорю: «Василий Иванович в плаванье. Будет через полгода». Он говорит: «Ладно, тогда вычеркиваю». И ушел.
— И все? — спросил я.
— И все, — ответил Дмитрий.
Экскурсия
Я никогда не умел толком понять, зачем и для кого 300 лет назад построен был на свете город Петербург, наша вторая столица, Северная Пальмира далеко не южной страны. Всякий другой город, в котором мне случалось бывать, всегда имел какой-нибудь особенный смысл, резон для проживания в нем людей. Баку был построен для нефти и икры, Ташкент — для усиленного питания, Хабаровск — для скитаний, Якутск — для якутов, Мытищи — для сомнений, Химки — для драк, Ростов-на-Дону — для веселья разбойников, ловли раков и разведения шашлыков, Комсомольск — на Амуре, Ярославль — на Волге. Любое место на земле, любой бугорок, деревня, пригодные для размножения человечества, всегда возникали сообразно какой-то продуманной или естественной, природной логике. Но никак, ничем вразумительным, никаким даже извинением, оправданием или глупостью невозможно мне было объяснить себе самому, зачем, ну зачем самодержец Петр Первый построил на болотах, на задворках империи, на берегу свинцовых, неласковых вод весь этот дикий каменный слепок с нерусских, глубоко подозрительных, чуждых пьяному и бородатому народу традиций?
Зачем он, отец родной, прорубил окно в Европу, в которое за 300 прошедших лет никто даже и из любопытства не заглянул, не вышел в это окно и не вошел в него? Почему он строил здесь Амстердам, а потомки называют его Венецией, хотя ни тем, ни другим Петербург не являлся и не является? Зачем здесь столько дворцов, сколько и до сих пор не наберется элиты во всей России? И отчего в этих дворцах никто никогда не жил счастливо, а только лишь умирал некрасивой, мучительной смертью и никогда уже больше жить не будет? Какая сила, праведная идея была заложена безумным русским царем во всю эту бедняцкую роскошь, если последующие 300 лет славы Отчества эта роскошь только и делала, что увядала, и не спасти ее теперь уже никому, не удержать, не вернуть? Отчего в единственном европейском городе России, столице древности и подлинной культуры ее, которой исполняется всего лишь 300 жалких каких-то, несерьезных лет, зассаны все парадные и исписаны краской все стены? Почему именно тут, на болоте, находится колыбель всех русских смут и одновременно — гениальности народа? Зачем на севере — царство фонтанов?
Никогда, никогда я не мог найти ответов на эти вопросы, хотя и бывал в Петербурге миллионы раз. В этот последний, юбилейный приезд я даже специально навел соответствующую справку у самого почетного местного краеведа, ученого человека, гуманиста, просветителя и публициста Льва Яковлевича Лурье, мужчины, естественно, выпивающего и крайне этим умудренного.
— Думаю, Сережа, дело в амбициях и в воде, — так ответил мне ученый человек, имея в виду, что царь Петр был так одержим водою, что даже обожал смотреть на то, как тонут в ней русские бабы. А что же касаемо амбиций, то краевед заметил буквально следующее:
— А скажи, Сережа, куда же ты, например, едешь, когда тебе совсем опостылет Москва?
— В Петербург, Лева, в Петербург, — ответил я с грустью.
— То-то, — сказал гуманист, поднял вверх назидательный палец, и мы налили себе еще, а потом еще, а потом наша философская беседа сама собой лишилась так необходимых для русской истории деталей.
Так что восстанавливать утраченный смысл я на следующее же мерзкое утро решил самым, как мне казалось тогда, подобающим методом. А именно: на Невском проспекте, в ларьке у «Гостиного двора», я купил себе билет на обзорную автобусную экскурсию по Петербургу для настоящих идиотов. Таких вместе со мной вскоре набился полный «Икарус». Прекрасный наш экскурсовод, женщина с лицом тяжело и бессмысленно пьющего мужчины, предваряя радость поездки, бодро дунула в микрофон — хрип в динамиках расколол мою похмельную голову надвое, глаза мои лопнули от боли, и я очнулся только на обрывке ее фразы: «…царь Петр решил построить Петербург, и застучали топоры, зазвенели пилы…»
Если вы когда-нибудь становились добровольной жертвой автобусной экскурсии, то должны знать, что этот тип миросозерцания довольно причудливо преломляет действительность, превращая ее в набор удивительных, но совершенно бессмысленных фактов и цифр. Бытие, проплывающее мимо созерцателя то в левом, то в правом окне, выстраивается в одну какую-то загадочную формулу, абсурдное уравнение, содержащее, может быть, суть, но не имеющее решения. Так было и на этот раз. Посмотрите на Невский проспект. Его длина составляет четыре с половиной километра. Невский проспект часто называют «парадизо», что в переводе на русский язык означает «рай». Иноверческие храмы находятся на левой стороне проспекта. Дворцовая площадь. Ее площадь составляет девять гектар. На площади мы видим Зимний дворец, зимнюю резиденцию русских царей. Площадь дворца составляет 46 тысяч квадратных метров. Карниз — два километра. В настоящее время здесь располагается Государственный Эрмитаж, что в переводе означает «уединение». В Эрмитаже 1057 залов, 2000 окон. Известно, что если каждый день проводить в Эрмитаже по восемь часов и задерживаться у каждого экспоната на одну минуту, на осмотр всей экспозиции потребуется 11 лет. Царица Екатерина, проживавшая в Эрмитаже, была озабочена большим количеством мышей. Для борьбы с ними из Казани были специально доставлены 60 котов. Петербург не напрасно называют музеем мостов под открытым небом. В Петербурге 585 мостов, 21 из них — разводной. Тюрьма «Кресты». Здесь находятся 999 камер. По преданию, в тысячной камере были замурованы строители тюрьмы. Здание тюрьмы красиво подсвечивается ночью.
На двадцатой примерно минуте прослушивания этих мантр сознание мое поплыло, тело обмякло, и единственным поводом для жизни в материальном мире остался приобретенный на входе в автобус набор карманных календариков «Эротика в изобразительном искусстве. Из собрания Петергофа». Впрочем, и они побуждали меня к немедленной смерти от тоски. Скажем, голая Елизавета Петровна в виде ребенка работы некоего живописца Г. Бухгольца (середина XVIII века), хотя кокетливо и была расположена художником на мантии из горностая, походила скорее на утопленницу. Вода и амбиции — пронеслось было в моей пропадающей голове. Однако внезапно мое страдание было вознаграждено, да как!
— Обратите внимание на знаменитый Аничков мост, по которому Невский проспект пересекает реку Фонтанку, — прогремел надо мною голос женщины с пьющим лицом. — Здесь мы видим скульптурные композиции из обнаженных мужчин и коней. Мужчины держат вздыбленных животных за уздцы, что является символом победы человека над необузданными силами природы.
Господи, Боже ты мой — сердце мое забилось в адской радостной пляске. Вот оно! Вот ответ! Вот идея! Вот смысл! Вот где встречаются вода, амбиции и истина! Русская Европа, великая, непоколебимая, бесстрашная страна! Ведь это ж надо: на морозе, на болотах, с голой жопой голыми руками держать под уздцы весь опостылевший, ненавистный свет, всю его природу и традиции с такими, казалось бы, огромными медными яйцами! Слезы гордости чуть было не хлынули из глаз моих в Фонтанку, не затопили собой Неву, а потом уж и остальную Балтику. Я бросился из автобуса прочь и еще около часа стоял, простоволосый и благодарный, подле скульптурных композиций из обнаженных мужчин и коней. Ну а потом, конечно, пошел закрепить познание водкой.
Благо заведение оказалось невдалеке. К нему вела скромная надпись «Кафе» со стрелкой во двор. Следуя указаниям стрелки, я оказался вначале в темной арке, а потом уж и у двери, к которой было прикреплено объявление: «Добро пожаловать в китайское кафе, закрывайте, пожалуйста, дверь». Поднявшись по какой-то заброшенной, убитой лестнице на второй этаж, я вошел в квартиру, переделанную под странное заведение. Стены его были разрисованы аэрозольной краской — в полумраке по ним ползли красные свирепые драконы и синие, не понятные мне иероглифы. Сделав несколько шагов вовнутрь, я понял, что нахожусь здесь совершенно один. Никто не вышел ко мне, не спросил, что я здесь делаю. За несколькими столами, покрытыми белыми скатертями, никто ничего не ел и не пил. За одеялом, отгораживавшим вход в какую-то потайную, видимо, комнату, слышались приглушенные голоса китайцев. Я растерянно огляделся по сторонам, не зная, что же мне в точности следует предпринять.
То, что я увидел в следующую минуту, заставило меня вздрогнуть и остолбенеть. В душе моей застучали топоры, зазвенели пилы. Ясность и гордость, с таким трудом добытые у Аничкова моста, рухнули в одно мгновение, легенда о русской Европе, противостоящей силам природы, рассыпалась в пыль. В дальнем углу, бережно обойденное по краям китайским аэрозольным живописцем, стояло черное пианино, немыслимое и необъяснимое, как сон.
Бегство
Не буду, друзья, более утомлять вас картинами собственного бестолкового пьянства. Скажу лишь, что для него я подыскал себе другое, более уютное кафе в скромном подвальчике на улице Маяковского. Это кафе тоже называлось «Кафе», как это принято в 300-летнем Петербурге, и умилило меня одной лишь фразой из своего меню: «Котлетки домашние, 2 шт. — 35 р.». Здесь я работал с документами.
В один из дней, листая программу официальных торжеств, намеченных на период с 23 мая по 1 июня, я окончательно лишился рассудка и спешно покинул Северную столицу. Произошло это при следующих обстоятельствах. Блуждая глазами по длинному списку праздничных мероприятий, я думал о том, как часто радость в России становится ее национальной трагедией, фестивалем глупости и гордыни. В документе меня поражало решительно все: молодежная велогонка «Пушкинская весна»; соревнования по греко-римской борьбе, посвященные 300-летию Петербурга; торжественные молебны в храмах различных конфессий (ответственные за проведение — религиозные объединения СПб); праздничная научно-практическая конференция «Химия и химическая технология на рубеже веков»; открытие мемориальной плиты А. Баязитову, редактору первой татарской газеты «Нур»; торжественное вручение нового рояля Санкт-Петербургской академической филармонии; международная выставка собак «Белые ночи-2003»; открытие «Башни мира» и даже пометка в графе «Источник и объемы финансирования» напротив мероприятия «Торжественное богослужение в Исаакиевском соборе». Там было написано: «Внебюджетное».
Все это было и весело и грустно, но вполне укладывалось в безутешные мои попытки разобраться, почему на свете вот уже 300 лет подряд существует город Петербург. Однако внезапно взгляд мой упал на строку, в которой значилось буквально следующее: «1 июня. 12.00–21.00. III Международный детский карнавал „Страна зеленых зайцев“».
Как только я прочел эту фразу, раздался хлопок, свет погас. В зале появилась официантка, которая попросила не беспокоиться: это выбило пробки, сейчас все починят. У официантки был затекший глаз.
— Вас укусил шмель? — спросил я ее.
— Откуда вы знаете? — спросила она.
— Догадался, — ответил я.
Она улыбнулась. На руках у нее сидел кот. И вот здесь мне сделалось по-настоящему страшно. Я вспомнил то, что все время ускользало от меня в течение путешествия. Алексей Казаков, которого я упоминал еще в начале повествования, рассказывал мне не только про пианино и шмелей. Он рассказывал мне и про котов. Дело в том, что в Петербурге существует легенда о том, что 60 котов, завезенных в Эрмитаж Екатериной, до сих пор живы. Никто не знает, где они и чем занимаются, но только в какой-то момент они обязательно приходят к человеку, который дольше обычного задержался в городе на Неве. Причем к каждому — по-своему.
— Знаешь, я не верил во всю эту ерунду, — говорил мне Казаков. — Но только однажды ночью я проснулся у себя в квартире и смотрю: стоят три кота. Два молчат, а один с лицом Юрия Владимировича Андропова.
— И что? — спросил я его.
— А ничего. Постояли и ушли. Больше я их не видел.
Я совершенно отчетливо помню ощущение, которое испытал от этого краткого рассказа. Когда я посмотрел на лицо Казакова, я понял: отсюда он больше не уедет никогда.
Бежать! Бежать, пока не застучали топоры, не зазвенели пилы! Спасаться, пока не отказала воля! Теперь я точно знаю, для чего 300 лет назад здесь было прорублено окно. Оно имеет обратный, всасывающий смысл. Это западня! Все формулы этого города вдруг выстроились в одну понятную, звенящую цепочку. 50 руководителей стран и народов, приглашенных на торжества! Будут разведены мосты! Они спросят, как пройти в Аптекарский переулок, и он замкнется за ними, улицы изменят геометрию, реки — названия. Только 11 лет у них уйдет на осмотр Эрмитажа! Длина одного Невского проспекта — 4,5 километра, его не преодолеть им никогда! Да и зачем? Китайское кафе, Василий Иванович в плаванье, червячок на дне текилы, невеста, профиль, «Кресты»! Тюрьма красиво освещается ночью. В тысячной камере замурованы строители! Парадизо. В переводе — рай.
Господи, не спасется никто. Сладкий, обволакивающий болотный сон. Темница любви. Домашние котлетки по 35 рублей! Ангел, как вы? Давайте встретимся где-нибудь в ночи…
Записки человека по имени Степан Чердаков
«Ни хрена себе», — подумал я
Что можно найти в подвале частного дома? Да что угодно. Я, например, сегодня нашел две боевые гранаты. Бред какой-то. Все началось с того, что, в связи с переездом в новый дом, я решил купить кухню. Честно сказать, дерьмовенькая кухня. Дверки резные, ручки блестят, зато дешёвая. Поехал я, заказал эту кухню, они мне её вместо обещанных десяти шестнадцать дней делали. Наконец подошло время забирать, а я квитка о предоплате найти не могу. Всё перерыл, везде искал — нету. Уже с отчаяния стал копаться в огромной рыночной сумке с какими-то документами, оставшейся от старых хозяев. Бумажки, бумажки, и вдруг ни с того ни с сего попадается пакет от молока. Тяжёленький такой. Я его вытряхнул, а оттуда, мамочки мои родные, две гранаты и отдельно запалы к ним. На одной написано РГД-5, а на другой ничего не написано. Не знаю, как она у военных называется, но на вид обычная лимонка.
«Ни хрена себе», — подумал я. Хорошо ещё, что эта сумка с бумагами мне позавчера не попалась, когда я во дворе мусор жёг. А то не было бы сейчас ни мусора, ни гранат, ни рук у меня, ни ног. Кто ж мне эту свинью в молочном пакете подложил? Раньше дом принадлежал строителю, который, собственно его и достраивал, чтобы мне продать подороже. Судя по тому, что он тут понаваял, посредственный он строитель. Может это у него даже и не основная профессия. Может он дома достраивает в свободное от террористической деятельности время.
Ну, ладно, думаю, надо с этими гранатами что-то делать. Лично мне они на фиг не нужны. Я, конечно, как всякая особь мужского пола, испытываю некоторую тягу к оружию, но конкретно разрывные гранаты мне вообще не упирались. Как ни тужился, не смог я найти им мирного применения. Уже и про рыбалку подумал, но решил, что руки дороже.
Раз мне гранаты не нужны, значит надо их продать тому, кому нужны. Эту мысль я долго думать не стал — вспомнил многочисленные сюжеты по телевизору, в которых как кто соберется что-нибудь запрещённое продать, обязательно к нему за покупкой опера приходят. Так глупо сесть в полном расцвете сил из-за двух болванок с пригоршней тола.
Остались два варианта, и оба неподходящие. Можно пойти на речку и утопить эти гранаты к чёртовой матери, но жалко. А можно хранить их там же в подвале до лучших, или худших, времён. Но тут опять же риск. Придут ко мне, например, с обыском по какому-то недоразумению, и случайно наткнутся на две гранаты. Оно мне надо?
Спасение пришло через телевизор. Там сказали, что какой-то малый принёс в милицию пистолет и получил за это 500 рублей. Только что я залез в Интернет и нашёл постановление администрации Брянской области. По нему Степе Чердакову, если руки у него не по локти в крови невинных жертв, полагается за каждую добровольно сданную гранату по 2000 рублей. Эта цена меня, пожалуй, устраивает. Завтра пойду сдаваться. Но мы же все знаем нашу милицию. Они ж могут и дело на меня завести, если у них по этой статье раскрываемость хромает, или выбьют из меня признание в пособничестве Аль-каиде, пытая электрическим током. Хотя могут и почётной грамотой наградить. Посмертно. Они ж как дети, непредсказуемые.
Надо будет на всякий случай с гранат свои отпечатки пальцев стереть. Мало ли что? А ещё я вот что вспомнил: всякие воры в законе и прочие криминальные элементы каждый день, выходя из дома с незарегистрированным оружием, кладут в карман заявление о том, что, мол, пистолет нашли на помойке, и сейчас несут его сдавать в милицию. Я решил тоже такое написать на всякий случай.
И ещё один нюансик есть. А не придут ли они ко мне с дрессированной собакой ещё гранат поискать? А вдруг придут? А у меня как раз дома случайно лежит маленький-маленький пакетик с самыми-самыми легкими, что ни на есть, наркотиками. Да, дилемма. Пойду-ка я этот пакетик скурю от греха, а потом напишу заявление.
* * *
Заявление:
Я, Чердаков Степан Венедиктович, перед лицом своих товарищей, которых заблаговременно оповестил о цели своего сегодняшнего визита в органы внутренних дел, перед лицом, которое сейчас читает это заявление, торжественно клянусь. Два предмета, по форме и размеру напоминающие гранаты, изъяты мною в подвале собственного дома в результате оперативно-розыскных мероприятий я нашёл вчера в подвале. Как они туда попали, откуда, для чего, не подкинул ли мне их кто по злому умыслу? А может, это строитель Абдула схрон сделал? А вдруг предыдущий хозяин замышлял свержение законной власти насильственным путём? А не попытка ли это сорвать выборы в Государственную Думу? Ответы на эти, а так же ряд других вопросов я бы и сам хотел получить. Одно знаю точно — гранаты не мои и моих отпечатков на них нет и быть не может, потому что они не мои, а чьи, я не знаю. Все мысли и помыслы мои направлены лишь на одно: добровольно сдать гранаты государству и получить причитающиеся мне по закону 4000 (четыре тысячи) рублей, куда я, собственно, и направляюсь.
С уважением, навеки Ваш законопослушный гражданин и добросовестный налогоплательщик С. Чердаков
Дата Подпись
* * *
Хорошо, всё-таки, что это заявление мне не пришлось никому показывать.
С утра я положил молочный пакет с гранатами в бардачок машины и поехал по всяким делам. Никогда прежде я не водил автомобиль так аккуратно. Я даже со светофора на красный-жёлтый не трогался. Да чего там говорить, весь день я ездил пристёгнутый!
Ближе к обеду добрался до милиции. А страшно ж! Я решил на всякий случай пойти не к настоящим милиционерам, а в пресс-центр. Они вроде и милиция, но не совсем. Эдакое промежуточное звено эволюции. В пресс-центре меня встретили очень радостно. Сказали что я молодец и пообещали организовать сдачу. Позвонили в УВД, в котором велели мне ехать в свой райотдел, писать заявление, и по нему ко мне в подвал приедут сапёры с опергруппой.
— Так они у него с собой, в бардачке лежат.
— Да вы что! Так не положено! А если рванёт?
— Так у него взрыватели отдельно.
— Ну, пусть тогда отвезёт гранаты назад в подвал, положит, как лежали, поедет в РОВД, напишет заявление и к нему выедет группа.
Я сказал «Да, конечно», но домой не поехал, оно мне надо время терять, да по пробкам бензин палить? Я направился прямо в РОВД. У них во всём здании не было света, работа стояла, и мои гранаты стали любопытным событием. Милиционеры их с интересом рассматривали, строили предположения на предмет, сколько кабинетов разнесёт, если рванёт и никак не могли решить, что со мной делать. Оказывается, я чуть ли не единственный доброволец, откликнувшийся на губернаторскую программу по разоружению. Они знают, что должны это все оформить, а как — неизвестно. Механизма нет. Милиционеры долго созванивались, ходили к начальству, никто не хотел с этим возиться. Но начальство велело гранаты принять.
Чувствую, дело затягивается, а я стою посреди РОВД как идиот и тереблю в руках молочный пакет с двумя гранатами.
— Можно, — говорю, — я пока покурить на крыльцо схожу?
— Конечно.
— А пакетик я пока у вас на столе оставлю, а то он меня гнетёт.
— Да ты что! Здесь не надо, мало ли что. Ты лучше с пакетом покурить сходи.
Наконец пришла барышня-дознаватель. Она попросила меня развернуть пакет и выкатить его содержимое, а потом спрашивает:
— Это что?
— Гранаты, — говорю.
— А какие?
— Вроде РГД-5 и Ф-1.
— А они… не того… не рванут?
— Не знаю, — говорю, — не должны.
— А что ж мы с ними делать будем? Их же надо где-то хранить. Я к себе в кабинет не возьму. А то выйдет как в прошлый раз. Два снаряда старых, ржавых приволокли и к нам в шкаф положили. А они-то нигде не проходят, дело по ним не заводили. Год в шкафу с тряпьем валялись. Их и ногами пинали, и роняли, пока кому-то на день рождения не подарили.
В конце концов гранаты у меня всё-таки забрали. Я им говорю: «У меня там ещё пара-тройка закутков есть, до которых руки не дошли, может там ещё что есть?» «Классно! — сказали милиционеры, — если ещё найдешь, к нам привози, тебе ещё одну премию выпишут. Но особо не увлекайся, а то могут и дело завести».
* * *
Сегодня утром звонили из РОВД, просили заехать с ксерокопиями паспорта и сберкнижки, чтоб знать, на какой счет деньги перечислять. Я отвёз. Добрый румяный милиционер принял документы и попросил примерно в пятый раз переписать заявление. Да что мне, жалко, что ли? Я переписал.
После обеда я решил потщательней исследовать подвал. Из интересного нашёл только четырёх жаб. Одна взрослая, а три молодые. Надо в Интернете посмотреть, жаб за деньги никто не принимает?
***
Когда я недавно торговал с государством оружием (а как еще можно назвать добровольную сдачу боеприпасов с последующей выплатой вознаграждения?) так случилось, что мне пришлось много общаться с милиционерами. И вот, презабавнейший случай рассказал мне участковый.
Дело было пару лет назад. Участок его состоит практически полностью из частного сектора. Звонят ему толи из УВД, толи из РОВД, не знаю точно, но откуда-то «сверху». Звонят и говорят, мол, срочно беги на улицу такую-то, дом шесть, туда уже ОМОН, СОБР и прочий спецназ выехал, будут захват делать. У тебя на участке подпольный спиртзавод работает. Пока они не приехали, беги туда и контролируй ситуацию.
— Я и побежал, — говорит участковый. — Бегу, а по дороге думаю, я ж знаю этот дом. Там бабка Зина одна живёт. Какой у неё, нафиг, спиртзавод? Она ж сама еле ноги волочит. Захожу в хату, а в хате вонь, бабка Зина как раз самогонку гонит. Я ей говорю, всё, баб Зин, допрыгалась ты. И я тоже с тобой под замес. Щас тебя захватывать приедут. Давай-ка, пока время есть, всё твоё добро на двор выливать. Бабка перепугалась. Мы с ней вместе и то, что нагнала, и браги бидон отволокли, вылили, одеколоном побрызгали и сидим, чай пьём, ждем ОМОН. А его всё нет и нет. Часа полтора, наверное, я там просидел, возвращаюсь в участок, телефон разрывается. Ты где, мать-перемать, ходишь? Почему нет тебя на улице такой-то, шесть? И тут я соображаю, что когда новыми коттеджами эту улицу застраивали, там путаница получилась и теперь на ней два шестых дома. Я бегом туда. Вижу, и правда, ОМОН, все в масках, с автоматами. Короче, захват. А там действительно малый, БТИ закончил, собрал заводик. И так всё грамотно сделал, что ни запаха, ни звука. Всё герметично. Ворота открываешь, и сразу оборудование. А на втором этаже оператор за пультом сидит. Продукцию, говорят, по ночам вывозили. А что тому малому было я и не знаю. Вроде бы ничего, откупился. А может и нет. Не знаю.
* * *
У одного знакомого буржуина есть сын. На день рождения Вити родители сняли кафе, заказали мороженое, пирожное, аниматоров всяких. И вот под фонограмму «Пусть бегут неуклюже…» в зал входит аниматор в костюме Чебурашки. Он задорно покачивает ушами и несёт огромный торт с пятью тоже немаленькими свечками. Торт большой, свечки большие, уши большие, разве всё это могло не вступить во взаимодействие? Естественно правое ухо загорелось. Взрослые рты раскрали, Чебурашка вообще ещё не понял что происходит, а Витя уже запрыгнул на стул и орёт с нечеловеческим восторгом: «Смотрите! Смотрите, Чебур горит!»
Тот же Витя один раз в не очень ловкое положение своего папу поставил. Мальчику пришло время пойти в детский сад. Заботливые родители не стали сразу бросать его в омут дружного детского коллектива, а просто пришли с ним туда на пару часов. Витя поиграл с детьми, полазил по всему, чему положено во дворе, пообщался с будущим руководством. Вышли они из садика, родители спрашивают, мол, ну как тебе? А Витя и отвечает: «Вроде всё хорошо. Дети хорошие, качели. Только вот воспитательница какая-то очень грустная. Можно всех посмотреть?» После этих слов мама посмотрела на папу, а папа густо покраснел и закурил.
* * *
Когда люди говорят «накурено, что слёзы текут» или «надымили так, что собственного носа не видно», это называется то ли гипербола, то ли аллегория, как-то так. Значит, на самом деле у них ничего не течёт и нос виден, но чтобы усилить эффект своих слов, нужно немножко приврать. Я однажды видел это наяву. Более того, я в этом участвовал и не мог ничего изменить. Дело было в Польше. В девятом классе райком комсомола отправил группу активистов из городских школ в братскую ПНР. Каким-то образом, не состоя в комсомоле, мне удавалось пользоваться его благами больше чем любому члену. И вот в этой Польше, как оказалось, нет ни плацкартных, ни купейных вагонов. Страна маленькая, уснуть не успеешь — уже ГДР, поэтому они там ездили в общих вагонах. Типа наших электричек. Нам нужно было переехать из города Конин в город Познань. Пришли на вокзал, смотрим, на вагонах какие-то сигаретки нарисованы. Стали интересоваться, оказывается, есть вагоны для курящих и есть для некурящих. «Ну, — думаю, — чтоб я, девятиклассник Стёпа Чердаков с трёхлетним стажем курения, да ещё год назад перешёл с „Родопи“ на „Беломор“, пошёл в некурящий? Ха!» Я отбился от группы и вошёл в соседний вагон. Народу битком. Аж на стоп-кранах висят. И вот поезд трогается, и все пятнадцать тысяч пассажиров курящего вагона одновременно достают сигареты и прикуривают.
У меня натурально текли слезы, о том, чтобы увидеть не то что нос, а вообще что-нибудь не могло быть и речи. Ужас! После этого за все две недели я больше ни разу не вошёл в вагон для курящих. Курил в вагоне для некурящих. Там и народу меньше и воздух лучше. Только пепельниц нет, да это не беда.
* * *
Следующий мой выезд за границу случился лет десять спустя. Опять по какой-то полу-халявной линии. Это была уже объединившаяся Германия. Официально мы все считались студентами и якобы ехали по какому-то обмену. Деньги за поездку были заплачены смешные, но за это мы обязаны были посетить образцовую немецкую свиноферму, маленькое предприятие при дурдоме, на котором немецкие психи делают комплектующие для «Мерседеса» и прослушать концерт хора немецких старушек из дома престарелых. Мы, собственно, и не возражали. Кстати, экскурсия в дурдом получилась познавательной. Ко мне подошел один сумасшедший и шёпотом на чистом русском попросил закурить. За сигареткой этот псих рассказал, что никакой он не псих, а как раз наоборот. Выехав из Минска в Германию, он специально сказался там сумасшедшим и теперь, выполняя примитивнейшую работу, получает неимоверные бабки, живёт как у Христа за пазухой и в ус не дует.
Так вот, в этой Германии в первую ночь нашу малобюджетную группу поселили то ли в какой-то молодёжной гостинице, то ли в общаге где-то под Ганновером. Мы все, известное дело, сразу пошли в пивную, где встретили здоровую толпу поволжских немцев, с которыми и нарезались как следует. Вернулись в наш четырёхместный номер уже глубокой ночью, и тут нас обуяла ностальгия. Из сумок быстренько появились несколько бутылок водки, колбаса, вобла и кипятильник. Поужинали и решили побродить по гостинице, но далеко не ушли. Потому что прямо возле номера в фойе обнаружили настольный футбол. Из тех, которые в барах стоят. Там ещё надо ручки крутить. В этот футбол можно было играть до не помню скольки забитых мячей, а потом для новой игры надо было кинуть одну марку. Мы с помощью отвертки сделали так, что марка стала не нужна. Достаточно было палец куда надо засунуть. И только мы вошли в азарт, как выбегает откуда-то немец в трусах и лопочет что-то про «Русиш, финиш!» Мы так поняли, что мешаем ему, и стали играть потише. Минуты две. Немец опять выскочил, потом ещё и ещё. Когда он стал употреблять слово «Полицай» мы решили, что действительно финиш.
А играть-то хочется. Осмотрелись, нашли душевую комнату. Там мы этому фашисту недобитому мешать не будем, решили мы и стали затаскивать футбол в душ. Тяжёлый, зараза, еле запихнули. В душе на полочках очень кстати оказались невесть откуда взявшиеся велосипедные шлемы. Мы их быстренько нацепили на головы, перенесли туда же, в душ водку-закуску и жизнь стала совсем прекрасна. Для полноты удовольствия не хватало покурить. В душе хоть и было маленькое окошечко, но оно не открывалось. Однако мы аккуратненько ножичком вынули штапики и выставили стекло. Так прошла ночь.
Утром нас разбудили. На пороге стоял руководитель группы Михалыч с перепуганными глазами, за его спиной какой-то хрен в пиджаке и ночной немец. Михалыч спросил: «Скажите честно, где футбол? На вахте сказали, никто не выносил. Куда вы его дели?» «Он в душе» — ответили мы и перелегли на другой бок. Ещё через полчаса делегация опять пришла к нам. Михалычу одновременно было и смешно и страшно: «Мужики, как вы его туда занесли? Он же в двери не проходит». «Да его наклонить надо, — ответили мы, — как гроб». Кончилось тем, что выносить футбол из душа пошли мы сами. Минут тридцать сражались, но почему-то так и не смогли. Даже не знаю, что там немцы потом придумывали. Может, стену ломали?
Дольше мы возиться с футболом не могли, потому что пора было уезжать. Позавтракали по-быстрому, вышли на улицу и погрузились в автобус. И тут, о-па! Автобус не может развернуться, мешает по-идиотски припаркованный «Фольксваген-гольф». Наша группа походила, покурила, репу почесала, кто-то сказал: «Да он же легче „Запорожца“. Давайте перенесём!» Сказано — сделано. И вот, в тот момент, когда человек пятнадцать облепили машину, согнулись и приготовились по команде «Раз! Два! Три!» оторвать от земли, на крыльцо вышел тот самый немец. Боже, как он визжал!
На следующий день нас всех повезли в аквапарк. К этому времени мы уже как-то поосвоились на чужбине, и вели себя более раскрепощённо. Немецкий аквапарк впечатлил. Всех раздели до трусов и выдали браслеты, с помощью которых можно было расплачиваться в баре, а потом уже платить живые деньги. Нам это показалось очень удобным, и большинство решило каким-нибудь макаром немчуру обхитрить и сбежать, не расплатившись. Они, правда, тоже не дураки оказались, и, пока не сдашь браслет, напрочь отказывались возвращать одежду.
Больше всего в аквапарке нам понравилась здоровенная труба, из которой как выкатываешься, сразу попадаешь в бассейн, где из-под задницы огромные пузыри идут и щекотются. Очень здорово. Но скоро простое катание по трубе нам наскучило, и тогда вся группа в едином порыве решила попробовать одновременно нарушить все многочисленные правила спуска по трубе, которые были картинками к ней приклеены. И мы спустились паровозиком, головой вперед, на животах, с бокалами в руках. Картине добавлял жизни тот факт, что все, кроме руководителя Михалыча, были в семейных трусах. Нас же про аквапарк не предупреждали. Про дурдом сказали, про ферму тоже, а про аквапарк нет.
В целом хорошо отдохнули. Всем в Германии понравилось. Жаль только, что так и не удалось уже на обратном пути в автобусе спящему после изнурительного отдыха Александру Петровичу наколоть на седовласой груди Бранденбургские ворота и надпись «Век не забуду Ганновер, где я купил такие зачипатые кеды брату».
***
Фотограф Васильев, известный, помимо склонности к питью воды из собачьей миски при чрезмерном употреблении медицинского спирта, своим пристрастием к кино, принёс мне диск. Фотограф Васильев очень любит кино. Всё началось с того, что из-за отсутствия отдельной квартиры он был вынужден много лет водить свою барышню по кинотеатрам. Они посмотрели всё, что снял мировой кинематограф за последние десять лет, а кое-что и по нескольку раз. Сейчас проблема жилплощади уже не стоит у фотографа Васильева так остро, но привычка, выработанная годами, осталась. Теперь он скачивает новинки в Интернете, а чтобы их можно было обсудить, раздаёт знакомым.
Так вот, Васильев вчера мне принес «Старикам здесь не место». При передаче диска сообщил, что в некоторых местах его пробирало до дрожи, и вообще, фильм такой мудрый и глубокий, что просто можно с ума сойти. Я посмотрел. Когда кончились титры, мне вспомнились одновременно две цитаты. Одна прозвучала со сцены КВН в 1996 году в исполнении команды Ташкента с узбекским акцентом: «Я ничего не понял, но было интересно», а другую ещё раньше сказал человек, пародирующий Рязанова в «Кинопанораме»: «О чём этот фильм? Да ни о чём!» Ну, правда, я так и не понял, зачем просидел часа полтора у телевизора, хотя, смотреть действительно было интересно.
Там в чём суть. Какой-то мужик пошёл в пустыню на охоту. Смотрит, несколько машин стоит, вокруг трупы валяются и один чуть живой воды просит. Мужик осмотрелся, в багажнике наркота. На глазок — килограммов 150. Понял, что ему не унести, походил, поискал, нашёл чемодан, полный долларов. Вот с этим чемоданом он и бегал весь фильм от полного шизоида, похожего как две капли воды на Хазанова времён «Кулинарного техникума», только здоровее раза в два. Этот «Хазанов» совершенно не в себе. Он всё время таскал с собой какой-то акваланг, из которого мочил всех подряд сжатым воздухом. Подойдет к какому-нибудь мужику, приставит шланг ко лбу, и у него сразу дырка в голове. Особенно смешно «Хазанов» своим аквалангом в гостиничных дверях замки отстреливал. Пук — и дырка вместо замка, а с той стороны только железячки вылетают. Одна даже главному герою в лобешник залепила. Это ж кому сказать! Весь фильм чувак таскал на горбу тяжеленный баллон, хотя мог бы и из пистолета всех пострелять. Но тогда б, наверное, им «Оскара» не дали. Ага, так вот. Носятся они друг за другом всё кино, носятся, в конце концов «Хазанов» убивает того охотника, получает открытый перелом левой руки в автокатастрофе и куда-то уходит. А за всем этим делом очень с большого расстояния безучастно наблюдает шериф, чувак из «Людей в черном». Он вообще конкретно кладёт на свою работу. Бродит себе со стажёром, и, то кефир, то застарелый кофе попивает, а в конце произносит монолог, из которого все должны понять, почему люди, снявшие «Большой Лебовски», решили назвать свое новое произведение «Старикам здесь не место», но я так и не понял.
Разумеется, ещё когда я увидел, как фотограф Васильев пьёт из собачьей миски, стоило заподозрить в нём человека с богатым внутренним миром и тонко организованной психикой. Но я никак не думал, что его может пробить дрожь при виде Хазанова, стреляющего из акваланга. Тогда я стал звонить другим знакомым, посмотревшим этот фильм. Все в восторге. Зашел в Интернет. Там тоже ни одного, да-да, ни одного! — отрицательного отзыва. Я долго сидел перед телевизором, много думал, пока не стало пора спать. Перед сном я всегда прохожусь пультом по всем каналам и, если ничего интересного, то ложусь, а если что-нибудь попадается, то смотрю. По каналу «Дом кино» как раз начинался «Ленин в октябре». Я сел, и как вкопанный посмотрел до конца, даже не вставая на покурить. Такое удовольствие получил! Да, теперь таких фильмов не снимают, теперь бы им только из аквалангов стрелять. Действительно, старикам здесь не место.
* * *
Акваланг изобрел Жак Ив Кусто. Сейчас это каждый знает, а я об этом узнал ещё лет двадцать назад из газеты «Красная звезда» благодаря мастеру по вождению Григорию Николаевичу Закрячкину. Закрячкин был уникальный человек. В школе мы ходили на УПК — учебно-производственный комбинат. Один день в неделю, начиная с восьмого класса, мы посвящали освоению какой-нибудь профессии. Я ходил на «Автодело». Вождению грузовика ГАЗ-52 нас учил Закрячкин. Школьник садился за руль учебного грузовика и ехал куда-нибудь по личным делам мастера. То кровать перевезти, то доски, то просто свозить Григория Николаевича домой, чтоб он жену предупредил о задержке после работы. У Закрячкина была интересная методика. Он так страшно ругался самопридуманными матюками, что просто никак нельзя было допускать ошибки в вождении.
Едешь с ним по городу, а он вдруг спрашивает: «Какой знак проехали?». Если не называешь все знаки, которые висели на этом столбе, он останавливал машину, ты из неё выходил, и бежал назад к столбу посмотреть. Мне, например, трёх пробежек хватило на всю жизнь. Привил внимание на дороге. А какое чувство юмора! Основная проблема у меня была — езда на красный свет. Задумаюсь и еду себе, не глядя на светофор. Как-то достал я Закрячкина, он и говорит: «В следующий раз проедешь, я тебя в лоб отымею». Покатались мы часок после этого, занятие закончилось, я уже от машины отошел, а он кричит вдогонку: «Не забудь от отца справку принести!» Я говорю: «Какую справку?» «А можно тебя в лоб иметь или нет! Га-га-га!» Такой это был человек.
И вот, однажды подъехали мы к его дому, Закрячкин ушёл минут на сорок, а перед уходом достал из-под козырька замусоленную страницу из газеты «Красная звезда» и ткнул её мне со словами: «Прочитай пока». Я прочитал про Кусто и акваланг, про советские инициативы по разоружению и программу СОИ, потом перевернул на обратную сторону. Там оказался фрагмент повести о жизни спившихся футболистов. Полнейший бред. Вверху страницы было написано: «Начало в №24, 25, 26, 27», а в конце: «Продолжение в №29, 30, 31…»
Когда Закрячкин вернулся, он спросил:
— Прочитал?
Я кивнул, не зная, о какой стороне листа он говорит.
— А у тебя нет никого в библиотеке?
— Нет.
— Ну, надо ж! Кого ни спрошу, ни у кого нет. Поговори, может, у кого из знакомых есть? Такая вещь интересная про футболистов. Жалко, не сначала. Никак не могу понять, за что этого Смирнова посадили. Или, может, сам сходишь в библиотеку, а то мне некогда. Сходи в читальный зал, и вырви мне из подшивки начало и продолжение, ладно?
* * *
И о рекламе. На площади Партизан, как известно, стоит здоровенный электронный щит, по которому крутится всякая реклама. Уже месяц круглосуточно с интервалом примерно в 15 минут на экране появляется надпись, которая огромными буквами оповещает горожан о том, что типография «Абрис» быстро и качественно изготовит для них «АФИШЫ». Страшно представить себе какие «АФИШЫ» печатает типография «Абрис». Может она на самом деле и не «Абрис» называется, а «Обрез», например. Они ж, грамотеи, могли что угодно написать!
Что тут можно сказать. Позор! Позор дизайнеру, который делал макет этого ролика, позор руководству типографии «Абрис», которое этот макет утвердило, позор фирме-хозяйке рекламного щита, которой наплевать, что у неё там крутится! И ещё. Раз эти «АФИШЫ» уже месяц держатся, и никто их не исправит, значит, одно из двух. Или никто из прохожих на эту рекламу внимания не обращает и отдача от неё нулевая, или в городе у нас живут поголовно дремучие безграмотные люди, что вряд ли.
***
Хорошо, что лето наконец кончилось. Серьёзно. Теперь-то уж никто не спросит без предупреждения: «Стёпа, а куда мы поедем летом?» А я знаю? По мне, так куда-нибудь бы на север, чтоб жары не было, пляжей этих всех, трансфертов в аэропорт, отдыхающих обгоревших тоже чтоб не было. Так нет же. «Стёпа, а мы на какое море поедем?»
Это в детстве я любил поездки на море. В детстве там всегда было чем заняться. Можно было целый день купаться, рыть в песке ямы «до воды», собирать в прибое цветные отшлифованные бутылочные стеклышки и жрать арбузы и прочие дары южной природы.
Честно, и сейчас бы с удовольствием пособирал стеклышки. Но они куда-то пропали. Наверное, их вытеснил пластик. А рыть ямы и жрать арбузы в тех объемах, как прежде, уже и не особо хочется. Ещё меньше хочется торчать весь день на солнцепёке. Остаётся только одно. Хотя, нет. Бухать почему-то тоже не хочется.
Не знаю, чем я руководствовался, когда лет пять назад поехал на автобусе на какое-то непонятное море. Море было действительно непонятное. И не Чёрное и не Азовское. Поехал в Тамань, а она торчит прыщом как раз на берегу Керчинского пролива, соединяющего Черное и Азовское. В общем, получается, это вообще не очень море. И шторма там не бывает. Почти всегда тишина, как в унитазе. И берег какой-то недоморской, и пляж, и вода даже какая-то не такая, даром, что солёная.
На главной таманской площади, прямо над морем, на обрыве, стоит памятник Лермонтову. Рядом полуразваленная халабуда, в которой он якобы останавливался на одну ночь. Или на две. Но тот, кто видел Тамань, не усомнится — на одну. Лермонтов для них, похоже, еще большее «всё», чем для нас, коренных жителей Б-ской области, Тютчев. Между памятником и халабудой постоянно снуют какие-то экскурсии. Я внутри не был, врать не буду, только один раз в темноте на забор пописать ходил. Но что-то подсказывает, что музеишко там должен быть такой же никакой, как и памятник, и пляж, и море.
Миша, абориген и хозяин чуланчика, в котором меня поселили, за стаканчиком коньячку, коим там торгуют через дом из канистр по демпинговым ценам, рассказал, что дом Лермонтова — это не совсем тот дом, если не сказать, совсем не тот. Тот, настоящий, на который раньше думали, что он тот, но тоже не факт, давным-давно свалился в море. Потому что стоял примерно там же где и этот, но ближе к обрыву. Предприимчивые таманцы не дали умереть легенде, и построили великому русскому прозаику и поэту новый домик. Теперь снова есть куда водить экскурсии и рассказывать курортникам про то, что «надо же, какое уникальное место Тамань». Лермонтов всего одну ночь переночевал, проснулся, и сразу воспел её в прозе.
Конечно, постоянное упоминание неких лермонтовских строк не могло не заинтриговать. Не могу назвать себя фанатом этого зануды в погонах, посему кроме «Мцыри», и то факультативно, с творчеством его не знаком. По приезду домой, однако, не поленился, и строки про Тамань нашёл. Оказывается, в романе «Герой нашего времени» «Тамань» называется целая глава, писанная от имени некоего Печорина (главного героя, если кто не знает).
Начинается глава словами: «Тамань — самый скверный городишка из всех приморских городов России. Я там чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить». Потом идет восемь страниц вялого повествования об убогой хатке, слепом малолетнем жулике, каких-то контрабандистах, бабе, пытавшейся скинуть с лодки не умеющего плавать автора, и заканчивается это всё следующим образом: «Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань».
Всё, пусть теперь и мне памятник ставят, я его честно заслужил.
***
Да, раз уж речь зашла об унитазе (см. выше).
На днях буквально на секундочку заскочил в нашу районную администрацию. Надо было зайти в отдел культуры, встретить там Зинаиду Аркадьевну и отдать ей маленькую корзинку. Маленькая корзинка должна была послужить реквизитом на грядущем общегородском празднике. Пока шел по коридору власти, спускался по карьерной лестнице и открывал дверь в отдел культуры, всё думал — зачем на общегородском празднике эта маленькая корзинка и почему нужно было её туда везти? Неужели в районной администрации нет никакой подходящей корзинки? Увидел Зинаиду Аркадьевну, отдал корзинку и только собрался задать все накопившиеся вопросы, как понял, что ни о чем никого спрашивать не буду. Вдруг резко стало не до вопросов. Я внезапно захотел какать. Нет, это был не понос. Это было… ну, так бывает. Просто внезапно очень сильно захотел какать. Я быстро вышел из кабинета, поднялся по лестнице прошел по коридору, увидел заветную дверь с надписью «Туалет для посетителей» и открыл.
Снимая штаны, отметил сразу несколько вещей. Во-первых, приятно удивило, что при открывании двери автоматически включился свет и вентилятор, во-вторых, «туалет для посетителей» был неожиданно чист, в-третьих, нигде не было видно туалетной бумаги. Даже никакого кронштейна для неё не было видно. Более того, не оказалось и мусорного ведра. Это было странно. Видимо районные администраторы считают, что их посетители не какают. Очень странно, думал я, снимая штаны. С другой стороны — какая разница? Я ещё в коридоре предположил подобный поворот событий, но решил не париться по этому поводу, потому как задал себе вопрос: «Степа, а если не окажется бумаги, ты что, не станешь какать?» «Конечно, стану! — ответил я себе, — Разве до бумаги мне сейчас? Я стану какать, даже если дверь в туалет окажется закрыта!» Всё это успело подуматься не потому, что штаны долго снимались, напротив, очень даже быстро. Просто у меня удачный мозг. Он умеет в экстремальной ситуации думать быстро и правильно.
Смех смехом, а, правда, что делать? Нельзя же с голым задом высунуться в коридор и прокричать на всю районную администрацию «Зинаида Аркадьевна! Принесите, пожалуйста, бумажки!» Есть мобильник, но телефон Зинаиды Аркадьевны неизвестен, а кроме Зинаиды Аркадьевны в администрации знакомых нет.
Уже сидя, осмотрелся повнимательнее. Совершенно голые и гладкие стены. Даже если бы и была бумага, то её некуда было положить или повесить. Только на пол. Но на полу лежала моя куртка и больше ничего. Куртка! В куртке есть карманы. Карманы. Когда я немножко учился в институте, там был один матерый студент. Сильно матерый. Он на тот момент уже 11 лет учился, всегда носил рубашки с оторванными нагрудными карманами и интересующимся с гордостью рассказывал, что карманы от рубашек использует вместо туалетной бумаги, если заранее о ней не вспоминает. Нет, с этой позиции карманы куртки меня не очень интересовали. Я просто рассчитывал найти в них что-нибудь бумажное, хотя и помнил, как во вторник всё из карманов выгреб и положил на буфет. Из-за обилия всяких ненужностей куртку уже стало тяжело поднимать. Основные чаяния были связаны с чеком из «Икеи».
Вчера я ездил в Москву, заезжал в «Икею». Кстати, там чудесный просторный туалет с огромным количеством бумаги. Так вот, в «Икее» купил люстру, шкаф и три каких-то коробки для друзей. Для своей семьи приобрел настенные часы, рамки для фотографий, нафиг ненужный стеллаж с огромной скидкой, имбирное печенье и мыло, туалетное, между прочим. Мыло тоже было вроде не нужно, но повелся на скидку. Уже выходя, психанул. Так я называю свое поведение в «Икее», когда покупается спонтанно что-то совсем не запланированное, дорогое и ненужное. На этот раз объектом психоза стал бегемот для ребенка. Это к чему. Это к тому, что размеры чека должны были полностью покрыть потребность в туалетной бумаге. Но чека в куртке не оказалось.
Взгляд упал на раковину. Петрович рассказывал, когда он учился в Москве и жил в общаге, там кроме него жили ещё разные студенты из сопредельных республик. И некоторые из этих студентов в силу национальных культурных или ещё каких традиций напрочь отказывались пользоваться в туалете бумагой, а обходились как-то водой. Я не смог представить себе механизм процесса, вернее, смог, но он мне сильно не понравился. Так что от идеи пришлось отказаться. Ещё вспомнил, как в подобных, казавшихся безвыходными, ситуациях в лесу использовались сосновые и еловые шишки, а в горах камушки. Обыскал карманы штанов и кое-что нашел.
Кое-чем оказался листик из средних размеров блокнота. На листике было размашисто написано:
1.Сыр «Сметанковый»
2.Майонез
3.Молоко
4.Хлеб
5.Корм животным…
И ещё с десяток ненавистных пунктов. Дело в том, что я не могу ходить в магазины. Меня от них тошнит, сразу депрессия начинается, и думать ни о чем не могу, кроме как о том, чтоб побыстрей оттуда сбежать. И я дома всегда требую список, а иначе в магазины не хожу. В этот день было велено заехать в «Линию» или, на худой конец, в «Журавли». Передача списка происходила с легким скандалом, и пустить листок по внезапной необходимости никак нельзя. Без списка в магазин ехать было бессмысленно, а без продуктов было бессмысленно и опасно появляться дома. Оторвал от списка свободное место, но его оказалось катастрофически мало.
И тут — как сразу не заметил!? Ура, спасение! На двери скотчем прилеплен файл. В файл вложен лист формата А4 с примерно следующим текстом «Уважаемые посетители! Пожалуйста, соблюдайте чистоту и всё такое. Главный администратор». Примерно так. Достал я из файла этот листок и думаю. Вот люди старались, наводили чистоту, уют создавали, лампочку вкручивали, вентилятор подключали, а я пришел один раз и все испоганил. Нельзя так. Надо уважать труд административных уборщиц. Или уборщицких администраторов? Короче, посмотрел я на этот лист, и понял, что мне хватит и половины. Ещё хвостик от магазинного списка есть. Перегнул объявление пополам строго под текстом, провёл по сгибу несколько раз ногтями, оторвал и половинку с обращением к посетителям запихнул обратно в файл, а другую часть использовал в личных целях.
Вот так мой удачный мозг с одной стороны помог другим моим частям тела, а с другой — не нанёс никакого урона районной администрации.
***
Сегодня сидел в машине и от нечего делать рылся в разных кармашках, выдвижных коробочках, очешниках и прочих специальных местах, созданных корейскими автопромышленниками для аккумулирования мелкого хлама внутри автомобиля. Наткнулся на бумажку из сервиса с пробегом и датой. Путем несложных арифметических вычислений я смог установить, что за неполных семь месяцев проехал 31378 километров. Подозрительно много, подумал я, и стал считать-прикидывать.
Допустим, 3200 километров я проехал по маршруту Б-ск-Черкесск-Архыз-Черкесск-Б-ск. Это было прекрасно. Во-вторых, я вообще люблю ездить далеко, а во-первых, после пятилетнего перерыва наконец-то сходил в горы. И пусть маршрут оказался, мягко говоря, облегченным, а, грубо говоря, вообще никаким, но горной воды попил, горным воздухом подышал, горный снег потоптал, горные мозоли натер. Даже задницу живого медведя видели. Правда, я не видел, я в это время суп варил.
Вообще-то изначально собирались в Домбай. А куда еще собираться, если в Кабардино-Балкарию не пускают из-за стрельбы, в любимую Осетию еще по каким-то причинам, а бороздить вершины Краснодарского края у нас самих нет никакого желания? Но в районе Домбая заповедник, и играть в догонялки с егерями мы не решились. Оставался Архыз. С грехом пополам нарисовали маршрут в обход тамошнего заповедника, согласовали его по телефону со спасателями и поехали в сторону Кавказа. Каково же было наше удивление, когда уже в Черкесске пришли отмечаться к пограничникам, а они вместо того, чтобы просто поставить печать в маршрутную книжку, показали нам дулю. Оказывается, совсем недавно ввели новый порядок, по которому разрешение на поход можно получить только с помощью факса, отправленного им не менее чем за месяц! А всяким иностранцам, включая украинцев и прочих белорусов, аж за три! Местные говорят, что это так пограничные генералы мстят республиканским властям за отказ отдать долю в туристическом бизнесе.
Выяснилось, что таких же ущемленных в правах туристов там довольно много и все они ходят взад и вперед по одному и тому же, единственному разрешенному хребту. Ну и мы прошлись.
А так хорошо съездили. Надо сказать, слухи о непомерных аппетитах кавказских гаишников оказались несколько преувеличены. За все путешествие меня остановили всего один раз, и то в Орле. За действительно имевшее место быть превышение скорости. А еще личный рекорд установлен — 1500 километров за рулем без сна и отдыха. Я считаю, неплохо.
* * *
За отчетные семь месяцев раз десять съездил в Москву по разным вопросам. Это тысяч восемь, а то и восемь пятьсот. Памятна поездка, в которой пришлось целый день кататься по Москве вместе с двумя навороченными «Мерседесами», обслуживавшими свадьбу. Когда свадьба останавливалась во всяких московских овстугах, партизанках и покровках для того, чтобы сделать очередную сотню дурацких фотографий, я трепал языком с водилами Коляном и Серегой. Очень интересно было послушать истории из жизни вип-извозчиков.
Например, они работали на сочинском инвестиционном форуме. Ну, на который наши президенты ездят. Или какой-то один. Только не помню, настоящий или плюшевый. Да это и не важно. Короче, подрядила власть Серегу и Коляна на неделю в Сочи возить каких-то шишек с банкета на банкет. Серега говорит:
— Понимаешь, я туда ехал по-честному работать. Бабло платят отличное. Поехал работать. Гнали машины колонной. От Москвы до Сочей доехали, замахались насмерть. Поселились, я на пляж пришел, сказал «здравствуй, море!» и внезапно ушел в запой. Вообще ж пить не планировал и вдруг. Короче, половина наших тоже запила. Всего было человек семьдесят. Наняли за копейки местных водил и загудели. Главное, не пойму как я за неделю 106 тыщ пропил. Это при том, что хату за 250 рублей снимали!
— А я 78. — Грустно добавил Коля.
Потом Коля рассказал, как еще в 90-е возил короля Марокко. Кортеж 100 автомобилей. В основном лупатые Мерины. Тверскую в обе стороны на 40 минут перекрыли. Король вышел, сел в лимузин, поехали в Третьяковку. Прямо к крыльцу подвезли. Колян говорит: «Я голодный как собака, думаю, пойду, пирожок съем, пока король картины смотрит. Только отошел, команда „По машинам!“. Странно, думаю, как это он так быстро успел? А потом рассказали, король, как вошел, тут же книгу почетных гостей попросил, расписался и сразу на выход. Даже ничего и не посмотрел!»
Другая памятная поездка случилась по вине фотографа Васильева. Того самого, который однажды, опившись спирту, лакал воду из собачьей миски. Так вот, он женился. Фотограф Васильев и до свадьбы не отличался пунктуальностью. Вернее, сильно отличался непунктуальностью. А уж женившись, совсем забил на правила приличия. В тот день Васильев попросил перевезти в столицу его нехитрый скарб на ПМЖ. Зачем ему с этим скарбом и женой приспичило жить в Москве, непонятно, но надо так надо. Хотя, например, в Бежицу было бы и ближе и дешевле.
Я ему говорю, выедем часа в два ночи, чтобы въехать в этот ад до пробок. Он отвечает, да, конечно, только заскочим на пять минут в «Икею», мне надо этажерку купить. «Икея» — это после 10—00. Значит, до пробок уже не въехать. Ладно, въедем позже. Выходи, говорю, из подъезда в 4—00, я тебя буду ждать. «Конечно, конечно!» — сказал фотограф Васильев. В 4—00 я ему позвонил из дома и соврал, что уже приехал. «Да, да, да», — сказал Васильев, — «я уже выхожу». После этого я оделся, вышел на улицу, прогрел машину, доехал от телецентра до автовокзала и тут зазвонил телефон.
— Ты где сейчас едешь?
— У автовокзала.
— Ну, остановись там, я сейчас подойду.
Он действительно подошел. Через 20 минут.
— Подожди немножко, я сейчас схожу тут недалеко до банкомата и вернусь. А то ты мне когда позвонил, разбудил, голова что-то не соображает спросонья.
Прошло еще полчаса, мы погрузились и двинули на Москву. Из Обнинска (100 км до Москвы) фотограф Васильев позвонил молодой жене и сообщил, что мы почти приехали. Поймав мой взгляд он сказал: «Она всегда опаздывает». В 10—00 я припарковался возле «Икеи» и мы пошли внутрь. Ближе к одиннадцати приехала жена, и они минут тридцать искали друг друга в «Икее» поминутно созваниваясь:
— Я в текстиле.
— А я в посуде.
— Иди к диванам и смотри налево, увидишь стеллажи, я за ними.
— Тебя за стеллажами нет.
— Потому что я уже в посуде.
— А я уже в текстиле.
На улицу они вышли через четыре часа. Вместо запланированной этажерки были куплены два стеллажа, один стол, один стул, зеркало, торшер и два пакета мелочевки. А нам еще на Автозаводскую! В результате в этот день я въехал в Москву с утренней пробкой, а выехал с вечерней. Удовольствие для гурманов.
* * *
3500 километров — 7 раз в Смоленск и обратно. Так исторически сложилось, что уже пять лет я ежемесячно посещаю Смоленск. Я туда быстренько въезжаю, забираю то, зачем приехал — и домой. Дорога за эти пять лет стала практически родной. Но она совершенно неинтересная. Прямо скажем, унылая дорога. Только и остается наблюдать за изменениями в жизни придорожных деревень. Тут новый дом построили, там старый сгорел.
А в одной такой деревне дед ремонтировал «Москвич-412». Зелененький такой, ржавенький. Как ни едешь, обязательно ковыряется. То днище варит, то из капота одни ноги торчат, то подвеску перебирает. Все пять лет.
А тут по осени яблоки поспели. И картошка. И другие цитрусовые. Еду себе, любуюсь на дары природы, выставленные вдоль обочины. Вдруг вижу — что-то странное продают. Издалека сразу и не поймешь. Больше всего на грибы похоже, но уж больно диковинные. Поближе подъехал. Ба! Да это фары москвичевские. И аккумулятор. А вот тормозные барабаны лежат и цилиндры отдельно. И еще какие-то железки. А сам дед на ящичке притулился. Понятно. Сдался, не выдержал. Победил его советский автопром.
* * *
Добрую пару тысяч километров наездил за грибами. Дурной какой-то сезон получился. Вроде погода все лето и осень супергрибная стояла, а нормально я так и не собрал. Маслят вообще не взял, рыжиков всего ничего — мало было, и те червивые. Белых за сезон и сотни не набрал. Даже опят было намного меньше, чем положено. Только лисичек, да чернушек хапнул. Дурной сезон. Вроде появился гриб, видно, что сейчас слой пойдет. Через пару дней едешь — пусто. Набираешь лисичек. И так весь сезон. За чем ни ездил, привозил лисичек. Дурной сезон.
* * *
Белоруссию три раза посетил. В Белоруссии прикольно. У них хорошая колбаса и дороги, а остальное у них какое-то менее удачное. Но остальное меня и не особо интересовало. Поделал в Гомеле свои дела и пошел в универсам колбасы купить. Особенно сырокопченой. Уж больно она у белорусов вкусная, мясистая такая, и цены из тех, что «приятно удивят». Подхожу к колбасному отделу, и вижу прямо-таки советскую убогость ассортимента.
— Вы куда, — говорю, — колбасу от меня попрятали?
А продавщица и отвечает:
— Так россияне ж всю скупили. За неделю всё вычистили. Вы не в курсе, что ли?
О как! И ведь, действительно, я видел в Брянске, как белорусские харчи прямо из багажников возле рынка продают. Нашел потом магазин вдали от основных магистралей и колбасой все-таки затарился. А в этом совершил другую, менее разумную покупку. Смотрю, лежат на полке яйца, десятками расфасованные. Разные всякие сорта и производители, но все стоят на наши деньги от 4—80 до 5—20. Надо ж, думаю, прямо коммунизм какой-то! Выбрал яйца под удалым названием «Молодецкие». Я б, конечно «Молодецких» яиц в любом случае купил, ну а по 5 рублей, аж четыре десятка набрал.
И вот прихожу я на кассу, и там выясняется, что белорусы совсем не так просты, как принято считать. Они додумались написать на ценнике, прилепленном к десятку яиц, цену за одно. Таким образом, сорок молодецких яиц обошлись вовсе не в двадцать рублей, как наивный россиянин рассчитывал, а как раз в двести! Конечно, я, как гордый житель метрополии, никак не мог выказать смущение и отказаться от столь дорогой покупки, посему гордо отсчитал за колониальный товар 40000 белорусскими и был таков.
По правде сказать, молодецкие яйца стоили того. Крупные и вкусные, а на коробке написано, что с селеном. А ещё «Боржоми» очень порадовала. Каждый раз домой по упаковке привожу. Привет Онищенко!
* * *
Получается, что порядка 15000 км за семь месяцев, а это ни много не мало, 70 в день, накрутилось по городу. Преимущественно я куда-то еду, чтобы отвезти туда дочь, а потом — забрать. Дочь уже большая, как принято говорить у взрослых «скоро замуж». Пять лет — это возраст. Раньше мы ездили в детский сад, но он ее почему-то не радовал. Воспиталки хорошие? Хорошие. Дети хорошие? Хорошие. Занятия интересные? Интересные. Поедешь в садик? Нет. Ну, на нет и суда нет. Походили и хватит. Теперь ходим в бассейн и кружки.
Слава б-ским педагогам!
Бассейн в Путевке. Тетенька-тренер научила мою пятилетнюю дочь плавать без всяких там нарукавников уже на третьем занятии. Причем, судя по разговорам, не только мою, но и еще целую толпу таких же. Я считаю, за это надо сразу орден давать. Или хотя бы звание «Заслуженный тренер».
Школа раннего развития «Росток» во Дворце пионеров. Три дня в неделю по три урока, включая математику и английский плюс танцы и вокал. Дочь называет это Хогвартсом и может теперь при случае блеснуть в обществе английским словом «хэджхог», то есть ёжик.
Ходьба. Ходьба — это не вид спорта. Ходьбой у нас называются занятия в театре моды «Образ». С первого занятия она прибежала счастливая оттого, что получила две пятерки и сразу рассказала, за что. Первая за то, что «хорошо запомнила, что задали на дом», а вторая «за хорошую ходьбу». Мы это назвали «пятёрки для блондинок». На втором задании дочь блеснула на теории, рассказала о трёх видах улыбок — губной, зубной и глазной. А с третьего пришла с сообщением, что через две недели у неё показ.
Показ был действительно большим мероприятием, с участием мастеров ходьбы всех возрастов и комплекций. А еще там случился анекдот. Один известный брянский стилист готовил к выступлению нескольких моделей, попутно он сидел в жюри и учредил персональный приз. И вот, церемония награждения. Всем победителям дарят гламурные пакетики с косметикой, и еще бог знает с чем. Кому-то достается и пакет «от известного стилиста». Сам стилист при виде этой картины покрывается холодным потом, но не может же он, в конце концов, остановить церемонию! Кто-то за кулисами по ошибке вместо пакета с подарками вынес на сцену пакет с личными вещами стилиста. Достоверно известно, что в пакете была беззубая расческа, полфлакона лака без крышки и какой-то мр3-диск с непредсказуемым содержанием, подаренный стилисту буквально сегодня. Чем история закончилась, мне неизвестно. А может, она и не закончилась ещё.
* * *
Когда я сижу за рулем, слушаю радио. С радио в городе беда. Как-то не случилась в нашем эфире удовлетворяющая меня радиостанция. Все давно от радио отказались, музыку слушают, а я не могу с собой ничего поделать. Слушаю радио. Мучаюсь и слушаю. Этой осенью меня решили добить. Какие-то злые люди открыли радио «Губерния».
Говорят, делегация приехала в Москву на Горбушку и скупила весь (ВЕСЬ!) шансон, который там удалось найти. Получилось несколько коробок бездарных песен про долю, волю и неволю. Окунуться в музыкальный понос можно на волне 87,9 FM.
А теперь логическая цепочка.
Цель создания радиокомпании «Б-ская Губерния» — «наиболее полное удовлетворение информационных потребностей граждан».
Формат радиостанции — жестокий шансон, пропагандирующий воровской образ жизни.
Радиостанция слеплена при телеканале «Губерния», придворном телевидении областной администрации.
Власть в области, как и везде, принадлежит «Единой России».
Таким образом, накануне думских выборов партия власти подарила области «Радио Жуликов и Воров»!
От редакции. Последний пассаж нашего постоянного автора поставил редакционный совет в затруднительное положение. С одной стороны, в интонациях С. В. Чердакова слышатся явные обличительные нотки, направленные против жуликов и воров. Данный пыл автора мы никак не можем разделить уже по той причине, что уверены: подвернись удобный случай безнаказанно украсть, например, миллион долларов, даже такой всем известный бессребреник, как уважаемый Степан Венедиктович, сжульничал бы и украл, а уж остальные члены редакции даже и миллионом рублей соблазнились бы. Поэтому мы нисколько не намерены клеймить ни партию, ни жуликов, ни воров, ни даже гипотетическую партию жуликов и воров, буде такая нелепая организация вздумала бы образоваться на территории нашей Родины. Сами хороши, да-с.
С другой стороны, только крайний врождённый пацифизм удерживает нас от экстремистских действий относительно вышеупомянутого радио «Губерния», из-за которого ездить по городу даже на велосипеде стало совершенно невозможно. Отсюда предложение губернскому законодательному собранию. Драгоценные наши! Отцы! Вот вы уж который год мучаетесь, ищете подходящий гимн родному городу. А не обойтись ли малой кровью? В наличии популярное радио, прокручивающее популярную музыку — и вам нравится и пипл хавает. Ну и давайте ж не будем изобретать велосипед, а станем тупо включать при всякой надобности прямую трансляцию. Дёшево, удобно, и, что немаловажно, всегда имеется момент сурприза: а сегодня-то что поймаем на любимой радиоволне?
Так и стоит перед глазами картина: открытие, например, заседания облдумы, динамик прокашливается и на свободу вырывается пьяненькое контральто:
Их бросили чистить картошку,
Девчонок из двадцать второй.
Их в камере было немножко
Весенней порой, Весенней порой.
Их бросили чистить картошку,
Девчонок в отстойник мужской.
Ну и так далее, слова, думается, всем давно известны наизусть. Кто-то из депутатов украдкой промакивает уголком платка глаза, кто-то задумчиво мнёт в кармане сигарету. После такого зачина и законы пойдут косяком хорошие, добрые и полезные. Соглашайтесь, не пожалеете.
***
Первые годы жизни, примерно двадцать, я жил возле помойки. Хотя, правильнее сказать, помойка была рядом с домом, где я жил. Выходишь из подъезда с ведёрком, проходишь шагов пятьдесят, а то и меньше, и вот она, помойка. Очень удобно. Так как эти двадцать лет были первыми в моей жизни, то я считал, что это нормально. Рядом с каждым домом должна быть помойка, на которую можно отнести мусор.
Потом я переехал жить в другой дом. Большой, пятиэтажный, окружённый такими же. К ужасу моему, помойки рядом не оказалось. Не удалось её отыскать и рядом с соседним домом. И возле следующего тоже. Только пройдя целых три дома, мне удалось обнаружить вожделенные зловонные баки. Такого подвоха от судьбы я не ожидал и стал искать дальше. Поиски увенчались не то, чтобы успехом, но результатом. Я нашёл аж две помойки, но и они были не то чтобы рядом. Тогда я стал носить мусор поочередно на разные помойки, и на какую бы я ни шёл, мне неизменно казалось, что те две, другие, чуть-чуть поближе этой.
Так продолжалось несколько месяцев, пока меня не посетила, наконец, гениальная идея. Я решил измерить расстояние до каждой шагами. Исследование длилось месяца три. То по дороге к П2 я забывал сколько шагов до П1 и П3, то сбивался со счёта, то встречал кого-нибудь по пути, и, отвлекшись на пустую болтовню, прерывал измерение. В конце концов, я всё записал на бумажку и немедленно стал в тупик. Разница в расстоянии до всех трёх помоек находилась в пределах одного десятка шагов. Если принять во внимание, что счёт шёл на сотни, можно сделать следующий вывод: разница в пределах допустимой погрешности, а значит, расстояние от моего подъезда до всех объектов исследования ОДИНАКОВОЕ! Я помучился ещё какое-то время и волевым решением отказался от ортодоксального ведёрка, и стал выносить мусор в пакете, смотря куда мне по пути.
В относительном покое прошло лет восемь, пока я опять не переехал. Там помойка была рядом с домом, только у меня случился опять же крайний подъезд, а баки стояли с другого краю, а дом был очень длинный — подъездов восемь, и по пути мне в ту сторону не было никогда. Тогда я стал носить пакетик в урну около продуктового магазина, оказавшегося как раз по пути. Мне было очень стыдно перед администрацией этого магазина, но я всё равно носил. Мучился, краснел и носил. Пока мне в этом магазине не продали тухлых яиц. С этого момента я перестал краснеть, и просто стал носить.
Прямо рядышком с моим подъездом стоял забор, невысокий, метра два. В заборе были всегда закрытые ворота. Однажды я увидел, как ворота открываются, и в них въезжает мусоровоз. Я присмотрелся, и оказалось, что вплотную к забору, прямо около моего подъезда с внутренней стороны, стоит мусорный бак. Я запомнил точное место дислокации бака и с этого дня стал метать пакеты через забор. Швырнешь, задержишься на секунду, чтобы услышать гулкий звук, подтверждающий точность попадания, и идёшь себе по своим делам. Красота! Правда, спустя пару лет после замечательного открытия, уже незадолго перед очередным переездом, я увидел ворота открытыми во второй раз. И снова покраснел. Мусорный бак стоял уже в совершенно другом месте, а там, куда я регулярно метал свои пакеты, была разбита клумба. Видимо ударяясь об пионы, или как оно там называется, мусорный пакет и издавал этот приятный и успокаивающий, такой знакомый глухой звук.
В прошлом году я опять переехал. На этот раз в частный дом. Вокруг моего дома стоят другие дома, тоже частные. До ближайшей многоэтажки, а значит и цивилизованной помойки километра три, не меньше. Сразу после переезда мы стали думать, что делать с мусором. Думали не долго, потому что вариантов было до безобразия мало — один. По мере наполнения пакетик, пакет, а то и мешок с мусором оказывается возле колеса моего автомобиля, и начинается моя головная боль.
В одном случае из двадцати уезжая из дома, я кладу этот пакет в багажник, еду по своим делам, притормаживаю в городе около какой-нибудь помойки, выбрасываю и еду дальше.
В трёх случаях из десяти я забываю забрать пакет и уезжаю налегке, а, вернувшись, обнаруживаю его разорванным в клочья, в радиусе полутора метров валяются закаканные туалетные бумажки, рыбьи хвосты, яичная скорлупа и прочая дрянь. Кот Федя получает дежурный пендель, я собираю мусор в другой пакет и кладу его в багажник.
В двух случаях из пяти мой маршрут не пролегает мимо больших помоек, и тогда я, как подлая кукушка, подкидываю свою скорлупу в городские урны. А где у нас стоят хорошие большие урны? Возле городской и областной администрации, дорогих бутиков, а также на крыльце объектов соцкультбыта. Тщетно пытаясь хоть как-то себя реабилитировать за это некрасивое поведение, я даже вывел некоторую систему, согласно которой, прежде всего я пытаюсь подкинуть нечистот всяким органам власти или торговым предприятиям, про которые знаю что-нибудь плохое и только в крайнем случае заполняю урны ни в чём неповинных.
В одном случае из двадцати пяти я еду в другой город, по пути мне не попадается ничего похожего на помойку, и я отвожу свой пакет туда, куда, собственно и еду. Я доподлинно помню, что мой мусор лежит в Орле, Москве и Смоленске. А один небольшенький пакетик даже доехал до Ростова-на-Дону.
В четырёх случаях из семнадцати случается самое страшное. Я вожу мусор в машине весь день, забыв о нём, привожу его обратно домой, ставлю машину, вожу весь следующий день, иногда и третий. И вот тут оно начинает вонять. Господи, как оно воняет в закрытой машине! И тогда с утра, даже не прогревая двигатель, я лечу за примерно три километра к ближайшей многоэтажке, возле которой есть помойка, а потом ностальгирую по тем чудесным временам, когда мне приходилось выбирать один из трёх вариантов.
***
Никогда в жизни я не думал, что смогу ощутить это на себе! Пошёл я за пивом.
Нет. Всё по порядку. Вчера у меня был юбилей.
Даже не так. Я вообще-то практически не пью. Ну, как не пью… Я нажираюсь очень сильно, но по семейным обстоятельствам редко. А вчера у меня был юбилей. В смысле не то, чтоб мне исполнилось сколько-нибудь лет, а я работал на юбилее одного мужика феерическим ведущим. Я отработал очень хорошо. Со мной фотографировались девушки и дважды попросили автограф. А юбиляр в финале потребовал с ним выпить.
Я, во-первых, не особо чтобы пью, во-вторых, пока работаю, совсем не пью, а в-третьих, так, как я не пью за рулём, так арабы не ненавидят евреев. Но юбиляр был из тех людей, которые если хотят с тобой выпить, обязательно выпьют. Никаких сомнений в этом не было. Последние он развеял, когда, раздвигая тарелки на столе дорогого, известного своей изысканной кухней ресторана, подтащил поближе блюдечко с салом. Отпихивая омара, он сказал: «Отличное сало, попробуй, я за ним специально ездил». Я выпил одну рюмку, пока промилле не отменили (каламбур!), закусил действительно замечательным салом с тремя прослойками, и, поймав момент, ускользнул к себе в машину.
Пока двигатель подогревался, я подумал и решил позволить себе кутнуть — купить пива и воблы с икрой. Предыдущие полтора месяца я не мог себе этого позволить по финансовым соображениям. Не то, чтобы у нас совсем не было денег, но дочка иногда говорила: «Папа, а можно когда у нас появятся какие-нибудь деньги, мы заедем в какой-нибудь детский магазин и купим что-нибудь очень маленькое?» Короче, не до воблы с икрой мне было. А тут, думаю, хорошо отработал, устал как собака, немножко денег поднял…
Но времени-то уже хорошо заполночь. Магазины на дороге не валяются. Вот еду я, значит, и думаю, где бы отовариться. Тут случайно на пути попадается ларёк, я в нём покупаю пиво, знамо дело, в ларьке воблы нет. Не беда, думаю, по пути куплю. По пути, конечно, забываю, загоняю машину, и только тут вспоминаю о вобле.
Надо сказать, последние пару лет я живу в прекрасном частном доме в двух километрах за чертой города. За эти годы я обленился настолько, что открыть и закрыть ворота мне уже в напряг. Магазин шаговой доступности «Арарат» работает с 8-ми до 10-ти, остальные далеко. Короче, не поехал я за воблой. Зашёл в Интернет новости почитать, открыл пивка и внезапно выпил все четыре литра. Смотрю на часы — семь утра, а сна ни в одном глазу.
Ладно, думаю, «Арарат» через час откроется, там вобла и пиво к ней есть, а на этот час я себе немножко расширю сознание. Расширил немножко. Час быстро пролетел и пошёл я за пивом в «Арарат». И вот тут со мной случилось (см. первую строку) то, чего я никак не мог ожидать. Я шёл по нашей мелкокулацкой улице и думал: «А вдруг меня сейчас увидит Юрий Иваныч и подумает «Куда это Степа к открытию магазина поспешает, уж не пьяница ли он?» Или, не дай Бог, выглянет из своего мансардного этажа депутат Воронин, когда я уже буду обратно идти, и скажет «А что это мой сосед с утра пиво домой волочёт? Наверное, похмеляется, алкашня». А если, Боже упаси, Якову Яковлевичу на глаза попадусь? Это же позор!
Вот так Степа Чердаков, считавший себя раньше свободным как Шевчук, деградировал до социально зависимой мокрицы.
* * *
Судя по всему, это началось тридцать с небольшим лет назад. В тот день папа принёс домой самодельную синенькую коробочку с тумблером. Коробочка называлась магическим словом «приставка». Папа приставил её к нашему чёрно-белому телевизору «Рекорд», долго возился и, в результате сквозь плотную рябь на экране проступили два силуэта. Это были Хрюша и Степашка! Ещё немножко папиной возни, и к финальной песне появился звук! Так в наш дом пришла вторая программа.
До этого момента я не задумывался о том, что программ может быть две. Мне вполне хватало одной. Но когда появилась «вторая» мне очень быстро стало непонятно как я жил-то раньше. Без «Спокушек» и «киноповторойпослевремени». И ещё вот эти фильмы днём с субтитрами под редакцией С. Ээро.
Восьмидесятые я прожил спокойно. Однако на заре прекрасных девяностых в городе появился «60-й канал» и началось. Так как жил я на Набережной, в самом низу возле реки, поймать зыбкий сигнал, исходящий из Радицы-Крыловки, не представлялось возможным. Я возил маленький телевизор на велосипеде на дачу, прикручивал к нему какие-то мифические антенны, сделанные, по-моему, из консервных банок, соединённых колючей проволокой. Потом таскал его в ботанический сад, где служил сторожем. Устойчивого приёма добиться так и не удалось.
Когда через пару лет страданий я переехал в высокий пятиэтажный дом, причём на верхний этаж, конечно тут же попытался поймать «60-й». Ан нет. Волну загораживала соседняя хрущёвка. Эксперименты показали, что на экране что-то можно увидеть, только если кто-то стоит на крыше и держит антенну на вытянутой вверх руке. Даже привезённая из Польши здоровенная антенна с усилителем никакого эффекта не дала.
И тут появился «10-й канал», который худо-бедно ловился. Мало того, меня позвали на него работать! И вот я пришёл первый день на работу, а там все бегают, нервничают и ругаются. Оказывается, губернатор Барабанов запретил оппозиционный канал. Главный редактор сказал «Не волнуйся, Стёпа, это максимум на день-два, мы этого козла дожмём. А пока чтоб без дела не слоняться, попиши заметки в нашу газету». И я несколько лет писал заметки в газету, ожидая, пока редактор дожмёт одного козла, потом другого, потом третьего. Примерно четвёртый всё-таки дожал редактора.
Кстати, одну из заметок мне было поручено написать о конкурсе телеведущих, который проводили на ГТРК. Это должен был быть репортаж изнутри. Для успешного выполнения редакционного задания я по-честному записался в участники и, что характерно, победил вместе с еще парой потенциальных тележурналистов. Правда, мой редактор на это сказал «Не надо там работать. Чему эти козлы тебя научат?» Я ему поверил и теледвижений совершать не стал.
За это время в телевизоре постепенно появились «5-й канал», «НТВ», и даже порой можно было увидеть, как кто-то из соседей играет на приставке «Дэнди» в танчики. Мало того, сам телевизор несколько раз поменялся и превратился в «Сони», который славно служит моей маме по сей день. Все старые телевизоры, причём не только наши, но и от родственников, соседей, родственников соседей и соседей родственников каким-то инфернальным образом оказывались дома у бабушки. К ней уже как к себе приходил мастер Миша, который эту полуторацентнеровую рухлядь чинил, регулярно вызывая меня помочь переставить один вместо другого. Иногда бабушка звонила мне со словами «Стёпа, надо прийти раскандычить телевизор». «Раскандычить» означало вынуть из деревянного корпуса все внутренности, чтобы она могла хранить во чреве этих монстров тыквы и кабачки.
А потом произошёл переворот. Пришли какие-то ангелы и протянули мне кабель, в котором помещалось штук 35 каналов, особенно «Евроспорт». Это были лучшие два с половиной года в моей телевизионной жизни! Но жизнь, а в особенности телевизионная, сложная штука. И я переехал в частный дом, в котором не то что кабельные, но и эфирные каналы стали приниматься не слишком уверенно, скажем так. Это было особенно обидно с учётом того, что поголовье телевизоров в моём доме насчитывало то ли шесть, то ли семь. Так сразу и не посчитаешь. Причём это были не бабушкины дрова, а вполне себе пристойные аппараты разных мировых брендов. Я даже толком не могу сообразить, как они все у меня собрались. Наверное, бабушкины гены оказались чрезвычайно мощными.
Но меня голыми руками не возьмёшь! Я поставил тарелку «Триколор». Всё бы хорошо, но мне ж надо смотреть футбол, а его кажет только «НТВ+», а оно дорогое. Сильно дорогое. К счастью один известный тележурналист познакомил меня с прекрасными людьми, которые за совершенно смешные деньги сделали так, что у меня появился полный пакет «НТВ+». Ну да, периодически бывают сбои, в компьютере иногда приходится перезапускать программу под названием «Оно». Даже маленькая дочь уже знает, что если мультик прервался, надо крикнуть тому, кто за компьютером: «Сделай выкл-вкл!» Но работает же ж! Хотя, честно сказать, дома все нервничают.
Одно плохо, местного вещания в тарелке нет. Ни тебе местных новостей послушать, ни изысканным рекламным продуктом насладиться. Да тут ещё на один канальчик поработать позвали. Где-то с год, а то и больше работал. Люди на улицах даже «здрасьте» говорили, а сам так ни разу и не видел в эфире, чего делал-то. Но если публике верить, очень хорошо получалось! Только хозяин канала в конце концов деньги посчитал, дебет к кредиту приставил, понял, в какие убытки залез, да канал и закрыл. Но не об том речь.
А недавно позвонили из «Центртелекома» и говорят, мол, вы у нас такой ценный абонент Интернета, что мы вам хотим подарок сделать — подпишите договор и наш человек установит вам оборудование для просмотра примерно сотни каналов. Я говорю, а кидаете на чём? Ни на чём, отвечают, просто боимся вас потерять. Очень меня это растрогало, признаться.
Ну вот, значит пришел парнишка, что-то принес, куда-то подключил. Правда, пришлось по магазинам побегать немножко, докупить всякой мелочевки типа проводов. Вроде заработало.
А вчера несанкционированное отключение электричества в нашем районе струсилось и после этого все каналы куда-то пропали. За «НТВ+» я тоже вовремя не заплатил, потому что чего спешить, у меня телекомовских сотня каналов. Я ж не знал, что свет отключат и коробочка телевизионная отрубится. Весь день сегодня без телевизора жил. Я всегда в такие моменты мучаюсь прямо физиологически. Не то что мне прямо что-то конкретное посмотреть надо, да и вообще мне не принципиально этот телевизор смотреть. Мне надо, чтоб оно РАБОТАЛО. Короче дозвонился я до «телекома», выслушал внимательно все эти «не отключайтесь, ваш звонок важен для нас», под чутким руководством девушки Светланы перенастроил коробочку и посмотрел передачу «Марковна. Перезагрузка».
Смотрел я на эту помесь «Смехопанорамы», «Дома 2» и «Концерта ко дню милиции» и радовался. Радовался, что оно у меня есть. Телевидение.
***
Со свадьбами у меня сложные отношения. Первый раз в жизни я попал на свадьбу в очень уже приличном возрасте. Лет в 20. Или чуть меньше. И самое дикое, что я туда попал не гостем, а сразу ведущим. Благо, люди женились не чужие, чужие бы сразу убили, а эти стерпели. Вести мне эту феерию предстояло вместе с еще одним не чужим для молодоженов человеком, дядей Гришей. Он, правда, тоже отродясь свадеб не вел, но за свои 50 лет много повидал, а молодость вообще провел в кабаках лабухом. Папа невесты написал нам сценарий. Чушь несусветнейшая! Сценарий состоял из примерно таких сентенций: «БЛОК 2. Настроение торжественно-приподнятое. Состояние людей в зале характеризуется ощущением торжественности момента, сопряженным с некоторой скованностью и тревогой. Невеста по-прежнему пребывает в лёгком волнении. Жених уже немного расслаблен алкоголем.»
Вот так вот по «блокам» расписана вся свадьба. И ещё нам с дядей Гришей было строжайше запрещено выпивать. Но так как мы должны были постоянно поднимать тосты с бокалами в руках, нам на стол были поставлены вода, лимонад и какой-то отвратный компот. Они должны были по необходимости имитировать водку, шампанское и вино соответственно. Я был молод и наивен. А мудрый дядя Гриша уже после первой рюмки приволок откуда-то настоящие водку, шампанское и вино. Мы это держали под столом, и папа невесты довольно долго был уверен, что мы воду запиваем компотом, а не водку вином.
Понятно, что надеяться на сценарий не приходилось, и мы вели свадьбу с листа, как получится. Я, конечно, был не особо трезв, но дядя Гриша накидался крайне основательно и, надо сказать, довольно быстро. На курилке он произвёл фурор исполнением под гитару знаменитых частушек «Как я бу, как я бу, как я буду дальше жить с толстым ху, с толстым ху, с толстым худенькая я». После чего довольно быстро загрузился в такси и уехал, кинув меня на произвол судьбы. Вообще-то у дяди Гриши всегда была эта уникальная черта. Он пил, пил, пил, пил, а потом бац! Вдруг наступал момент, когда он не помнил ничего, кроме собственного адреса. И тут дядю Гришу остановить было невозможно, он всегда и везде просачивался на улицу, ловил машину и уезжал.
Такой была моя первая свадьба. После неё свадеб было много. Большинство из них я вёл. Даже свою собственную. Пару-тройку раз был свидетелем. А на некоторых даже довелось поучаствовать обычным гостем. Короче говоря, повидал всякого, чего уж там. И вот сейчас, анализируя это всё, хочется сказать, даже не сказать, прокричать. Как же не повезло первым нескольким свадьбам, за которые я взялся! Стыд и срам. Других слов нет. Почему-то люди думают, что если ты нормальный малый, говорливый, весёлый, не дурак, то без проблем проведёшь любую свадьбу. Причём, так думают все. И те, кто тебя заказывает, и ты сам, когда за это берёшься. А вот фигушки!
***
Вот, например, была у меня такая свадьба, от которой, конечно, нужно было отказаться ещё на самом раннем этапе. Когда я спросил жениха, кто будет работать музыку, а в ответ услышал «Да братуха кассеты покрутит.» Вот в этот момент надо было сказать: «Ой, у меня, кажется, начинается чёрная оспа» и немедленно бежать. Так нет же! Нет же ума! Ну, думаю, братуха, так братуха, мне-то что, не моя это забота. А даже про такую мелочь, как спросить, в какую дырку братухе я буду микрофон подключать, и мысль не мелькнула.
И вот свадьба. Неспешно раздеваются в гардеробе суровые мужчины в усах и свитерах. Поблёскивают медно-никелевыми зубами дамы в мохеровых шапках. Конечно, было уже поздно, и лицо не сохранить, но можно было поберечь свой внутренний мир и, отрезав себе мизинец, сбежать на «скорой». Так нет же. Я справлюсь. Что ж я, такой умный — и не справлюсь?
Сели за стол. Мне тоже место отрядили. Рядом со старенькой бабушкой со стороны невесты. Ещё до начала кто-то из суровых в свитерах вкратце посвятил меня в нюансы. Оказывается, вся родня невесты из Большого Полпина, а женихова родня откуда-то, не помню, откуда, но из какой-то другой деревни. И вот одни других уже давно и сильно ненавидят. Разумеется, взаимно. Бабушка, моя соседка, тоже времени не теряла и между своими рюмками (а наливала она себе по полной), рассказывала мне, какие сволочи хотят с ней породниться.
Стоит ли говорить, что атмосфера праздника как-то не складывалась. Инфернальные мужчины всё крепче поглядывали друг на друга. В незамысловатых речах гостей всё чаще стали слышны нотки… нет, не вражды, эдакой лёгкой неприязни. Подожгла фитиль бабушка-соседка. Заметно охмелев, она зачем-то сказала мне: «Немцы нас в войну очень уважали. Знаешь, как называли? Гросс ПолпИно!» Потом встала и запела частушки про родню жениха. Аутентичные деревенские частушки с матюками. Персонально про каждого. Удивительно точно и больно задевающие объекты насмешек. Основная ударная мощь частушек базировалась на физических изъянах.
Я не смог выкрутиться из этой ситуации. Сейчас бы смог, а тогда нет. Я ушёл ещё до драки и тут же пропил весь свой невеликий гонорар. А через неделю, гуляя с собакой, я встретил на улице одного паренька с той свадьбы. И он мне рассказал, что пара уже разводится. Наутро после свадьбы мамы стали подбивать деньги и поссорились на тему, кто больше потратил. Невеста встала на сторону своей мамы, жених своей. Короче, не состоялась ячейка общества. 20 лет прошло, а я всё думаю, ведь и моя вина в этом есть. Не создал атмосферку!
***
Ещё я часто вспоминаю уже более позднюю свадьбу. Позвонила невеста. Приезжайте, говорит, ко мне домой, обсудим все детали. Приехал. Такая барышня хорошая оказалась, весёлая. Всегда приятно, когда у тебя с заказчиком полностью представления о прекрасном и отвратительном совпадают. И вот мы с ней битый час проржали на тему баянистов. Как мы считаем неуместным баян на свадьбе, все эти пьяные завывания, как это глупо выглядит и всё такое. Подбили сценарий и я уехал.
Наступает день свадьбы. Я, понятное дело, в кабак пораньше приехал. Микрофон подключить, детали с музыкантами оговорить. Хожу себе по залу, отстраиваю микрофон: «тридцать шесть, сорок восемь, пятьдесят четыре, сосисочная, с-с-с, ц-ц-ц…» Тут подходит ко мне дядечка. Невысокий такой. В голубой рубашке с большим воротником. Протягивает руку:
— Михаил.
Я говорю:
— Степан.
— Ну что, Степан, я думаю, сначала мы споём «Обручальное кольцо», после тоста за родителей «Родительский дом», и попозже «Ах эта свадьба, свадьба».
— А Вы, — я говорю, — простите, кто?
— Я баянист.
— Так… Это… Вроде ж не планировалось… Может Вы ресторан перепутали?
— Нет-нет! Я ничего не перепутал. Это мама жениха решила молодым сюрприз сделать. Меня пригласить. Объявлять меня не надо, я сам выйду. Это же сюрприз!
Тут кто-то кричит, что кортеж подъехал. Суматоха, суета, хлеб-соль, битые бокалы, цветы, подарки, «все за стол!» Короче, переброситься парой слов с невестой никакой возможности. Я поднимаю первый тост и тут:
— Среди обычаев прекрасных мне вспомнить хочется один. Он символ вечности и счастья от юных лет и до седин…
Глаза невесты в этот момент я буду вспоминать на смертном одре. Я не помню её имени, не помню лица, я вообще мало чего в жизни помню, но эти глаза! И главное, я ж ей ничего объяснить не могу. Что-то там стараюсь мимикой обозначить, но она не понимает. У неё даже не шок, у неё какое-то более сильное состояние.
Справедливости ради надо сказать, что мама жениха-то оказалась права! Уже к третьему застолью музыкальные пристрастия горстки молодых отщепенцев категорически никого не интересовали. Все взрослые с обеих сторон самозабвенно распевали под баян всё, что только можно от «Во поле берёза стояла» до Пугачёвой.
***
Большинство свадебных казусов, конечно, совершенно безобидные и вспоминаются потом с удовольствием. Такой кошмар, как с теми мужиками в свитерах со мной больше не случался. Разве можно серьёзно напрягаться, например, когда невеста в пятый раз кидает свой свадебный букет. И не потому что его поймала не та, а потому что предыдущие четыре раза, выпрыгнув выше всех из-за спин, букет поймал основной полузащитник брянского «Динамо».
Или когда жених-омоновец на полном серьёзе собирается начистить физиономию своему гостю — за то, что тот всё-таки украл невесту, несмотря на то, что она была прикована к столу наручниками, пока жених ходил покурить.
Или когда на свадьбе 120 человек, все уже сели за стол, и вдруг поняли, что в зале нет старенького папы жениха. И нет его не потому, что он курит на крыльце, а потому, что его забыли в квартире на противоположном конце города. А просто вызвать ему такси нельзя, не по кавказским понятиям. За ним должен поехать брат жениха на своей машине. То есть туда через весь город плюс обратно через весь город плюс дедушке собраться и спуститься. Так и проходит полтора часа. А из-за задержки начала накладываются друг на друга выступления приглашённых артистов. И вот сейчас, казалось бы, между цыганами и фокусником можно было бы встать людям из-за стола, косточки размять, пусть не потанцевать, так хотя бы покурить. Ан нет. Троюродный дядя мужа сестры из Дербента ещё не сказал, а он обидится. И так до часу ночи!
Национальные свадьбы это вообще отдельная тема. Жених-дагестанец, невеста из Белых Берегов. Со стороны невесты человек 20, со стороны жениха 60. Причем эти 60 съехались не только из всех уголков Российской Федерации, но и из-за границы. И те и те — чрезвычайно приятные и культурные люди. Перед началом свадьбы кто-то из родни жениха дал музыкантам диск со словами: «Там разная наша музыка. Её можно за столом потихоньку фоном включать.» Сказано — сделано. Идёт застолье. Музыкант втыкает диск. Тихонько-тихонько, на уровне подсознания, звучит лезгинка. Все кавказцы, не сговариваясь, как зомби, поднимаются и начинают танцевать. Выключили музыку, садятся за стол, банкет продолжается. Включили ещё раз — та же картина. И ещё, и ещё. Я подозреваю, с ними это происходит рефлекторно. Белобережские сидят на своей половине стола, выпивают и закусывают. Иногда говорят стандартные свадебные речи. В лезгинку не вливаются. Гости жениха, люди хоть и громкие, но тактичные, чувствуют некоторый диссонанс. В их длинных, сложносочинённых тостах всё сильнее упор на то, какие у них теперь будут замечательные новые родственники. Тосты поднимают за родню невесты. Не помогает. Стоит барьер. И вдруг белобережская делегация как грянет «Ой мороз, мороз»! Да так складно, так мощно. И все текст знают. И поют так, как, наверное, штрафбатовцы пели над окопом с гранатой в руке в полный рост. Допели. Дагестанская сторона вся встала и овацию устроила. Прямо видно, зауважали. И у тех камень с души упал. С этого момента как другая свадьба началась!
***
Как-то один журналист обратился ко мне с просьбой:
— Стёпа, мы решили написать текст под рабочим названием «Легенды б-ского общепита 90-х» и собираем материал. А ты ж много бухал, тебе же есть, что вспомнить, поделись с нами.
Я, конечно, поделился.
Итак, «Дебрянск». Это на Набережной. Возле конечной троллейбуса «двойка». Или начальной. Большего количества тараканов на кв. сантиметр я не видел никогда в жизни! Году в 96-м ночью в урагане веселья зашел туда на кухню позвонить куда-то. Может, домой? И реально не мог дотронуться до диска телефона. Он был облеплен тараканами. А ещё во время сильных ливней туда лилась вода прямо с Калинина и люди, вбегавшие переждать дождь, реально с порога падали вниз по колени. Сейчас, наверно, сделали?
Но мы ж по кабакам особо никогда не ходили, всё больше по пивнухам. Например, сразу вспомнилось: «Гобелены». Это там, где сейчас «Айвенго» на Калинина, а до того была «Бульонная». Следующая остановка «двойки», кстати. Вообще-то место называлось то ли «Для вас», то ли как-то так, но стены там были тряпкой обиты и в тусовке это называлось «Гобелены». А некоторые называли это место «Для Васи». Там разливщик пива стоял с маленькой клетке железной с окошком. Как в зоопарке. Как же его звали… Миша, что ли? Не помню совсем. Кажется, Миша. Нормальный такой малый, приветливый. А я один раз ужасную вещь совершил. Забирал своё пиво, и, вынимая его из мишиного окошка, зацепил верхней частью бокала решётку. И — ужас! Вот сейчас вспомнил, и снова переживаю. Весь бокал опрокинулся вперёд и выплеснулся на Мишу. Прямо как специально. Как в кино. Все сразу замолчали, а у меня три мысли в голове за одну секунду пронеслись:
1. Пропал бокал пива.
2. Очень стыдно перед Мишей.
3. Кажется, сейчас меня будут бить.
Но вышло всё наоборот. Миша тихо выругался, сказал: «Да ладно, не парься, я сейчас переоденусь, новый тебе налью», а очередь просто посмеялась.
Совсем рядом, на Пионерской, баня №5. Туда тоже ходили пиво пить в буфет. Этот запах разлитого пива неповторимый… Вспомнил и аж весь завибрировал. В баню еще в 80-х ходили до всяких «Гобеленов». С банками 3-литровыми… Запах. Такого запаха, кажется, больше нигде не было.
Но пятая баня плотно вошла в мою жизнь ещё задолго до того, как пиво попробовал. Мы там жили недалеко, на Набережной. Пятая баня с фасада была баней, а маленькая неприметная дверка слева вела в ту часть здания, которая находится со спины, скажем так. За баней, и там помещался медвытрезвитель. Говорят, теперь их вообще ликвидировали, а раньше мойка была очень востребованным заведением: милиция, и вообще порядки. Посетителей мойки, принимая на постой, обыскивали, всё запрещённое изымали. Причём, то запрещённое, которое не очень ценное и самим милиционерам ненужное, выкидывали на свою внутреннюю помойку. Это была даже не помойка, а просто куча всякого хлама, которую иногда, совсем нечасто, ну, может раз в месяц, может, два, жгли. Объект формально был закрытый и охраняемый, но мы в детстве лазили через забор соседнего детского сада и рылись на этой помойке. Очень удобно — в садике яблоки, а в мойке всякие ножики, карты с голыми тётками, один даже хвастался, что кастет там нашёл! Кстати, мой самый ценный трофей с моечной помойки, ножик с шестью лезвиями до сих пор, спустя 30 лет, служит мне верой и правдой!
Напротив Промки, во дворе «Хлебного», и стояло отдельное строение, халабуда фанерная. Здесь всю жизнь был пункт приёма стеклотары, а в 90-е открыли пивняк. Официального названия не помню, но у нас он проходил как «Шинок». В «Шинке» принято было помимо пива еще немножко водки выпить, с крабовыми палочками. Стоя. Столы были, а стулья нет. Один мужик как-то мастер-класс нам проводил там по правильному пожиранию крабовых палок. Надо, оказывается, рулончик развернуть в пластинку, пластинку скомкать, и так уже засовывать в рот. Кстати, правда, вкуснее. Пользуюсь и сейчас.
При Горбачёве в этом дворе стояла очередь на весь двор — к виннику, который был рядом с хлебным, там теперь какой-то рыболовный вроде магазин. А до того комиссионка «Нимфа» была. Или не комиссионка. Но «Нимфа», туды ее в качель. Так вот, винник со двора через служебку торговал сухим винищем иногда. И пивом. Очередь стояла страшная! Я в ней стоял неоднократно, и однажды какие-то гопнички залётные отжали у меня половину покупки. Два флакона «Фетяски» из четырёх. Что обидно, на своей земле! Но какие-то чужие, незнакомые. Так и не знаю, откуда там оказались? Вроде с Карачижа, но не факт.
В районе Набережной вообще народ суровый водился. Как-то шёл ко мне в гости один знакомец из другого района. Мы с ним общались на почве увлечения группой «Аквариум». Он после школы куда-то в Питер поступил, и на каникулах привозил всякие раритетные записи. И вот, как-то летом звонит мне Серёжа, говорит, я в Брянске, сейчас принесу тебе запись концерта, которую спёрла одна чувиха из дома Гребенщикова, пока сидела нянькой с его дочкой. Отлично! Сижу, жду. Нету и нету Серёжи. Уже давно должен быть, а нету. Я уже волноваться начал, тут звонок в дверь. Открываю — мама родная! Стоит Серёжа в плавках, подмышкой одежда, вся мокрая, вода с неё течёт, Хайры, правда, сухие, только то, что ниже шеи промокло. А в руке кассету держит. Оказывается, шёл вдоль Десны, любовался природой, а навстречу какие-то демоны малолетние. Стали приставать, типа, ты чего такой волосатый, сейчас мы тебя бить будем. Он от них к реке. Они за ним. И загнали его в речку, а потом камушками и бутылками для смеху кидались, минут 30. Я говорю: что ж ты не сказал, что ко мне идёшь? А он: «Я сказал, когда спросили, они меня сразу и отпустили. И тоже спросили, почему сразу не сказал.»
Между винником и хлебным была «Щель». Она многих пережила. При совке в «Щели» была, кажется, кулинария. Представьте себе что-то похожее на купе в поезде, в торце прилавок с пивом, половинками яичка, бутерами из селедки и хлеба. А по стенкам полки для того, чтоб бокал поставить и закуску. Ширина «купе» была метра 2, не больше, думается. Так она и держалась без изменений до 2000-х годов! Очень долго.
В Соловьях, внизу, за Зеленым хозяйством, был «Поплавок». Тоже пивная знаменитая. Туда из педухи много бегали. Раз была картина: заходит цыганёнок, лет десять, не больше, с ведерком пластмассовым семилитровым. Отстоял очередь, ставит ведро. Очередь ржет, шутки-прибаутки типа, коней поить будешь, все такое. А он дождался пока полное нальют, расплатился, перенес к столу, поставил, да как присосется! Прям много отпил. Поднял голову и говорит «я так-то не пью, это чтоб не расплескать».
«Нептун»… «Нептун» святыня. Про него нельзя так, всуе, пару абзацев. Про «Нептун» надо писать книгу. Роман. Нет, не буду сейчас про «Нептун». Когда-нибудь отдельно напишу. Тем более, его история уже закончилась. Уже можно. Заходил туда год назад — отвратительно. Сделали из сакрального места обычное кафе. Пишу и плачу…
«Нептун» же, открыли когда, это было очень круто. Кабинки отдельные — как в плацкартном вагоне. И на сеансы билеты продавали. Кажется, 18—00 и 21—00. Я по билетам всего один раз в жизни ходил. Молод ещё был. Тогда кабинок уже не было, но меню осталось. 3р. 60 коп., кажется, билет стоил. Два бокала и еда, но можно дозаказ сделать, если успеешь. Хит Нептуна были гренки с чесноком. Маленькие такие, в пиалках. Персонал там работал… Ну, некоторые прямо с открытия. Все их знали, они всех знали. Это был по духу почти английский паб. Очень много постоянных клиентов. В девяностые, конечно, начался угар. Какие кабинки! Пропали куда-то бокалы, вместо них разливали в поллитровые банки. Пепельницы на столах — банки от шпрот. Это было чудесно)). В туалете два писсуара, разные: в одном тринадцать дырочек, в другом пятнадцать. Уткнешься в стену лбом и считаешь.
Про «Дубраву» надо пару слов сказать, хоть это, конечно, был ресторан, а не что попало, и поэтому бывал я в «Дубраве» крайне редко.
Например, году в 93-м. Нет, в 92-м, наверное. Я работал сторожем в Ботаническом саду у парка Толстого и отдыха, и как-то мы отмечали день рождения моей собаки. Человек двадцать народу было. Дикий сброд. Совершенно всех мастей публика. И вдруг у нас всё кончилось. На дворе ночь. Пить нечего, денег нету. Вообще как-то тупо получается. Но очень хорошо было. И тогда один чувак… мы его вообще не знали, он был мужем одной чувихи, которая пришла за компанию с чуваком, который до этого был ее мужем. И вот этот новый муж весь вечер всем рассказывал, какие ему жена часы подарила классные. Ах, часы, часы. и т.д, и т.п… и вот он снимает эти часы и говорит: «Пойдем их продадим, где у вас это можно сделать?» Он был из Орла. Орёл из Орла. Мы идем в «Десну», но что-то там не срастается, идем в «Дубы», ходим по залу, предлагаем, никто не хочет. В конце концов на кухне кто-то, то ли повар, то ли официант соглашается. А часы, видно, действительно дорогие, денег дали больше чем на пузырь. Мы покупаем литр какого-то яда с привкусом микстуры (его тогда активно разливал орловский винзавод), выходим на крыльцо… и орёл роняет пузырь на ступеньку. Немая сцена, самая долгая из виденных мною в жизни. Чувак молча идет обратно в кабак, выносит оттуда такую же и мы идем в сад ее пить. Что характерно, больше я его не видел. Но вспоминаю добрым словом до сих пор…
И «Бистро»! «Бистро» напротив «Октября»!!! Какие там были драки! Как там летали бокалы! Здесь постоянно торчали внезапно расплодившиеся брянские «журналисты». Тогда постоянно были выборы, и все эти «журналисты» вечно продавались от одних к другим по три раза за неделю. Бросались поносом друг на друга в своих газетках и телеканалах, а в «Бистро» сидели за соседними столами. Ну, и схлёстывались иногда по сильной пьяни. А еще надо было пол-литровые пластиковые стаканы покупать за отдельные деньги. Поэтому ходить к стойке было принято с одним, а уходя, его надо было скомкать и сломать. Потому что эти сволочи их мыли и опять продавали!
А ещё ж из бочек в розлив продавали. В Соловьях у гастронома, у Зари, больше так сразу в голову не идет. Это ужас был, что там творилось! Пластиковых бутылок еще не изобрели. Брали кто в банки, кто в канистры. А часто в пакеты. Простые полиэтиленовые. Вот возьмешь пакет, угол прокусишь и пьешь. Часто такая картина была. Стоят несколько чуваков и из пакетов пиво сосут, общаются.
Эх!..
Мостовщиков +
Будни головного мозга
В восемь часов тридцать минут утра жена разбудила меня, чтобы выяснить, во сколько мне нужно вставать на работу. Я спросил ее, какой сегодня день недели, и, узнав, что четверг, соврал, что в десять. Через минуту мне начали сниться сразу три сна. Про охоту на какого-то цилиндрического кальмара, про то, что в ванной рухнул пол, и про то, что я служу в разъездном театре чем-то наподобие балерины, причем давно небритой, а меня вроде как срочно отправляют на районные соревнования по выпиливанию лобзиком из фанерки деревянных цыплят. От этих немыслимых противоречий я вынужден был проснуться.
Мозг, представлявший собой смесь стекловаты с глиной, сразу охотно включился в жизнь моей большой, динамично развивающейся страны. Выяснилось, что уже без пяти минут десять, я — особь мужского пола, безбожно опаздывающая на работу, у меня трое детей, восемь пар черных носков, 17 тысяч рублей до зарплаты и заметная должность в периодическом средстве массовой информации. В ванной, чтобы окончательно избавиться от ощущений небритой балерины, я намылил голову и громко запел довольно противным голосом: «Я-а-а маря-як красивый сам сабою, мне-е-е от роду два-а-дцать лет». Особенного облегчения это не принесло, поскольку я вдруг вспомнил, что инопланетянина Алешеньку, который целый месяц жил на печке у бабушки в Челябинской области, а потом помер и засох, продали за границу за 200 тысяч долларов. Саму же бабушку убили при загадочных обстоятельствах. Было очевидно, что сегодня же мне нужно отправить Тихомирова в командировку в Челябинск разбираться с Алешенькой, а я вот проспал и опаздываю.
В половине двенадцатого я уже втискивал свою машину под какое-то дерево в центре города. По дороге мне позвонил Казаков, который лет пять назад в одном журнале, который я редактировал, отвечал за рубрику «Алкогольные хроники» и с тех пор так никогда больше и не приходил в сознание. Казаков довольно решительно, но заикаясь, сказал, что ночью написал для меня несколько огненных публикаций и не мог бы я поэтому поскорее заплатить ему гонорар. Я сказал, что охотно сделаю это прямо сейчас по телефону, так что пусть не стесняет себя суммами. Кажется, он обиделся.
Примерно посередине пути от машины до работы я подумал: закрыл ли я автомобиль? Так происходит каждый день последние два месяца. Каждый раз я возвращаюсь и выясняю, что закрыл. Каменченко говорит, что это — начало идиотизма. Я отвечаю ему тем, что я с идиотами и работаю. Он возражает тем, что, по наблюдениям психиатров, профессиональные навыки отмирают в мозгу последними, после чего всегда рассказывает мне две истории про кассиршу и водителя автобуса. Кассирша всю жизнь исправно била чеки, и только недавно обнаружилось, что она выбивает не то, что нужно, а что-то свое. Водитель же автобуса всю жизнь ездил по одному маршруту, а когда его пересадили на другой, выяснилось, что он сумасшедший. Так что на этот раз я возвращаться к машине не стал, решил крепиться.
Как только я сел за стол, пришел Дранников. Он хотел посоветоваться, что ему спросить у раввина. Я сказал: «Спроси, не еврей ли он». После этого позвонили Маруся и Падерин — они пошли перекладывать деньги из одного банка в другой, чтобы спастись от дефолта. Обещали на обратном пути купить мне сосиску с картошкой. Зашла Пищикова. Она пожаловалась, что в Смоленской области не растет пшеница и поэтому можно ли Меглицкому вместо пшеницы нарисовать к ее очерку последнего лыжника. Я сказал: пусть рисует ягель. Собрался было найти Тихомирова, но тут зашел Торгашев и сказал, что есть проблемы: экспедиция действительно уехала в Якутск искать мамонтов, но не для клонирования, а просто так. К тому же когда Кудрявцева звонила в Якутск, ей сказали, что тамошний профессор, ответственный за мамонтов, умер буквально минут 15 назад, так что поговорить с ней не может.
Пытаясь спастись от Торгашева, я вышел из кабинета и увидел Ахундова в непринужденной позе. Три недели подряд Ахундов собирается поехать в Псков, чтобы посмотреть на десантников, которые в порядке эксперимента будут теперь разбивать головой кирпичи на контрактной основе. Я спросил Ахундова, когда он наконец уедет, на что тот ответил, что он — инфернальный азербайджанец и ко всему относится философски. В дальнем конце коридора показались художники — отец и сын. Когда они подошли поближе, выяснилось, что они другие — он и она. Они принесли схему, руководствуясь которой можно вырезать из гофрокартона порядка 20—25 самодельных «Оскаров».
Я рванулся обратно и скрылся в кабинете, сказав Ужек, чтобы больше никого ко мне не пускала и говорила всем, что я занят, думаю. «О чем?» — спросила она. «Скажи, что о Путине», — сказал я. О Путине мне, впрочем, думать не хотелось. Все, что я придумал, — увековечить его в виде морского гребешка. Во-первых, потому, что Путин похож на гребешка: две пепельницы, а посередине крепкая мышца. Во-вторых, принцип действия тот же: питается планктоном, зато за час может профильтровать до 25 литров воды. В-третьих, у него те же враги: морские звезды, донные осьминоги, сверлящие губки, мшанки и балянусы.
Хотел еще придумать про Путина подвижную народную игру на внимательность: типа того, что все становятся в круг и выбирают из своей среды Путина. Потом показывают предметы и явления — например, огурец, Лукашенко, подводную лодку, чеченца, а Путин должен угадать. Не угадает — проиграл. Тогда все выбирают нового Путина. Но эту историю я не додумал до конца, потому что пришел Иллеш. Иллеш рассказал, как он в Астрахани поймал леща, а решил, что сома, потому что зацепил леща за спину и он сопротивлялся, как доска. Когда Иллеш ушел, пришел Надеждин и показал мне этикетку от водки «200 лет МВД России». Я слабо улыбнулся. Но тут как раз вернулся Дранников от раввина. Раввин сказал ему, что он еврей. Заметка об этом будет готова только в пятницу утром.
Потом еще заходила Толстецкая, сказала, что больше не может заниматься самолечением, звонил Шаронин насчет Поповой, которая объявила в Воронеже акцию по сбору костылей, Можаев привел девушку, которая была в Новороссийске и ее смыло в море, но она адекватная и может все рассказать, еще четыре раза заходил Надеждин с сообщениями о том, что: обнаружен 25-й кадр и на нем кока-кола, мужчина бросил кирпич в машину депутата и умер от разрыва сердца, заметки о детях, читающих вслепую, не будет, а Люкайтис уехал в Петербург и дозвониться до него невозможно.
В половине первого ночи стало заметно тише. Я подумал, что, может быть, мне тихонько что-нибудь спеть, но тут ко мне в кабинет прокрался Орлов. Он хотел бы обсудить тайну происхождения человека. Дело в том, что около 30 тысяч лет назад произошло нечто странное. Некое событие, не имеющее до сих пор научного объяснения. В один момент на всей земле древние люди, то есть, в сущности, обезьяны, превратились вдруг в человека: у них внезапно появились разум, традиции, искусства, орудия труда и культура захоронения предков. Как, почему и зачем это произошло, никто не знает. Возможно, от Бога, а возможно, в результате отказа от инцеста, то есть от вступления в половую связь с родственниками.
Что я по этому поводу думаю? — прямо спросил Орлов. Я ответил ему осторожно: «Не знаю». А я и правда не знаю. Надо будет подумать об этом на досуге.
Буркин умер
Поздно вечером получаю смс. Пишет Балеевская. Не знаю точно, где она сейчас — в Якутске или на Бали. Но пишет: «Умер Буркин. Ужас». Ужас — не то слово. Художник Божьей милостью. Виделись несколько месяцев назад. Подарил мне свою книжку. Сделал запоминающийся автограф: «Сереге от Вовы». На обложке голый спортсмен завязывает красные ботинки. Внутри обычная дикая ахинея, которую рисует Буркин. Птицы с ящиком в заднице. Летающие пивные кружки. Пожарные и их огромные жены. Фиолетовые рыбы в облаках. То есть все, что мы так хотели бы любить, но не понимаем. И вдруг умер. Что за ерунда, не понимаю. Перепугался. Стал вспоминать что-нибудь доброе. Вспомнил, как Пищикова написала мне в журнал сценарий балета на тему о нефтяной трубе, и нужно было срочно сделать к этому иллюстрацию. Конечно, позвонили Буркину. Он приехал рано утром с бутылкой водки, велел поставить ему стол на лестничной площадке, принести ватман и закуски. Работал весь день, приходилось бегать в магазин. Наконец к вечеру шедевр был готов — на весь ватман огромный черный мужской половой орган. Утром приехал тихий, извинялся. Пририсовал вентиль, получилась нефтяная труба. И вдруг умер. Ну, здравствуйте. Звоню Балеевской: ты хоть понимаешь, что это невозможно? Не может умереть то, о чем мы толком не знаем. Ничего не знаю, — говорит. Моим знакомым сказал Флорентьев. Флорентьев! Господи! Здесь мне просто не хватит места объяснять, что это такое. Звоню Флорентьеву. Звук в трубке такой, как будто Флорентьев сражается со злом на краю Рейхенбахского водопада. — Ты, — говорю, — что ли в Шарм-эль-Шейхе? — Почему? Я в туалете. — Вот это мощь. Говорят, ты убил Буркина. — Мне никогда не нравилось с тобой разговаривать. — А с кем ты разговаривал о Буркине? — Я не хотел бы раскрывать свои источники, закон мне разрешает.
— Давно?
— Мне кажется, неделю назад. Ладно. Ну что теперь делать? Залез в список контактов в телефоне. Я никогда не стираю в нем тех, кто умер. Мне кажется, так сохраняется мистическая связь. Это важно. Важнее сантиментов и суеверий. Думаю — ну позвоню на тот свет, а что такого. Гудки. Взяли трубку. Голос довольно бодрый. — Буркин, — говорю. — Ты хоть знаешь, что ты умер? — Давно? — Ну, примерно неделю назад. Скоро девять дней. — Ничего не знаю. Мне не сообщали. — Ну, знаешь… Будем считать, это тревожный звонок. Я надеюсь, ты уже в аду? — Да я только приехал, пока не разобрался. — Ладно, увидимся, держись. Через пять минут звонит Флорентьев: — Кстати, навел справки у источников. Вкралась опечатка. Я, наверное, не расслышал. Оригинальный текст, оказывается, был такой: Буркин зашился, для нас он теперь умер.
Путём взаимной переписки
…И несколько слов насчёт здоровья
Цукер, ты неправ. Я сейчас даже говорю не как обычно, про неправ вообще, а совершенно конкретно про сейчас. Ты неправ. Шить на спор фартуки для мам на восьмое марта это тупо. Во-первых, я тебя сделаю, потому что ты наверняка иголку никогда в жизни в руках не держал, а я всю молодость джинсы латал. Во-вторых, у меня гены. Моя бабушка за свою долгую жизнь сшила сотни три фартуков для всех своих подруг и приятельниц. А в-третьих, это действительно тупо. Я не буду. Если у тебя творческий зуд и некуда приложить свои кривые руки, приходи к нам лепить снежную бабу, пока снег есть. Мы вот постоянно лепим, причём одну и ту же. И я леплю, и дочь моя, и тёща. Все лепят, только жена не лепит, ну и Бог ей судья. Короче, приходи, мы ждём. Потому что, во-первых, лепить бабу это клёво. Во-вторых, на свежем воздухе. В-третьих, заодно снег приберём. А в-четвёртых, это то немногое, где у тебя есть маленький шанс. Потому что я не буду стараться и вообще.
Петренко (м)
Петренка! Забудь про снежную бабу. Во-первых, я вам ещё в прошлом году предлагал лепить баб на площади Ленина, на что вы дружно сказали «фи». А теперь, как дочка подросла, и он туда же: лепить.
Кроме того, у меня же спина, забыл? Я третьего дня с дочкой во дворе лепил, так бедной восьмилетней девочке пришлось самой громоздить шарик на шарик, потому что у папы грыжа в спине с четырнадцати лет, когда папа-идиот, грузил мешки с полистиролом на вокзале города Борисова. Заработал, между прочим, сто сорок рублей. Хоть убей, не помню, зачем мне тогда были сто сорок рублей? Я их всё равно маме отдал…
А сейчас один поход к костоправу обходится в пятихатку, блин. Одно спасение: перед сном на турнике повисеть минут пять. Спать я ложусь не раньше трёх, а висеть хожу на школьный стадион. Представляешь, кто-нибудь живёт в доме напротив, и каждую ночь наблюдает, как хрюндель в трико с пузырями и огромных рукавицах в три часа ночи прётся на стадион и висит там на турнике, как испорченная груша? Больше всего наблюдателя должны поразить рукавицы: по белому фону красные яблоки сорта пепин-шафранный. Это кухонные прихватки, а обычных рукавиц у меня нету, потому что зимы нету, хрена ли покупать.
Наверное, этот малый из-за меня ночей не спит. Между прочим, действительно, в доме напротив на четвёртом этаже свет горит даже в четыре ночи. Точно говорю, меня стерегут.
Цукер
Цукер, это не ты на турнике как испорченная груша висишь, это у тебя в голове находится испорченная груша. С чего ты взял, что в окне мужик? Может там баба. Или две. Какие-нибудь студентки-извращенки. Приходят в три часа ночи со своих гей-вечеринок и перед сном кокаин нюхают, а ты им со своими оттянутыми труселями вообще не интересен как подвид.
Теперь по делу. По ночам висеть на стадион ты ходишь вовсе не потому что в детстве разгружал какой-то полиэтилен и повредил мизинец, а потому что у тебя происходит какая-то нездоровая сублимация. Сходи-ка лучше к психотерапевту. Те же бабки, но не больно. Я, когда был молод и горяч, тоже разгружал и зерно, и арбузы, и даже уголь. Но у меня ж ничего не болит. Хотя, я и денег маме не отдавал. Да, я уверен — у тебя сублимация!
Кстати, зачем ты платишь такие деньги? На прошлой неделе ко мне тоже постучалась старуха с косой. Какая-то общая слабость образовалась. Нервный стал, пальцы неметь начали, на глазу что-то похожее на ячмень попыталось вскочить. Уже думал завещание писать. Серьёзно. Но я пошёл к доктору в детскую поликлинику. Это очень хороший доктор и не такой дорогой как твой. Он хоть и в детской поликлинике сидит, но лечит взрослых. Он меня напротив посадил, через какой-то прибор в глаза мне посмотрел и говорит: «Всё понятно, больной, у тебя в голове скопились шлаки». А ты говоришь, грыжа. А шлаки в голове, поди, не хрен собачий. И теперь я, как стыдно сказать кто, по утрам пью талую воду, жру по две столовых ложки в день землю (на упаковке написано что-то другое, но на вкус земля землёй. Торф немножко напоминает). И ещё отруби тоже жру. Вот будет смеху, если поможет!
Кстати, теперь слепить бабу тебе просто необходимо. Не на площади Ленина, конечно. Это уже будет эксгибиционизмом попахивать. А придёшь к нам тихонько, слепишь где-нибудь в уголочке под забором. Мы все вместе её обсудим, проанализируем, поможем тебе разобраться в себе. И заодно сэкономишь деньги на психоаналитика.
Петренко (м)
Ха, шлаки в голове! Ты зачем к врачу-то ходил? Просто в зеркало посмотреть надо было внимательно, и сразу бы определил: в голове шлаки, без вариантов. Вот просто ради интереса, выйди на проспект Ленина и спроси у любого прохожего: «как вы думаете, нету ли у меня в голове шлаков?». И первый же встречный тебе ответит: «э-э, батенька, да у вас там не только шлаки, у вас там вата минеральная! Ешьте торф». Главное, пусть посмотрит внимательно. Ты его за руку возьми и не отпускай, пока внимательно не посмотрит.
Вот у меня шлаки, это да — пять дней подряд понос был. Я сначала думал: диарея, а потом присмотрелся — понос! Главное, в целом чувствовал себя великолепно, а в туалет хоть не заходи. Или не выходи. Угля активированного столько съел, сколько ты в молодости не перетаскал, не помогает. Пошёл в аптеку, говорю: девушка, пять дней животом маюсь, выручайте. Фармацевт: каким именно образом вы маетесь животом? Представляешь? Говорю: кАкаю не при памяти, вот так и маюсь!
Тут она мне даёт упаковку фирменную и убедительно так: это лекарство избавит вас от проблем, пропьёте курс из двадцати пилюль и станете какать умеренно.
А на коробке написано: 170 рублей.
Я говорю: девушка! Если я выпью двадцать пилюль за сто семьдесят рублей, у меня будет запор на почве жадности! Дайте что-нибудь советское, рублей на пять, но не антибиотики.
Губы поджала, дала упаковку за двенадцать рублей. Таблетку съел — ништяк! Всё, думаю, прошло. И нажрался на ночь черносливу. А чернослив-то слабительный… Ну, с утра ещё две таблетки съел — и огурцом.
За сто семьдесят рублей пусть олигархи от поноса лечатся, скажи?
Цукер
Это да. Мой торф, кстати, тоже копейки стоит, так что должен помочь. Слушай про понос. Как-то давно уже, лет пять назад решили мы прокатиться на байдарке по реке Навле с заходом в Десну и отъездом из Трубчевска. На Навле я был первый раз и когда захотел водички, достал кружку, зачерпнул немного и попил. Толик и говорит: «А ничего тебе от коровьей мочи не будет?» А я как-то и без внимания, что весь этот лужок возле деревни Салтановки буквально утыкан коровами и продуктами их жизнедеятельности, которые дружными ручейками стекают в полноводную Навлю. И как скрутило мне вечером брюхо! Начал я с угля, потом перешел на антибиотики, потом какие-то проплывающие мимо киевляне еще чего-то насыпали. В общей сложности семь видов лекарств насчитал. Ноль реакции. А знаешь ли ты, что такое понос в байдарке?
Так что ты с этим делом не шути.
Петренко (м)
Какие шутки?! Здоровье не железное. У меня, вон, три дня правая рука не подымается выше плеча, будто шурупчик отвинтился. Мой школьный приятель так от армии косил: с восьмого класса начал ходить к доктору и жаловаться, что у него рука не подымается, в принципе. И мама подтверждала, мол, да, даже ковёр выбить не может. И на физ-ре через козла прыгал, а на турнике висеть отказывался. И что ты думаешь? К восемнадцати годам у него уже такая медицинская карта была, что даже твоя бабушка позавидовала бы — «Война и мир», том третий. Дали белый билет, хотя даже диагноза поставить не смогли — нету такой болезни.
А оказывается — есть! Не подымается рука, и в плечо колет. Спроси своего доктора, залегают ли шлаки в плече?
Цукер
Шлаки, брат, залегают везде. Доктор сказал, что они залегают в том месте, какое у человека больше всего работает. Видишь, у меня в голове. Кстати, у меня теперь в голове, похоже, кроме шлаков ещё и опилки будут залегать, потому что мне сегодня по лбу здоровенной плитой ДСП долбануло. Ранение, вроде, не проникающее, но тоже кайфа мало. Так что, приходи-ка ты лучше бабу лепить. Надо, надо оздоравливаться.
Петренко (м)
Опилки в голове, это ещё нормально.
А вот был случай: другой мой приятель работал на автозаводе алкоголиком, во вторую смену. И у них там, слышь, через весь цех шла под потолком рельса, по которой постоянно курсировали чугунные двухтонные балки, аккурат на уровне головы, но очень медленно, примерно со скоростью один метр в минуту. Все привыкли от них уворачиваться, а приятель однажды заработался, и его этой балкой в затылок легонько тюкнуло.
Лежит он, значит, на металлическом помосте, сверху балка проплывает, и вдруг в одну секунду понял суть физического понятия «мощность», которое в школе проходил, но раньше понять не мог.
По какому-то там закону Ньютона сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение: F=ma.
F=2000 кг х 0,017 м/с (если перевести скорость в метры в секунду). F равна 33 ньютонам. Один ньютон, Петреночка, чтоб ты знал, это сила, которая телу массой 1 кг сообщает ускорение 1 м/с2. То есть на него воздействовала сила, как если бы ему в бошку запустили килограммовую гирю со скоростью 33 метра в секунду. Ну, примерно 120 км в час.
И он всё это понял за несколько секунд. Хотя… а где здесь понятие «мощность»? Что-то не то…
…Блин, правда, что ли, бабу слепить?..
Цукер
Лейся, пестня
Я, брат Петренко, наверное, старею. Плачу, представляешь, при просмотре мультипликационных фильмов, ну, там, когда хэппи-энд, или все на баррикады. Людям незнакомым говорю: батенька, какие ваши годы… А то вот ещё напасть: патриотизм. Ну откудова в бывшем пионере взяться патриотизму? Нам ведь его военно-патриотическими играми типа «Зарница» вывели, как вшей керосином, аккурат к восьмому классу. И вдруг — нате, попёрло. Чувствую себя пионервожатым на привале, а остановиться сил нету: люблю, понимаешь, Родину, и прощаю ей всё, даже комаров. Надобно что-то с этим делать, не находишь? А то ведь так и в партию вступить недолго. Нужно направить чувство в конструктивное русло. Недавно, не поверишь, закончил венок сонетов про Володина. Я писал их три года, и дописал. Твой однофамилец Петрарка рыдает. Читай, наслаждайся.
Сонет первый, характеризующий
Дверь отворилась.
Вошёл Володин,
Снаружи скован,
Внутри свободен.
Сонет второй, приветственный
Вот Володин Алексей,
Любимец женщин и детей.
Сонет третий, эстетический
Всем известно, что Володин
Не приветствует уродин.
Сонет четвёртый, репродуктивный
(читается девичьим голосом)
Алло, Володин?
Ты не бесплоден!..
Сонет пятый, дедуктивный
— Вы не видели Володина?
— Да не видели мы вроде, на…
Сонет шестой, раздражённый
Если б не было Володина б,
Процветала б наша б Родина б!
Сонет седьмой, биографический
Белорусский город Жодино —
Он не родина Володину!
Сонет восьмой, похвальный
Наш Володин —
Благороден!
Сонет девятый, игривый
Накатила на Володина
Редкой силы сумасбродина.
Сонет десятый, яростный
Вот пойду, убью Володина,
И останусь на свободе, н-на!
Сонет одиннадцатый, профессиональный
Объектив у А. Володина
Здоровей, чем молот Одина.
Сонет двенадцатый, многозначительный
И вообще, у А. Володина
Здоровей, чем молот Одина.
Петренычка, я понимаю, тебе трудно это признать, но, если ты честный человек, то сию же секунду подтвердишь, что я гений.
…Кстати, а ты в курсе, что нашему с тобой городу требуются стихи и песни? Да, да, да, на городском сайте баннер висит: конкурс патриотической песни, или что-то в таком духе. Слабо нам-то? Старикам-то? Не знаю как ты, а я теперь стихами практически дышу. В смысле, выдыхаю. Серьёзно, давай блюз писанём. Оставим после себя культурный слой, и всё такое. Типа: «Это мой город, бэби, сможешь любить его нежнее меня?» Е-е-е-еэээа…
Цукер
Ну, Цукер, ты к себе несправедлив. Из Володинианы я считаю самым удачным то, где «снаружи скован, внутри свободен». Конечно, мои хиты «Маруся раз, два, три, жопу подотри» и «на окне яичники, гуляй да пой, станичники» послабее будут. Ладно, оставим былое библиографам. Приступим-с.
Во-первых, совсем не уверен, что это будет блюз. Потому как блюз– «это когда хорошему человеку плохо», а у нас ситуация «когда плохому человеку хорошо». Так что предлагаю окунуться в мутный омут шансона.
Я недавно гулял по оврагу,
Я вобще уважаю гулять.
И споткнувшись ногой о корягу
Я не крикнул «итить вашу мать!»
Лишь взглянул я в туманные дали,
Где Судок полноводный течет,
И я вспомнил про девушку Галю.
И про Люсю. Но Люська не в счет.
Припев:
Ходаринка, Чичеринка, Ковшовка, Соловьи!
Здесь чужие не заходят, здесь одни свои.
О-па!
Холодильник, Макаронка, Карачиж, Чермет!
Думали, что он пацан, а оказался мент!
Это было в далеком апреле,
Лет пятнадцать примерно назад,
Когда годы еще не успели
Сединой посерЕбрить мой зад.
Я стоял у «Зари» гастронома,
Исполняя обратный отсчет.
А за кассой работала Тома.
Ну и Люся, но Люська не в счет.
Припев:
Ходаринка, Чичеринка, Ковшовка, Соловьи!
Здесь чужие не заходят, здесь одни свои.
О-па!
Холодильник, Макаронка, Карачиж, Чермет!
Думали, что он пацан, а оказался мент!
Не хочу вспоминать я, что было.
Было всякое, было — прошло.
Только помню, как острое шило
Промеж ребер упругих вошло.
А потом на суде прокуроры
Стали прИговор громко читать.
Кто же ждать меня будет из зоны?
Только Люся. Лишь Люська и мать.
Припев:
Ходаринка, Чичеринка, Ковшовка, Соловьи!
Здесь чужие не заходят, здесь одни свои.
О-па!
Холодильник, Макаронка, Карачиж, Чермет!
Думали, что он пацан, а оказался мент!
Примерно так. Кто скажет что это не о любви к родине?
С приветом, Д. Петренко
…Даже и не нахожусь, что сказать… Я, Петренычка, прямо-таки пережил приступ острой зависти к таланту коллеги-поэта. Единственный минус твоей баллады: как бы ни хорош был шансон, но на конкурсе патриотической песни ему не светит даже почётной грамоты. Виною здесь заведомая косность судей, но и их можно понять: хороша твоя песнь будет в исполнении городского академического хора под руководством Марио Бустилло.
То ли дело блюз:
Это мой город, детка,
и ты не сможешь любить его хоть на йоту нежнее меня,
Я скачу по Лубянке, детка,
я скачу по ней в вечность, детка, мне не нужно коня.
О городе сердца пою свой блюз,
мы не в Париже, детка, и это плюс.
Я покажу тебе место, детка,
откуда прекрасен даже брутальный район Карачиж.
Вот это место, детка,
ты правильно делаешь, детка, что стоишь и молчишь.
О городе сердца пою свой блюз,
мы не в Нью-Йорке, детка, и это плюс.
Мы просочились, детка,
по трём оврагам, как портвейн сквозь карман пиджака,
Мы в его жилах, детка,
но ведь и в наших жилах, детка, течёт эта Снежка-река.
О городе сердца пою свой блюз,
мы не в Лондоне, детка, и это плюс.
Ты меня знаешь, детка,
такие, как я, одной спичкой отродясь не разжигали костров.
Но я уйду в партизаны, детка,
и враг не отыщет конницу, детка, в дебрях моих Соловьёв.
О городе сердца пою свой блюз,
мы не из Питера, детка, и это плюс.
Предвижу твои возражения, Петреночка: во-первых, рваный ритм, во-вторых, много пафоса. Не спорю. Но рваный ритм хорошему блюзу не помеха, а насчёт пафоса — так ведь патриотизм принуждает к некоторой монументальности. А?
Цукер
Да ну нах. К ритму и пафосу претензий не имею. Смущает только фраза «Я скачу по Лубянке». Очень это как-то по-московски, что ли? И, главное — блюз. Ну не б-ская музыка блюз, хоть ты тресни! Ладно, не нравится тебе и этому сомнительному жюри шансон — пожалуйста. Не больно и хотелось. Можно и помолодежней, рэпом, например, попробовать.
Тротуарная плитка под подошвой скрипит.
Тротуарная плитка — это не керамзит.
Тротуарная плитка под сердцем саднит.
Тротуарная плитка,} 3 раза
О тебе эта рэп-начитка.
Брат, скажи, ты был на площади Партизан?
Согласись, брат, там раньше был балаган,
Теперь там лежит тротуарная плитка
О тебе эта рэп-начитка.
А ты помнишь, брат, факен-Ленина проспект?
О, ты помнишь, да. Принимай респект.
Где был раньше кал — тротуарная плитка.
О тебе эта рэп-начитка.
Памятник водителям, памятник родителям,
памятник порядка-на-фиг-возмутителям.
Памятник чернобыльцам, памятник афганцам,
Памятник народным и бальным танцам.
Парк типа Толстого, парк Соловьи,
Всюду тротуарной плитки слои.
А ты в курсе кто владеет плиточным заводом?
Все, достаточно. Это кода.
Тротуарная плитка под подошвой скрипит.
Тротуарная плитка — это не керамзит.
Тротуарная плитка под сердцем саднит.
Тротуарная плитка,} 3 раза
О тебе эта рэп-начитка.
Вот как надо. Согласись, бодренько и злободневно.
С приветом, Д. Петренко
Здра-а-асьте! Это у тебя, брат, не рэп, а типичные сатирические куплеты. К ним ещё приобрести такую маленькую гармошку, и ездить по районным домам культуры, поднимать народ на классовую борьбу. Когда помрёшь, в некрологе непременно напишут, что, мол, положил жизнь на обличение буржуазных нравов. Я первый и напишу.
Ты это брось. Сатира — это не наш метод. От сатиры знаешь, что с человеком случается? Мне недавно один позвонил, говорит: нашёл вашу газетку за две тыщщи седьмой год, читаю. Я уже на этих словах насторожился: та-а-ак, и? Вы, говорит, надо понимать, сатирическое издание? Я, конечно, обалдел:
— Кто?! — говорю, — мы, что ли? Упаси Боже!
На том конце трубки растерялись, потому что у них там явно своё видение мира.
— Ну, как же, я вот читаю — чистая сатира…
— Не-не-не, это вы что-то неправильно поняли, у нас в газете сатира — вообще табу.
— П-почему табу сатира?
— Ну, вот табу, и всё, так сложилось.
— Так вот же!
— Не-не-не!
— Ладно, пусть не сатира. Но вы же ж ёрничаете?
— Да ни разу не ёрничали, сколько выходим! Что Вы обзываетесь?
— Ладно, пусть. Это у вас такой еврейский юмор, да?
— Еврейский? Н-ну-у, есть немножко…
— Вот! Вам нужны сатирические заметки?
— Добрый человек… как бы это, чтобы… короче, не печатаем мы сатирических заметок. Для них другие газеты есть.
— Например?
— Например, «X»… не знаю, там… «Y»
— Ай, да бросьте, разве это газеты? Я считаю, сейчас вообще нормальных газет не осталось. А? Что? Как думаете?
— Со-вер-шен-но с вами согласен!
— Д-да? Так как насчёт заметок? Жизненных таких? Там, «Услуга за услугу», или как пиво пьют, или ещё есть, как женщины, когда похудеют, у них такие остаются складки, знаете?
— Давайте так сделаем: Вы нам их на ящик сбросьте, а мы посмотрим, ладно?
— Ла-а-адно… Просто чисто интересно: а вы с какой целью газетку выпускаете?
— Да фиг его знает… Развлекаемся. Надо ж чего-то выпускать…
— Д-да? Я почему спросил: сижу, читаю, понять не могу — для кого пишете? Например, если таксисту дать ваше издание, он скажет: во бред! А? Что?
— Правильно скажет. Сам, бывает, откроешь — ну бред же…
— Д-да? Я просто одну статью прочёл Вашу лично, и такое сложилось впечатление, что или вообще писать не умеете, или делать вообще нечего. А? Что?
— А и то другое, и то и другое!
— Д-д-да? Или ещё, знаете, никакого отношения к журналистике не имеете, а?
— Во-об-ще никакого! Я фотограф-бытовик.
— Уф-ф-ф… так я пришлю заметки? А? Услуга за услугу, и про как пиво пьют? Как женщины, когда похудела, складки остаются…
— Шлите, конечно, чего уж там…
Самое обидное, Петренычка, — не прислал, ни про пиво, ни про складки. На тебя теперь одна и надежда.
А если серьёзно, куплеты твои опять не прокатят, во-первых, по причине политической ангажированности, во-вторых, — однодневка. Нету в тексте посыла в вечность, чтоб благодарные потомки и всё такое. У шансона шансов гораздо больше.
Ты всё стебаешься, ёрничаешь, а конкурс через неделю заканчивается. Серьёзнее давай.
Предлагаю рок-н-ролл. Можно хард. В крайнем случае, по металлу запилим, вспомним детство. Чтоб тебя в очередной раз налево не увело, давай устроим буриме, как интеллигентные люди. Пишу загон — ты заканчиваешь, следующее четверостишие наоборот. Забились?
Город двух подземных переходов,
Город одного богатыря
Триста восемнадцати заводов
Не считая фабрики «Заря».
Соткан ты из дерева и стали,
Отформован в глину и бетон,
Дюжиной мостов тебя связали,
Не считая старенький понтон.
Припев:
Но!
Возвращаюсь я в тебя, как птица,
Как убийца к силуэту на асфальте,
От тебя уже не спрятаться, не скрыться.
Ты забил мне прямо в сердце свой пенальти!
Пусть у нас не популярен керлинг
И академическая гребля,
Вот, Петреночка, вот! В этом вся твоя суть, по крайней мере, тёмная её половина. Мы пишем патриотическое буриме с целью прославить малую родину, плюс остаться в веках, как Сергей Михалков, царствие ему небесное. А ты не можешь не подгадить соавтору, впендюрив в нашу среднюю полосу свой дурацкий керлинг. При этом, заметь, я тебе ни слова не сказал насчёт «триста восемнадцати заводов», в конце концов все говорят именно «триста восемнадцати», так чего тогда и мне выпендриваться. Ща как напишу «пакля», и хоть ты порвись. Керлингом он меня пугает… Между тем, «гребля» гораздо опасней.
Пусть у нас копейка, а не стерлинг,
Днём с огнём не отыскать констебля,
Зато у нас четыре небоскрёба,
Если всё поставить друг на друга
У-у-у, Цукер, да ты совсем физкультурный профан. Керлинг это только так пишется «керлинг», а читается, вообще-то «кЁрлинг». Так что здесь твои стерлинги ни в британскую ни в Красную Армию! А вот гребля-констебля, это да. Обошел, значит, провокацию. А к «пакле», кстати, рифма «сакля», студент.
И фонтаны. Я люблю их оба.
И овраг с кустами для досуга.
Припев.
Возвращаюсь я в тебя, как птица,
Как убийца к силуэту на асфальте,
От тебя уже не спрятаться, не скрыться.
Ты забил мне прямо в сердце свой пенальти!
Нет нигде таких широт глубинных,
Близких далей и низин высоких,
Нет таких холмов зеленоспинных,
Нету луж, настолько синеоких.
Город мой, протягиваю руки
К флагам-простыням твоих балконов,
Знаю я, сыграют наши внуки
За «Динамо» в Лиге чемпионов!
Припев.
Ну вот, вроде неплохо получилось. В целом, я имею в виду. Я думаю, комиссия должна оценить. И публика тоже. А потом, через годы, где-нибудь между центральным рынком и автовокзалом разобьют сквер в честь авторов бессмертной песни «Город одного богатыря» и назовут его «Сквер Петренко». А знаешь почему? Потому что традиция. Вот песню «Шумел сурово б-ский лес» тоже двое написали — Кац и Сафронов, а сквер есть только у Сафронова. Вот и тебе, Цукер, с твоим фамилием сквер не светит. Максимум мемориальный эвкалипт на краю оврага. Вот так то!
Педагогическая проза
…И поэтому, Петренычка, «пороть, пороть и ещё раз пороть» — вот девиз всякого истинно любящего родителя. Между поркой обязательно откармливать пряниками и халвой — но пороть всенепременно. Ибо сказано: кто любит сына своего — розог не жалеть.
В слово «пороть» вкладываю смысл не столько физиологический, сколько физический: действие равно противодействию.
Я однажды, лет тридцать тому, ночью шёл по деревне с костра — а темно! хоть глаз коли — и запустил ведро в колодец, как катапульту. Ты, небось, и не знаешь, дитя асфальта, как весело бывает в детстве бросить пустое ведро в колодезный пролёт! Летит оно со свистом, бьётся о бетонные стенки, гремтит страшно. И все окна в окрестных домах загораются тотчас же, словно хозяева полночи простояли, уперевшись пальцем в выключатель, и только ждали условного сигнала. На крыльца (мн. ч.) выскакивают мужики в трусах, всматриваются в черноту, собаки рвутся с цепей, а ты несёшься по-вдоль заборов, хлопая задниками сандалий и на душе у тебя одно только: хорр-рошо!
Но в тот раз получилось нехорошо, потому что аккурат возле колодца, как оказалось, сидела моя бабушка, в темноте незаметная, отдыхала с полными вёдрами. И она как раз меня оч. хорошо разглядела.
И вот ведь чудо педагогики, Петренычка! Буквально раза три хлобыстнула меня, внука свово любимова, по голым ногам суровой советской авоськой — и как рукой сняло. Навсегда проникся я мыслию, что ведро в колодец следует опускать беззвучно. И больше никогда так не делал, как и пообещал, тем более, что в том же году какая-то гнида бросила в воду дохлую кошку, сруб опечатали, а по улице понаставили колонок.
Вот какова бывает сила родительского убеждения, м-да.
Цукер
Ой, Цукер, я не перестаю на тебя удивляться. У тебя что, в детстве всю способность к логическому анализу авоськами повыбили? Это ж надо было из того, что тебя бабушка избила, сделать вывод о пользе водопроводных колонок! А не возникала ли в твоей буйной деревенской (неасфальтированной) голове мысль, что если б вместо ремнем махать с тобой один раз спокойно поговорили на тему «не плюй в колодец», ты б свои импульсивные поступки и совершать бы не хотел. И деревенское имущество б не топил, и старушек по ночам не пугал, и тумаков бы потом не огребал. Не возникала? А чего добилась твоя бабушка жестокими побоями? Только того, что ты из физиологического страху перестал в колодцы гадить. И всё. А вот представь, что бабушка тебя точно-преточно не видит, так ты и сейчас кого-нибудь бритвой по горлу и в колодец. Я ж вижу, как тебе это нравится. Вона как самозабвенно ты об этой странной прелести рассказываешь. Это что ж получается? Как говаривал глубоко мною уважаемый писатель Достоевский, «Если бабушки рядом нет, значит всё дозволено»? Вот что она воспитала своими пещерными методами. Нет, Цукер. Каждый поступок человек должен совершать или наоборот, не совершать, не потому что страшно за свой зад, а совершенно из других соображений. А ремнем да хворостиной можно только потомственных военных выращивать. Или психов, которые тише травы ниже воды, а как бабушка не видит, так жен своих по мордасам бьют. Ты свою бьешь? Только честно.
С приветом, Денис Петренко
Петренычка, говоря «один раз спокойно поговорили», ты держишь в голове тот случай прошлым летом, на шашлыках, когда славный мальчуган из гостей потушил о твою голую спину зажженную спичку? Как же, как же, помню, помню. Стенограмма монолога «Рассужденья о психологических корнях фашизма» просится в учебники; никто не сумел бы более спокойно, доходчиво и с чувством юмора объяснить ребёнку, что он не прав.
После чего мальчуган с шипеньем потушил спичку о спину следующего гостя…
…Знал бы ты, как важен в процессе создания фотографического изображения химикат под названием тиосульфат натрия, он же фиксаж. Например, снял ты гениальный кадр. Засунул плёнку в бачок, залил свежим проявителем нужной температуры, выдержал нужное время по секундомеру, промыл, открыл бачок — есть! Совершенно гениально! Но что это?! Плёнка вдруг темнеет, изображение гаснет, и вот уж нету в руках ничего, кроме бесполезного куска целлулоида. Всё потому, что забыли о фиксаже. Не закрепили полученный результат.
Если бы закрепить твой знаменитый монолог, накрутив малолетнему эсэсовцу ухо до состояния «дяденька, я больше так не буду!», он больше так бы не был. Минимум ближайшие сутки. Уже результат.
А чтобы мысли о битье жены даже в голову не приходили, нужно, дружок, перед женитьбою внимательно осмотреть суженую: нет ли у тебя подспудного желания треснуть её ложкой по лбу? Потому что совместная жизнь, она долгая. Я вот лично осмотрел оч. внимательно, и мы теперь даже не ругаемся. В крайнем случае, сразу на развод. Но тут же вспоминаем, что обвенчаны, деваться некуда, и миримся.
Ты уж, брат, держись, когда такое в голове копошится. Подыши, что ли, по методу Бутейко. Некоторым помогает.
Беспокоящийся за тебя Цукер
Про метод Бутейки это да, это ты правильно зашнурил. Сильно помогает. Я, конечно, не знаю, через какие места дышит эта Бутейка, но я сегодня дышал глубоко и медленно когда моя малолетняя дочь залезла на обеденный стол, и ухватила у меня с тарелки куриную ногу, на которую я довольно сильно рассчитывал. Однако я стерпел, не то что не линчевал ее, но даже и не крикнул, а просто пересел на диван. Тогда она подбежала к дивану и на этот раз уже зачерпнула две пригоршни макарон. Я немножко расстроился, но по большому счету сдержался, ушел в ванну, закрылся, подышал немножко, потом успокоился и, стоя в ванной комнате, доел ужин. Да, следует признать, минут сорок после этого я был зол и ворчлив, но, однако сдержался ж! Теперь о тушении спичек. Видишь ли, Цукер, какое дело. В своей, довольно долгой уже по нынешним меркам жизни я не убил специально ни одного животного. Ну, может быть за исключением насекомых, крыс и мышей. Более того, даже больно не сделал никому. Ты думаешь, это потому что меня били-не-били? Вовсе нет. Просто у меня желания не возникало. А у того чудного мальчугана возникает. Он еще, если помнишь, пытался моей собаке в глаза жутко ядовитой жидкостью «WD-40» брызнуть. Я чудом заметил. Тут ремнем не поможешь, тут надо как-то по-другому работать. У него ж от ремня желание никуда не денется. Он просто в следующий раз больше внимания конспирации уделит. Ну и о твоих фотографических аллегориях. Сравнивать телесные наказания с объяснением и убеждением это все равно что сравнивать съёмку «Сменой» на пленку «Тасма» с цифровой фотографией. Понимаешь, это просто разные ступени эволюции. А ты, заметь, еще несколько лет назад убежденно исповедующий работу с пленкой, перешел-таки на цифру. И в вопросах воспитания перейдешь. А? Съел?
С приветом, Денис Петренко
Ладно, но тогда позволь продолжить аллегорию насчёт разных ступеней развития и врождённых качеств личности. Перейдём на некоторое время к низшей ступени, от детей к котам. Любой ветеринар твёрдо скажет, что кот — это животное, тварь бессловесная, двигаемая по жизни непреложными законами биологии. Например, скажет ветеринар, некастрированного кота невозможно заставить не метить территорию, он без этого чувствует себя, как едущий в троллейбусе доцент обществознания без трусов. В смысле — с голой задницей. Ты хоть раз видел доцентов обществознания? Ну, тогда поймёшь.
Но мой лично кот Лимон по кличке Тупой дома углы не метил. Я ему всё подробно объяснил, и он перестал. Ушло на это примерно год времени, и, скажу честно, бил я его, как партизан Гитлера. И в какой-то момент до него дошло: пысать нужно исключительно в лоток! После чего он даже на улице перестал пысать, а даже ночью, козззёл, щемился в мою комнату, к лотку. С улицы щемился, через форточку. Но за это его только козлячьей мордой обзывали, потому что уговор дороже денег. Что характерно, любил он меня больше всех прочих членов семьи. Наверное, за справедливость.
Видишь, даже бессловесной твари человеческое обращение понятно.
А ты говоришь: конспирация. Интересно бы посмотреть на такого мальчика, который людей конспиративно спичками припаливает. Нету такой конспирации, хоть убей.
Ещё у одного моего приятеля годовалый сын приноровился колотить по бошкам бутылкой из-под молока. Проснётся часиков в шесть утра, просунет руку сквозь решётку кровати, и бутылкой мамашу: н-на! Она к нему ближе спала. Уж его и ругали, и объясняли, а утром опять: н-на! Но однажды папа с мамой местами чо-то там поменялись, и утром приятелю ка-а-ак прилетело по темечку. Тот спросонья подскочил с матюгами, тару отобрал и в обратку приложил наследнику. Не то, чтобы сильно, но так — плотненько. Не поверишь — одного раза хватило для достижения полного консенсуса.
Хотя, конечно, следует до последнего договариваться по-хорошему. Одного моего другого приятеля трёхлетняя дочка спросила, что такое презервативы. Он, не будь дурак, взял карандаш, бумагу, и всё подробно обрисовал. Она внимательно выслушала, задала несколько наводящих вопросов — и тема была закрыта, ни разу больше не поставила родителя в затруднительное положение. А девочке-то, между прочим, нынче двадцатый год пошёл. Отличница, ты что.
Хорошо, видно, объяснил, доходчиво.
С надеждой на понимание, Цукер
Это верно. Объяснять действительно надо уметь. Я тут на днях облажался. Не смог ребенку очевидную вещь объяснить. Короче, проснулся, и брожу себе по хате в семейных трусах (на то они и семейные). Мимо пробегала Маруся. Один раз пробегала, второй, а на третий возьми, да и ухватись за то, что кроме способности к логическому мышлению отличает мальчиков от девочек. Маруся остановилась в недоумении «Что это, папа?» — испуганно так спрашивает. Пока я думал как бы это поизящней сформулировать, Маша сформулировала сама «Может быть это какашка? Ну да! Конечно какашка!» Пока я стоял в нерешительности, она меня схватила за труселя и с криком «Так ее же надо вытряхнуть!» поволокла меня в туалет. Да, уметь объяснять надо. А в остальном ты не прав. Кота своего ты вовсе не воспитывал. Ты его дрессировал. Человека тоже можно выдрессировать, чему нас учит школа, армия, выборы президента и передача «Минута славы». Хочешь ты иметь дрессированного ребенка? Про обматерение и последующее избиение молочной бутылкой младенца я вообще молчу. В приличных странах за это в тюрьму сажают. Так что, как ни крути, ни к чему хорошему побои не ведут. Хотя, согласен, жизнь упрощают сильно. Когда я, утонув в кресле, смотрю телевизор, а в самый ответственный момент маленькая детская ручонка нажимает кнопку «выкл» и с визгом убегает прятаться за штору, страсть как хочется по этой ручонке линейкой садануть, но я пока держусь. Объясняю. Раз пятнадцать уже объяснял и, скажу тебе, подвижки есть! Случаи несанкционированного отключения телевизора от сети за последний месяц сократились примерно вдвое.
С приветом, Денис Петренко
Про кошечек и собачек
…и вот теперь, когда у меня самого есть личная собачка, хоть и не целостный экземпляр, я, Петренычка, с ответственностью заявляю: как и говорилось ранее, кошки лучше. Чем собачки.
Взять, например, нашу кошку знаменитую Асю, которая по всеобщему признанию является кошачьим эталоном. Когда принесли собачку Жулю, Ася была весьма встревожена: она решила, что Жуля — это конкурент. Но прошло две недели, и Ася снова спокойна и прекрасна, ибо даже кошачьему мозгу понятна очевидная вещь — собака кошке не конкурент. Это как если бы сравнивать между собою Анну Ахматову и Петра Проскурина, хоть я обоих и не читал ни разу. Проскурин может хоть сто писят толстых романов написать: «Тени исчезают в полдень», «Полдень исчезает в полночь», «Ночью исчезает утро» — пофиг. Анне Ахматовой в ответ на это даже писать ничего не надо, а только сфотографироваться в профиль в тёмной накидке — и всем сразу ясно, это Анна Ахматова, великая русская поэтесса, у неё ещё был муж Гумилёв, который «Озеро Чад». Или это у Цветаевой муж Гумилёв? А у Ахматовой кто муж? Ну ладно, неважно, главное, что она с Раневской дружила, а с Проскуриным Раневская даже пиво бы пить не стала, так и сказала бы: мужик, а ты вообще кто? Он, такой, — я «тени исчезают в полдень», кино смотрели? А Раневская: да у меня вообще телевизора нету, понял, да?
Вот какая разница между кошками и собачками.
Цукер
Да, Цукер… Удивил. Не скажу что поразил, но удивил. Эк у тебя всё смешалось-то… Это на тебя, мне кажется, кошки так влияют. Или бабы. А всего вернее кошки-бабы. Была бы у тебя собака (настоящая, а не верхняя её часть), и при том кобель, твой мозг был бы гораздо организованнее. Ибо собака — не кошка. За ней глаз да глаз. Не ровен час, сожрет чего-нибудь. Или кого-нибудь. Или просто кого-нибудь надкусит. Или в дерьме-тухлятине изваляется. Вот у меня кобель был по фамилии Бовин. Очень уважаемая собака. Бывало, только зазеваешься, а он шасть в кусты — и давай человеческое дерьмо жрать. Вонища страшная. Все прохожие говорят: «Ой какая собака красивая! А почему у неё слюни до земли висят и коричневые?» А я им делово так: «До земли, потому что по породе положено, а коричневые потому что дерьма поел». Прохожие вначале смеются, а потом подходят погладить, Бовин их лизь, и прохожим не до смеха. Сразу бегут мыть то, куда он их лизь. А ты говоришь кошки. Кошки так разве смогут? А один раз он в лесу целую тухлую корову нашел. Ты можешь себе представить тухлую корову? Вот и он, наверное, не мог, и, видимо, от непредсказуемости внезапного счастья весь в ней прямо вывалялся. Прямо таки от носа до хвоста. Прямо в тухлятине. А нам домой было на рейсовом автобусе ехать. Вечернем. Битком. Одни на задней площадке стояли! А все пассажиры на головах друг у друга спереди. Даже дед-рыбак с насморком и тот убежал. А ты говоришь кошки, Цветаева, тени какие-то… А вот ещё раз в половодье на Снежке поросенка-утопленника к берегу прибило! Но это уже история для гурманов.
С приветом, Денис Петренко
Ой, вот только не надо, пожалуйста, про организацию мозга! Велика проблема — человеческий мозг организовать так, чтобы собака не кушала тухлого поросёнка! Да надел намордник, и гуляй спокойно, размышляй, как правильно писать: «надел намордник» или «одел». А я вот однажды живому коту мозг организовал, это была эпопея, да. Я уже как-то рассказывал, но сейчас считаю нужным повторить.
Завёлся как-то у нас рыжий грузинский кот — у него шнобель был, как у Нани Брегвадзе, выдающийся — звался, естественно, Лимон, а фамилия у него была Тупой. Гости всё сначала удивляются, мол, чего это вы кота зовёте Тупой, а потом туфельки в коридоре натягивают, а он тупо сидит на мешке с картошкой и так сосредоточенно на них пялится, — как, знаешь, небуйные сумасшедшие из окошка первого этажа психбольницы на прохожих? — и каждый отмечает: и правда, какой-то он у вас туповатый…
Так вот, у Лимона были серьёзные проблемы с логическими цепочками. Например, он ещё в детстве вычислил, что если нассать в углу, то сразу будут бить, и так больно, так больно, что прямо хоть плачь, и убегать под диван бесполезно. Он и плакал. Сидишь, бывалоча, на кухне, а в соседней комнате Лимон голосит: ой, как же мне сейчас больно будет, мамочка моя Маруся, зачем же ты меня родила-а-а… И всем ясно — нассал, сволочь.
На этом кошачья логическая цепочка заканчивалась, и как прервать кошмарный замкнутый круг, он целый год понять не мог. Но однажды я его так удачно огрел, что в рыжем мозгу образовались новые контакты и Лимон сообразил: чтобы не били, ПЫСАТЬ НУЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЛОТОК! И тогда не будет больно! И стал пысать в лоток. Проблема была в том, что лоток с Лимонова детства стоял в моей комнате, так исторически сложилось, и эта сволочь по ночам гуляла по улице, а в сортир щемилась в нашу форточку, до трёх раз за ночь. Но тут уж я по честному вставал и впускал-выпускал, потому как подло бить человека за то, что он неукоснительно соблюдает правила общежития.
Дальше — больше. Одно время котик повадился спать в ногах на кровати, да ещё и храпеть. Не поверишь, и двух недель не прошло, как он додумался: если не лезть грязными ногами на чистое бельё, тебя, сонного, не будут с размаху бросать о дверцу шкафа! И перестал.
При этом любил Тупой меня больше всех, потому что знал: я суров, но справедлив. Например, если мы с ним дерёмся по-пацански, и он мне руку в клочья изорвал — ничего ему за это не будет, драка есть драка. Неделю не жрал, когда я в больницу с аппендицитом попал. Скучал.
Уверен, было бы у нас с ним больше времени, я б его и на ксилофоне играть научил, потому что прогресс налицо, но однажды зимой его собаки съели во дворе управления культуры. Обычное дело, между прочим. А вот чтобы кот собаку съел во дворе управления культуры — такого, небось, никто не слыхал, а? Что?
Цукер
Эх, Цукер, если бы ты смог только представить сколько прекрасного съело и не поперхнулось управление культуры даже не выходя во двор!
Однако, ты неожиданно сентиментален, как я погляжу. Небось, из больнички свой отрезанный аппендикс коту в пакетике принёс, чтоб тот не голодал? Теперь про форточки. Согласен, собаке проблематично ходить писать в форточку. Особенно если эта форточка на пятом этаже, а порода собаки ньюфаундленд. Ты и слова, наверно, такого не выговоришь? Кстати, один раз менты, оформляя на меня протокол за неправильное выгуливание собак, написали в нём «Нью-фа-унд-ленд». Реально с тремя дефисами!
Так вот о форточке, которую ты бегал открывать. У меня для этих целей был балкон. Нет, мой высококультурный кобель не ходил туда покакать, он ходил туда полежать. Особенно в мороз. Так, бывало, подойдет к двери и смотрит на неё внимательно. Если пару минут никто ему дверь не открывает, то Бовин молча начинает в эту дверь бить лапой пока она не откроется сама (причем внутрь!) или кто-нибудь не прибежит. Надо сказать, силы он был недюжинной, и за десять лет массивная балконная дверь аж трещинами пошла. Но это пол-беды. А, прикинь, когда действительно мороз, а про то, что кобель на балконе все забыли и легли спать. Среди ночи с диким грохотом распахивается дверь, все просыпаются, но вставать, чтоб её закрыть, в лом. И тогда ты просыпаешься утром при температуре воздуха, стремящейся к нулю. Говорят, для здоровья полезно шибко.
А один раз у нас откуда-то появилась половина коровы. Я имею в виду не передняя или задняя, или, как у твоей собаки верхняя или нижняя, а левая или правая. Большая такая корова была. Знамо дело, в холодильник её не запихнёшь, потому мы корову на балконе к потолку привязали, чтоб собака не сожрала. Благо зима. Привязали и все ушли в гости к дедушке. А на тот момент ещё была жива Бовина мама Джина, которая тоже с нами проживала. Но она своё детство провела в безбалконной квартире на первом этаже, и потому на балкон не выходила ни при каких обстоятельствах — высоты, наверное, боялась. И вот, приходим мы от дедушки, открываем дверь и чувствуем дикий холод, потом проходим в зал, а там везде, по всему ковру и даже за его пределами валяются жуткие коровьи рёбра, а на рёбрах валяются две обожравшиеся говядины собаки и даже встать не могут, а только нехотя повиливают хвостами. То есть, заботливый сынок допрыгнул-таки до коровы и заволок её в квартиру попотчевать престарелую мать.
Насчет пожрать, конечно, коту до собаки сильно далеко. Разве кот смог бы, например, уничтожить целый чугунок голубцов, приготовленный мамой на неделю перед отъездом в командировку? Или большой противень сырой пиццы, а потом ходить и рыгать брагой, потому что тесто дрожжевое и в брюхе у него бродит?
Я уж не говорю про покакать. Джина, например, очень любила это делать на асфальте. И желательно посреди тротуара. Родилась она ещё при Советском Союзе. И даже один раз сходила на демонстрацию. И вот, прикинь, на демонстрации, как раз проходя по площади Ленина перед трибуной, она взяла, да и села какать. А она если села — всё. Уже не сдвинешь. И сидела пока не выразила своё личное отношение к коммунистическому режиму в полной мере.
А Бовин однажды прямо на меня наклал. Вернее, дважды. Дважды, но, можно сказать, за один раз. У нас с ним очень были тонкие отношения. Хоть я ему своих аппендиксов и не скармливал, любил он меня сильно, но по-своему. Случилось это яркое проявление собачьей любви, когда я где-то закуролесил, не пришёл домой, и первый раз в его жизни мы ночевали раздельно. И вот возвращаюсь я утром, измученный нарзаном, предвкушаю мягкую постель, захожу в свою комнату, и вижу строго посередь одеяла огромную кучу дерьма. Надо ж, думаю, не удосужились вечером без меня собаку вывести. Хотя, все утверждают что выводили. Ладно, взял поводок, пошел. Пока гуляли, мама постель перестелила. Прихожу, залезаю под одеяло, а эта сволочь тут же на меня заскакивает, садится мне прямо на живот и пристально (так пристально, как это могут делать только какающие собаки) глядя мне в глаза накладывает ещё одну кучу. Выразил возмущение моим поведением. Видишь, на какую любовь собаки способны? Не то что кошка, а и не всякая жена на такой поступок решится!
С приветом, Денис Петренко
Осмелюсь заметить, коллега, что в научной дискуссии считаю недопустимым оперировать данными, требующими корреляции относительно размеров животного! А если бы у тебя был не ньюф, а, скажем, той-терьер, ты бы с запалом рассказывал, как однажды он сожрал целую сосиску? Да если б наша Ася была размером с ньюфаундленда, она, может, всех нас однажды ночью схавала бы! Это просто не этично. Опять же — ну, полкоровы. А где интрига? Где биение мысли?
У нас вот как-то Ася по молодости стала по столам тыриться. Сопрёт чо-нибудь, на полу раздербанит и сама под диван, знает: в книжках по этологии и дрессировке строго-настрого запрещено наказывать вороватую скотинку, если это происходит не в самый момент кражи. Мол, они сопрут и тут же забудут, и за что прилетело невдомёк.
Ладно же. Решили наказывать в момент кражи. На стол поставили табурет, на табурет, на самый краешек, ковшик, в ковшик насыпали гороху, ложек чайных и крышек консервных жестяных, к ручке ковшика привязали нитку, а к нитке — селёдошную голову в качестве наживки. И пяти минут не прошло, на кухне такой грохот раздался, такой грохот, как если бы в окно ввалились пятеро ваших психических фанатов брянского «Динамо», и стали прямо на столе плясать танец забитого пенальти, надевши на ноги по две пятилитровые кастрюли каждый. Представь же себе Асино состояние, когда сначала на неё упала металлическая утварь, потом шандарахнуло по башке ковшиком, а уже на пути под диван осыпало мелким горохом. Натурально, она вот уж лет семь как по столу пробегает на цыпочках и в самом крайнем случае, например, когда нужно в форточку, а на табуретках сидят гости. Раз в году, конечно, бывает рецидив, но тут уж я плюю на научные рекомендации и возюкаю мордой по украденному, пока в жёлтых глазах не увижу огонёк искреннего раскаяния.
Опять же, у одного моего приятеля, Королёнок его фамилия, был кот с ярко выраженными математическими способностями. Он ходил с нами на рыбалку и на глаз определял размер улова. Если рыбка была не более двенадцати сантиметров в длину, он истошно орал, требуя добычу себе, если же больше — и внимания не обращал. Хоть линейкой меряй. Я говорю Королёнку:
— А это ничего, что он сидит прямо возле ведра с рыбой? Не сопрёт?
Королёнок только у виска покрутил:
— Он что, самоубийца? Куда ж ему потом деваться с лодки? Я ж его сразу утоплю.
У них там этих котов жило двое, братья из одного помёта. Второй к математике склонности не выказывал, зато был ярко выраженный гуманитарий. Королёнковский племянник лет пяти повадился отрабатывать на нём приёмы самбо — броски через плечо там, подсечки всякие — и тот уже на третьей тренировке понял, что сопротивляться смысла нету, падал, как положено, мешком, и к концу лета так наловчился, что мимо проходя можно было навести на него палец, сказать: «пыдщь!», и кот падал замертво, и только глазом сквозь щёлку смотрел, не дадут ли пожрать.
Я думаю, на такой поступок даже твоя жена не решится!
Цукер
Жена… Жена у меня вообще дрессировке не поддается. Совершенно дикая. Никак не угадать, как она на «пыдщь!» отреагирует. А вот твои истории про кота с рулеткой и штангенциркулем уже начинают сильно смахивать на истории моего старого друга Коли про необычайно умного и мстительного кота, который однажды в отместку за несправедливое наказание открыл дверцу кухонного буфета, там отыскал сахарницу, открыл и ее, в сахарницу нагадил, после чего ее обратно крышкой закрыл, дверцу буфета за собой тоже затворил, да еще проделал эту подлость в аккурат перед праздником 8 Марта, зная, что придут гости и станут пить чай с сахаром. Причем, подобных историй Коля знал множество.
Мы, знаешь, какой аспект домашнего животноводства с тобой упустили? Шерсть! Да, шерсть. Тот факт, что и кошки, и собаки в быту существа совершенно бесполезные вряд ли у кого вызывает сомнения, но шерсть… Сколько с твоей кошки можно шерсти наскрести? Наперсток? Два? А с собаки! С хорошей собаки круглый год сыпятся мешки прекрасной теплой, целебной, и, не побоюсь этого слова, которого практически и нет в моем лексиконе, красивой шерсти! Дело за малым, найти бабульку с прялкой, снести ей всю эту шерсть, а потом попросить кого-нибудь связать из этих ниток хоть свитер, хоть шапку, хоть носки, а то и пальто. Да, в реальной жизни чаще вся эта шерсть годами складируется на балконе (в шкафу, в диване) и служит прекрасной питательной средой для личинок моли, после обнаружения коих всё, что начесано долгим кропотливым трудом, выносится на вытянутых руках в сторону помойки, освободив тем самым место для хранения новых поступлений шерсти. Но есть же исключения! Должны быть по крайней мере. Я слышал о них от знакомых друзей и друзей знакомых. И потом, ха! Вспомнил! Твоя же ж жена мне из моей собачьей шерсти по моему же проекту сплела шапку типа «Балаклава» для хождения по кавказским горам! И, кстати, замечательная шапка получилась. И в горах тепло, и на равнине уютно. И псиной почти не пахнет. Самую малость, для пикантности, чтоб не забывать о первоисточнике. А с Аси твоей и напальчник не сварганишь. Вот так вот!
С приветом, Денис Петренко
Нууу… да, Ася это тебе не перс какой-нибудь, вонючую шапку из неё не свяжешь, максимум, яичницу можно испортить её ошмётками…
Зато от котов гораздо больше другой пользы. Например, они просто созданы для нейтрализации детей. Проведи простейший эксперимент: оставь свою дочь наедине сначала с кошкой Соней, а потом с собакой Умкой. И время засеки. Я вот на сто рублей готов побиться, что с Соней она проведёт в четыре раза больше времени. Сначала полчаса будет бегать по комнате — сю-сю-сю, — изо всех сил прижимая кошку к груди кверху ногами, а потом ещё полчаса совершенно молча искать место, где притырить Сонин трупик, чтобы не наругались. Итого час. Для Маши, считаю, рекорд автономного плавания. При этом она ещё довольно мелкая, и оттого фантазия у неё так себе, не Жюль Верн, прямо скажем. Но пройдёт три-четыре года, и — оооо! — одна кошка поможет вам пережить целые летние каникулы. Мы с сестрой однажды весь июнь развлекались тем, что скармливали ихней Мурке свиную кожицу на нитке, а потом вытаскивали обратно. И, заметь, каждый раз у Мурки было новое выражение лица; первую неделю она всё возмущалась, что сальце обратно вылазит (молчи, есть такое слово, особенно в детстве), а потом у неё образовались размышления о смысле жизни, а потом матом на нас, когда поняла, чьи это проделки. Потом ещё под диваном сидела и мазафаки хвостом трясла…
Наверное, с тех пор я и стал любителем кошек…
Дочка говорит:
— А как вы свою Асю зовёте?
— Известно как, — говорю, — Асенька-колбасенька, жирная свинья.
— Ах, как мило, — отвечает. И даже руки к груди прижала от умиления. Тоже кошатницей будет
Цукер
По малолетству своему дочь моя, таки да, пока еще относится к ущербной расе кошатников. Но ты ж, надеюсь, понимаешь, что это временно? Ибо человек разумный никак не может ставить это продуманное, льстивое и лицемерное животное выше собаки. Я б на тебя посмотрел, если б ты у Бовина веревочкой попробовал еду из живота вытащить. Да ладно из живота, из тазика евойного.
Собака есть по отношению к кошке — партнер доминирующий. Вот, например, взять всем нам с тобой известный злополучный тандем двух самцов, одного из которых зарубежные СМИ называют альфа-самцом, а второго — омега. Заметь, у альфа-самца безграничная власть, дзюдо и собака Кони, а у омеги — право переводить часы, бадминтон и кот Дорофей. Чувствуешь разницу? Хотя, конечно, да, — и Кони, и Дорофею с хозяевами не очень-то повезло. Наверняка грезят о свободе. Так выпьем же за… Ой, извини, задумался…
С приветом, Денис Петренко
И несколько слов о футболе
Петренычка! Что это было? Вот это вот, в 7.20 (семь двадцать), наутро после четвертьфинала, сильно нетвёрдым голосом:
— Я тебя разбудил? М-да? Хм. Ну, если уже разбудил, может, ты готов пообщаться? Нет? Хм. Ну, ладно, тогда я тебе часа через два перезвоню…
Не то, чтобы я в 9.20 с нетерпением ждал твоего перезвона, ломая пальцы над телефонной трубкой, но всё-таки интересно же, о чём хотелось-то пообщаться. Про футбол, что ли? Со мной, что ли?
Ну-ну.
Цукер
Что это было? Известно что. Водка на пиво, вот что это было. Жаль, правда, что никто и никогда так и не узнает, о чем я вдруг захотел с тобой поговорить в семь утра. На самом деле повод мог быть любой. Кроме футбола, конечно. Я, конечно, пьян был в слюни, но не настолько ж, чтобы с тобой про футбол разговаривать. Ты, небось, и не смотрел-то, да? Признайся, ведь не смотрел же? Кстати, давно хотел тебя спросить. О! Может, я тебя и в семь утра хотел об этом спросить! Вот ты живешь, не бухаешь, футбол не смотришь, мяса не ешь, еще что-нибудь наверняка есть, о чем я не знаю. Вот скажи, как ты живешь? Без мяса, футбола и водки? Как? И еще — зачем?
С приветом, Денис Петренко
Ага. Отвечаю по порядку.
Мяса я не ем, потому что… как бы это?.. не то, чтобы мне прямо-таки жалко коровок, или, там, свиней. Я однажды даже свыньню помогал резать своему другу-культуристу. Он говорит: ты держи левую ногу, а я правую, а Петя будет резать. Держим, а Петя режет. Свыньне не понравилось, она как начнёт меня ногою пихать, я и отпустил. Тогда друг-культурист одною рукой за левую ухватился, другою — за правую ногу, и ругается, конечно, матерно. Когда зарезали, на свиных ногах явственно синяки проступили, на каждой по пять, по количеству культуристовых пальцев. Мы потом ещё целый вечер свеженину ели, и мне дали, хотя я и отпустил.
Но это давно было, лет тому двадцать. А теперь я мясо не ем, потому что как-то это не милосердно. То есть, если в лесу заблуждусь и поймаю, скажем, птицу тетерев-косач, то непременно съем, и никаких угрызений совести, одни гастрономические нюансы. А по мирной жизни — чо-то не милосердно как-то.
А футбол не смотрю, в-третьих, по той же причине, по которой не бухаю: шибко не люблю изменённого сознания. Во-вторых, к футболу у меня претензии морального плана. А во-первых, скучно до зевоты, и времени жалко.
Насчёт «зачем» — это не ко мне. Я и сам, бывает, сижу, жру третий кусок торта, то есть, второй лишний, и думаю: ну нахрена? И ни одного варианта ответа, веришь?
Цукер
Не, ты мне тортом не путай измененное сознание. И вообще, о каком сознании может идти речь применительно к сборной России по футболу? Чуваки из года в год маются на поле дурью, в нормальный футбол играть то не могут, то не хотят, через раз. Тут приходит к ним начальник из страны разрешенных наркотиков и однополого секса, что-то там с ними делает, и чуваки на два матча (со шведами и теми же голландцами) изменяются до неузнаваемости. А потом их отпускает, и в полуфинале с Испанией мы уже видим старую добрую, давно привычную сборную России. Вот и думай, в чем тут секрет, в наркотиках или однополом сексе? Мне все-таки кажется в наркотиках. Ну никак не получается представить себе братьев Березуцких в однополом сексе. Хотя… Билялетдинова, например, очень просто. Даже не знаю, может я у тебя по этому вопросу хотел проконсультироваться? Вот для тебя что отвратительней: водка, футбол или однополый секс?
С приветом, Денис Петренко
И-мен-но! Именно это я и имел в виду, говоря о претензиях морального плана. Более того, если бы ты не был счастливо женат, я бы и про тебя подозревал нехорошее, прости. Ну, сам посуди: двадцать два (или сколько там?) паренька в семейных трусах недвусмысленно бегают по зелёной травке как бы за мячиком, а сорок тысяч пузатых потных пьяных мужиков возбуждённо кричат «ребята, надерите им задницы!», обнимаются, целуются как бы от радости за забитый гол, и всякое такое.
Я раньше ещё сомневался, может, это от предвзятости такое впечатление складывается, оттого, что мне футбол скучен в принципе, но недавно у дальнего входа на стадион на угол трибун водрузили огромный, метра два в диаметре, футбольный мячик, символический. А под ним — две фотографии полтора на два, выражающие, нужно понимать, самую суть игры. Никто эти фотографии особенно не рассматривает на бегу, а мне, как фотографу, интересно. Посмотри же и ты при случае: на правом снимке один футболист на ходу гладит другого ладошкой по бедру, а на правом, и вовсе, один другого ухватил за чресла и куда-то волочёт. Спору нет, в пылу игры ситуации случаются всякие, мало ли, как это выглядит со стороны, но объясни, пожалуйста, у них что, других фотографий не было? Уверен, были. Но подсознание взяло своё, факт.
Как хочешь, но по сравнению с футбольными болельщиками даже те, которые на Уимблдонском турнире в 20-тикратные бинокли рассматривают исподнее Маши Шараповой, выглядят мальчиками-шалунами; по крайней мере, чаянья их ясны.
Опять же, бухло. Почему без спиртного болеется хуже, а? Да потому, что алкоголь притупляет чувство стыда за противоестественность происходящего.
Отвечая на вопрос, скажу прямо: водка, футбол и однополый секс суть одно и то же — уход от действительности и чертовщина. Доказательство последнему тезису привёл на днях наш общий товарищ Васильев, тоже заядлый болельщик, в пьяном виде вылакавший всю воду из миски Чердаковского престарелого колли Арамака:
— Я понял, — сказал Васильев, — б-ское «Динамо» стало проигрывать, как только на церкви возле стадиона восстановили крест и развернули его в сторону футбольного поля.
Так что у нас теперь диалектика по Карлу Марксу: на одном углу поля (как известно, устроенного на месте кладбища) — купола и крест, на другом — мячик и непотребство. Как говорится, выбирайте, с кем вы, деятели культуры.
А теперь давай, рассказывай про спортивный азарт, полезный пример для подрастающего поколения и гордость за страну, давай.
Цукер
Хорошо, я тебе скажу про спортивный азарт. И про пример скажу, и про гордость, возможно. Допустим, условный слесарь Иванов сходил на футбол и посмотрел, как его любимая команда обыграла нелюбимую. На радостях он, конечно, выпил пару рюмок с друзьями в пристадионном дворике, покричал «Верим в команду!», возможно, даже помочился в твоем подъезде (я знаю, ты всегда очень переживаешь по этому поводу), потом Иванова скорее всего забрали в вытрезвитель. И вот просыпается он с утра в одних трусах, под одеялом без простыни и лежа на клеенке (клеенку ему подложили, потому что не знали, что Иванов уже помочился у Цукера в подъезде). И что же Иванов видит? А видит он вокруг таких же в трусах, большая половина которых вчера сюда приехала с того же футбола. И, что характерно, все счастливы невзирая на легкий бодунец. Потом пришел майор, или кто там у них сейчас. Снял со всех показания и отпечатки пальцев, надел на них штаны, и довольные люди, хоть и опохмелившись, но все еще опьяненные футболом, с чувством удовлетворения от проделанной работы весело, с шутками и прибаутками отправляются за станки, кульманы, кассовые аппараты и баранки маршрутных такси. Как ты думаешь, скажется их настроение на производительности труда? Производительность счастливого человека удвоится, а то и утроится. А вслед за ней утроится и ВВП.
Если проиграли, то слесарь Иванов, конечно, тоже выпьет. Но поменьше, потому что с радости лучше пьется, чем с горя. Выпьет он немножко и пойдет домой. Там он слегка выругается на жену, поужинает и тихо ляжет спать. А утром, как огурчик, пойдет на работу. Тоска по упущенной на последних минутах победе будет съедать Иванова примерно от подъезда до проходной. Ужас как обидно, и ни с кем даже разговаривать не хочется. И как ты думаешь, где Иванов найдет утешение и отвлечение? Правильно, в созидательном труде! Таким образом, производительность его повысится со всеми вытекающими. Итак, как видишь, я тебе наглядно доказал, что футбол не только приносит эстетическое наслаждение, но и служит на благо укрепления экономической мощи страны! Съел?
С приветом, Денис Петренко
Пока вы здесь переписываетесь, как дураки, местный футбол, между прочим, вышел на новый уровень — уровень гражданского сознания хотя ничто не предвещало. Докладываю.
На матч Динамо-Ротор, как обычно, пришли несколько тысяч брутальных мужчин, несколько сотен сочувствующих женщин и милиционеров, и несколько десятков детей, которых не с кем было оставить.
Матч обещал быть одним из череды заурядных договорных матчей в первом дивизионе. Каковым и стал. Но смотреть его было интересней, чем предыдущие и последующие. Во-первых, на лысого мужчину с внешностью тренера Пьера-Луиджи Колины всегда смотреть приятно. А во-вторых, всегда приятно смотреть на человека, который так тщательно отрабатывает заплаченные ему деньги. Судья Сергей Карасев судил старательно, в полном соответствии с выданным ему денежным вознаграждением, в пользу команды Ротор.
И тут произошел акт гражданского возмущения. На глазах изумленной публики и при полном бездействии милиционерских милиционеров на поле вышел Человек. Он не выбежал, как это делают слабые духом фанаты, он торжественно шел через все поле, направляясь к судье. Одетый в белые брюки, белую рубашку и галстук, Гражданин, вероятно, вызвал у милиционеров трепет на генетическом милиционерском уровне, поэтому они только с уважением смотрели вслед. Поборник справедливости подошел к судье, очень спокойно сказал ему что-то и так же спокойно отправился обратно на трибуны.
Кто этот Бесстрашный Герой, почему ему не надавали по щам и не увезли в отделение, что он сказал судье, — эти вопросы еще несколько дней беспокоили зрителей и прессу. Некоторые предполагали, что это болельщик VIP-уровня. На самом же деле это был верный болельщик Динамо Николай, который в свободное от футбола время — рабочий-железнодорожник. Обычно он одевается не так нарядно, а тут — прямо как знал. И речь его, по свидетельству самого Николая, была короткой, как выстрел, но не содержала при этом ни одного матерного слова. Он просто попросил судью достойно судить матч.
Но тот не стал, и Динамо все равно проиграло.
И прекрати звонить по ночам ни в чём не виноватым людям, серьёзно говорю.
Жена болельщика, Анна Петренко
Ха, Петренычки! Пока мы тут с вами переписывались, они фотографии со стены-то содрали! Один голый кирпич остался.
Но у меня в архиве эти произведения останутся навсегда. И сколько бы теперь не жгли кресла на трибунах, сколько б не били облицовочную плитку на стенах нового административного здания стадиона, и не совершали б гражданские поступки — не верю!
Так и знайте.
Цукер
Про сельское хозяйство
…И вот теперь, Петренычка, когда урожай окончательно собран, я могу поведать тебе о моём горе — родная мама мне прошлой весной сказала:
— Сынок, а сделай же мне, пожалуйста, махонький парничок! Чисто для огурцов, чтоб не вмёрзли. Ма-а-ахонький!
Мне! Родная моя мамочка! Парничок! А я ж ей сорок два года твердил каждую весну:
— Мама, когда я соглашусь добровольно копать в земле — застрели меня из бластера, потому что твоего сына подменили инопланетяне, и в его родном тебе теле сидит насекомая тварь со жвалами и жрёт трепещущее сердце! Ибо я такого сказать не могу!
…В общем, ты как знаешь, а парничок я ей соорудил, из обрезков металлопластиковых труб. Зверь, а не парник. Смейся, смейся.
Цукер
Я считаю, Цукер, надо переезжать в Египет. Я там этим летом был. Не во всем, конечно, Египете, а только на Синайском полуострове. Так вот — там никто не ставит теплиц! Там вообще никто ничего не копает и не сажает, ибо на египетских благодатных почвах вообще ничего не растет. Даже пырей и одуванчик. Там галимая пустыня и никакому бедуину даже в пьяном бреду мысль о сельском хозяйстве в голову не приходит.
Из обрезков труб говоришь… А ты что парничком называешь? То хлипкое, которое поднимает пленку до уровня колен и имеет шириной от одного до полутора метров? Это я вообще не считаю. Причем ни за сооружение не считаю, ни по количеству. Если суммировать общую длину покрытых таким образом грядок на огородах у моей мамы и у моей же тещи, то можно пару-тройку раз обогнуть экватор или в несколько слоев покрыть полиэтиленом поверхность Синайского полуострова вместе с прибрежными коралловыми рифами, на которых я, кстати, пока ты свои трубы гнул, собственными глазами видел мурену и двух осьминогов. Я склонен называть парником, например, конструкцию из фундамента, стекла и металла, которая красуется на маминой даче как раз между металлопрофилеполикарбонатной и пластикотрубнополиэтиленовойнооченьбольшой. Так что, как человек с большим негативным опытом, я тебе скажу, лучший вариант — как у тещи. Покупная конструкция, крытая поликарбонатом. Минимум забот. Хотя, здравый смысл и утверждает, что окупится этот парник примерно к пенсии моей дочери.
С приветом, Денис Петренко
Эк тебя Синайским полуостровом пякнуло в темечко… Так вот же тебе достоверные факты о бедуинских сельскохозяйственных приёмах:
Может, помнишь описанный в литературе феномен частных конюшен на больших российских трактах? На трактах были трактиры — это как бы для людей, а были ещё и мегаконюшни — для коней. Едешь на ярмарку, и у тебя два варианта для переночевать — в трактире за деньги или бесплатно на сене возле лошадки. Ясный пень, многие выбирали на халявном сене. А хозяева конюшен по понедельникам выбирали халявный конский навоз и повышали урожайность налево и направо.
Пришло время, Петренычка, открыть тебе глаза — приезжая в Египт, ты становишься частью синайской пищевой цепочки, причём наверху её сидят бедуины, а ты сидишь, как дурак, в пирамидальном основании, жрёшь свой овёс… эээ, шведский стол, централизованно гадишь в ихнюю канализацию, откудова оно поступает на подкормку верблюжьей колючки, которую уже щиплют мозолистыми губами верблюды, дающие, соответственно, молоко, шерсть, кумыс, мясо и скачки на верблюдах. А скачут на верблюдах как раз таки закутанные в шерсть бедуины. И им от жизни больше ничего не надо, разве что позырить в бинокль на пляж, где белые женщины с безволосыми ногами ведут себя вызывающе.
Ну и на кой ляд верблюжьей колючке теплица?
Ты, конечно, можешь возразить, мол, их там двести миллионов, и чего они сами своим не пользуются, а переводят олл-инклюзив на туристов? Но они же ж бедуины! Пробовал заставить бедуина централизованно ходить на горшок? Даже и не пытайся. Дикий народ, гадит, где придётся, вместо газетки использует булыжник, и даже писает сидя. Легче отель построить, чем ходить за ними по пустыне с совочком и собирать.
Так что забудь про Синайский полуостров, думай о Родине.
Цукер
Удивительный ты, Цукер, человек! Любую тему к дерьму сведешь! Так вот, о дерьме (заметьте, не я это предложил). Есть у меня его очень много. Кубов десять-пятнадцать в зависимости от сезона. Храню я его, как тебе известно из личных бесед и запаха, на огороде в бетонных кольцах под землей. К кольцам ведет труба из унитаза, который, как и положено в хлебосольном доме, всегда полная чаша. Некоторые хозяева, более расточительные и менее циничные, периодически нанимают за бешеные деньги калоотсасывающие машины и вывозят свое рукотворное дерьмо в неизвестном направлении. Иногда самом непредсказуемом. Я же поздней осенью в жерло клоаки опускаю погружной насос и примерно за день перемещаю весь годичный валовый продукт на поверхность огорода. Чудное удобрение без всяких верблюдов и прочей нечисти. Остается весной только перекопать, но вот с этим как раз у меня сложнее. Кстати, я и тебя как-то не особо с лопатой замечал. Или ошибаюсь?
С приветом, Денис Петренко
Ага… вот, значит, оно как… вот, значит, в чём источник вашего знаменитого петренкинского хлебосольства… Теперь-то я верно знаю, откудова берутся кривые штаммы кишечных палочек, разрушающие человека изнутри…
А в последний раз я копал лопатою во время позапозапрошлого кризиса, кажется, году в 1998. Или во время Павловского обмена купюр? Не помню точно. У нас тогда случились родственники в посёлке Глинищево, спасавшие нас от недоедания, а мы их — от переработки. Ну, то есть, как — от переработки… Пока я выкапывал борозду картошки, дядя Миша с огромным животом, усами и радикулитом, пробегал две, и никак не мог понять этот феномен. Он считал, человек не может так медленно копать, для этого нужно предпринимать специальные усилия.
— Ну вот же, смотри, — кричал дядя Миша с другого конца поля, — она ж сама идёт, лопатка-то! Смотри: раз! Раз! Раз!
— Дядя Миша, — отвечал я, мотыляясь на черенке, — вот я вам щас дам фотоаппарат и группу старшеклассников с прыщами по всему телу, и буду науськивать: раз, раз, раз. Тогда посмотрим.
— Да шо мне твои фотографии! Ты фотографии жрать будешь, когда фашист придёт? Какой с тебя вообще прок в хозяйстве?
— Ну, например, я красивый…
Тут дядя Миша просто бросал лопату, садился на ведро и кричал:
— Хто?!! Ты?!! Да на тя собака не поссыть, какой ты красивый!..
А до картошки мы убирали огурцы. В посёлке Глинищево сезон уборки огурцов открывается Днём Хомяка. На поле находят хомячиную нору, вокруг неё выстраиваются все огородники посёлка в праздничных одеждах, играет оркестр клуба нефтепровода «Дружба» и радостные ребятишки в холщовых опорках весело льют в нору воду, до двадцати вёдер за раз. Когда из затопленного дома выскакивает хомяк размером с дядимишин сапог, все дружно пуляют ему в бошку заранее принесённым огурцом со своего поля. Если после первого прямого попадания хомяк остаётся жив, начало сбора переносится на неделю, считается, что огурец должен ещё повисеть, подрасти.
Наше огуречное поле было соток в двадцать, поэтому в сезон огурцы считались не банками, а ваннами. Все так и говорили: сегодня закрыли ванну огурцов. Я каждую весну тётю Валю упрашивал: ну можно собрать корнишончиков хотя бы на три баночки, а? Но у неё была неумолимая математика: три банки корнишонов — минус полванны огурцов. Я тте соберу! Рецепт маринования был несложный: три резаных поперёк огурца на три литра воды, горсть перца-чили и пачка соли по вкусу. Когда неподготовленный человек нечаянно это ел, у него глаз выпадал из глазницы и полдня висел на нерве, как в мультике про счастливых лесных зверушек.
Но, что ни говори, а на этой кривой картошечке с проволочником и огурцах по Хармсу мы выживали лет пять…
Цукер
Выходит, я убил в себе крота еще раньше, чем ты, в самом начале прекрасных девяностых. Тогда, как ты помнишь, все копали с особым усердием. Даже те, кто никогда раньше не копал понахватали каких-то кусков земли и стали копать. Я сначала тоже копал, потому что не понимал как это, не копать когда все копают. А потом мы с Графом, ну ты помнишь Графа — тоже не большой фанат физического труда; так вот, мы с Графом в обеденный перерыв за баночкой пищевого спирта, активно продаваемого в те благословенные годы, взяли ручку с бумажкой, да посчитали. В одной части листа было время, потраченное на копание, посадку, окучивание, сбор жуков, выкапывание, дорогу до огорода и обратно, плюс расходы на транспорт и удобрения. Мы даже вывели коэффициент риска на случай неурожая. А с другой стороны листа мы разделили зарплату на количество рабочих часов в месяце. Я, конечно, абсолютных цифр не помню, но теорема о бессмысливании выращивания картошки в городских условиях была доказана с ослепительным блеском! Подковавшись теорией, я копать завязал. И не копал я очень долго. Получается, чуть ли не двадцать лет. А в этом году вдруг захотелось. Я слышал, что со стариками такое бывает, но от себя не ожидал. И вот вышел на огород, взял лопатку и стал копать. Первое время, минуты три, не скрою, было даже приятно. Но очень быстро осточертело. Однако бросить прямо так я уже не мог — неловко было перед родственниками. Решил я докопать хотя бы «вон до туда». И прикинь, Цукер, копаю я, и чувствую, как с каждым копком все хуже и хуже начинаю относиться ко всем, кто не копает! Причем, если сначала я ненавидел только конкретных людей, которые в этот промежуток времени не стояли рядом со мной раком, хотя могли бы, то к концу грядки я уже был уверен, что сгорят в аду вообще все, кто сейчас не копает! Чувство мое было совершенно искренним. Я стал думать. И додумался я до того, что понял великую тайну. Я понял, почему у нас такие злые люди. Половина злые, потому что копают, а другая половина, потому что те кто копают на них злятся, а их от этого зло берет. Вывод прост: не надо копать. И всё. Просто никому не надо копать, и Далай Лама не нужен!
С приветом, Денис Петренко
Да! Да! Совершенно верно! Но как? Я в конце мая зашёл к Таранке, забрать картошку б/у, она у них пропадала. Зашёл, значит, а Таранка сидит на порожке, в ногах у неё авоська с картохами, во рту термометр, и щупает себе пульс. Глаза круглые. Я говорю:
— Ну?
Она говорит:
— Плохо дело, Цукерок. Картошку тебе перебирала, отростки обрывала — на них уже махонькие клубеньки завязались. И вдруг обнаруживаю, что я эти отростки не в мусорное ведро кладу, а аккуратненько сгребаю в кучку, имея внутреннее намерение высадить их в открытый грунт в своём собственном саду. Как думаешь, валерьяночки хлобыстнуть, или сразу к врачу?
А? Каково? И это Таранка, у которой муж такой огородник, такой огородник, даже бороду себе отпустил, чтоб быть похожим на академика Тимирязева. Уж она его и стригла, и инструмент прятала — бесполезно. Палочку какую-нибудь от забора отломит, гвоздик вобьёт и айда брюкву полоть. Но, справедливости для сказать, никто в мире лучше его огурцы не маринует. Это просто наркотик какой-то, а не огурцы.
Вот я и думаю: может, это заразное? А мы-то картошку ихнюю ели…
Цукер
Заразное по последним данным оказалось в пророщенных бобах, а вовсе не в картошке и даже не в огурцах. Так что, по моему разумению, безбоязненно можно жрать совершенно все что угодно, но лучше всего, конечно, колбасу. Только она, хоть ты тресни, на огороде не растет! Хотя про колбасу тоже разные истории рассказывают. Все больше страшные. Как рассказывал один мой знакомый, ему рассказывал другой его знакомый, что тот, кто ему рассказывал, видел собственными глазами следующий фокус. Водитель одного из многочисленных мясокомбинатиков Бской области забавы ради доставал из-под сиденья небольшой брикетик — размером с пол-кирпича, бросал его в ведро с водой и ждал минут десять. В это время в ведре происходила жуткая химическая реакция, все бурлило и пучилось, а в результате превращалось в целое ведро с горкой однородной пористой массы. Так вот, тот водитель утверждал, что именно эти брикеты он возит на свое предприятие, где их и превращают в колбасу. Так что Цукер, может ты и прав в своей мнительности. Мало ли кто и из чего делает в магазине картошку? Ты подумай, подумай об этом.
С приветом, Денис Петренко
Я, я знаю, кто и из чего делает картошку! Минувшим летом встретил свою бывшую невесту — не свою бывшую невесту, а невесту, которую года тому два назад фотографировал — а она беременная, и состояние сильно запущенное, месяц девятый. Говорит: уфф, вчера, наконец, муж распашник привёз, давно уж обещал, а привёз только вчера.
Распашник, чтоб ты знал, это такой человекоплуг на двоих: один тянет спереди, один пхает в землю. Им советские люди окучивают картошку, когда нет коня, трактора и мозга.
Уж мы, хвастается, вчера пахали, пахали, даже муж уморился тягать эту железяку. Я ей говорю из глубокого обморока: матушка, зачем же вы в вашем положении Микулу Селяниновича изображаете? Какая этому причина? Она: ну как же, мол, продукт свой, без химии, разваристая… Матушка, блею, может, купить у кого-нибудь надёжного, проверенного? Или, вот, у родителей шесть мешков взять, эти-то точно не отравят? Ну хотя бы в этом году, пока состояние такое, особенное?
А она, брат, смотрит на меня, как на дурака, и с придыханием: а как же удовольствие? Удовольствие же как?
И тут, Петренка, я понял — этот народ не победить. Он сам себя побеждает по три раза на дню.
Цукер
То есть, выходит, картоху у нас делают из беременных невест? Жесть! Тогда я, пожалуй, пас. Кстати, можно таким макаром резко понизить на нее спрос. Для начала выпустить какие-нибудь секретные протоколы, в которых будет наглядно доказано, что масон Петр Великий завез продукт враждебного происхождения по наущению подлых американских мудрецов, дабы с помощью оного высосать изнутри все соки русского народа. А что от народа останется — шкурка там какая, али косточка, на заключительном этапе секретной операции «Пасленовая гниль» — будет сглодано колорадским жуком. Потом надо в супермаркетах пакеты с картошкой промаркировать надписями «Сделано из пота и крови» и «Картофель нас убивает!» и всё. Кстати, тебе щелбан! Помнишь, мы спорили, что этой осенью картошку будут раздавать почти даром? Напоминаю аргументы. В прошлом году была засуха, как следствие, неурожай, и цены сильно подскочили. Все решили, что они самые умные, и этой весной засеяли картохой все, что можно. Типа, и самим не покупать, и продать по 100 рублей за кило. Но лето выдалось нормальное, и картохи все накупили по шесть рублей за кило!
…А главный вывод, конечно: не надо копать! Пусть копают те, кому нравится! А те, кто не хочет, пусть не копают. Дадим отпор копателям!
С приветом, Денис Петренко
…яйся, как сталь!
…и вот, Петренычка, на пятом десятке я вдруг обнаружил, что мною стали интересоваться посторонние женщины. Это, брат, впервые в жизни такая оказия. Ну, то есть, может, раньше когда и бывало, но уж так давно, что и не вспомню, когда именно; разве что лет тому сорок, когда я был упитанным бутузом.
А теперь — интересуются! Покамест только одни лишь уборщицы из спорткомплекса, куда вот уж третий месяц хожу на зарядку. Обычно они подлавливают меня сразу после тренировки, в раздевалке или в душе. Заскакивают абсолютно без стука, значит, с ведром и шваброй, и давай елозить пол. А давеча одна со шлангом ввалилась в душ из бассейна, оставив двери открытыми — там как раз целый класс школьников плавал, в бассейне — и говорит: ну вы всё уже, ну? Услышавши крик: «НЕТ!!! Дайте домыться!», сказала: ну ладно. И повернулась, держа шланг в руке. Уж как я ей сипячего не прописал — сам удивляюсь. Наверное, побоялся упасть на мокром кафеле. Хорош был бы на полу, голый, беспомощный, весь в пене…
Бочарова тоже туда какое-то время ходила, в бассейн, так божится, что за всё время ни разу не видала в женской раздевалке никаких уборщиц. Опять же, когда со мною рядом моются прочие качки, мощные такие, как японские мопеды — уборщицы и носу не суют. Отсюдова и вывод: они конкретно на меня запали. Главное моё принципиальное отличие от качков — я не качок, и у меня пузо всё ещё порядошное. Недаром говорят, что женщины западают на упитанных.
Кстати, у тебя, помнится, на месте гипотетического пресса тоже далеко не восемь кубиков. Ну, и как насчёт посторонних женщин? Интересуются?
Твой друг Цукер
Цукер, ты мне начинаешь напоминать дряблого похотливого старичка в исполнении Луи де Фюнеса. Кубики ему мои покоя не дают. Если за слоем пуза их не видно, это ещё не значит, что их там нет! А женщины на меня перестали западать с момента женитьбы. Как отрезало. Посмотрят на жену мою и сразу не то, что западать! Даже на другую сторону дороги переходят. Женщины, друзья, собутыльники, знакомые. Даже враги. Очень у неё взгляд, знаешь ли, строгий. Только сотрудники ДПС ещё иногда обращают внимание. И то всё реже.
Мне кажется, физкультура на тебя как-то пагубно влияет. Все эти фантазии… Женщина в костюме уборщицы с шлангом в душевой кабинке… Где-то я это видел. А вот это вот: моющиеся качки на японских мопедах. Это ж вообще ни в какие рамки! Надо держать себя в руках.
Ты, как я заметил, хотел про спорт поговорить? Так вот, я из него давно ушёл. В Брянске на футбол уже сто лет не заходил. В Москву на «Спартак» ещё выбираюсь иногда, но тоже уже как-то нехотя. Да что там говорить. Любимый биатлон забросил. Раньше очень в нём был силён. Знакомые азартные игроки даже со мной консультировались перед тем, как ставку оформить. А потом бац! Не могу я за наших биатлонистов болеть. Ты им веришь, как-то анализируешь их динамику по ходу сезона, а потом выясняется, что эта сволочь без запрещённой клизмы даже за тридцатку бороться не может. Отвернулся я от них. А такого уровня просветления, чтобы просто смотреть и наслаждаться работой какой-нибудь Лены Нойнер, я ещё не достиг. Мне надо, чтоб свои были и чужие. Хоккей я отродясь не смотрел — глазами за шайбой не успеваю. Фигурное катание — вообще не спорт. Кёрлинг наскучил. Формула 1 там же, где фигурное катание. Бокс… лучше кино про Сталлоне посмотреть. Прям беда. Думал, олимпиада зацепит. Куда там! Как представлю, сколько денег зря пропало, сразу противно становится. А представляю постоянно.
Вот на масленицу чуваки по столбу в труселях лазили. Это прикольно. Кстати, победитель за 29 секунд залез! Ногтями на ногах цеплялся.
С приветом, Денис Петренко
Я, собственно, хотел поговорить про то, что стал нравиться женщинам. Но — изволь и про спорт.
Руку на сердце положа, моим любимым спортивным упражнением всегда было: жим лёжа без рук. И когда все вот эти начинают: «мышечная радость, мышечная радость, нужно только втянуться…», отвечаю: мышечная радость случается, когда втягиваешься под одеяло!
Но женщины, будь они неладны… Однажды физкультприпадок у меня случился как раз из-за них, лет в семнадцать. Либидоз, сам понимаешь. Нужно же как-то вызывать симпатию-эмпатию, то-сё… Начал бегать, каждый вечер, по пять км, трусцой. Года два бегал, и каждое утро вставал и первым делом смотрел в окно: нет ли дождя? Потому что если дождь — то ура!!! — бегать нельзя. Ибо бегать для человека в здравом уме — противуестественное занятие. Я даже в детстве старался не бегать, из самоуважения.
Самое обидное, что проблему с либидозом бег не решал категорически. Ведь как? Ты бегаешь и подсознательно надеешься, что тестостерон ща как ломанётся по венам, эндорфины и атрактанты как брызнут, а они все как обернутся, держа в тонких пальцах бокалы на длинных ножках, а ты такой: Бонд… Джеймс Бонд…
Ага! Щас! Они такие все оборачиваются, а тут ты в роговых очках и причёске «белорусское афро»… Приходилось действовать по старинке — болтать, болтать…
Зато Олимпиадой-80 я переболел, как коровьей оспой, и когда мишку эту вашу сколиозную уносило в стратосферу, скакал от радости, как полоумный: наконец-то унылый кошмар в телевизере закончился!!!
Потому что хуже физкультуры только большой спорт, факт.
Твой друг Цукер
Вот не пойму, чего ты нашёл плохого в физкультуре. У нас в школе, например, физкультура замечательная была. Зимой мы за речку на лыжах ходили. Это само по себе приятно. А в тёплое время физрук бросал нам мячик, и мы играли в футбол. Вообще зашибись. Только мяч иногда через забор на территорию РОВД улетал. Обходить долго было. Особенно Санёк этим грешил. Удивительный малый. Как попадёт к нему мяч, так сразу не по воротам, а обязательно в сторону РОВД бьёт. Вроде даже не специально, а как-то подсознательно. А если погода плохая или межсезонье какое, так в зале в волейбол гоняли. Или иногда в баскетбол. Но баскетбол я не люблю.
Хотя, наша физкультура выглядела, наверное, как-то по-иезуитски на фоне физкультуры наших девочек. У них был другой учитель. Свежеуволившийся с предыдущей работы бывший мент. Зверь! Тиран! Он их гонял, как я не знаю кого. Мы вечно переоденемся, курим уже на крыльце, а наши девки, все в поту, ещё со стадиона возвращаются. Как они его все ненавидели! А мелкие, семиклассники, один раз его даже побили штангой. Он в свою каптерку зашёл, а они снаружи дверь завалили. А когда он выйти пытался, пошли со штангой на таран. Много шуму было. Вроде даже за забором, за который у нас мяч улетал, к этой истории интерес проявили. Не знаю, не участвовал.
Да и в институте мне физкультура нравилась. Она была первой парой по средам. Ну как её, скажи, было не любить? Я на неё вообще не ходил. Очень спать любил. А перед сессией, когда зачёт нужно было зафиксировать, у всех был ритуал. Физрук считал количество пропусков, и, исходя из этой цифры, продавал каждому студенту строго определённое количество марок общества по охране памятников культуры. Там не особо много выходило. Проспать весь семестр можно было за что-то, типа трояка.
…Вот ты с завидной частотой повторяешь, что внезапно стал нравиться женщинам. Ничего удивительного. Тут ведь совершенно неважно уже, бегаешь ты в дождь или с качками по душевым кабинкам шаришься. Тут важен твой паспорт. Ты загляни, загляни. Путем несложных арифметических манипуляций ты придешь к пониманию, что жизнь твоя… Как бы это помягче… Короче, солнце твоей жизни клонится к закату. Пройден уже зенит (будь он трижды не ладен вместе со своим поганым разворованным стадионом, неэффективным «Газпромом» и сумасшедшим Боярским).
Ты же знаешь наверняка с детства, что на десять девчонок у нас девять ребят. Так это когда было? Было это, если «Яндекс» не врёт, в 1966 году. Сейчас уже не 9, а максимум 8 ребят на девчонок. Мужиков и того меньше — 6—7, от силы. А уж боеспособных особей мужеского полу твоих преклонных годов штуки 3—4, не больше! И это ещё если «в тихом месте прислонить к тёплой стенке». Ибо одних погубил алкоголь, других спорт, третьих в 90-е постреляли, четвёртых посадили и т. д. и т. п.
Сомневаешься, сходи в школу на встречу выпускников или в кабак на новогодний корпоратив. Ты, помяни моё слово, через десять лет вообще королем будешь ходить без всяких дополнительных усилий. Ты ж не бухаешь и вообще… Даром, что в роговых и с дурацкой причёской. Короче, спасибо, что живой.
С приветом, Денис Петренко
Врёшь ты всё. Не знаю где, но стопроцентно врёшь, интуитивно чую. Это зависть в тебе пузырится. Потому что я сегодня уже восемьдесят килограмм девяносто раз ногами выжал, в три подхода. Так, глядишь, снова смогу грузчиком работать, как в отрочестве, пока мозгов не было.
Опаньки… вот это уже нехороший признак, когда человек ни с того ни с сего начинает оперировать словами «выжал» и «три подхода»… м-да…
Я на втором курсе института, видишь ли, каким-то хитрым образом оказался записан в секцию карате стиля киокусинкай. Как оказался — не спрашивай, морок нашёл. И вот я — я, да? — два вечера в неделю проводил следующим образом: приходил в спортзал, одевал на ноги борцовки, кимоно на тело и минут пятнадцать бегал по кругу с прочими бездельниками и тунеядцами, несмотря на жуткие ощущения в районе печени. После чего меня ещё часа полтора роняли на жёлтые маты из разных позиций и с разной степенью ускорения. Иногда, правда, вместо этого сенсей Серёга бил нас всех ногами, после чего садился на жёлтый мат и рассказывал одну и ту же китайскую притчу про журавля и ещё какую-то животинку, не помню. И мораль притчи тоже не помню, но наверняка что-нибудь про то, что жизнь сложна, а жить-то всё равно нужно.
…Надобно сказать, у Серёги не то что ноги, у него и руки-то были, как у меня голова. Мы однажды шли с ним по стародубскому рынку с покупками, Серёга нёс подмышкой арбуз килограмм на семнадцать. И тут подошли к нам стародубские гопники со словами «простите, мы не знакомы, разрешите представиться…» и далее по тексту. Серёга положил арбуз на асфальт и вежливо отвечал, мол, что мы студенты, приехали по культурному обмену и всё такоэ. И всё время, пока отвечал, стукал ладошкой о кулак. Получалось, как если бы моей головой стукали о забор. «Ну, ладно», сказали гопники, завороженно следя за движениями сенсеевых рук, «вы тут это… не выдрючивайтесь…» Хорошо, отвечали мы, не будем. В общем, так я и не посмотрел, чего там исполняет китайский журавль, если встретит других зверушек.
И вот этот человек бил меня ногами, прикинь?.. После чего с истошным криком «кияааа» я падал замертво.
Но вернёмся к морали. Лет через пятнадцать один из тех, кто бросал меня всяко на маты, кинулся практически на грудь с криком: привееет!!! А помнишь, как мы с тобою на карате ходили? Эх-ма, вот ведь клёвое время было, скажи?
Я, признаться, не нашёлся что ответить. Хотя… это был последний год, когда я весил ровно своих родненьких семьдесят четыре кило…
Твой друг Цукер
Да, киокусинкаисты и прочие хонгильдоны, они такие. У меня тоже один дружбан есть. У него, правда, руки намного меньше твоей головы, и вообще вид невзрачный, если не сказать убогий, но тоже всякое умеет. Один раз в пивбаре «Нептун» у толпы демонов тоже к нему вопросы возникли. А я ж знаю, на что он способен. Всё, думаю, убьёт он сейчас их всех одним движением ноги, а мне потом за разбитую мебель отмазывайся. Но Саня как-то мягко выманил в туалет их главного, и буквально через пару минут они оба вернулись и больше никто никому никаких вопросов не задавал. А он мне потом объяснил, что по ихней, хонгильдоновской теории если до физического контакта дошло, значит, ты бой уже не можешь считать выигранным. Надо уметь все вербально решать. Ну, или взглядом. Не знаю. Настоящая победа — это если ты драку не допустил. Вишь ты, как у них!
Я, кстати, тоже раз чуть не вляпался в восточные выкрутасы. Только немного по другой линии. К йогам ходил. Случайно. Говорят, к нам фирмач из Москвы на мастер-класс приезжает, гуру, с Наиной Ельциной занимается, сходи, попробуй, посмотри, тебе это бесплатно. Ты ж меня знаешь, при слове «бесплатно» я могу и на экскурсию в ад согласиться. Я и пошёл.
Только один момент не учёл. Это ж йога. Там всё враскоряку, а у меня джинсы. Чувствую, порву. И джинсы, и то, что они скрывают. Ну, думаю, йоги, они ж аскетичные ребята, всяко повидали, так что мои труселя семейного покроя и белорусского производства их точно не шокируют. Ошибался. Но они быстро привыкли. Йоги, одно слово. Пришел гуру. Гламурный такой, но очень крут. Я тебе не могу передать, что он вытворял! И не только с собой. Поставил он всех нас раком — это у них какими-то «асанами» называется, и давай верёвки вить. Туда, говорит, руки просуньте, теперь отсюда высуньте, потом ногу задерите, а другую между рук проденьте. Короче, запутал вконец! И вдруг — хоп! Я понимаю, что стою на двух руках и весь свой центнер живого веса держу в очень странной позе. Все прямо удивились. Прикинь, даже опытные йоги не все так изловчились, а у меня вышло. Все сказали, чувак, у тебя предпосылки, иди к нам, только труселя другие купи. Но я больше не пошёл. Не моё это. Все эти стринги и прочее… Не моё!
С приветом, Денис Петренко
И не моё. То ли дело — лыжи. Году, помнится, в восемьдесят седьмом, случился офигенный снежный покров. У нас на аэродроме сантиметров восемьдесят нападало, прямо как на Камчатке: дорога чищеная, а на обочине тут же стена снега по грудь. Главным спортивным упражнением было втыкание головой в сугроб: натягиваешь шапку поглубже и с разбегу ныряешь в эти барханы. Я, между прочим, всегда выигрывал, только задница снаружи оставалась. Наверное, голова тогда была более обтекаемой формы.
И вот то ли от постоянного битья башкой о наст, то ли просто сквозануло, но вдруг решили мы с другом Кульбацким на лыжах по аэродрому прошвырнуться. Сказано-сделано, взяли, что ли, в школе, две пары лыж… или свои были?… чудеса… взяли, говорю, и поехали. Лыжи те ещё, солдатские, деревянные, как стропила. Мазью их мажешь-мажешь, а им хоть бы хны, только воняют, как словно бы у них чирей, и им мазь Вишневского прописали. Но едем. Через сто, буквально, писят метров моя правая лыжина хренакс! Переломилась. Делать нечего, разворачиваюсь аккуратно и по лыжне, по лыжне, ножкой — топ! целой лыжей — вжжжик! Где-то на десятом топе лыжня подо мной разверзлась. Левая нога осталась вверху, физика, ничего не поделаешь, а всё остальное — по шею в снегу.
Битый час, веришь, я как ледокол рыл эти стописят метров, рассекая снег килем! А сзади по лыжне полз друг Кульбацкий и чуть только на меня сверху кипятком не писал от смеха. С тех пор я только на санках и только с горки. Нафиг, нафиг!
Твой друг Цукер
Лыжи в школе это сила! Как я тебе говорил, на лыжах мы катались за речкой. Там, между Десной и Снежкой много кустов, деревьев и лыжней. Или лыжень. Короче, следов от лыж там много. В кустах этих, сразу за стартом, мы делали небольшие перекуры. В прямом смысле этого слова. А, так как географию места знали очень хорошо, потом срезали напрямки к финишу, и тем самым демонстрировали очень приличные результаты.
Но однажды, когда мы уже заканчивали школу, всех старшеклассников из всех школ Советского района по линии военкомата заставили бежать на лыжах кросс. Пять километров. Я всегда очень любил подобные мероприятия. Можно поржать с корешами из других школ, и вообще. Только был нюанс. Бежать надо было не там, где мы привыкли, за речкой, а за «Самолетом», возле кладбища. Там, где сейчас всё застроено домами и гаражами.
И вот приезжаем мы все туда с лыжами наперевес, а температура воздуха градусов под десять, или, как минимум, пять тепла! Снега полно, но он не то что не едет, он вообще уже почти не снег. Стартовали раздельно. Каждая школа минут через 10—15 после предыдущей. Как только лыжи нацепили, Санек, который мяч всегда в РОВД запуливал, начал их на пружинистость проверять. Нашёл канавку, стал на лыжах поперёк неё, и давай пружинить! Хотя, «давай пружинить!» это я ради красного словца сказал. На первом же подпружинивании обе школьные лыжи хрустнули пополам. Мы вытирали слёзы от смеха, а военрук и физрук сказали Саньку, что он дурак, и велели уходить с соревнований к едрене фене.
Оказалось, это было ещё не самое смешное. Нашу школу пригласили к старту. Всем, абсолютно всем участникам забега было категорически плевать на результат. Всем кроме одного. Алексей был очень серьёзным чуваком. Радость педсостава! И в учёбе первый, и общественной жизни, и в спорте. На этот кросс он явился в настоящей спортивной форме, а не как все, в костюмах беспризорников. Алексей планировал победить. Поэтому он принёс из дома свои личные пластиковые (!!!) лыжи. Я тогда впервые в жизни увидел пластик не по телевизору. И вот стоим мы толпой на старте. Алексей, конечно, в первом ряду. А по стартовой линии ходит какой-то хрен из военкомата и в мегафон читает инструкции. И ходит он туда-сюда. Причём, туда передом, а сюда задом. Напряжение нарастает. До старта считанные секунды, Алексей уже вот-вот сорвётся в галоп, хрен с мегафоном идёт «сюда» (то есть задом). И вдруг «Хрусть! Хрусть!» Это военный наступил Алексею сначала на носок правой лыжи, а потом левой. Всеобщая истерика и ликование. Алексей молча уходит, звучит команда «Старт!».
Очень быстро мы поняли, что без лыж получается быстрее и с меньшими физическими затратами. Дойдя до ближайшего куста, мы сняли лыжи и по привычке сели покурить. Потом ещё. Нас обогнали, кажется, две школы, стартовавшие после. Мы и тут нашли, как срезать маршрут, обулись перед финишем, но всё равно результат оказался плачевным. Его я не забуду никогда. 5 км за 57 минут 03 секунды. Пьер Де Кубертен был бы горд за нас. Мы не сошли с дистанции, мы прошли её несмотря ни на что. Потому что спортивный дух превозмогает любые неурядицы.
С приветом, Денис Петренко
Спортивный дух… чо-то я про дух думал… дух чо-то такое…
Вспомнил! Вспомнил про спортивный дух. Я, кажись, догадался, чего ко мне женщины опять стали тово, неравнодушны. Я же теперь контрастный душ принимаю два раз в неделю, а то и три. Там же, в спорткомплексе. Никогда раньше столько не мылся. И вот, полагаю, спортивный дух начисто смывается кипятком и ледяной водой. Вообще теперь ничем не пахну.
Подтверждает эту версию и то, что кусок мыла в мыльнице и гель для душа от фирмы «Нивея», оставленные в помывочной по причине полного беспамятства, исчезли с концами. Поищите, говорят, в оставленных вещах. А там сплошные носки и резиновые шапочки для плаванья, и ни одной мыльницы. Как пить дать, домой уволокли, фетишистки.
Твой друг Цукер
Вот видишь, как всё просто оказалось! Ты не мучайся. Зачем тебе все эти штанги, жимы и прочее мракобесие? Просто мойся почаще и всё. Вот такой тебе мой совет. Да любовь.
С приветом, Денис Петренко
Минус первая ступень пирамиды Маслоу
…и хоть я, Анечка, «Трудно быть богом» и не смотрел, и не собираюсь, между прочим, зато знаю, откудова Герман свистнул сцену с туалетом — ну, там где мальчишка колет чем-то тётку в зад и ему тут же от кого-то прилетает по шее. Говорят, именно на этой сцене ползала выходит. Это он у Иоанны Хмелевской спёр, щитаю; есть такая польская детективщица, типо нашей Марининой, но талантливая.
Так вот, у неё есть маленький автобиографический пассаж внутри какой-то смертоубийственной истории, про русские курортные туалеты. Шла она где-то по советскому югу, дорога серпантином, и вдруг видит: на обочине этой же дороги, но только слоем выше, понатыканы деревянные удобства. А дорога-то узкая, и они натыканы даже за краем обочины, в воздушном пространстве практически. И вот она идёт себе, поднимает нечаянно голову — а прямо над нею и чуть справа — женские ягодицы в ряд. А там, кажется, ещё и задних стен не было. А зачем?
Больше всего её поразило, что курортники вокруг фланируют практически в белых шляпах и внимания никто на этот факт не обращает. Думается, дело было в Крыму.
…Крым теперь наш, представляешь?! Наш! Наш! Наш!!!…
…Прости, сорвался. Нервы ни к чёрту.
Твой друг Цукер
Погоди про Крым. Давай котлеты отдельно, мухи отдельно. Начал про мух — давай про мух. Я, например, давно пытаюсь понять, почему у нас в стране так с туалетами. Кто и когда решил, что туалет — это дырка в полу? Раньше я думала, что так обстоит дело из-за общей нехватки денег и низкого ВВП на душу населения. Но вот месяц назад побывала в туалете одного кафе. Там недавно сделали ремонт! Обложили все кафелем, повесили кованые элементы декора на стенах и потолке, а туалет как был дыркой в полу, так и остался. Или вот у нас в городе есть один дворец. Который все время сползает, может, знаешь? Он для детей в основном, но там еще и партсобрания случаются. Так там такое! Вот представь: взяли унитазы, установили, а потом залили цементом, сделали из них аккуратные кубы со ступеньками. То есть это как бы тоже дырка в полу, но только на уровне обычного унитаза. Каков цинизм! Момент нашей первой встречи с теми унитазами стал для меня поворотным. Тогда я поняла, что дело не в деньгах. Это такая национальная традиция, как запускать в новую квартиру кошку или есть макароны с хлебом. Но почему так? Удобно ли это? Гигиенично ли? Гуманно ли, наконец?
Ты вот, к примеру, говоришь, что все дело в холоде. Мол, климат у нас такой, потому так. А я думаю, дело в другом. Нельзя допускать комфорта! Ни в чем! Иначе человек, как существо слабое, немедленно прекратит думать о вечном и купит айфон. А айфон человеку немедленно принесет информацию, а через нее вред. И выход один — все время заставлять человека чувствовать неудобство. Дырка в полу вместо туалета, синтепоновое одеяло, пресервы в майонезе и презервативы с шипами! Так победим! Да?
Аня П-ко
Я вот, душа моя, чувствую в твоих словах некоторый подвох. Чтобы не сказать — сарказм. А между тем догадка эта близка к разгадке. Думается, дело не в «Нельзя комфорта!», а в том, что русский человек априори выше этого. Вот этого вот. И не из-за холода — сядь-ка посиди на унитазе в неотапливаемом «скворечнике», сразу поймёшь, почему сантехнику изобрели не Попов и не Менделеев — а из-за простора. Это в европах ваших куда ни сунься, везде занято, а у нас налево поле, направо лес. Как говорится: «Вам? Везде!». Мы и привыкли не заморачиваться, за тыщщу-то лет.
Например, одна моя дальняя-предальняя родственница неожиданно для себя выдала дочь замуж за шведа, что ли; в самом начале перестройки. Но замужем дело не обошлось, потому что и шведа и белоруса хлебом не корми, дай со сватьтями побрататься, выпить там, то-сё. И приезжают, значит, шведские сватья к нашим, в деревню. Оказались оба предушевнейшие люди! Прямо с порога белорусская тёща всем сердцем влюбилась в шведскую свекровь, взаимно. Даром что никакого общего языка между ними не случилось, они как-то так по-женски друг с дружкой закурлыкали, тут же умчались на кухню, чой-то там замутили и прекрасно провели пару часов. После чего шведская свекровь сказала фразу с международным словом «тоилет», и с вопросительной интонацией. Тёща подвела её к окошку и показала на будку.
Тут надобно сказать, что родственница моя отличалась просто параноидальной чистоплотностью, и нужник у неё не только был выкрашен, но и выдраен до блеска, и даже было в нём подобие унитаза с сидушкой, наверное, единственное на всю деревню. А шведка сама тоже родом из глубинки, и удобствами на улице её не удивить, сталобыть. Но всё ж таки вынула специальные перчатки (готовилась!) и пошла. Вернулась, и будто подменили: бледная, рта не раскрывает и вообще как-то всё стало нервно в воздухе. И уехали вскорости, очень сухо.
Дочка потом объяснила маме, что свекровь ко всему была морально готова, кроме как к контенту советского нужника. У них там уже в те времена пользовались исключительно биотуалетами, а это, сама понимаешь, совсем другой вид изнутри. Изнутри, ферштейн? И фрёкен решила, что сватья — страшная неряха. В общем, обида на всю жизнь.
А вот тебе обратная история. Приехал к нашему куму на Новостройку дедушко. Посидел, покурил на балконе — и вдруг исчез. Квартира двухкомнатная, а дедушку никто найти не может. Минут через десять — дзынь в двери
— Дед! Ты где пропал? Мы тебя обыскались!
— А я тут-то, через дорогу, в лесок, до ветру…
— Дедуш, ну ты рехнулся? Вот же туалет!
— Да ну… в хате гадить…
Чуешь тенденцию?
Твой друг Цукер
Мой друг Цукер, мы же, как ты знаешь, недавно ездили с твоей женой в Европу. И теперь я могу написать диссертацию на тему «Туалеты народов мира». Поделюсь с тобой некоторыми мыслями на этот счет. Вот, например, чем дальше уезжаешь от России, тем лучше туалетная бумага в общественных туалетах. Это жена твоя заметила. То есть в России, понятно, ее вообще нет, в Польше она уже есть, но все еще не доставляет человеку никакого эстетического удовольствия. Где-то в районе Венгрии русского человека встречает бумага белая, двухслойная и мягкая. Хотя казалось бы, да? А вот в Италии, дальше которой мы не проехали, туалетная бумага имеет четыре слоя и некоторую даже культурную ценность. Страшно даже себе представить, что там во Франции и в Англии.
Или вот еще что заметили. В Белоруссии, на твоей исторической родине, живут очень осторожные в отношении туалетов люди. Чтобы посетить туалет на заправке, нужно подойти к специальной женщине в кассе за решеткой и уверенным спокойным голосом попросить у нее ключ. Иначе никак. А вот в Венгрии можно посещать общественные туалеты без помощи посторонних. На обочинах всех трасс там есть специальные домики с тремя дверями. Это мужской туалет, женский и туалет для инвалидов. Как в них появляется жидкое мыло и туалетная бумага — так и осталось загадкой.
В городе Риме люди щедры и гостеприимны. Там мы посещали туалеты в кафе, в больнице, в магазине, в гостинице, в музеях и дворцах. Там почему-то никому в голову не приходит брать за это деньги, представляешь!
А в России, при всех ее дырках в полу, мы обнаружили удивительную заботу о человеке. Желание предостеречь и предупредить. На трассе нашей необъятной Родины мы обнаружили дорожный указатель «Туалет 29 километров».
Аня П-ко
Уверяю тебя, что в России при всех её дырках в полу можно обнаружить гораздо более удивительные вещи, чем какая-то там забота о человеке. Например, однажды в Гомельской области (не Россия, конечно, но всё ж таки) мы в туалете при сельском Доме культуры мы обнаружили молоденького петушка. Ну, то есть, совсем в туалете, внизу. Упитанный такой птиц, ходит практически по еде, поклёвывает чего-то там своё, и только выражение лица у него такое, знаешь, скорбное. То ли от одиночества, то ли от амбре. Говорим соседнему мужику:
— У вас тут курёнок в туалет упал!
— Да эт не мой, это бабарыкинский… Да он давно упал, в марте ещё…
— Опаньки… а что ж вы его не спасаете?
— А чо его спасать?.. жрать всё равно невозможно… а так нафиг он кому сдался…
— И что? Он теперь там навсегда?
— Чо навсегда-то? Ща приморозит, сам вылезет…
И посмотрел так многозначительно. И мы сразу поняли, каким образом можно вылезти из туалета, когда приморозит. Представили даже: вылазивает, такой… ни знакомых, ни друзей, ни курятника… обратно либо пойтить?..
Прямо как наша жизнь, ага.
Тут в Москве, говорят, поставили эти ваши тубзо электрифицированные, так народ в них пачками застревает. Один журнал даже целую полосу посвятил тонкостям посещения автономного клозета. Начиналась статья примерно так: «Один знакомый, человек с двумя образованиями, кандидат технических наук, посоветовал мне быть крайне осторожным. Сам он в первоё посещение по привычке забрался на унитаз с ногами, после чего сработала антивандальная сигнализация, приехал туалетный ОМОН и оштрафовал на пицот рублей…»
А ты говоришь: зачем в бетон закатали?! Зачем, зачем… положено так…
Твой друг Цукер
Мой друг Цукер, тебе, наверное, с твоим гуманитарным складом мозгов и неведомо, что где-то есть целые НИИ по благоустройству туалетов. По внедрению в них нанотехнологий. Прикинь, целые силиконовые долины туалетных инженеров! Настоящие сколково сантехнической науки! Полные чжунгуаньцунь людей, заботящихся о первой ступени наших с тобой, Цукер, потребностей в пирамиде Маслоу!
Иначе как объяснить тот факт, что вся Европа, каждая ее страна и даже провинция состязается друг с другом, у кого более замысловатые санузлы.
Заходишь, бывало в сортир, по стенам руками хлоп-хлоп — ничего. В смысле совсем ничего! Голый кафель. А внутри темно! И некоторым образом даже страшно. Ты снаружи по стенам хлоп-хлоп. Ну, мало ли, как оно устроено, думаешь. И снова ничего. И вот заходишь ты внутрь, радуясь, что Россия-матушка научила тебя ни в каких жизненных ситуациях не зависеть от света. Закрываешь за собою дверь, а тут — оп! И свет тебе, и кондиционер, и даже музыка иной раз успокаивающая. Прикинь? Ну, думаешь, хорошо! Потом снова по стенам оглядываешься, туалетную бумагу ищешь, а на стене ящик. Металлический. Будто для писем и газет. И поди разберись, как из него бумагу извлечь. А то, может, там не бумага, а шампунь. Или чистые носки. Ты его поскреб, ящик этот, постучал по нему, палец даже засунул внутрь. Фиг чего! И случайно, руку уже убирая, провел ею мимо фотоэлемента, а тебе вжиииик — вылезает кусок бумаги. Он, стало быть, на тепло рук человеческих реагирует, или что?
Думаешь, ну, все уже, хватит этих унижений, пойду прочь. Но поскольку человек ты все ж воспитанный, да и не дома, опять же, нужно ж… ну смыть! Не удалось придумать эвфемизм. И думаешь — ну, а тут вы меня чем удивите? И не ошибаешься! Нету ни кнопки, ни веревочки, ни педальки какой — ничего. Думаешь, может, на голос? Сперва культурно так просишь, потом пробуешь петь «Дорогие мои москвичи», потом свистишь, кашляешь и даже шепотом материшься. Безрезультатно. Тут ты преодолеваешь культурный барьер и уходишь. Ну, потому что, а что еще делать? Не танцевать же кадриль, в самом деле. И только открываешь дверь, как оно раааааз и само собою делает то, о чем ты его уже практически умолял последние десять минут. И еще освежителем тебе вслед брызжет с некоторым укором.
Потом идешь мыть руки. Раковина. Из нее что-то торчит. Кран — строит предположение выходящий из строя гуманитарный мозг. Нет! — торжественно сообщает реальность. Как воду добыть? — непонятно. Размахиваешь руками, нажимаешь на раковину, нажимаешь на вроде-бы-кран. Ни-че-го! И тут какая-нибудь добрая женщина на английском сообщает тебе что-то, чего ты, конечно же, не понимаешь, ты в школе учил французский, но тычет пальцем куда-то вниз. А тааам.. Что, как думаешь? Там, Цукер, педаль! Ты на нее нажимаешь, вода течет, отпускаешь, не течет.
Как добыл мыло, ты уже не помнишь, потому что мозг выключается от перенапряжения. А включается, когда пытаешься засунуть руки по локоть в приспособление, больше всего напоминающее шредер. Это страшно, Цукер! Но еще страшнее, когда в этом приборе включается обдув. Он имеет те же характеристики, что и боевое стрелковое оружие. Только по какой-то нелепой случайности призван в этот мир, чтоб сушить руки.
А один наш общий друг имел неосторожность пойти в туалет в двухэтажном поезде Венеция-Падуя. Так вышел испуганный и восторженный. Там, говорит, мало того что все вот так, как сказано выше, там еще завершающим аккордом стульчак начинает вращаться и размазывать по себе антисептическую жижу! Ты можешь себе представить такое, мой друг Цукер? В поезде-то!
Есть ли что тебе ответить на это? Случались ли в твоей жизни ситуации, когда туалет был умнее тебя?
Взять к примеру пионерский лагерь. Ты там бывал? Там туалет обычно так сконструирован, чтоб еще в первый день смены отбить у человека охоту его посещать. Тоже своего рода талант нужен, чтоб сделать туалет в темном лесу без света, без дверей и один на всех!
Аня П-ко
Ха! Она мне будет рассказывать про лагерь! Чтобы ты знала, школа, в которой я доучивался последние три класса, находилась в районе Цыганская Слобода, это было двухэтажное такое зданьице, во время войны на втором этаже, говорят, располагался немецкий публичный дом, а на первом — конюшни. Ну, примерно так оно всё и осталось к моему выпускному, и удобства тоже на улице, за углом. Жуткое место.
И вот однажды нас с другом Кульбацким родители записали на месяц в летний лагерь. Ты застала ещё школьные лагеря? Вряд ли, салага. Спишь коллективно на раскладушках в спортзале, на обед давишься варёным луком, а в остальное время бродишь от забора к забору, ибо в библиотеке школьной всё уже сто раз прочитано.
В общем, хватило нас на неделю, а в пятницу мы с Серёней затырили у него в чулане заготовленный для варенья сахар, два кило (дефицит страшнейший!) и килограммовую пачку дрожжей (ваще дефицит!!! Поймал бы нас его батя, директор химзавода — удавил бы собственными руками), развели в ведре тёплой воды и вылили в ту самую дырку в полу. И ушли на выходные.
В понедельник шли, особых результатов не ожидая, потому как — ну что такое кило дрожжей на три кубометра биомассы? Но уже за квартал слышим: гудит, как если бы трансформатор за стеной. Подбежали… ёханый бабай… мухи гудят. Просто серое облако аккурат над школьным двором, а сам двор ровно очень покрыт тонким слоем этой… как бы это?… типа, бражки. Перед школьными воротами стоит весь лагерь, молча, и лица у педсостава вот примерно как у тебя в европейском ватерклозете: все вроде как понимают, что должно быть какое-то логическое объяснение, но три кило дефицитнейшего продукта в толчок — это за пределами всякой логики, согласись.
Лагерь тут же закрыли, но как-то без особого скандала. Осенью во дворе трава была по пояс, весь асфальт подняла. А ты говоришь — нанотехнологии..
Твой друг Цукер
Ну, Цукер, что я хочу тебе сказать. Ты хоть отдаешь себе отчет, что в этой стране так плохо с туалетами именно из-за тебя? Именно ты со своим Серёней виноват, что вместо антисептической жижи в наших туалетах дыра в полу и фрагменты жижи совершенно противоположного свойства.
Даааа, не ожидала я, что наш диалог настолько близко приведет меня к причине проблемы!
Это ж надо! Человек, который запрещает мне сорить на улице, в свободное от нотаций время бросает дрожжи в детский туалет!
Не удивлюсь, что после вот этого вот вашего с Серёней демарша у нас в оздоровительном лагере Юность ввели день Нептуна. Это был единственный день за всю 21-дневную смену, когда всем разрешали мыться. Централизованно и под присмотром. Мылся ли ты, Цукер, один раз за 3 недели? Знаешь ли ты, каково это?
Если бы не ты, Цукер, со своими дефицитными дрожжами, на постсоветском пространстве выросло бы уже целое поколение людей, которые моются два раза в день и посещают туалет без опасений. Целое поколение свободных людей! Они бы благоухали фиалками, знали, где у унитаза кнопка, сортировали бы мусор по цвету, читали бы Чехова и Фейхтвангера, не голосовали бы за Жириновского, не пили бы стеклоочиститель и по своей воле ездили бы отдыхать только в Сочи и в Крым! Ты хоть понимаешь, что ты наделал своими дрожжами, Цукер? Ты, может быть, вообще во всем виноват. Один ты и Серёня твой неразумный!
Даже и не знаю теперь, как тебе реабилитироваться.
Аня П-ко
Да если хочешь знать, я вообще первый в этой нашей стране посетил приличный туалет европейского типа! Дело было в Ялтинском заповеднике, я там на втором курсе практику проходил: лазал по горам (называются — «яйла») и считал короедов. За месяц одичали так, что однажды нас местный егерь застукал за ловлей ручейной форели на гарпун из вилки. Чуть не расстрелял, но потом всмотрелся в обросшие лица, понял и простил. Так вот, представь себе: яйла, пару тыщщ над уровнем моря. Буковый лес, густой. Просёлок, чтобы не сказать тропинка. И вдруг на обочине — розовый оштукатуренный туалет типа эМ и Жо. Внутри, естественно, две дырки в полу, но кристально чисто! Просто глаз режет. И на стене РУЛОН ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ. В начале девяностых, если тебе это о чём-нибудь говорит. Ну, то есть тогда, когда люди приходили в гости, если не к очень знакомым, и бумагу туалетную уволакивали под рубашкой. Мы минут пять её рассматривали, думали, галлюцинация по причине разреженного воздуха. Но старшой объяснил, что это сталинский туалет, он, Сталин, здесь охотился на благородных оленей, ну, и иногда испытывал потребности. Мы шёпотом спросили: а они здесь не в курсе, что Сталин тово, помер? Да в курсе, отвечает, но мало ли… лучше перестраховаться… Поэтому все сталинские туалеты содержатся в образцовом порядке.
И вот тут-то, Анечка, я понял, что Россия возрождается! А дело, напоминаю, было в Ялтинском заповеднике. А Ялта — это же Крым! А Крым теперь наш! Наш, понима… экхэм… горло перехватило. Нервы, говорю же. Пойду, выпью валерьянки.
Твой друг Цукер
Жизнь после тридцати
Дорогой мой Кузьменок! Я к тебе хочу обратиться с девочковым вопросом. Ты как себя ощущаешь по ту сторону 30-ти? Ты же уже по ту? По ту же что и я? А то я стала переживать. Есть ли здесь жизнь как форма существования белковых тел? Или одни сплошные морщины, варикозное расширение вен и двойной подбородок? Я недавно посещала маникюршу, она оказалась такой виртуозной, что я решила написать ей благодарность. Захожу на сайт салона красоты и первым отзывом вижу восторженные слова женщины В. и ее мужа Г., о том как здорово ей в этом салоне вкололи гиалуронку в точку джи. Нет, Кузьменок, ты представляешь!? Я-то думала, что ученые еще не уверены в ее существовании, а тут такое дело, что в Брянске в точку джи уже колют гиалуронку. Ты не колола? А может зря? Может после 30-ти всем надо? А если надо, то зачем? И больно ли это? И какой формы, я извиняюсь, шприц? И надолго ли хватает эффекта, каким бы он ни был? И сколько это, в конце концов, стоит, Кузьменок? Может, я зря сижу тут в махровом халате поверх инфантильной пижамы, в то время как все прогрессивное человечество после 30-ти колет себе гиалуроновую кислоту точечно? Вон даже Путин, и тот вроде ботокс колет. А я что ж даже хуже Путина? В общем, проясни ситуацию, Кузьменок! Как женщина женщине.
Анна П-ко
Драгоценная Петренка! Знаешь ли ты, как затрепетало у меня жало, когда мы с ним прочли словосочетание «девочковый вопрос» прям во первых строках твоего письма. Дело в том, что мы с жалом уже давно освоились по сю сторону от 30-ти, и нам весьма льстит, что кто-то еще спрашивает у нас «девочковое», а не «по работе». Мы с ним становимся от этого медвяноокими, а на макушке у нас сам собою вырастает бант. Но бант-бантом, а жизнь тут таки имеется, передает наш корреспондент с места событий. И «после 30-ти» на этой планете жить, оказывается, безмятежнее, чем «после 20-ти». Нет, бывают, конечно, сложности личного порядка. Например, с каждым годом все труднее быстро отвечать на вопрос, сколько же тебе на самом деле полных лет. И не потому что в душе тебе всегда 13. Просто элементарные правила арифметики, с помощью которых ты быстренько вычитаешь из года нынешнего год своего рождения, и ловко получаешь в итоге свой возраст, имеют свойство истираться из памяти. Но это ведь они за ненадобностью, а не от того, что «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», правда же? Или вот еще подходишь, бывает, утром к зеркалу спросонья. А оно тебе такое: «Женщина, отойдите, я вас не знаю». И через плечо тебе голосом визгливой медсестры: «Кузьменок уже позовите!» Тут вот, наверно, в чаще нейронов и должна мелькнуть мысль «гиалуронке», которая, к слову, ассоциируется исключительно с поролоном, гудроном и топонимом «макаронка». Короче, пойдём лучше купим себе по ромашковому платью, чтоб было в чем летом покататься на великах. Должно быть полезно для той самой точки джи, если я правильно поняла, где она находится. Ты, кстати, что думаешь по поводу всеобщего увлечения спортом в нашей с тобой за-30-летней среде? Я в смятении: все подруги в округе ходят на фитнес, тягают гантели и обмениваются цифрами физкультурных успехов. Даже я сама, которая из всей физры всегда признавала лишь упражнение «у меня справка», теперь еженедельно хожу на йогу — укладываться кольцами и тянуть внутренние пятки. А минувшим годом, ты не поверишь, впервые в жизни встала на коньки. Ты как мыслишь: это все Олимпиада-проклятая или все тот же возраст?..
Впрочем, что бы там ни было, остаюсь более чем твой навеки Кузьменок.
Знаешь, Лена, ты только что глубоко меня уязвила. Глубже точки джи, где бы она ни находилась. Дело в том, что еще в сентябре мои дорогие друзья подарили мне карту на фитнес. Я сама попросила. Опасаясь, что еще чуть-чуть, и из всей доступной мне одежды останется только мусорный пакет на 80 килограммов. Карта лишала меня безмятежности и праздной лени на 9 аж месяцев! Раз за это время можно успеть родить, то уж похудеть всяко успею — решила я. И начала ходить. Ну, как ходить. Ездить! 40 минут туда, 40 минут обратно. Не спрашивай, почему мне не подарили карту в клуб поближе, это я сама виновата. Таким образом, самосовершенствование и тяга широким хватом занимали у меня 3 часа в день минимум. Могло ли это продолжаться долго, я тебя спрашиваю?! Разумеется, нет! Поэтому теперь я снова сижу на диване и примеряюсь к мусорным пакетам на 80 килограммов. Но женская природа, Кузьменок, такова, что истребить в ней тягу к похудению не может ни здравый смысл ни даже опыт, сын ошибок трудных. Эта карта на фитнес у меня не единственная, затерявшаяся среди визиток в кошельке. Но я не сдаюсь! После новогодних выходных я решила сесть на велотренажер. Почему после новогодних выходных, спросишь меня ты? А ты поделикатничай и не спроси! ты меня и так ведь уже уязвила, тем что все твои подружки ходят на фитнес. И даже ты сама, существо эфирное, прозрачное на просвет, как кусок московско-летней колбасы, и то ходишь на йогу! А я — нет! Я тебе больше скажу, на велосипеде я не умею. А из всех платьев в ромашку мне доступен только мусорный пакет на 80 килограммов. Утешь меня, Кузьменок! Скажи, что все дело в замедлившемся после 30 метаболизме, а?
Анна П-ко
Тююю! Петреночка, а зачем вот вам всем худеть? В чем сливки? Какие-такие преимущества видят сдобные с ванилью женщины в выпирающих ключицах и прочем теловычитании? Не влезаешь в ромашковое платье — так можно ж с каждым новым килограммом новое покупать. Я вот, например, платья люблю, но возможности покупать с каждым килограммом новое лишена. Нет килограммов — нет платьев. Подозреваю, что даже в 70 годов буду на качелях качаться в наряде, в котором на первый паспорт фотографировалась. А зима? Знаешь ли ты, как неловко чувствуют себя худые тетки зимой? Во-первых, холодно, как в кельтском аду. И я понимаю, что всем холодно, но нам-то, воздушным — в тройной порции одежды. Рейтузы там козьей шерсти (с начесом, не абы что!), войлочные гамаши навыпуск, жуткий предмет туалета «колготы женские», ямщицкие рукавицы, в которых так неудобно держать ажурный веер. Падать в этой почти хоккейной экипировке, конечно, мягко. Катиться под гору кубарем — тоже ничего. А вот встать без посторонней помощи такая мануфактурно уплотненная женщина может уже с трудом, тут кран нужен. И если в этом месте тебе придет в голову вставить что-то типа «а вот у вас, худых, кавалеры все галантные, пусть они и помогают», предчувствую, что мне захочется профилактически вдарить тебя по точке джи. Потому что привлечь внимание этих самых кавалеров женщина балетной комплекции может, только по-балетному подпрыгивая и по-балетному же звонко при этом ригоча. В остальном они предпочитают обхаживать душистые складочки дам, довольно внятно превышающих плотность воздуха. Хотя и такие, порой, остаются без особого кавалерийского внимания. И тут у меня всплывает вечный риторический вопрос: чего им вот всем надо, ты не знаешь? Что же касается замедления метаболизма, то мы про него не будем. А будем про мою уверенность, что для тех, кому за 30, существует только один способ существования — не борьба с собой и с жизнью, а сотрудничество. Партнерство во взаимном удовольствии, если хочешь знать. В смысле — хочешь зефиринку, ешь зефиринку. А хочешь гантели с велотренажером, ешь гантели с велотренажером. Но чтобы счастье. И не спонтанное, а потому что сама так решила.
Вечно твой Кузьменок. Про кавалерию я знаю плохо. Но можно подумать. Вот ты спрашиваешь, что им всем надо. Еды, может? Или что там еще в пирамиде Маслоу? Я тут накануне Нового года в первый раз иначе взглянула на фильм «Москва слезам не верит». Раньше-то я только Рудика осуждала, а теперь думаю — гляяяя, да они там все хороши! Ты вот часто перед кавалерами хочешь казаться лучше, чем есть? Я вот иной раз нет-нет, да и да! И не только перед кавалерами. А это путь куда? Вот! Это ж вот, вернемся к началу, к гиалуронке в точку джи, это ж какое глобальное несовершенство мира, в котором женщина ради эфемерных удовольствий мало того что верит в несуществующее, так еще и совершенствует несуществующее! А некоторые ж еще клеят ногти на ногти и рисуют брови на бровях. Ты слыхала, тут, оказывается, в магазины завезли трусы с эффектом пуш-ап, Кузьменок! И какая ж тут будет кавалерия? Тоже, небось, фальшивая. Давай создадим движение за естественную красоту после 30-ти? Из внешних воздействий я согласна только на эпиляцию и маникюр. Остальное — все чтоб изнутри. Чехова будем читать, Моцарта слушать, пока естественная красота у каждого не попрет наружу и не заискрится на ресницах. А уж только потом позволим увеличивать популяцию своими силами. Иначе, Кузьменок, пропадем! У меня вон иной раз женихи невест не узнают в день свадьбы. Говорят, зачем ты волосы чужие надела, у тебя ж свои есть. Ты вот какие приемлешь искусственные улучшатели женщины, кроме платья в ромашку?
Анна П-ко
Боже мой, Петреночка! Трусы пуш-ап — это что же, сатиновые на вате? В них, верно, хорошо на чем-нибудь каменном сидеть или зимой на снегу спать. Эдакий отечественный вариант термобелья — и пышно, и греет, и воображение поражает. Хорошая, чую, вещь, особливо, если с каблуками. Я себе куплю, пожалуй, пусть придаст мне должной искрЫ в глазу. Тем более, что без искрЫ той никакой естественной красоты после 30-ти не получится — мое убеждение. В вариант с Моцартом Чеховым, откровенно говоря, слабо верится. Хотя тут кому что, кому фортепьянные сонаты и кружевную шаль, а кому ночью Бродского поорать с водонапорной башни и по картофельному полю голяком побегать. Ну или хотя бы в пуш-апе по росе, учитывая дальнейшие перспективы по увеличению популяции. И тут ты мне можешь возразить, что не всякой женщине в летах идет обалдуйство, на что я тебе отвечу — зато всякой женщине идет удовольствие. И неважно, каким образом она собирается его получить: от удобной обуви ли, либо от собирания кораллов. В семье с дитями или в одиночестве с мечтами. В общем, я исключительно за гедонистические улучшатели дам, что само собой не исключает маникюр, эпиляцию и ухоженные розовые пятки. Тут другой вопрос, мировоззренческий (я старше тебя, мне можно) — как это желание удовольствия сохранить хотя бы лет на десять? Вот ты когда-нибудь воображала, какой ты будешь бабушкой? Я себя так развлекаю, когда начинаю бояться стареть. Пока придумала только, что буду смешной старухой с лиловой прической, с обязательным фунтиком конфет в старинном ридикюльчике и губами в ослепительно красной помаде. Буду срочно дочитывать все те книги, которые не успею прочитать, а на досуге делать «ласточку» и учиться стоять на голове. Но это при условии, если я останусь такой же, как сегодня, просто в старом теле. А как вот себя такой оставить и образ этот не забыть, я даже не знаю. Может, записать на бумажке, положить ее в бутылку и закопать в саду, пометив веточкой? «Мы, пионеры настоящего, обращаемся к вам, пионеры будущего…».
С искренним уважением, задумавшийся о вечном Кузьменок.
Погоди ты готовиться к старости, Кузьменок! Мы список кораблей еще и до середины не того. Кстати, раз уж ты настаиваешь, я сегодня узнала про старость страшное. К 70-ти мы с тобой потеряем до 30 процентов костной ткани. Часть из них высыплется песком из известного места, а часть, повинуясь свирепым законам природы, просто куда-то денется. Поэтому надо пить кальций, Кузьменок! Хотя кальций, мне достоверно известно, не усваивается, если его пить. Так что надо есть. Творог и яичную скорлупу. А пока наш с тобой диалог не превратился в программу Малышевой, давай из медицинской темы перейдем в более приятную. Давай об удовольствиях. Вынуждена с тобой согласиться, дорогой мой Кузьменок. Нужно черпать удовольствия во всем. И в слоне и даже в маленькой улитке. Давай составим список. Вот ты сказала про удобную обувь и собирание кораллов. Это же не ради красного словца? Тебе и вправду от этого кайф? Что еще? Перечисляй прям по пунктам. У меня удовольствия вот в чем. 1. Только что посмотрела нового Холмса. Вторую серию. Несколько дней назад смотрела первую. Одна, в спящем доме, рядом елка мигает, я сама на диване, а рядом со мной бутылка брюта и колбаса. 2. Научилась печь торт. Своими руками. Вкусный. 3. Из Америки приехали ко мне самые лучшие в мире босоножки из плотной мягкой коричневой кожи. Я их давно хотела, но они стоили, как самолет. А потом вдруг случилась распродажа, и вот они со мной. 4. Обнаружила, что почти все игрушки на ёлке имеют историю. Я к этому стремилась, поэтому тоже удовольствие. Не абы какие безделушки висят пластиковые. Некоторые даже с именами и из-за границы. 5. Вот еще вспомнила. Когда ванну набираешь горячей воды. И сидишь в ней какое-то время. Нижняя часть уже мокрая, а верхняя, лучшая часть, еще сухая. И вот этот момент, когда ты по склону ванны скользишь спиной и погружаешься в горячую воду — вот очень удовольствие! Давай теперь ты, а то я сейчас чувствую, что сползу на теплый клетчатый плед и чашку какао.
Анна П-ко
Про гаджеты
Константин, обращаюсь к Вам в три часа ночи, потому что больше не к кому, все спят. А я не сплю. Я размышляю. Причиной тому престранный случай: вот уже второй месяц в моем смартфоне живет какая-то Даша, с которой некто неизвестный ведет оживленную переписку. «Даша, ты доехала?», «Даша, пожарь картошечки», «Даша, куда ты делась?» — приходит в самые неожиданные предутренние часы. И я даже где-то завидую Даше, потому что мне вот таких смс-ов про картошечку никто никогда не слал. Конечно, если переписка не заканчивается, можно предположить, что Даша из глубин моего смартфона что-то на эту нежность отвечает. Но на самом-то деле — нет. А человек, может, на каждую неотвеченную смс решает, что она его разлюбила. Я вот, например, всегда так решаю, хоть у меня и рассудок. А не было б всех этих гаджетов, может, оно и честнее бы было. И не читала бы я всякое интимное из жизни Даши, да и сама писала бы ни в чем неповинным людям пореже. Как Вы на этот счёт мыслите? У вас, небось, всех этих приборостроений дома вагон, и все — радостные! Вы же мальчик, в конце концов. Есть у вас радостный тостер?
Поговорите со мной, я с минуты на минуту ожидаю смс-ку для Даши.
Искренне Ваша, Кузьменок
Елена, поговорить с Вами я готов, но, боюсь разочаровать не на шутку. Например, у нас дома совершенно нету тостера. Когда-то был, целыми днями мы жрали грубо порванные обжаренные куски батона, но однажды весы позволили мне выйти на ринг в той же весовой категории, что и Кличко-старший, и мы стали жить без тостера. Обидно, но весы с тех пор своего мнения не изменили.
Зато буквально на днях в магазине бытовой химии «Золушка» мне достались пять призовых фишек с правом купить себе тостер за пол-цены! Не обижайтесь, но я склоняюсь к бурбулятору для ног (семь фишек — 40%-я скидка). Вы когда-нибудь парили ноги в бульбуляторе? Это незабываемо. Механизм рычит и плюётся, а вы сидите на табурете, закатав трико, ждёте удара током, меняете режимы рычания и пытаетесь вспомнить, какая же с-судорога передарила тебе это чудо релаксации на 23-е, кажется, февраля…
В общем, не все мальчики любят гаджеты, но Паша Кирилин любит гаджеты. Я не люблю гаджеты, следовательно, я не Кирилин. Такая вот логическая цепочка.
А у Вас какой первый гаджет был? Плойка? Кипятильник? Свистулька из акации? Просто интересно, раз уж три часа ночи и мы разговариваем.
Навеки Ваш, Цукер
Хо-хо, знали бы Вы, навеки мой Цукер, что первым гаджетом в моей жизни числится фотоаппарат «Агат 18к»! Чёрный, с желтой кнопочкой. Кнопочка нравилась особо, как самая понятная деталь в конструкции. С тех пор в фотоаппаратах, какие б они ни были зеркальные, я понимаю только кнопочку и в результате получаю исключительно постмодернисткие фотографии ковра и собственных ног, тщательно отпаренных в — да-да! — бульбуляторе. Вам, как фотографу, чутко реагирующему на светотени, этого концепта не понять!
А бульбулятор, кстати, — прекрасная и загадочная вещь. Мой гудит и вибрирует так, что в радиусе двух метров из любых жидкостей сбивается масло, а все соседи сразу в курсе, что сегодня у тебя чистые пятки. Очень удобно. Но больше всего в нём поражает наличие пульта дистанционного управления. Зачем?! Свет с его помощью включить невозможно, Дмитрия Киселева в телевизоре замочить тоже не удается…
Телевизор, кстати, у нас гаджет? Судя по корню «гад» — да, не правда ли? И чтой-то Вы мне говорите, что не любите гаджеты? Что, вот у Вас даже электронной читалки нет? Как же вы живете без натыренных в пиратских библиотеках книг…
Трепетно Ваша, Кузьменок
Нет, ну как так можно, Кузьменок! Взять, и в одном абзаце два раза поставить человека в неудобное положение: во-первых, обозначить, что я малограмотный и социально-неактивный типчик, во-вторых, заставить лезть в википедию за знанием. Так вот, википедия сообщает: гаджет — устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека. Поскольку телевизор предназначен для отягчения и деградации, и вообще никакой не прибор, давайте договоримся считать его происком Госдепа, или, если угодно, окошком в ад, и плюнем.
Моим первым гаджетом был кассетный магнитофон «Весна-202». Стесняюсь интересоваться девичьим возрастом, но вряд эти волшебные буквы и цифры — «Весна 202» — заставят трепетать Ваше сердце. Это потому, что сериалом Вашего детства был не «Гостья из будущего», а какая-нибудь «Элен и ребята». И Вам не довелось бродить по улице, держа на правом плече легендарный магнитофон второго класса, и тусить у подъезда, ставши кругом над надорванным динамиком, тоже не довелось. И уж тем более, Вы никогда не ходили по вечерам к первой девушке, помогая группе «Форум» исполнять культовую песню «Островок». Я, Елена, в любой момент своей жизни могу закрыть глаза и увидеть заросший зелёным мхом забор, вдоль которого мчался вниз по улице навстречу своему разбитому сердцу по имени Люба Вшивцева: «Ос-тровок! Ос-трово-о-ок!» Вот именно это и называется «облегчение и усовершенствование жизни человека», как думаете?
Ваш утонувший в воспоминаньях Цукер
Облегчение и усовершенствование, дорогой «Островок» -Цукер, это скорее про другой прибор-мне-ровесник. Про дивную штуку под названием «Харьковчанка-3» в синей пластмассовой коробочке. И простите, что я опять про Украину, да. Возраста он примерно такого же, как ваша «Весна», но в отличие от «Весны» до сих пор работает. И при этом представляет собой довольно зверскую вещь. Миссия — заменить советской женщине если не мужа, то хотя бы косметолога. Это такая жужжалка с разными насадками, которая, хочешь массажер, хочешь — бритва, хочешь — отбойный молоток. Мини. Впрочем, не удивлюсь, если «Харьковчанка» эта при случае сможет и утюг отремонтировать. В общем, все для страны, в которой баба сбреет себе подмышку вместе с кожей и, не поморщась, произведет потом из этой кожи кошелек. А не для современных неженок, у которых для каждой простецкой операции свой гаджет типа фена или зубного техника. Вы вот хоть гаджеты и не любите, а услугами всяких «облегчателей и усовершенствователей» типа собачьих парикмахеров, небось, пользуетесь.? Ну, в смысле, не Вы лично у них стрижетесь, так Жуля, а? И не надо мне тут гуманистическое про «гаджеты не люди, а люди не гаджеты». Гад-жеты они, да еще какие!..
Ваша непримиримая Кузьменок
Эээ… э… Вы, украиноцентричная моя Кузьменок, только что спалили во мне несколько важных микросхем… Я вот уже пятнадцать минут туплю в экран, пытаясь представить себе хотя бы внешний вид описанной Вами смарт-хрени. И все пришедшие в голову варианты можно продавать исключительно в магазине «Альков», детям до 18 вход воспрещён. Я чего-то не знаю о жизни в СССР?
…Ишь, как завернули: люди = гаджеты… хм… хм… Если рассуждать в эту сторону, тогда главный «облегчатель и усовершенствователь» у нас сейчас — вышеупомянутый Кирилин. Примерно раз в неделю он врывается в наш дом с исступлённым выражением лица, отпихивает всех от компьютера, раскручивает бедную машину до основанья, скручивает обратно, включает, меряет температуру, пульс, процентность алкоголя и соскакивает с балкона с криком «ну теперь-то уж точно заработает!!!». Через час раздаётся звонок, и телефон спрашивает тревожным голосом Кирилина:
— Ну, они появились?!
— Кто появился?! — пугаемся мы — Павел, Вы вообще, где?!
— В Карачеве… это неважно… они должны были уже минут пятнадцать как телепортироваться! «Киевские котлеты» от Мираторга, они должны уже быть там, между нами не больше ста километров! Посмотрите в холодильнике!
— Павел, — кричим мы в испуге, — Вы только не волнуйтесь, тут есть какая-то коробка… блин, это картофельные котлеты с шампиньонами… Кирилин, Вы только не молчите!
— Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт!!! Завтра приеду с утра, всё переставлю назад…
Но котлеты мы, конечно, съедаем до его приезда, так что и облегчение, и усовершенствование налицо.
С луддитским приветом, Ваш Цукер
Константин, не обижайтесь, но я попрошу Вас поаккуратней со словобразованием! Я только что «украиноцентричную» прочитала, как «уриноцентричную». И уже хотела прислать секунданта, чтоб вы там разобрались между собой по-мужски. Но потом поняла, что это просто грязный монитор, искажает.
Видите, когда между людьми стоит гаджет, жди войны. Не всем же так везёт на человека-гаджета, как Вам на Кирилина.
…Кстати, давайте сразу определимся с определениями. Как нам называть этих супергероев? Геройжет, волшебник в голубом вертолете? Я лично склоняюсь к «робот Вертер». Геройжеты дарят нам себя и свои прекрасные замыслы. Кирилин ваш, еще пяток моих друзей и все, пожалуй. Гораздо чаще попадаются такие как я: в моих руках даже флегматичная финская Нокия выкидывает кунштюки. Вот, например, был у меня один аппарат с очень независимым характером. Сам слал смс-ки понравившимся ему людям. Ну, в смысле, первую смс слала я, а остальные девять раз этот текст им отправлял уже он. Преимущественно ночью. Слово «чудачка» — самое нежное из тех, что потом ко мне применяли несчастные друзья и коллеги. Подозреваю, смс-ки от Даши — это ответ Вселенной на те мои кунштюки…
Так давайте же нажмем на все кнопки разом, сведем межчеловеческие электронные прослойки к минимуму, да и поскачем на зарю, как неуловимые мстители в финале одноименного фильма. Потому как, разговорчивый мой Цукер, если поднять глаза от экранов к небу, то выяснится, что уже светает…
Зевающая Кузьменок…
Мостовщиков +
Почему у женщин нет ни стыда, ни совести, ни мозгов
Всякому приличному мужчине, к сожалению, следует время от времени думать о женщинах. А то он покроется прыщами, и у него от напряжения лопнут глаза. Такой мужчина довольно скоро станет неприятным и со временем умрет, оставив в наследство потомкам пачку недоеденных витаминов, коллекцию марок и пластмассовую расческу.
Поэтому остальным мужчинам следует периодически, до нескольких раз в месяц, думать о женщинах. Это может принести им облегчение, хотя, честно сказать, недолгое. Дело в том, что думать о женщинах неприятно. Едва только взявшись за это занятие, всякий мужчина понимает: у женщин нет мозгов, стыда и совести. А кому такое понравится? Впору собирать марки и есть витамины.
Многие спрашивают в этой связи: как быть? Отвечаю: никак. Спасения нет. Летальный исход неизбежен. У женщин действительно нет ни мозгов, ни стыда, ни совести, поскольку они им не нужны. Наблюдения за женщинами показывают: в течение всей своей жизни они делают всего несколько вещей. А именно: маникюр и звонок по телефону с вопросом «Ты где?». Все остальное — истерики и критические дни. Для этого, конечно, ни стыда, ни совести не требуется. Не говоря уж о мозгах.
Едва родившись, любая женщина сразу закатывает истерику. Она кричит как полоумная, воет как белуга. Люди носят ее на руках, сюсюкают, пуськают, тетехают и тютитюкают. А она знай себе орет как ненормальная. Глаза навыкате, руки дрожат: а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-! Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы! Подите все от меня-а-а-а-а-а! Ы-ы-ы-ы-ы-ы!
Устав кричать, женщина начинает делать себе маникюр. Это единственное занятие, которое может отвлечь ее от истерики. Если женщина не кричит и не делает маникюр, значит, она выщипывает брови. В среднем, женщина тратит на маникюр семнадцать лет, восемь месяцев, три дня, сорок семь минут и двадцать секунд своей жизни. Остальное время она кричит и выщипывает себе брови.
Трудность, однако, в том, что жизнь сложнее и дольше. Поэтому женщине приходится худеть и толстеть. Нет ни одного существа на белом свете, которое могло бы худеть и толстеть. Цветы — пахнут, деревья — гнутся, птички — свистят, солнце — светит. Женщина же постоянно худеет и толстеет, и это доводит ее до исступления. Она говорит:
— Господи, кажется, я потолстела. — И закатывает истерику.
Когда вы пытаетесь успокоить женщину и говорите, что она вовсе не потолстела, а даже как-то похудела, она говорит:
— Господи, как же я похудела! Смотреть не на что! — И закатывает истерику.
Если женщина не бьется в истерике, не делает себе маникюр, не выщипывает брови, не худеет и не толстеет, значит, она потеряла стыд и совесть. Это значит, она открыла шкаф, стоит перед зеркалом голая и говорит:
— Так. Мне совершенно нечего надеть. В чем я теперь пойду?
Это не значит, что она куда-то собралась. Просто у нее нет ни стыда, ни совести. Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что время от времени стыд и совесть у женщины все-таки появляются. Но это означает только то, что у нее начались критические дни. В критические дни женщина ведет себя иначе. Она не открывает шкаф, не стоит голая, не худеет, не толстеет, не делает себе маникюр и не выщипывает брови. В критические дни она просто кричит. Истошно, без стыда и совести, как белуга. Таких дней в месяце примерно семь. Однако их особенность в том, что есть еще дней десять отчаянья перед критическими днями и примерно столько же после. В течение этого непростого времени женщина не желает ничего знать. Относиться к этому следует с пониманием. Для того, чтоб что-нибудь знать, надо иметь мозги, стыд и совесть. А у женщин их нет.
Следует, впрочем, заметить, что в перерывах между критическими днями, маникюром, выщипыванием бровей, худением, толстением, стоянием перед зеркалом и истерикой у женщины остается немного свободного времени. Как правило, она использует его, чтобы позвонить по телефону. Когда женщина звонит по телефону, она обязательно дозванивается и спрашивает: «Ты где?» Вне зависимости от ответа женщина сразу начинает закатывать истерику и жаловаться, что ей нечего надеть, она исхудала, забыла, когда в последний раз делала маникюр, у нее скоро критические дни и она не желает ничего знать, поскольку у вас нет ни стыда, ни совести и думаете вы неизвестно чем. То есть известно, чем. Черт-те чем.
Спрашивается: зачем так устроено природой? Зачем же она не дала женщинам мозг, стыд и совесть? Я вам отвечу вопросом: а откуда б она их взяла? Все женщины ведь происходят от женщин, у которых нет ни мозгов, ни стыда, ни совести, и от мужчин, у которых нет денег и головы на плечах, чтобы с ее помощью оценить маникюр, выщипанные брови, плоский живот, розовую кофту и ответить наконец на вопрос «Ты где?». Поэтому в сложившейся ситуации следует действовать только двумя традиционными способами: коллекционировать марки или периодически пуськать женщину, тетехать ее и тютитюкать. В конце концов, пусть себе орет как ненормальная. От крика тоже польза есть. Сидишь, как пенек, денег нету ни черта, башка глупая, глаза бесстыжие. Сидишь, в носу ковыряешь, слушаешь и думаешь: Господи, какое ж счастье! Я не одинок.
Дети Воробьёвой
Работа над ошибками
С раннего детства Олег и Федя Воробьёвы знали, что мама у них — журналист, а папа — начальник. Папа на самом деле отродясь считался верстальщиком-дизайнером. Но младенцев не проведёшь. Каждый раз, когда приводила я их из сада на нашу общую работу, дети видели одно и то же: большой и бородатый Воробьёв курил и сокрушительным баритоном объяснял коллективу, что, в сущности, все козлы, а которые хорошие — так их ещё учить надо… И папа, надрываясь, всех учил: писать, редактировать, корректировать, фотографировать, собирать рекламу, распространять изданье, вести делопроизводство и бухгалтерию. Почему коллектив это терпел? Загадка.
Однажды папа громко попенял пожилому редактору, что он не сдаёт вовремя свою колонку, отчего макеты опаздывают в типографию. В это время наши трёхлетние дети поднимались по редакционным ступенькам… С этого момента на ближайшие два года Олег и Фёдор приняли решение.
Бабушки-дедушки частенько уточняли: и в какие это вы собрались начальники? И дети отвечали: а вообще — в начальники. Довольные прародители ставили наводящий: и что же для этого надо делать? И для этого надо курить и командовать, делов-то! — без запинки, радостно отвечали внучики…
К профессии пацаны готовились серьёзно: развивая начальственную удаль, частенько поколачивали друг друга и товарищей, а отнимать окурки, схваченные с асфальта, приходилось три раза в час.
Моя профессия впечатления пока не производила.
К первому классу дети зачитали — сначала Федя, потом Олег. Именно что газеты. Уточнили: так, мам, трудно писать-то? По-разному, — говорю. — Но удовольствие — непередаваемое. Какое ж, говорят, удовольствие, когда тут три строчки прописей напишешь — так мозоли выступают? — А вот вырастете — поймёте…
К концу первого класса была исписана гора прописей и тетрадей. Мозоли затвердели.
Сыновья стали слегка участвовать в наших дружеских творческих сборищах по субботам, навострять ушки. Друзья-коллеги критиковали и хвалили материалы друг друга, обсуждали яркие статьи в центральных изданиях, фильмы, книги, музыку…
Через год дети вывели вслух: хороший текст — это такой, который люди читают, а сами смеются. Или плачут. Или, по крайней мере, громко и долго спорят. А потом долго вспоминают. И какое-нибудь предложение, бывает, выучат и наизусть…
Профессия заинтересовала. Встал вопрос: и что надо делать, чтобы стать журналистом? Хорошо учиться лет пятнадцать? Я ответила: просто начинать писать. Смотреть вокруг во все глазки, слушать во все ушки и писать о том… ну, о чём невозможно не написать.
Выучила, а сама ушла в муниципальную службу.
Три месяца не было текстов, от которых «плачут и смеются». Дружеские встречи по субботам были забыты: домой я попадала к семи, с языком на плече… Читать и обсуждать тоже стало некогда.
И тогда записали дети. Видимо о том, о чём невозможно было не написать.
Из тетради «Рассказы Олега»:
«Наша кошка родила котят. Ночю когда я спал к нам в фортачку залез чужой кот красть котёнка. Папа пабил его полотенцем и котёнок спасся».
«Мы ходили на рыбалку. Там лавили рыбу, а потом пашли купться. Я пймал маленькую рыбу».
Из тетради «Сочинения Феди»:
«Вчера мы с папой смотрели телевизор. Вдруг кнам в окно залетел шершень. Папа взял веник и и и убил его!»
«Вчера мы ловоили рыбу и купались. Меня женя научил плавать и ловить рыбу. Я поймал маленькую рыбку и я долго вытаскивал крючок».
Репортажами дело не ограничилось. Каждый день на мою муниципальную службу раздавался звонок:
— Мам, тебе пригодится такая информация: на Пролетарской и Фокина до четырёх часов отключили свет!
— Источник?
— Наш уличком и дядька из энергетической машины.
— Я же вам запретила одним дома на улицу выходить!
— Так мы их подманили через дырочку в заборе!
Ежедневно сообщалось: о дохлой крысе посреди улицы (причины смерти устанавливаются), о не вывезенном вовремя мусоре из нашего частного сектора (уже полдвенадцатого, а вывоз в девять!), о канализационном потопе в школьном туалете (не мам, не приезжай, директор сказал, что сам сейчас разберется)…
А на днях была предпринята грандиозная вылазка в «горячую точку» — парк Толстого. Прямо из школы впервые в жизни дети пошли туда одни за тремя строками: «Асфальта в парке больше нет. Половина земли уже закрыта новой плиткой на другой половине — грязюка. Возле туалета лежат брёвна и одно уже превратилось в новую картину фигуру. Это сделал деревянный мастер. Он маленького роста, всё время улыбается. Ещё он обещал нам вырезать по деривянному мечу».
— Ну, мам, станем мы журналистами?
— А то! Только вот с ошибками что-то надо делать…
— Так же в газетах корректоры!
— Вот-вот! Смеяться буду-у-ут…
Ошибкам решено было объявить непримиримую борьбу. Стало понятнее, для чего школа, и домашние заданья. И потом, на всякий случай, института пять лет. Ну и дальше — остальная жизнь. Для того чтобы не портить удовольствие, вкус к которому уже откуда-то взялся. Должен же кто-то…
— Мам. А чего ты компьютеру улыбаешься? «О-лег… Фе-дя»… Про нас потому что пишешь? Хы… Хорошо тебе?
Мне хорошо. Исправляю ошибки. Чтоб корректор не смеялся.
Ну, я пошёл спасать мир…
— А правда, что съевши много чипсов, можно выиграть компьютер?
— А правда, если позвонить 0611, то будет секс по телефону?
— А динозавры точно были? А вампиры были? А ты видела хоть раз инопланетяню или это только по телевизору?
— А если герой пускает кровищи море, но спасает мир, — это добро или зло?
Хорошо, что они спрашивают. Хорошо, что я отвечаю. Потому что перед телевизором — по три часа. После школы с двух до полчетвёртого — мультики и в течение дня — худфильм по тэвэ или дивиди.
Они не только спрашивают — проверяют. Им свойственно. А мне свойственно комментировать. Изведены сотни пачек «Читоса», но компа там не оказалось:
— Ребята, я думаю, тот, кто производит «Читос», компьютер себе уже купил за ваши деньги — так соберём ему на второй?
Они, наконец, врубаются. Улыбаются: «Так всё вот так?..»
Про секс по телефону они сообщили:
— Мам, она сказала, что снимает с себя трусики! И отрубилась! И ей не стыдно без трусов?
— Это её проблемы. А вы посмотрите на свой баланс.
Баланс — минус двести рублей. Я гашу долг, но теперь целый месяц связь односторонняя. Опыт — сын ошибок трудных.
После разных «научно-познавательных» передач:
— Мам. Так нас создал Бог, инопланетяня или обезьяна?
— Мы с папкой вас создали.
— Мам, ну ты как ребёнок! Я серьёзно. Ну… по большому счёту.
— Вырастешь — поймёшь (улыбаюсь).
— Уже понял. Бог создал и обезьяну, и иноплатнетяню. А от них произошли разные виды людей.
— И от кого какой?
— Которые пьют водку, дерутся и ругаются матерами — от обезьяны. А умные и странные — от инопланетяни…
Самое хреновое: как худфильм в прайм-тайм — так побоища и кровища. Папа смотрит, расслабляется после работы. И они пристраиваются, влипают.
Я обычно в это время готовлю ужин под телеком, так что никуда не денешься.
В рекламных паузах ругаюсь на наше падшее телевидение и на своих мужиков, что им такое нравится. Мне отвечают:
— Это жизнь!
— Не, ну вы видели, чтобы на улицах друг друга так дубасили? Хоть раз? Маньяки, анаконды, аллигаторы, люди икс?
— Не-а!
— Ну так значит это не жизнь!
Согласны. Но всё равно влипают. Главный аргумент: «Но там спасают мир!» Правда, спасают. И тогда я принимаю тяжёлое решение. Готовлю ужин и кормлю до маньяков, а как фильм начинается, демонстративно удаляюсь в детскую с книжкой. Читаю-то я «Даниэля Штайна» Улицкой, «Полубрата» Ларса Кристенсена. Но под рукой держу «Животные сказки» Петрушевской или рассказы Зощенко. И на всякий случай — Носова, Осееву, «Энциклопедию бабочек» и т. д. Во время рекламы дети ходят ко мне интересоваться.
— Что, так интересно?
— Очень.
— Кино лучше. Там всё видно.
— Мне видно лучше. Я представляю, всё что захочу. И как я хочу. У меня тут свободы больше. А чтобы перевести свою мысль на их язык, вечером ставлю по дивиди «Бесконечную историю». Если кто не смотрел — детский фильм о книге про страну Фантазию.
Детишки заинтригованы. Вечерние кровищи прерываются путешествиями в свою детскую — мой читальный зал.
— Так что читаем?
И мы остаёмся читать вместе. Нет, они конечно время от времени убегают к фильму «Дрожь земли». Но всё меньше. А от Зощенко просто помирают от истерики, цитируют: «Запасайтесь, гады, гробами, стрелять буду!», «Ваш золотушный ребёнок…», «Очень бойкий ребёнок — наверное, вырастет милиционером!». Вспоминают школьные истории — в параллель. Весело! Не выдержав такого, вчера к нам присоединился папа и все три кота… Пока только на время рекламы.
И вот я срезалась. Попала как кур во щи. Подсела на сериал «Атлантида» с «Катей Пушкарёвой». Детишки, отрываясь от чтения, приглядывали за мной, иногда на десять минут садясь под экран. Серий через -надцать я выслушала их официальное заявление.
Говоря по-взрослому, вокруг банкирши все мрут, Атлантида кочует от тюрьмы к психушке через амнезию, Катя идёт в монастырь, Андрееву запирает маньяк, в дурдоме насмерть закалывают препаратами психов…
— И это — жизнь? Ты мам, в одной жизни столько видела? Тебя, например, папа соком травил?!
Младенцы устыдили меня. И с прошлой недели образовался ещё один час настоящей жизни.
Телевизор затаился в тумбочке. Он выжидает. Но и мы не дремлем. Мы вечно заняты. А если что — сразу суём в дивиди диск с хорошим кино. Спасаем от телека наш мир. Тут главное, как закончится — кнопочки с дивиди на тэвэ не перетыкивать, а сразу выключать. Он может напасть в любой момент.
Жизнь с мужчинами
Однажды утром мне не захотелось вставать. Вообще никогда.
Это случилось в 9 часов 15 минут, 16 февраля, в субботу, после 10 лет совместной жизни. Сначала с одним мужчиной, а спустя год ещё с двумя.
Детали очень важны, потому что никогда не вставать захотелось впервые. В 9.15 я уже выспалась, но я сделала усилие и проспала ещё часа два. С 11 стала просто лежать, силясь не открывать глаза. Уснуть было уже невозможно.
Восьмилетние мужчины встали и с радостным гиканькем помчались играть в компьютер. Не чистя зубов. Им было радостно, что никто не заставляет их мыться и чиститься, заправлять кровать, завтракать и с утречка делать оставшийся со вчера русский.
Главный мужчина спал рядом — искренне и самозабвенно. Он от природы способен на спячку до обеда. Я точно знаю: во сне ему было радостно, что никто не жужжит над ухом: пора вставать чинить карниз, сверлить новую розетку и убираться в своём цоколе.
Я героически лежала.
Ещё через два часа надо мной тихо встали восьмилетние мужчины и прошептали: мама, мы хотим кушать. Я открыла один глаз. И увидела. На Феденьке трусы навыворот и разные носки. Олежек в татуировках от хубы-бубы от лба до пуза, но в парадных школьных штанах. Глаза тревожные. Мама, кушать мы хотим.
Я говорю: «Сначала хорошо оденьтесь, причешитесь, почистите зубы и заправьте кровати. А ещё сначала поставьте чайник». Сыновья встревожились, но выполнили.
Открыв другой глаз, я объяснила, как подогреть макароны и порезать колбасу. В четыре руки дети справились.
Съевши свою кулинарию, они испросили разрешения подогреть и съесть ещё и куриные кусочки. И по сосисочке с помидоркой.
Приговорив все съестные запасы, они встали надо мной снова. Я приоткрыла один глаз. Феденька был перемазан в кетчупе. Олежек от старания одеться хорошо был в ватных уличных штанах. Глаз я закрыла.
Дети спросили, не заболела ли я. Нет, говорю, отлично лежу. Они задумчиво сказали: да, как всамделишняя. Ты, наверно, хочешь есть и пить? — заподозрили они, мы можем принести тебе конфету и вафлю из рюкзаков, у Васьки вчера был день рожденья. И принесли мне в постель чаю.
Я запила чаем детские заначки, не открывая глаз. Сыновья приободрились и наехали: мама, мы тут вапще что? Допустим, мы играем в самостоятельность. А ты во что?
В Мавзолей, — ответила я. Эту игру они хорошо изучили с папой.
Дети пошли совещаться в детскую. Я вздремнула. И вдруг снова услышала над собой торжественные детские голоса: Мама, у нас тут кот нас..л! — Не нас..л, а нагадил, — уточнила я. — Нет, мам, он именно! Это даже не пролезет в унитаз! И очень воняет.
Было два часа дня. Я встала. И увидела то, что, что не хотела видеть. Точнее, что видела каждый день с утра. Незаправленные кровати. Куриные кости на столе. Одежда на полу детской. Кошачья шерсть и игрушки на коврике кухни. Куча немытой посуды в раковине. Мокрые перчатки вперемешку с мокрой грязной обувью в прихожей. Поваленный велосипед. Банку с окурками и банку с карандашами, опрокинутую котёнком. Кот и его мать, урча, доедали уворованный прямо со сковородки окорочок. И, конечно же, кот именно нас..л! Спускаясь в цоколь, я напоролась на жало паяльника и чуть не угодила в кучку гвоздей.
Я уже видела это три тыщщи шестьсот пятьдесят раз с небольшими вариациями. Было дело, я поднимала кресло и так шла на мужа. Потом попросту злобно выбрасывала восемь ящиков и пакетов железяк, деревяшек и драгоценных ломаных игрушек на мусорку. Спустя время, день за днём исправно убиралась, ругаясь на чём свет. Спустя ещё, убиралась смиренно и тихо. Всё это время я пыталась приучить мужчин к порядку. А через десять лет 16 февраля, в субботу, в 14. 00 села на ступеньку и заплакала.
Мужчины восьми лет впали в тоску и сочувствие, зашептали: что случилось? Я обвела рукой все два этажа и зарыдала ещё горше. Резко встал генеральный мужчина, тихонько подозвал остальных. Зашумела колонка, загудел пылесос, застучали молотки, зажужжала дрель.
Я ждала полчаса. Потом пошла наверх смотреть, с трудом держа открытыми опухшие глаза. Мылась посуда, чистился ковёр. Дыра в стене замурована и забита фанеркой, на неё изящно прикноплена таблица умножения. Карниз обрезан и прикручен намертво.
Опрокинутые карандаши были старательно затолкнуты под холодильник, а все носки в спальне — под кровать. Муж старательно обводил щёткой пылесоса кучку своих инструментов посреди жилого пространства. Кровати в детской были заправлены, но, отогнув уголок, я в ужасе задёрнула его обратно.
Игрушки и одежда, некогда разбросанные по полу в три слоя, аккуратно разобраны на два складика — одна под столом, другая в пустом аквариуме. То, что в аквариуме — принакрыто скатертью. Между складиками ковёр выпылесосен тщательно, за кроватями и тумбочками конь не валялся, за плинтусами пыль. Короче, мне предстояла уборка.
Я снова зажмурилась, морально готовясь. Я просила вернуть мне смирение и силы. А слёзы подступали опять. А когда я глаза открыла, все трое моих мужчин стояли передо мной навытяжку, счастливо и гордо улыбались. Один из них опирался на пылесос, утирал пот со лба и с одобрением оглядывал младший состав. Мужчины осторожно сказали мне: нет, ну, правда, хорошо, когда чисто. Они мне сказали уверенно: воот, теперь кругом порядок! И примирительно добавили: сказала бы просто, а то сразу в слёзы — женщина! И спросили с надеждой: тебе понравилось?..
А когда я сквозь слезу улыбнулась, вздохнули, включили телевизор и нежно сказали: давай уже ставь, пожалста, чайник, кстати, чего у нас на обед?
И поцеловали.
Большой и маленький
Как они встретились? Я просмотрела. Такой большой и такой маленький…
Маленький — это Федя, мой сын.
Федя вот какой. Он старший — родился на пять минут раньше, чем брат его Олег. Если на улице драка и ор — это или Федю бьют или Федя бьёт. Олег совсем не таков: действует уговорами или настойчивостью. Помню сцену: девочка-соседка отняла в песочнице у трёхлетнего Олега лопатку, он же доброжелательно и молча полчаса тянул её на себя. Девочка кричала и топала ногами, утомилась и уступила. Перетянул своё. А Федя бы — сразу в лобешник.
При этом Федя перед сном всегда берёт моё лицо в руки, смотрит долго и говорит: «Мамочка. Я тебя больше всех люблю…» А Олежка: «Ты не обижайся, но я всех люблю поровну». Он перечисляет десяток родных и близких, двух друзей с их родителями, и даже одну покойную бабушку: «Хороший была человек!»
Каждый из братьев по разу приводил со двора другого — в крови. Олег Федю — со вздохами, уже приложив к ране наслюнявленный подорожник. Федя Олега — только с рыданиями: «Спасите мне брата! Он не умрёт?!»
Федя гоняется за боевиками и «ужасами», и если удастся посмотреть — долго не спит, пугается и рисует монстров. Олег снисходительно ему замечает: «Ну вот зачем ты смотришь, раз так переживаешь?» Олег тоже, бывает, смотрит, но без паники: «Что-то я за свою жизнь этого не встречал — значит, это враки, и нечего бояться». При этом Олег спокойно осваивает искусство рыбалки, а Феде до сих пор жалко насаживать червя на крючок, и уж тем более снимать с него травмированную рыбку. Олег скармиливает уловленных ротанов кошкам, Федя же отпускает обратно в водоём.
Это Федя убедил брата вместе наставлять кошку Марусю не ловить мышей. Потому как у мыши могут дети остаться сиротами. И если папа всё-таки убедил Олега, что мир устроен хищно, то Федя свой мирочек устраивает по другим правилам. Маруся, Гоцман и Серенький у него мышей теперь не ловят.
При том Олег уж если подарил — то назад обычно не требует. Федя до сих пор злостно отнимает у брата игрушки. Поменяется или подарит, а потом долго скорбит о потере и — отнимает. «Федя, это же нечестно!» — «И что?! Я передумал! Пошутил! Моё!»
* * *
Ага, вот тогда, наверное, это и случилось. Два года назад, когда Федя вспышку папиного фотоаппарата направил на себя, на минутку в глазах встало красное пятно. Испугался, заплакал, выскочил на балкон, заплаканное личико задрал к луне:
— Боженька, прости меня, я знаю, за что это! Я вчера сказал на брата «б..дь»! Я нечаянно. Я больше не буду. Я всегда буду слушаться маму и папу, и бабушку, и дедушку, и учителя! Учиться хорошо! Я больше не буду говорить слово «б..дь» Только не ослепляй меня! Пожалуйста.
Олег следом тоже заревел на луну:
— Боженька, я Федю простил, и ты прости Федю! Мама, дай мне ту божественную книжку!
Божественную книжку подарил им Сашка, их воцерковлённый товарищ из третьего класса. И по молитвослову, с чего открылось, по слогам: «Спа-си-го-спо-ди-и-по-ми-луй…» У Олега это был пока единственный «божественный» порыв.
Федино «ослепление» через пять минут прошло, но целых три дня сынок не говорил матерное слово, в минуты гнева зажимая рот ладошкой. А потом:
— Мам! Ну хоть «дурака» на этого дибилу я могу сказать?! Ведь это же не матер, как ты думаешь? Он мою лупу кокнул!
— Сынок, пусть свою вещь взамен отдаст. А ругаться даже и так не надо…
Федя махнул рукой, пошёл к ящику, достал найденный на днях медальон с Божьей матерью и повторил свой вопрос в раскрытые створки: «Матерь Божья, твой сынок не рассердится на меня, если я этого…» И замолчал. Закрыл, положил, походил и говорит мне: «Мам, гдей-то мой крестильный крест?» Я вытащила вместе со свидетельством о крещении. Надел на себя, опять походил. Гнев унялся…
Потом были, конечно, матеры и драки, куда ж без них… Но и раскаяние стало появляться вплоть до сокрушения: «Ох, Господи, мостю я себе дорожку в ад. Как мне исправиться?» Или «справиться» — не расслышала…
Тем временем Олег познавал мир людей, учился «управляться» с большими и маленькими. К нему приходил настоящий успех. Запомнилось: чтобы извлечь меня с работы — соскучился! — тихонько засунул в нос себе пятикопеечную монету и поднял вой. Подружки, на которых его оставила, позвонили мне. Я летела, обгоняя троллейбусы, скакнула на третий этаж… Монету уже вытащили. Олег был напуган, но доволен — он добился своего. Успешно шли дела и во дворе: двух личных врагов он умудрился поссорить, да ещё приобрёл телохранителя-пятиклассника — уговорами, обменами и подарками. В пик своей политической деятельности он вошёл через пару лет — в школе. Там эти Олеговы манипуляции не раз спасали от неприятностей не только его самого, но и прямолинейного Федю.
* * *
Прошёл год, мы переехали из квартиры в дом. Старый хозяин оставил ненужные вещи. Среди них оказались деревянные кресты в промышленных количествах и иконки в лубочном стиле. Соседи рассказали, что тот хозяин начальствовал над зэками, и все эти вещи — их рукоделие. Подарки. По всему чуланчику. Благоговения мы не испытали, но палить не решились. Попредлагали знакомым. Над нами посмеялись. Сложили временно под забор — и в мусорку нести неудобно.
Привезли со склада гипсокартон кухню делать — глядь: Олежек палит из ружья по тазу.
— А где Федя?
— Иконы моет!
Спустились в цоколь: ванна воды, таз, доска, полотенце мокрое, изгвазданное. Поднялись наверх, пошли в комнаты. В самой маленькой всё окошко в иконах, и на столике кресты симметрично. Свечки горят в плошках с песочком, посередине самое большое распятие. Федя на корточках разговаривает с Богом:
— Намучился ты, Божий сын. Очень тебя жалко. Ты думал, умрёшь, и все ради тебя станут хорошими… Даже не знаю, это ты расстроишься… Я вот не очень хороший мальчик. Дерзю бабушке и дедушке, брата бью, хотя он тоже прохиндей. Матеры эти… изо рта уже почти не выпускаю, так они в уши лезут. Ты знаешь, всё звучат в голове, так и хочется обругаться! Это сатана меня научает? Я знаю: как скажу матер, он сразу мне камушек в ад — оп! Пожаришься, Федичка, на сковородке! И считает радостно, сколько мне до ада камушков осталось. Я так чувствую, что немного… При таком-то поведении. Скажи, сколько надо сделать добрых дел заместо одного плохого? Чтобы этот камушек не считался?
Мы в щёлочку посмотрели-послушали, на цыпочках пошли сидеть на крыльцо, ждать окончания сего… Невозможно тут сказать: «Иди руки мой, борщ уже на плите!»
Иконостас Федин потом долго стоял, а пепельницу в виде чертовой головы мы из дома выкинули.
* * *
Мы делали уроки, и тут мамин звонок: бабушке «скорую» вызвали, она задыхается, никого не узнаёт, видит видения. У мамы голос срывается: приезжай, может не дотянуть до «скорой»!
Я реву, насовываю туфли — бабушка мне вторая мама — объясняю детям, велю уроки заканчивать без меня. Федя в слёзы, к иконке на окне, я уже поворачиваю в двери ключ…
Долго нет троллейбуса, долго бегу до подъезда, слишком долго мне открывают… «Скорая» только что уехала, вкололи лекарство, сказали: готовьтесь, сердце отработало ресурс. Бабушку трясёт. Называет меня дочкой, велит позаботиться о брате — возраст у него шаткий, ребята во дворе подбили его на спор «стоять на часах» под водостоком, так новая шуба промокла насквозь, и ещё, кажется, пробовал курить. Так я узнала эпизод из детства дяди Саши, ему уже к шестидесяти… Бабушка говорит, что видит на стене зелёную гору, куда восходят красиво одетые люди и исчезают на вершине. Мама набирает грелку, я грею ледяные сухонькие ручки. «Лена, и что это за картина?» — «Это, бабуш, наверно, ты собралась с этими красивыми людьми в рай, может, священника пригласим?» — «Я, Лена, в Бога не верю, я всю жизнь коммунист. А если Бог и есть, то он же знает: я же не врала, не изменяла мужу, не обижала никого. Хотя мама меня крестила. Тайно, потому что была председателем колхоза, в красной косынке ходила…» Ручки теплеют, голова проясняется. Возвращается в настоящее время. Понимает, что я внучка, а не дочка, предыдущий разговор и видения забывает начисто: «Иди-иди к детям, я теперь чувствую, что весну увижу, а может, и лето проживу».
Дома, узнав, что бабушка жива, Олег переходит к делу: имей в виду, у него уроки не учены! Я ему говорил! А он бросился к иконе, молился и плакал, чтобы бабушка Танюша выжила. И я молился, потому что Федя велел. В холодильнике взял просфорки, что тётя Таня Кравченко привозила, сам ел и мне давал за бабушкино здоровье. И кошкам давал. Кошки не стали. Так он вывалил им всю колбасу из холодильника и сказал, что они волшебные кошки, и он их задабривает, чтоб они за бабушку просили у Бога тоже. И ещё налил им святой воды!
Федя тихонько собирал лего в дальней комнате.
— Федя, бабушка выжила.
— Я знаю.
Встал, обнял, я его на коленки. Чуб мокрый.
— Ты носился?
— Я молился.
— Я знаю…
* * *
Федя подходит к иконке где-то в две недели раз. Я, конечно, подслушивала. Сначала просил: компьютерных игр, новую приставку, ружьё настоящее. Потом лего, ролики, скейт, снегоход. После бабушки — чтоб никто не умирал, особенно мама, надоумить учёных изобрести, наконец, такую таблетку. Потом каялся в плохих делах и мыслях, просил прощения, а уже дальше — всё остальное. Раз советовался: считается мытьё посуды и «пятёрка» по русскому хорошим делом? Перед летом благодарил, что Мамонов исправился и не бьётся, и уже не лезут мысли его замочить. А то, такие, Господи, иногда у меня воображения, что себя страшно… И всё чаще просит помощи не гневаться на брата, всё-таки родный брат…
Перед сном я даю сыновьям минут двадцать почитать в кровати — это у нас в роду ведётся уже третье поколение. Оба читают рассказы про зверей, атлас бабочек, журнал «Человек-паук». В последний месяц Федя держит под подушкой ещё и малюсенький цветной детский молитвослов — выпросил у бабушки в Стародубе.
— Мам, как ты считаешь, какая молитва подходит от дурных мыслей? Что-то опять мне матеры так и лезут в голову…
Читаем вместе, находим подходящее. Я снова берусь зашивать носок, Федя шепчет, Олег скачет с кровати, тычет в комикс пальчик: «Федь, ты прикинь, круто…» И осекается уважительно: «А, ты это… ну потом…» Через десять минут вместе гогочут над картинкой, посрамляющей пауковых врагов. Я угомоняю, выключаю свет, целую Олежку, потом Федю. Федя держит, как всегда, моё лицо в руках: «Мамочка, я тебя больше всех люблю». И просит, чтобы я отвела его как-нибудь в церковь. Отведу, сынок. А сама долго ворочаюсь в кровати. Крещёная в 2006-м, третий год время от времени наглаживаю платок и юбку, по три дня перед тем не ем скоромного и ночь накануне реву о грехах. А наутро возникают обстоятельства и встреча откладывается. Та самая, на которую один из моих сыновей, такой маленький, летит на всех парах.
Нужные люди
Начальник
Разница в возрасте между братьями — пять минут. Так что «старшего» в наше, родительское, отсутствие назначаем по очереди. Я обычно «отсутствую» в соседней комнате за компьютером, у меня там смотровое окно.
Сегодня парадом командует Федя. Проверяет «домашку», указует на ошибки. Назначает Олегу вдобавок к основному заданию по математике лишних два столбика примеров. Заботится: утишает телевизор на кухне. Поощряет: чистит брату апельсин для «работы мозга», обещает награду за решение без ошибок.
Под окном уже полчаса дежурят «пионеры» улицы Пролетарской, так что Федька на ближайшие полчаса собирается погулять.
Перед этим заскакивает в спальню на пять минут, хлопает ящиком тумбочки, шуршит бумагой, затихает, летит на улицу. На двери детской остаётся скотчем прилепленный документ: «Льва не трогать! И одеяло тоже! Федя». Всё предусмотрел начальник.
Украдут!
Олег моет после ужина посуду. Я хвалю, в милую макушку целую. Сынок ещё пуще нажимает губкой, фейри пенится — кастрюлька сияет, и Олежек сияет.
— Мам. Ты только не говори своим подружкам, что я у тебя посуду мою.
— Олежек, а чего? Я ж хочу похвалиться, позадаваться перед подружками!
— Ох, смотри… украдут.
— Что украдут?!
— Меня украдут…
Аделаида
Появилась в детском классе новая девочка. И стала ходить из школы с соседским мальчиком. Через неделю парочка растворилась в общей черметовской компании — шесть-семь «пэцев». Ещё через дней десять девочка шла между Олегом и Федей — так и повелось.
Я иногда иду позади честной компании, наблюдаю. Расстались с Аделаидой, перешли дорогу к дому, спрашиваю:
— Нравится вам эта девочка?
Сыновья уточняют:
— Ну, это не совсем то, что ты, мам, подумала. Но она нам — очень нужный человек. Знаешь, Панкратова нас целый год преследует, а Аделаида увидела, как мы мучаемся, и спрашивает: «Проблемы, пацаны?!» Мы говорим, что да, она за нами пристаёт, а девочку бить мы не можем. А Аделаида и говорит: «А я могу!». Разворачивается к Панкратовой и говорит: «Катись отсюда колбаской, плыви белым корабликом — это мои близнецы!» И Панкратова отвалила! Ты понимаешь, мам, какой она нам нужный человек?!
Олег с Федей тоже заботятся о своей Аделаиде. Вот четыре дня назад Федя всем «пэцам» на зависть в кустах нашёл крепенький костыль — кому бы, вы думали, он его преподнёс? Аделаиде!
Не колдуй!
Бабушка внуков балует, задаривает, по пиццериям до упаду водит. А у самой пенсия маленькая. Бабушка в деле баловства удержу не знает — в долги залезть может.
Учу детей:
— Видите, бабушка ни в чём вам отказать не может, а сама потом голодная сидит. Так что не простите у неё, что вам там хочется. И не намекайте даже.
Дети с этих пор принялись отказываться от всего примерно так: «Как же нам, бабусичка, хотелось вот этого скейтбордика за полторы тыщщи в ЦУМе, в цоколе, в спорттоварах, там слева на полочке… Уже мы и пятёрок-четвёрок в дом наносили, и посуду мыли, во дворе убирались. Но ты, бабушка, не покупай ни в коем случае нам эту совсем ненужную вещь. Мы без милого скейтбордика не умрём, а у тебя пенсия маленькая, ты ж потом будешь сидеть голодная и в долгах!»
Бабушка лихачит: «Да пойдёмте купим, не всё так страшно!» А крошки ни в какую. И хочется невозможно, и бабушку до слёз жалко.
Бабушка думала-думала и вывернулась: А я, — говорит, — научилась наколдовывать:
«Колдуй, баба, колдуй, дед! — оп — и во двор въезжают два «милых скейтбордика».
И тут началась вакханалия. После ряда ценных подношений бабушка получила планы по колдовству на ближайший квартал: сноуборд, аэросани, крутые мобилы, водолазные костюмы и даже мотоцикл-«муравей». Бабуся взмолилась:
— Дети, у меня нет же столько денежек!
— Так наколдуй, как обычно, бабусь!
Бабушка думала-думала и опять придумала:
— Ах, детушки, колдовство столько сил требует, а у меня их так уже мало осталось! Как наколдую, так полумёртвая лежу, всё болит: сердце, голова, давление…
— Бабусь, не увиливай. Ты ещё женщина не старая. Силы постепенно расходовать можно. Ты не наколдовывай всё сразу, а начни, например, с мотоцикла!..
— Ох, дети, боюсь, у меня даже на стёрку, даже на жвачку не осталось — ещё хоть малюсенькое колдовство — и дух испущу. Ну, вот попробую разве что по конфетке…
Бабушка мастерски закатила глаза и схватилась за бок с карманом…
Дети завопили:
— Бабуся, ложись! Никакого колдовства больше. Итак, видать недолго тебе… экономь, что осталось! И зачем ты скрывала от семьи, что силы твои на исходе? Разве не знаешь, что ничего нельзя скрывать от родных?! Короче, даём тебе сроку три года. Восстанавливайся. И отныне забудь колдовать!
…Короче, снова бабуся попала. Думает бабуся…
Воробьёва
Мостовщиков +
Про да и нет
Дети мои!
Как вы, может быть, уже знаете, на свете существует искусство говорить «нет». Люди, хорошо владеющие этим искусством, обычно считаются самостоятельными, сильными и целеустремленными. В момент, когда им становится ясно, будто бы жизнь, штука обычно грубая, допускает вдруг непростительную нелепость и вынуждает их сделать правильный выбор, люди-«нет» немного выдвигают вперед свой, как выясняется, крепкий подбородок, или они как бы вспыхивают голубым металлом в глубине своего обманчиво-серого глаза, или они внезапно запрокидывают свою, казалось бы, кудрявую голову, или они стискивают, а потом распрямляют ладонь, короче, не важно, что они делают, но они говорят: нет. Неее-ееет. И так и остаются самостоятельными, сильными и целеустремленными. Напротив, те, кто предпочитают говорить «да», чаще всего считаются существами слабовольными, двуличными и недальновидными. Они как бы не в состоянии устоять перед любым соблазном типа мяса в рыбный день, теряются от необходимости выбора между подвигом и резиновыми сапогами, не могут принять судьбоносное решение и совершить настоящий поступок. Из этих людей жизнь, штука обычно загадочная, рано или поздно вьет нечто совершенно банальное типа веников для общественных бань. В момент, когда становится понятно, будто бы ни на что, кроме как на отмачивание в эмалированном тазу обстоятельств и охаживание чужих глупостей, люди-«да» не годятся, они пытаются сбросить прошлогоднюю листву своих заблуждений, стать жесткими, как розги, и сказать наконец-то «нет». Но говорят: да. Да! Да! Да! И так и остаются слабовольными, двуличными и недальновидными. Такова теоретическая прелесть искусства говорить «нет», практическая красота которого выражается в том, что лично мне интереснее иметь дело с людьми, которые умеют говорить «да». Будучи существом слабым и мнительным, я всегда восторгался абсолютной властью этого слова, сила которого так велика, что только она одна и способна создавать в этом мире все то, что даже самый могущественный человек никогда не сделает сам. С другой стороны, я ощущаю колоссальную благодарность за то, что не оказался в тысяче ненужных ситуаций, от возникновения которых меня могли спасти только люди, умеющие говорить «нет».
Собственно, я вообще убежден, что количество «да» и «нет» в этом мире строго уравновешено, иначе в его существовании следовало бы усомниться. Всякий раз, когда вы спрашиваете «сколопендрушка, хочешь понюхать цветочек?», а вам говорят «да пошел ты в задницу, недоумок», в ту же самую секунду кто-то на планете на точно такой же вопрос отвечает «ну конечно же, бублик моей мечты». А иначе зачем бы и вырос этот чертов цветок? Разумеется, подсознательно обладая знанием об этой гармонии, любой нормальный человек всегда хочет знать, какую роль в существовании мира исполняет именно он. Только поэтому проблема «да» и «нет» иной раз и оказывается так мучительна и фатальна, что кажется, будто конец света зависит только от того, сделаешь ты сейчас правильный выбор или навсегда останешься пылью от взрыва, который разнесет огромную ненавистную действительность на незаметные атомы любви. Как-нибудь потом вы сами посчитаете, чего именно в вашей собственной жизни оказалось больше — судьбоносных «нет» или простительных «да». Вы разложите их перед собой, как раскладывают пожелтевшие телеграммы из Сарапула или фотографии с эффектом «красных глаз» на фоне давно позабытой реки. Вы посмотрите на них с умилительной склеротической страстью и скажете: ха! Вот в детском саду меня спросили: Мостовщиков, где ты взял эту гадость? И я ответил: нет.
В школе меня спросили: Мостовщиков, тебе не стыдно? И я ответил: нет. Дома меня спросили: Сережа, ты поступил в университет? И я ответил: нет. В армии меня спросили: ефрейтор Мостовщиков, хочешь остаться на прапорщика, деньги, конечно, небольшие, но всегда можно что-нибудь украсть? И я ответил: нет. На работе меня спросили: ты когда-нибудь все-таки поумнеешь и поймешь, что ты идиот? И я ответил: нет. Дети меня спросили: папа, у тебя есть 200 рублей? И я ответил: нет. Вчера в восемь часов утра позвонили и спросили: простите, это вы продаете лыжи, крепления и ботинки? И я ответил: НЕТ!!!! И вот что в этой связи дико интересно. Мудрость и гармония мира на самом деле всегда позволяет любому человеку говорить абсолютно все, что ему угодно. Потому что никто и никогда не знает о нем всей его немыслимой правды. Например, той, что ваша мать действительно решила продать через интернет и ботинки, и крепления, и лыжи. А я в свои 43 года не имею не малейшего представления о том, что они у нас вообще были и есть. Теперь уже, наверное, навсегда.
Про инструктаж
Дети мои!
Перед тем, как что-либо сделать, вы обязательно должны пройти Инструктаж. Не важно, хотите вы этого или нет. Тем или иным способом Инструктаж будет проведен, потому что такова природа любых перемен. Естественно, вы должны быть заранее предупреждены. Чем-то это напоминает песни мужчины по имени Никита Джигурда. Совсем не напрасно он записал свое знаменитое видео, где голосом преисподней под гитару исполняет свой Инструктаж о правилах встречи с реальностью непосредственно в родовые пути собственной супруги, через которые в наш скорбный мир надумал пробраться еще один новый, деятельный человек.
Обычный Инструктаж не слишком затейлив. Я давно привык к моей любимой фразе, произносимой с нежностью, заботой и тоской: «Мне кажется, Сережа, ты окончательно офигел». Такой Инструктаж я проходил сотню, наверное, раз и выучился поступать так, как велят — пользоваться ваткой, смоченной нашатырным спиртом. В ходе Инструктажа я обычно всем своим видом начинал испарять состояние клинического идиотизма, а вместо запаха нашатырного спирта произносил нейтральную фразу типа «Именно!» Или «Окончательно!». И это всегда приводило участников Инструктажа в чувство, кроме, конечно, случая, имевшего место с неделю назад.
Как вы, может быть, знаете, недавно я устроился на работу в учреждение окологосударственного толка, предложившем заняться там гуманизмом, науками и просвещением. Вместе с немыслимым ворохом бумаг, которые я должен был забрать, заполнить, подписать и отнести, мне достался небольшой листок с надписью «Инструктаж». Полуслепой шрифт документа был вечным и страшным и предписывал заглянуть всего лишь в комнату №421. Дверь комнаты №421 оказалась оборудованной кодовым замком наподобие тех, что устанавливают в подъездах многоэтажных домов. Ради собственного спокойствия я решил набрать цифру «666», но уже от первого нажатия пальцем дверь отворилась, обнаружив за собой небольшой опрятный кабинет, в дальнем углу которого за столом перед выключенным компьютером сидел одинокий человек. Он был обращен ко мне своим спокойным, как бы гипсовым профилем, мутным в свете из огромного немытого окна, и глаза его, не мигая, смотрели в мертвую плоскость экрана.
— Именно! — сказал я громко и по возможности бодро. — Я окончательно вижу, что вы — тот, кто мне нужен в комнате номер 421!
— Обед, — ответил он медленно, не поворачивая головы и не отводя глаз от черного прямоугольника монитора.
— В каком смысле? — огляделся я.
— Сейчас обед.
— Простите, а как вы это определяете? — спросил я, по инерции сделав пару уверенных шагов вглубь помещения по направлению к его пустому столу, на котором кроме выключенного компьютера можно было рассмотреть только какой-то ветхий журнал, похожий на книгу древнего бухгалтерского учета.
— Я ничего не определяю, — спокойно ответил он, и мне хорошо было видно, что профиль его вместе со сжатыми губами так и оставался неподвижным. — Я просто знаю.
— Кто вы? — я остановился, как вкопанный, поскольку давно уже, да, честно сказать, вообще никогда не слышал от людей слов настолько простых, глубоких и кратких.
— Я — Главный Инженер, — он неожиданно повернулся, и теперь стало ясно, что это не Главный Инженер смотрел в выключенный компьютер, а выключенный компьютер все это время смотрел в глаза Главного Инженера.
Он взял со стола журнал и быстро раскрыл в самой сокровенной его части, в глубине которой теснились какие-то записи, даты и подписи неизвестных мне людей.
— А вы? Назовите вслух свою фамилию.
— Мостовщиков, — сказал я, впервые почувствовав, как звук моего голоса вызывает во мне липкое чувство отвращения и тревоги. — Гуманист и просветитель.
Главный Инженер не удивился услышанному, а сделал пометку в своем журнале и надолго задумался над ней, замер, глядя в написанное. Мне даже показалось, что прошло примерно 44 неполных года моей собственной жизни. Со временем я стал подумывать, не сбежать ли мне незаметно, и, видимо, совершил какое-то неловкое движение в направлении двери. Глаза Главного Инженера немедленно впились прямо в мой головной мозг, заставив его вздрогнуть и напрячься, как от нашатырного спирта.
— Представьте себе, что вы один, — говорить он начал медленно и явно не с того места, что я подсознательно ожидал. — Совершенно один. Поблизости нет ни души. Тихо. Ночь. Никто не придет к вам на помощь.
— Знаете, искренне говоря, я немного устал от того, что представляю себе это слишком часто. Можно я лучше представлю себе обед? — пытался отшутиться я, но Главный Инженер меня уже не слушал.
— И вот на вашем столе вспыхивает компьютер, — на дне черных глаз вздрогнул и погас далекий, мучительный отблеск. — Сначала все просто дымится, искрит, а потом загорается ярким огнем. Пламя перекидывается на стол, бумаги, на ваши вещи, на вас самого. Вы чувствуете, что задыхаетесь, не можете двигаться, думать, решать. Вы умираете. Что вы будете делать тогда? Можете ответить мне прямо сейчас? — Я пойду, — сказал я, делая шаг назад, к двери, в которую вошел уже так давно, что иногда мне даже кажется, как будто это было сегодня.
— Куда?! — в голосе его впервые послышался неподдельный интерес.
— Понимаете… Как вам это объяснить? По большому счету, мне все равно. Всегда было все равно.
— Может быть, вы и правы, — Главный Инженер вздохнул и пододвинул ко мне свой журнал. — Распишитесь.
Мне кажется, дети мои, у меня не было выбора. Мне кажется, выбора вообще не бывает. Я немного постоял в коридоре, отдышался и снова открыл дверь комнаты №421. Главный Инженер уже не поворачивался ко мне, всем его вниманием снова овладел компьютер, отключенный от электрической сети.
— Простите, что это было? — спросил я, не переступая порога помещения.
— Инструктаж по пожарной безопасности, — ответил он, и губы его больше не шевелились. И вот что, дети мои. Я предпочитаю верить, что так оно и было. Что так оно на самом деле и есть.
Путешествия
Завтрак, обед и ужин
В апреле Аннушка вышла замуж — ура и ах. Ура, потому что практически по любви с первого взгляда, ах — потому что за тридевять земель, на далёкую Иерусалимщину.
По давнишнему уговору свадьбу Аннушкину не смеет снимать никто, кроме нас. Ну кто, кто снимет её лучше нас? Да никто. Вот, сели в самолёт, и поехали за тридевять земель.
…надобно сказать, Бочарова последний раз летала в самолёте лет семь назад, а я так и вовсе двадцать. За границей Бочарова была только на Украине, а я в Белоруссии, и на море-то в последний раз ездил лет пятнадцать тому. Руку на сердце положа, ну что мне лично на море делать? Плавать не умею, загорать не понимаю, вина не пью, мяса не ем; прийти в гостиничный номер и удавиться на чистом полотенце? Да гори оно огнём…
…Как-то завели по работе в люксовые номера санатория «Снежка». Ну что сказать? Симпатичная комнатка 4х5, пара диванов, то-сё. Только устроены эти люксы аккурат посреди санатория: с одной стороны детский корпус, с другой — пенсионеры; даже в догонялки меж деревьев посреди ночи неглиже не побегать. Заведующая говорит: а, они тут до шести человек приезжают и живут.
— И почём? — спрашиваем.
— По три пятьсот сутки.
— Нормально, — говорим, — три пятьсот на шестерых, по-божески.
— Не-е, три пятьсот с каждого.
Тут, конечно, стали в голове калькулировать.
— То есть, по сто пятнадцать долларов на лицо? Эка… за такие деньги можно в Египте пять звёзд оторвать, олл инклюзив.
— Тю, — заведующая отвечает, — да что в этом Египте проку, кроме моря?! А у нас лечебные грязи — раз, культурная программа — два.
— И что входит в культурную программу?
— Ну, в пять часов они у нас поют. Кто поёт? Отдыхающие и поют, под гармошку.
— О-бал-деть…
— В девятнадцать двадцать пять у них кинофильм, каждый день.
— Так-так-так…
— А в девять — танцы!
— Ну тогда, — говорим, — понятно, тогда нет вопросов… А много ли желающих на люкс?
— Да как лето начинается, отбоя нету…
…Короче, сели в самолёт Ил-86 и поехали. Дело, нужно сказать, происходит за три недели до Пасхи, и в мозгу вихляется бесконечной наглости помысел: а вдруг — всё? Вдруг мы этим постом достигли своего душевного максимума, и свадьба — только способ усадить нас в самолёт вместе с такими же готовыми к изъятию? Потому что самолёты — они же из железа, и весят бесконечные тонны, и как они вообще цепляются за воздух своими дребезжащими крылышками, до конца не знает никто, даже конструкторы Илюшин, Туполев и Боинг, и поэтому Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… И взлетели, но губами шевелили ещё сколько-то времени, для надёжности, да и просто по привычке. А ещё на воздушных ямках, а ещё при посадке, а ещё когда пальмы увидали посреди апреля, и толпы людей в смешных кипах на темечке — нужно же как-то восхищаться, а потом, уже ближе к ночи, когда иерусалимский таксист надул нас на десять шекелей и высадил за километр от отеля — надо же как-то возмущаться.
Смейтесь, сколько влезет, но мы, нигде не бывавши, всё равно возьмёмся утверждать, что именно Иерусалим — самый красивый город в мире. У них там двадцать восемь лет подряд был несменный мэр, нынче покойный, и все говорят о нём исключительно в почтительных тонах. Мудрый человек провёл городской закон, согласно которому дома можно облицовывать исключительно иерусалимским камнем — бежевым известняком. А несколько тысяч лет до того Иерусалим из иерусалимского камня строился безо всяких законов — а из чего ещё строится, если он на иерусалимском камне стоит? Кроме того, нельзя возводить здания выше купола мечети, стоящей на месте разрушенного Храма. Кроме того, архитекторы на Иерусалимщине — люди без затей, но нежные, и дома у них выходят простые, красивые, не похожие друг на друга, но при этом все в одном ключе. Наверное, именно по всем этим причинам в огромном городе мы повстречали лишь парочку застенчивых граффити — даже у пубертатных страдальцев не подымается рука на бежевые стены.
…Прямо таки не знаю, что бы случилось с архитектором Лобановым, попади он в Иерусалим. Наверное, бегал бы по улицам, хватал прохожих за рукава и кричал: вы что здесь, вообще все дураки?! Да кто ж так строит?! Потом добежал бы до арабского квартала и успокоился. Арабские кварталы сделаны из некрашеного бетона, аккуратные такие кубики почти без окон…
Целый день возил нас по знаковым местам сионист Сева, выгнанный из Гарварда за антиарабскую агитацию.
— Сева, — говорили мы миролюбиво, — неужели так-таки невозможно договориться арабам с евреями?
— Почему же невозможно? — отвечал наш гид, шмыгая покрасневшим от аллергии носом, — Пусть они слезут с деревьев, отрубят себе хвосты, заведут хоть какую-то видимость цивилизации, и мы с ними с удовольствием поговорим…
Мы стояли на Елеонской горе, под нами, куда взгляд ни кинь, расстилалось многотысячелетнее еврейское кладбище, напротив, на Храмовой горе, под стенами Старого города, жались друг ко другу мусульманские могилы.
— Видите?! — восклицал атеист Сева, — на этом склоне иудеи ждут прихода мессии — по пророчеству он должен спуститься с горы, а за ним будут вставать и идти воскресшие… он въедет в город через Золотые ворота на белом ослике… видите, видите? Во-о-он там, заложенные камнями ворота? Мусульмане думают, что если заложили ворота и устроили под ними кладбище, то мессия не пройдёт, потому что давидиды не должны осквернять себя прикосновением к мертвецам — они же из рода коэнов, священников. Представляете?!
Сева смотрит заговорщицки и даже понижает голос, хотя рядом никого нет.
— Они даже не понимают, что ему нельзя приближаться к иудейским мертвецам! К своим! Элементарных вещей не понимают — это нормально?
Страшно хотелось потрепать Севу по плечу и так же заговорщицки возопить:
— Конечно, они не могут Ему помешать, Сева! Ведь Мессия уже спустился с этого склона, и въехал сквозь Золотые ворота на белом ослике, и народ кричал «осанна сыну Давидову!», и махал пальмовыми ветвями…
Но мы, конечно, ничего такого не сказали нашему гиду. В конце концов, ведь, действительно, спустится ещё один по этому склону, и назовёт себя истинным мессией, и проедет на белом ослике в распахнутые по такому случаю Золотые ворота, и будет творить чудесное, а потом скажет: вот крест, а вот хлеб — выбирайте.
Нет, ничего не сказали, а только смотрели вниз, где, зажатый меж двух погостов, аккурат по руслу потока Кедрон растёкся оливковым садом православный монастырь, и буланая лошадь щипала траву на зеленеющей после дождей террасе.
Сильно заполдень добрались и до самого долгожданного — до храма Гроба Господня, отстояли минут сорок в разноязыкой очереди в Кувуклию, вошли, приложились, выбежали, подгоняемые утомлённым служкой-греком. И почувствовали, что ничего не почувствовали. Совсем ничего. Наверное, нужно было ехать рано-рано утром, пока не проснулись туристы. А, быть может, не ехать совсем.
Неутомимый Сева с горящими глазами звал смотреть на остатки византийской кирпичной кладки шестого века, но мы устало сказали ему:
— Знаете что, Сева? Поедемте домой…
Следующие три дня прошли так: один день пахали на свадьбе, другой день овощами пролежали в номере отеля, а в третий день изо всех сил пытались потратить оставшиеся сто восемьдесят шекелей на гостинцы. Дни летели, поделенные на три части: завтрак, обед и ужин; нет, вот так: ЗАВТРАК, ОБЕД и УЖИН. Шведский стол. Козьи сыры. Кошерные сладости. Славные, весёлые люди. Старики, скачущие на свадьбе молодыми козлятами. (Представьте себе россиянского пенсионера лет семидесяти, скачущего на свадьбе — позор сединам, Вова сядь, у тебя внуки. А местные скачут — любо-дорого смотреть, аки дети.) У всех глаза горят патриотизмом, они пляшут, а ты смотришь и понимаешь, что при нужде каждый возьмёт автомат и умрёт за родину, каждый-прекаждый, даже вот этот, сутулый, с неправильным прикусом и в очках минус девять. А если не умрёт, так возьмёт кайло и пойдёт сажать лес на голых когда-то скалах. Вон сколько вокруг этого буйного леса, которому от силы лет двадцать пять. Всё засадили, всё, собственными еврейскими белыми ручками. И вообще, ощущение какого-то странного дежавю: не потому, что с тобою такое уже случалось, а потому что когда-то в детстве, пионером ещё, именно так представлялся развитой социализм в отдельно взятой стране. Да-да, именно развитой именно социализм, особенно если смотреть местный телевизор.
Ну и почему же, скажите на милость, ни на минутку не утихало внутри организма зудящее беспокойство, отравляя завтрак, обед и ужин? Зачем с каждым растаявшим во рту куском сыра нарастало ощущение невозвратной потери, как в недобром сне, когда стоишь голый и босый среди присутственного места, а трусы и майка как-то сами собой растворились в прошлом повороте сюжета? Чего не хватало двум долбанутым б-цам в стране сбывшихся детских мечт в благословенный месяц нисан? А не хватало — прорваться сквозь антитеррористические заграждения в аэропорту и улететь домой, домой, домой. А почему домой, чего мы там, дома, не видали — не спрашивайте; надо и всё.
И полетели. Самолёт побежал по бетону, Господи помилуй, сказал я. Запнулся. Господи, помилуй, сказал я с тем усилием; с каким обыкновенно бежишь по пояс в воде. Запнулся. Слова не шли горлом, язык отвык от них за три суматошных дня. Через проход сидели два благообразных хасида, молодой и в возрасте, водили пальцами справа налево каждый по своей книжке, шевелили губами — и ничего, не запинались. Так, сказал я себе, давай сначала. Господи помилуй мя грешнаго по велицей милости… уже летим, да? Главное, не смотреть в иллюминатор, когда взлетаешь, а то в мозгу делается нехорошо… по велицей, значит, милости Твоей… в прошлый раз Аэрофлот кормил сёмгой, немножко заветренной, но в целом съедобно… интересно, сегодня что за рыба у них в судках? Хасиды, небось, кошерное заказали… тут вот написано, можно заранее по интернету заказать кошерное, вегетарианское и халяль…
И так далее.
Хасидам принесли кошерное с печатью раввината на упаковке.
Тоненькое золотое напыление веры, всё, что удалось накопить к сорока годам бестолковой, но всё ж таки жизни, стёрлось об шведский стол, как об зелёный кусок пасты ГОИ. Да, помню, правильно писать: «о шведский стол», «о зелёный кусок». Но тогда будет неправильно.
Несколько недель мы налево и направо развенчивали развитой социализм, говоря всем: вот ведь какая штука! Когда живёшь в правильном государстве среди правильных граждан с правильными взглядами на родную власть, как-то нету нужды смотреть Вверх. То есть, вообще. «Щас, щас, мы тут сами потихоньку разгребём, и тово… перезвоним… на днях…». Например, уплата налогов — нисколько не критерий духовного зрелости, и даже благотворительность не критерий, а лишь часть общественного договора. Ну, это как в России: имеется общественный договор не пукать за столом — народ в целом и не пукает; к загадочной русской душе данный факт никакого отношения не имеет. Зато, раз в России никакого другого общественного договора и нету, то любой мало-мальски гражданский поступок — плод серьёзного душевного усилия. Налоги заплатил — «по слову Твоему, Господи». Десятку нищему в стаканчик вложил — «во имя Господне». И так далее.
Слушатели сильно сомневались в нашей версии, ибо обидно же, ибо — «потому что это наша Родина, сынок»? Серьёзно, что ли? Чем хуже, тем лучше? Приехала из своего Лондона Бобракова и сказала уверенно: да ну, фигня на постном масле. Ежели вы думаете, что там и сил душевных приложить некуда — фигня на постном масле. Например, опаздывает человек на полчаса, а ты его мало того, что дожидаешься, но и смотришь светло, и привечаешь без сарказма: ничего-ничего, не извольте беспокоиться, я никуда особенно не спешил… Вот тебе и смирение, вот тебе и любовь к ближнему, вот тебе и милосердие.
И мы как-то неодобрение чужих порядков забросили.
Но легче не стало. Не стало легче, вот засада.
…Это было в апреле, к Пасхе. Теперь уж и Рождество где-то впереди маячит всё отчётливей, а всё не легчает. Да-да-да, я знаю: это проверка на вшивость, и Ты не отнимешь от нас руки твоей вовек, но, пожалуйста, возвращайся быстрее, а? Я, оказалось, совсем отвык от пустоты вот тут, за рёбрами, и даже, кажется, дышу теперь глубже и чаще, как если бы воздух стал не так густ, как прежде. Пожалуйста, возвращайся, ибо, когда раньше бывало одиноко и пусто — я просто не знал точного смысла слов «оставляется дом ваш пуст». Возвращайся, пожалуйста, и делай, что считаешь нужным, а нам дай только сил не размениваться ни на козий сыр, ни на страну, ни на жизнь.
Аминь.
Цукер
Пешком
Казалось бы, приспичило к причастию именно в монастырь — ну сядь на электричку, через два часа на месте. На машине через час. Какой смысл ехать до Навли, от Навли до неприметного лесного поворота, сказать на прощанье озадаченному пузатому таксисту: «в общем, вы в курсе, куда мы свернули, если что — созвонимся», и прошагать за двое суток полсотни километров? Разве только для удовольствия целую после того неделю хвастаться: а нас три дня в городе не было… в паломничество ходили… пешком… в Площанскую… Собеседник, во-первых, замирает, ибо неизвестно, чего и отвечать-то на интимные сведения, во-вторых, держит наготове понимающую физиономию. Спектр понимания широк, от «тьфу ты, а я чуть было не повёлся!» до «как же, как же, дело душеполезное…»
Впрочем, и удовольствие фиговенькое, уже через пару дней кромешного хвастовства организм говорит сам себе: «да мы, батенька, тщеславное трепло», где «трепло» — всего лишь вялый синоним сами догадайтесь какого слова. И вообще, за всеми этими рассказами о дорожных приключениях и подвигах духа, уже, кажется, и не вспомнить, какого ляда гиподинамичным горожанам ломиться сквозь лес, аки лоси, по жаре, с рюкзаками, утюгами, флагами, и всем таким прочим.
Но отчего-то нужно было именно так. Отчего-то на транспорте в этот конкретный раз не срабатывало, Небеси организовали — в самый разгар-то свадебного сезона! — пробел в рабочем графике, и мысль «пора, пора» мигала, как зелёная лампочка пожарного выхода. Мы шли искать каждый своего: тишины внутри, не-города снаружи, преодоления полосы препятствий, наконец. Каждый получил своё, всё остальное в придачу, и ещё немножко сверху.
Первый день успокоил насчёт пороха в пороховницах: если в городе, на асфальте, два километра — это «ой, давай маршрутки подождём», то в лесу восемь часов условно-непрерывного пешего хода — нормалёк, особенно если полить друг друга репеллентом, как сосиску кетчупом. Мелкая, но стремительная речка Навля, рыбки-спа, пытающиеся обкусать все мозоли на ногах и все волосы подмышками, внезапное исчезновение дороги, внезапное её обретение (да здравствует навигатор!), земляника, малина, грибные места, гиблые места, знакомые места, Алтухово, старинное усадебное озеро, старинные усадебные деревья, чистая и пустая поляна на берегу, гречневая каша из котелка, кофе на молоке с-под коровки, наконец, отсутствие комаров — если все эти паззлы не складываются для вас в картинку щастья, то и ладно, гуляйте на своём химзаводе, дети асфальта. Нам же для полноты не хватало лишь понимания: это у нас что, поход или таки паломничество?
Если бы все наши хаханьки и трёп проявлялись в виде атмосферных явлений, над трассой вился бы лёгкий туман, местами переходящий в переменную облачность. Мы вообще не шибко-то работали над собою… да чего там, вовсе не работали, шли себе и шли, точили скоромное, вычитавши накануне, мол, пешее паломничество приравнивается к посту. На комаров, крапиву, колдобины и мозоли то и дело приговаривали друг другу злорадно: «во-о-о-от, это тебе для смирения…», впрочем, к вечеру уже плохо соображали, то ли всё ещё иронизируем, то ли уже дух укрепляем.
Второй день по всем туристическим заветам — самый трудный. Ножки бо-бо, навигатор с утра кажет дулю, распечатка аэрофотосъёмки содержит в себе белое пятно, и даже знакомый священник отец Олег, балагур и насмешник, строящий прямо напротив станции удивительной лепоты деревянную церковь, на просьбы о благословлении сначала похохатывает, глядя на наши неофитские физиономии, по-хозяйски проверяет наличие крестов на шеях, и только потом, как бы всё ещё сомневаясь, широко крестит всклокоченные головы.
— Отец Олег, а как нам на Шемякино выйти?
— Ку-у-уда?
— Н-на Шемякино… там, по карте, дорога есть…
— А чего вы у меня спрашиваете? Я не местный. Вот он сам всё знает.
Тот из нас, которого определили в эксперты, сдержанно-горд оказанным доверием, но навигатор-то действительно накрылся, и карта мелковата, и мы дружно ноем, чтобы хоть начало дороги указали.
— Вот привязались… говорят вам: идите себе и идите, а если будет развилка налево или направо, так шагайте прямо.
И опять хохочет. Вот и поговори с человеком о серьёзном.
Через два часа, собрав у всех встречных-поперечных крупицы информации о неуловимой дороге на Шемякино, мы таки вступаем в лес и идём себе, и идём. И вот ведь — тот, которого назначили всезнающим, чует единственно верное направление, из множества разъезженных лесовозами просёлков выбирая нужный нам, и сильно заполдень прогнившие крыши Шемякино, когда-то густонаселённого, а теперь зарастающего весёлым сосновым бором, виднеются сквозь высокую траву. Раздвигая распаренными футболками жирный воздух, мы долго шагаем задворками, и среди стрёкота пьяных от любви кузнечиков только одинокое лязганье металла о металл выдаёт наличие в пейзаже человека. Старик в выцветшей милицейской рубашке колотит молотком по какой-то сельскохозяйственной технике.
— Здравствуйте.
Старик сколько-то времени смотрит оценивающе, как бы прикидывая, не стоит ли для начала разговора запустить незнакомцу инструментом в голову.
— Ну, здрасьте.
Всё-таки внешность у меня положительная, я всегда нравился старикам и женщинам за сорок.
— Мы тут тово… типа, паломнички. В Площанскую движемся. Нам водички бы.
— Пало-о-омники? В монастырь, что ли? Чего это?
Старичок-то оказывается весел, что твой алтуховский священник.
— Ну, к причастию, то-сё…
— Так Бога ж нету!
— Вот те на. Есть Бог.
— Ну докажи хоть раз, ну? Например?
— Э-э-э… а, вот: мы этой зимой на трассе застряли, стояли два часа. Молитву прочли и тут же поехали. Например.
— Ух-ха-ха! — старичок разве что на траву не падает, — тоже, пример… Это у вас бензин подсосало карбюратором, вот и поехали. А Бога — нету. Если б был, разве такое творилось бы?
— Какое — такое?
— А когда за пятьсот рублей девяностолетнюю старуху пьянь убивает, а? — от хохота и следа не осталось, — Где Бог? Где справедливость?! Почему не наказывает?!!
— Да наказывает, наказывает. Всему своё время.
— Что — в ад? Э-э-э, нет, ты накажи прямо сразу, тогда поверю!
Хозяйство у старика крепкое, куры, козы, насос с шумом качает из скважины холодную воду.
— … и вот на этой беседочке будет дорога наезженная справа, а вы идите прямо, аккурат к Коммуне-Пчеле выйдете, здесь километров пять-шесть.
Мы благодарим и идём. Старик почти вприпрыжку бежит за нами. Ему очень одиноко в Шемякино, с тремя старухами, раскиданными по всей деревне.
— Раньше жизнь была — да-а… разрушили, разрушили, сволочуги… Такая деревня, колхоз… А идёте вы зря, Бога-то нету, эх-ха-ха… Не спорю, монахи — ребята правильные, работают, наркоманов всяких исправляют, трудятся… но это так, это они себе такой труд выбрали сами, а Бога нету…
— Зовут-то вас как? — спрашиваем мы, остановившись на секунду.
— Александр Иванычем, — останавливается и старик.
— Ну, мы, там, помолимся за вас, ладно?
— Ну, потрудитеся, потрудитеся и вы, — снова веселится Александр Иваныч, — на беседке — прямо, а там уж и Пчела-Коммуна…
И остаётся стоять на сбеге дороги. Солнце золотит стариковский силуэт в голубой рубашке со споротыми погонами, по обочине густится молодой сосняк, а сверху, где ни облачка, положив голову на руки и жуя травинку, на нас четверых задумчиво смотрит Тот, с Кем Александр Иваныч категорически не согласен.
…У беседки развилка — одна дорога врезается в нашу тропу справа, другая уходит под небольшим углом ошуюю, почти прямо. Часа полтора мы движемся по ней, сначала уютно-грунтовой, потом разбитой лесовозами по самую глубину камазовских осей, и когда выскакиваем из сумрачного широколиственного леса к пшеничному полю, где-то на уровне кадыка родится ощущение, что у нас всё ж таки паломничество, а не просто поход. Солнце ускоряет разбег, мечтая до прихода темноты завалиться за маковки сосен, мы идём по опушке и читаем вслух каноны, потому как молитвослов на троих один, и, если читать по очереди, до заката не управимся. (Уже потом, через несколько дней, дома, обнаруживается, что именно так и поступают нормальные паломники — читают вслух. Но мы-то не знали! А?) Древние слова выплывают из осипшего горла гулко и полновесно, как сводка Совинформбюро: «…о, безумный человече, доколе углебаеши, яко пчела, собирающи богатство твое? Вскоре бо погибнет, яко прах и пепел…»
…Стоп, что-то было недавно, про пчелу… на языке болталось… ах, ну да — Пчела-Коммуна, географическая цель. Не зная ни бельмеса об истории Пустыни, на тыщщу рублей можно заспорить, что революционное крестьянство организовало коммуну на монастырской хозяйственной базе, обозвало себя Пчелой, разнесло всё в клочья, и разбежалось по тёмным углам жечь лампочки Ильича и пить буряковую. Аккурат по книжке.
А «углебаеши» — это как? Наверное, именно как пчела: прёшь на себе до посинения, до последнего вздрыга перепончатых крылышек… или сидишь по пояс в меду, думаешь: фига се, хавца на зиму заготовили… хоть бы не лопнуть жрамши… а тут — опаньки — крыша открывается, сверху заглядывает добродушная физиономия пасечника, и тебе прямо в лупоглазую насекомую физиономию дуют гадким дымом… Главное, что бы конкретно ни значило, суть ухватывается с ходу, и это ответ давешнему спору, когда один из нас кричал «ну почему нельзя перевести с церковнославянского на нормальный русский?!», а другой: «да уж перевели, не беспокойся — сходи к ребятам на службу, долго выстоишь?» Теперь же, на берегу пшеничного моря, на краю сумрачного ольшаника, под синим-синим, над жёлтым-жёлтым:
— Слушай, так всё ж понятно…
— Ну да…
Грунтовка кончается, сбитые до волдырей ноги больно упираются в асфальт.
— Добрые дети, где тут у вас монастырь?
— Какой монастырь?
— Как какой?! Это же Коммуна-Пчела?
— Не-е-ет, ха-ха, это Красный Колодец! До Коммуны ещё километров шесть по трассе!
Ну, дети, допустим, не шесть, а одиннадцать, но это выяснится утром, пока же мы просто сидим на обочине и хохочем над собою, над коварным Александр Иванычем с его «потрудитеся, потрудитеся…», приговаривая: вот это нам точно для смирения. Между прочим, на последнего шемякинского жителя грешили зря, не подставлял нас старичок. На аэрофотосъёмке впоследствии обнаружилась явственная прямая дорожка сразу от беседки, но кто-то предупредительно укрыл её от нас раскидистым кустом, и получилось, по предсказанию алтуховского батюшки: «будет развилка налево и направо, а вы идите прямо». Откуда знал, а?
Что за мир, куда ни сунься, везде причинно-следственные связи.
Но к причастию мы, конечно, всё равно добрались. Вставши в четыре утра, ступая по асфальту, как Русалочка свежеприобретёнными ногами по палубе, с полуночи без воды и курева, что для некоторых равносильно сорокадневному посту, пугая редкие машины громкой декламацией, к началу службы мы стояли перед местным списком Казанской, тем самым, чья простенькая фотография в деревянной рамке стоит в нашей спальне, и отчего-то ближе всех прочих ликов; мы сверяем по ней свои поступки и намерения, как по барометру, а если кто подумает теперь «во, психи!», то и пусть, и на здоровье. Так вот, мы успели, и у одного из нас вдруг отпустило разбитую ногу, но это, конечно, не чудо, это психологическое. Наверное.
У меня, между прочим, тоже ноги отпустило, попозже, когда окунулись в источник, но это даже не психологическое, а физиологическое: вода ледяная, градусов пять, ноги сначала сводит судорогой, потом лёгкость необыкновенная. На замшелых деревьях вокруг купальни — сплошь алые деревянные сердца, «Вася и Лена Ивановы», «Коля и Светочка, 2 февраля». Молодожёны прибивают, кто выше. Источник святой, все дела, но ничего особо чудесного не замечено, просто хорошо очень. Хотя… если, скажем, лечь на землю, руки под голову… и представить себе Того, с травинкой… то тогда с чудесами полный порядок, да… хотя это, конечно, банально… и ладно… и пусть себе…
Цукер
Сакко и Ванцетти
Город! Слушай, Город, это я к тебе обращаюсь! Если ты увидишь на своих улицах две половинки одного человека, ну, как в старом мультике про двух с половиной землекопов… впрочем, нет, в мультике была нижняя часть землекопа, ремень, штаны и сапоги, а я толкую про две половинки, одна выше, другая ниже пояса… так вот, если ты увидишь, как по улице невесомо летит верхняя часть человека, мужчины лет примерно сорока, держась одною рукой за сердце, а другою махая в воздухе и крича: «я так люблю тебя, Город, что у меня в груди образуется физический вакуум!»…
…некоторые, прочтя предыдущий абзац, непременно захохочут злорадно, мол, «махая рукою и ею же крича». Именно махая и крича.
…А нижняя часть вышеупомянутого мужчины будет бежать в противоположном направлении и с размаху бить прохожих под зад. С размаху. Под зад, или даже с обратной стороны, хоть это и не спортивно.
Так вот знай, Город — это ты встретил меня, Цукера К. Д., 1969 г.р., практически белоруса, женатого, не привлекавшегося. Это я, мущщина тридцати девяти лет, бегу по тебе в разные стороны, разорванный пополам разновекторными чувствами, а именно: любовью и бешенством. Пояснения ниже.
***
Недавно мы гуляли по улице Сакко и Ванцетти, плавно переходящей в улицу Московскую. Улица имени анархистов и участников рабочего движения Николо Сакко и Бартоломео Ванцетти, обвинённых в убийстве инкассаторов, вёзших зарплату на обувную фабрику, пролегает на самом краешке Советского района, и попасть на неё удобнее всего, выйдя на последней остановке перед Чёрным мостом на Брянск — II. Что характерно, нету на этой улице ни обувной фабрики, ни инкассаторов. Анархисты, может, и есть, но вряд ли они имеют отношение к рабочему движению. Скорее всего, это стихийные анархисты, в русской транскрипции называющиеся словом на букву «по», но кончается на «…исты», да. Причины, по которым советская власть назвала улицу под Карачижом именами американских анархистов, казнённых на электрическом стуле в августе 1927 года, сейчас совершенно необъяснимы.
Это была наша вторая попытка прогулки по данной улице, а первая предпринималась ещё зимой, и оказалась неудачной: без зелени улица Николо и Бартоломео выглядела удручающе, и только ледяные надолбы вокруг многочисленных источников, бьющих из отвесной меловой стены, развлекали нас своими невозможными формами. Продрогшие, мы вскарабкались вверх по дорожке безо всяких опознавательных знаков и оказались вдруг во внутреннем дворе полудохлого кирпичного завода. Крепенький ещё усатый старик-вахтёр, явно отставной прапорщик, радостно не пустил нас сквозь проходные на волю и пообещал скормить собакам, бившимся грудью о металлическую сетку вольера. Пришлось идти в обход, сквозь инфернальные производственные пейзажи — в общем, не удалась первая попытка, прямо скажем.
Но было, было нечто многообещающее во всей этой мёрзлой слякоти, в блёклых домах и безлюдье, и мы пошли во второй раз, и не пожалели ни на секунду.
***
Во-первых, это хорошо, что мы тут побывали зимою, а то и знать бы не знали про тыщщу источников, омывающих фундаменты частного сектора — летом они зарастают травой до состояния полного камуфляжа, и даже зная точно, откуда именно бьёт ключ, до самой струи добраться хлопотно: джунгли, истинные джунгли.
Во-вторых, именно летом только и можно понять, зачем тут, на вечном половодье, поселились когда-то первые саккованцетинцы. Они, наверное, когда-то пришли сюда, скажем, пасти коз, ходили-ходили, да и говорят друг другу: от ведь красотишша-то, а? Ну, и построили быстренько себе халупку, себе, и маме, и шурину. И переехали. А тут как наступит осень, вся трава облезла, они из дому выходят поутру: фигасе, красотишша… И вернулись бы обратно, но кто ж под зиму переезжает? А весною трава как попёрла — опять хорошо, и коз далеко водить не надо. И так каждый год. Притерпелись.
Но тот, первый порыв к возвращению, всё-таки где-то в воздухе повис и немножечко даёт о себе знать, отыгрываясь на местной архитектуре: нету никакой архитектуры, прямо сказать. То есть, до недавнего времени не было, но теперь потихоньку начинает прорастать то здесь то там новенькими, хорошо выложенными кирпичными домами. Зато только здесь и больше нигде встречаются гибкие сливы для дождевой воды, собранные, как паззл, из полиэтиленовых бутылок. Шикарная вещь, патентовать срочно.
Если бы не особенности зыбкой геологии, район со временем мог бы стать очень даже VIP, но чтобы терпеть всю жизнь залитые водой цокольные этажи, нужно быть морально подготовленным, то есть урождённым саккованцетинцем. Которых повстречалось нам чрезвычайно мало, так что даже не у кого было узнать, каким таким хитрым образом они все выбираются на большую землю? Серьёзно, улица довольно длинная, домов много, а ближайший транспорт ходит только по Красноармейской (внизу) и по Карачижской (вверху). И туда и сюда пилить широким шагом ну никак не меньше пятнадцати минут, и это при наличии более-менее сухой тропы. Может, здесь все омоторенные? Тогда почему на асфальт не скинутся, ведь на здешнем просёлке подвеску убить — два раза в магазин доехать.
Может, у них вообще джипы у всех, а скромные фасады — камуфляж, как трава?
Насчёт скинутся на асфальт, это мы, конечно, подзагнули, пардон.
Говоря фактически, Сакко и Ванцетти не улица, а полуулочек, ибо строиться по правой, отвесной стороне, охотников нашлось немного, подавляющее большинство примостились на нечётной. Поэтому, попавшись государству на какой-нибудь мелкой провинности, смело врите, что живёте по адресу Сакко и Ванцетти, скажем, 44. Почтальон долго будет ходить вдоль заросшего травой обрыва, зажав в потной руке квитанцию на штраф; ну и пусть его ходит.
Ближе к концу полуулочка всякий путешественник просто обязан нырнуть на малоприметную дорожку по левую руку, бегущую вниз. Метров через триста вынесет вас к реке и к одному из тех хитрых местечек, которых в городе пока что ещё немножко осталось: обросшая по краю кустами и деревьями луговина, не траченная ни скотом, ни отдыхающими. Сюда если телепортировать человека без предупреждения, то и останется человек стоять, рот разинув, думая, что он на лесной опушке, не видя ни одной крыши, не слыша ни одного убогого звука, а только зелень и стрекотание стрекозяблей. Мы, конечно, всю эту живопись сфотографировали, но нету такого фотоаппарата, который бы передал самую суть места, увы. Просто хоть ставь палатку и живи.
Но пошли дальше, потому что в планах — добраться берегом до Свенского монастыря.
Дальним своим концом Сакко и Ванцетти упирается в улицу Московскую, которая, есть подозрение, является продолжением той самой бывш. Московской, ныне Красноармейской. Московская — улица уже полноценная, двусторонняя, и по ходу своему движется в гору, стремясь куда-то в район Тимоновки. Нас она интересовала чисто в качестве вектора, соединяющего пункт А (Сакко и Ванцетти) с пунктом В (монастырь), но именно-то из-за неё вашего корреспондента разорвало пополам (см. первые абзацы). Дело в том, что туземцам страшно повезло с улицей, а самой улице убийственно не повезло с туземцами. Местным жителям досталась славная, чуть косенькая, с подъёмами, косогорами, развилками, овражками и проч. приятными атрибутами, малая родина — просыпайся поутру, смотри в окно и кричи «Хорошо!», вне зависимости от погоды. А улице Московской достались жители, ведущие себя подобно травоядным: где стоят, там и — сейчас будет брутальное, но точное определение, извините — где стоят, там и срут. Другого слова нету, хоть выучи словарь Даля наизусть.
Ни одного мусорного бака. Ни одной чистой балки. В неописуемой красоты овражки они скидывают ВСЁ, самосвалами. И потом тут живут. Так им и надо. Детей только жалко, дети ведь растут и думают, что родина (Родина) — это такая огромная куча, в которой нужно вырыть норку между использованными прокладками и кусками строительного мусора, и в этом дупле размножаться и жарить яичницу-глазунью на сале, растапливая печку старыми носками и кизяком.
Я так люблю тебя, Город. Мне тошно от тебя, Город.
…Спасаясь от Московской, мы бросились вниз, и на какое-то время спаслись, шагая вдоль реки по типичной пойменной улочке — с одной стороны берег, с другой раздольно разбросанные домишки на раздольно разбросанных участках. Все эти Заречные улицы похожи друг на друга, как близнецы: просёлок, кусты, заборы, качающиеся на воде и полузатопленные лодочки, неугомонные рыбаки, вперившиеся взглядом в ленивый поплавок. И всё бы хорошо, если бы не собаки, выскакивающие из-под каждой заборины с криком «ща порву на куски, мля!». Тю, скажете вы, собаки, — тю! Оно, конечно, тю, но Бочарова собачьи вопли принимает за чистую монету, и умирает при виде всякого лишайного щенка, а неугомонные твари чувствуют страх за километр, и сбегаются на аттракцион со всего района. Да что там щенки — двое бессловесных детей, копавшихся в песке, внимательно осмотрели нашу праздношатающуюся группу и вдруг, не сговариваясь, затявкали с подвыванием, явно адресуясь Бочаровой. Вот ведь напасть!
Андреевский луг, конечно, великолепен, но осмотрен давно и полно, и не ожидается в нём загадок и открытий. Самое же главное, появились то тут, то там группы отдыхающих, и вскоре уже весь берег стал засижен релаксирующими горожанами. Купальный сезон только-только открылся, самые безбашенные ныряльщики, проигравшись в карты, с уханьем опрокидывались в зябкую воду, а еле притоптанная трава уже густо белела пластиком и стеклом, уберут которые только добрые муниципалы, готовящие луг к ярмарке, то есть не скоро. Не дожидаясь худшего, мы несколько раз пытались уйти от реки вправо и вверх, но упирались в частные владения, пока, наконец, не попали на более-менее настоящую дорогу, вихлявшуюся вдоль никак не обозначенной улочки, ведущей аккурат к кладбищу. Свернули на едва приметную тропинку, круто ползущую в гору, мимо махонького чумазого родника — и получили-таки искомый катарсис.
Тут надобно описать подробнее. Представьте себе: широкий, заросший травою склон. Разнотравье, разноцветье, пчёлы гудят, неся домой последний взяток. Над всем этим великолепием торчит на отрожке одинокий дом белого с красным кирпича, и даже снизу ясно, что из окон дома видно окрест километров на двадцать. Посреди же склона, на тропинке, лежит чурбак и натурально горит гостеприимным пламешком, как бы говоря: а что, друзья, не выпить ли вам кофию? Честное слово, так и было. Откуда чурбаку взяться посреди непримятой травы — неизвестно. Кто его разжёг — неизвестно. А раз неизвестно, значит, чудо, а раз чудо, значит, это нам такой привет от вышних сил.
Разумеется, сели мы на траву, и сварили кофе, и выпили. И сидели долго, гадая, кто-кто в теремочке живёт, и о чём думает, глядя каждый день на всю эту благодать, и смотрит ли вообще в окно, может, ему до фени двадцать км обзора. Над нами, метрах тридцати вверх, сидели две пацанки, и тоже смотрели вдаль и немножечко на нас — в конце концов, не каждый день видишь отморозков, варящих посреди прохожей тропы кофе в турке. То есть, мы для них тоже были элементом чуда. Хотя вряд ли девчонки рассуждали так заковыристо, скорее всего, просто шептали друг другу на ухо: глянь, глянь, какие чокнутые. Или: а я ему… а он мне… И хихикали.
Мы, конечно, потом тоже добрались до самого верха, откуда виден и монастырь, и кладбище, и двадцать километров вдаль.
Ах, Город, как же я тебя люблю. У меня в сердце от тебя холодеет, как если бы на качелях с высшей точки в глубокое пике.
Прости ты нас, дураков, Город.
Цукер
Третий не лишний
Уже для того следовало запустить в космос спутник с Белкой, Стрелкой, Гагариным и Терешковой, чтобы они там, в невесомости, от нечего делать придумали фотографировать Землю через большое увеличительное стекло. Тогда, конечно, увеличительные стёкла были так себе, не очень большие, да и не влезла бы большая лупа в маленький спутник, поэтому фотографии выходили нечёткие и без подробностей: вот Африка, вот Гренландии кусок торчит, а это… не разобрать сразу… Караганда, что ли?
А теперь захочешь яблок на даче натырить, так тебя сверху разглядят, снимут, вычислят по компьютеру, и к вечеру повестку пришлют — уже были два таких случая в Пензе, ага.
Мы яблоки давно не воруем в силу комплекции и вообще возраста, и у нас не воруют — нету, но рассмотреть малую родину из иллюминатора космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи — хлебом не корми. И что же первым делом видится пытливому краеведу, наведшему поисковик Google на Советский район? Что бросается в глаза? Правильно, овраги.
Ну-ка, коллеги-краеведы и просто малопатриоты, какие в Советском районе овраги? Загибаем пальцы: Нижний Судок, Верхний Судок, Лесные Сараи и… и… ну и маленькие всякие балочки, да?
Так вот — нет. Самый широкий и не менее протяжённый, чем оба Судка, сбегает их брат-близнец от улицы Спартаковской (район областной больницы) через Карачиж и бывш. магазин «Перехватчик» перед Чёрным мостом. Ну, ещё дамба через него идёт по улице Урицкого, вспомнили? Вспомнили. А название ему… название ему какое? Ну, читали же вот недавно… на языке вертится, да? Нет, не вертится, это дежавю. Всезнайка-интернет сообщает, что вроде бы звать его просто овраг Карачиж, но этот же Интернет сообщает (цитата): «Б-ский метрополитен достаточно велик, он состоит из 5 веток, соединяющих окраинные районы с центром». И только краевед Яков Соколов сообщает: овраг Подарь. Кто не верит краеведу, пусть дочитает этот текст до конца и получит неоспоримые доказательства. Что, собственно, значит слово Подарь толком неизвестно, вроде как однокоренное с понятием «падать», мол, Подарью звалась речушка, в которую падали воды многочисленных криниц.
Этот судок по сравнению с собратьями вообще несколько невезуч. Так, согласно постановлению №34 от 08.09.1994, овраги Нижний и Верхний Судки объявлены памятниками природы, имеющими реликтовое, историческое, научное, эколого-просветительское, рекреационное и эколого-оздоровительное значение. Э, алё, а Подарь?! А про Подарь забыли. Не ходят по его склонам в апрельскую субботу чиновники с граблями, это плохо. Зато почти не ходят по нему и булдыри с пакетами, это хорошо. Всё потому, что забраться сюда гораздо сложнее. Но можно, особенно если воспользоваться услугами проводника-аборигена, проведшего на склонах оврага все свои детство-отрочество-юность. Среди редакции один такой есть, а именно Петренко (м), но предлагать Петренке (м) вот так, за нефиг делать ползать по отвесным склонам — всё равно что предложить колорадскому жуку на каникулах слетать к бабушке на родную Колорадчину. И мы с лёгкой душой обратились к видеооператору Горохову, который года три как порывался показать всем желающим некую мифическую трубу под дамбой, сквозь которую якобы когда-то проходил, не склоняя головы.
Семья карачижских горцев Гороховых вот уже несколько столетий безвылазно живёт по-вдоль Подари, возводя на склонах неказистые, но основательные мазанки и занимаясь разведением коз. Голенастые ноги, метр девяносто в холке и целеустремлённое выражение лица — нашего провожатого сама природа заточила продолжать дело предков, но в детстве Горохов был охмурён шайкой бродячих баскетболистов, пошёл вразнос и, в конце концов, переселился на равнину, повергнув родню в шок. Впрочем, в глубине души оператор остался всё тем же славным пастушком с городской окраины и с радостью согласился провести ребят козьими тропами своего детства.
Погружаться решено было с самого дальнего восточного отрожка, затерявшегося среди многоэтажек близ пересечения Спартаковской и Станке Димитрова. Некоторые члены небольшой, но сплочённой группы любителей краеведческого терренкура сразу же пожалели о том, что посчитали кроссовками шнурованные туфли для городских прогулок, но было поздно: овраг принял нас в своё зияющее зеленью чрево.
По карте от истоков судка до его устья от силы пять километров, но не верьте глазам своим, когда речь идёт об отвесных склонах, заросших по руслу диким кустом, плавно переходящим в камыш и осоку. Идти посередине склона невозможно — человеческая стопа не приспособлена шагать под углом 45 градусов, остаётся только вверх-вниз, вверх-вниз, местами на четвереньках, местами на ягодицах. Единственный участок, чуть более километра, комфортно пройденный по утоптанному дну, начался от гаражей, шёл между дач и закончился практически сразу за впадением в основное русло правого рукава. Но и этот километр был пройден не спеша: здешние дачники люди хорошо воспитанные, если и высыпают мусор за забор, то неприметно, а кроме дачников гулять здесь некому — просто подходов нету. Мы попеременно взбирались на пропахшие душицей косогоры, чтобы посмотреть вдаль, ухватившись за сердце, а Горохов ещё и затем, чтобы произнести мечтательно: «да-а, сексуальные виды…». Не подумайте, в среде операторов «сексуальный» означает всего лишь степень одобрения: сексуальное дерево, одиноко стоящее на развилке, сексуальный стихийный стадиончик, вытоптанный множеством невидимых ног, и проч. Увы, несколько раз тут и там посреди разнотравья попадались нам гигантские зонтики борщевика, покамест одинокие. Одиночество это ненадолго, с огнемётом по оврагу, чтобы выжечь этот воплощённый ужас из «Дня триффидов», никто лазать не станет, а, значит, мы последние, кому удалось безнаказанно проделать этот путь и описать его…
Заросший ряской прудик, окружённый домовладениями IV-го Карачижского переулка и гаражами, завален всякой дрянью по самое не могу. Лет тому тридцать здесь был полноценный пруд с карасями, говорят, в нём даже купалась карачижская детвора. А потом случились эти самые гаражи, будь они неладны. Для любого оврага гаражи страшнее даже борщевика: заросли сорняка теоретически когда-нибудь наши помудревшие потомки смогут выжечь методом встречного пала, после чего засадить обратно душицей и чабрецом; останки гаражей удаляются только точечным ядерным ударом. Сделает ли счастливее наших прапраправнуков точечный ядерный удар по малой родине? Вряд ли. Я бы на месте потомков уже затем изобрёл машину времени, чтобы дать себе под зад с криком: у тебя мозг есть, чумичка?! То, что они до сих пор не прилетели и не навешали всем нам люлей, доказывает: машин времени не будет, и не ждите. А жаль.
Если внимательно присмотреться к плану, обнаруживается: между улицей Пересвета, двумя балками и гаражами прикорнул анклав частного сектора, выбраться из которого можно только пешком или на личном транспорте. Ахая и вздыхая, бродили мы по всем этим 2-м улицам Ломоносова, заглядывая за заборы и пытаясь угадать, как тут им всем живётся, на краешках бесчисленных овражных отрожков? Может, они и не замечают своего счастия? А может, мечтают бросить всё это сельское хозяйство и переехать во-о-он в тот ярко-жёлтый человечий улей, что высится над крышами на противоположной стороне балки? В одном дворе обнаружилась за заборами разноцветная башня из дюжины поставленных друг на дружку стальных двухсотлитровых бочек. Оказалось — труба, серьёзно. У них там теплицы, и свежеотстроенные деревянные строения, а труба нужна для отвода дыма личной котельной, обогревающей всё это хозяйство.
Город Б-ск, ты прекрасен.
…Еле заметная из космоса узкая дамба соединяет многоэтажную левую часть улицы Ромашина с её одноэтажным, но до-о-олгим эхом по правую руку. Другая дамба, более широкая, оснащённая даже фонарными столбами, тянется к Карачижскому переулку №3, лет пятнадцать назад заменив собою деревянный мост на сваях, переходить который рекомендовалось только тем, кто мог связно ответить на вопрос «…а ты на Карачиже кого знаешь?» Ещё раньше от центра до выселок ходили сырыми тропами — они до сих пор просматриваются на крупных планах, но Петренко (м), проведший отроческие годы, глядя с балкона на мебельную фабрику, уверяет, что все эти тропы — фикция, ведущая в никуда, в болота и топи, он проверял.
Насчёт маршброска от дамбы до дамбы по улице Урицкого сказать надобно только одно: даже не пытайтесь! Просто не суйтесь сюда, если вам дороги личные ноги, если у вас аллергия на собак породы «московская сторожевая», кое-как прикованных к гнилому колышку и если вам не нравится лазать над пропастью, держась за заборы всеми четырьмя руками, как коала, австралийское животное-тормоз. Но! Если приспичило увидеть одну из самых красивых городских панорам — лезьте смело, не пожалеете. Стоя на одиноком холме, медленно повёртывая голову слева направо и шепча «твою ма-а-ать… твою ма-а-ать…», всякий сумеет убедиться, что город наш способен нанести распахнутой душе эстетическое наслаждение. Увы, описывать открывшуюся панораму словесно или даже фотографически бесполезно, нужна 3D-графика…
За отрожком начиналась детская вотчина Горохова, и карабкались мы по ней, сопровождаемые ностальгическими рассказами:
— Фильм по «Декамерону» смотрели? Ну, итальянский? Ну, там ещё монашки голые по саду порхали: туда-сюда, туда-сюда? Во-о-от… как раз в этих кустах тоже одна так порхала… туда-сюда… туда-сюда… Но вы не подумайте, это всё после уроков! А вот тут тарзанка висела, мы с неё сигали, кто дальше. Ну, и я сиганул как-то раз, неудачно… Все так смеялись, так смеялись…
Со времён отроческих игрищ нижняя часть оврага сильно завшивела, кроме того, припустил давно обещавшийся дождь, и проверять россказни о трубе высотою в человеческий рост стало решительно невозможно. Зато сразу за дамбой обнаружилась прэлестная улочка Подарная — доказательство правоты краеведа Соколова! — и вот уже Горохов застенчиво скребётся в двери родного дома, из дверей выходит родная мамо, опытным глазом оглядывает изгвазданную ополоумевшую компанию и молча выносит пакет горячих драников.
Да здравствуют все мамы на свете — лучшие мамы в мире!
Да здравствует улица Подарная, обворожительно вьющаяся по бровке оврага и медленно, но верно выводящая путников к бывш. магазину «Перехватчик»!
Да здравствует улица Калинина! Да здравствуют люди. Да здравствует транспорт.
Жизнь прекрасна, нужно только знать места.
Цукер
Плюс овраг
Не все ещё обратили внимание, но в Советском районе давно уже не три оврага, а целых четыре. Нет, это не сообщение об экологической катастрофе. Нет, это не сатирический выпад насчёт качества дорог. Просто малая родина растёт вширь, и вот уже сколько-то лет мы, жители Малого Кузьмино (-на?) являемся жителями Советского р-на г. Б-ска. Впрочем, после Белых Берегов, которые тоже какой-то там р-н г. Б-ска, никому это не удивительно. Может, и про четыре оврага никому не удивительно — кроме нас. Мы-то живём как раз на бровке этого самого, четвёртого.
Теперь будет самый сложный абзац во всём тексте. Эээ… как бы это… типа, ну… В общем, мы теперь живём на краю оврага, который зовётся Цукерова Падь. Если кому-нибудь каламбур всё ещё не ясен, посмотрите подпись под статьёй. Теперь смешно? То-то же. Обхохочешься.
Потому что достали уже. Всякий, увидевший дорожный указатель «пр-д Зиновия Гердта. Цукерова Падь 350 м» норовит немедленно позвонить и, злорадно ржа, сообщить своё мнение относительно топонимики. Господа, давайте же объяснимся раз и навсегда, по пунктам.
Выбирая участок под дом, Бочарова объехала шесть предложений, и всё было как-то не то. На седьмой раз сказала: фиг ли ты дома сидишь, а я отдуваюсь тут? Поехали вдвоём! Крыть нечем, поехали. Приехали — и вдруг лес. Прямо за участком. Прямо сразу. Я говорю, Бочарова, говорю, всю жизнь мечтал про лес, а? Но Бочарова всю жизнь как раз мечтала, чтобы не было пауков. А тут лес прямо за участком, а в нём, вестимо, пауки, как в гаррипоттере. Хоть разорвись. Откуда ни возьмись старушка, ну, такая, с сумками, чапает по дороге. Мы говорим: а там что, большой ли лес? Тю, говорит, какой там лес, там овраг дальше, Цукерова Падь. И пошла.
Мы, конечно, подумали, что ослышались. Если б там был Бочаров Ручей, и то подумали бы, а тут Цукерова, да ещё Падь.
Ччего, говорим, там? Какой-какой овраг?
Она сумки на дорогу поставила, обернулась и раздельно так: Цукерова Падь. Ну, балка. Тут вокруг поля были, а там балка, не распашешь, вот лесом и заросла.
И пошла себе.
Вот и скажите теперь, могли мы построить дом где-нибудь в другом каком месте?
Весь Яндекс облазили, искавши эту Падь. «Падь» есть — как раз заросший лесом овраг, но само слово для наших мест нетипичное, скорее, зауральское. Цукерова тоже есть, но Балка, в Ростовской области, там ещё стоит самый страшный пост ГАИ, они даже своих, полицейских, но из других областей, пускают по миру голыми и босыми, отморозки какие-то. А Цукеровой Пади нету. И кто такой этот прапраЦукер, в честь которого там и сям называли овраги, или что это такое — покрыто мраком неизвестности.
Но тут приятель-архивист, озадачившись такою странной топонимикой, нашёл два упоминания нашего оврага в документах. Во-первых, два абзаца, написанные по-французски Анной Фёдоровной Аксаковой (да-да, старшей дочерью самого Фёдор Иваныча!) князю Вяземскому и сохранившиеся в знаменитом «Остафьевском архиве». Описывая какой-то из своих нечастых приездов в Овстуг, к любимой мачехе Эрнестине Фёдоровне, столичная фрейлина не на шутку взволновалась происшествием: прямо перед экипажем дорогу перебежал матёрый бирюк, лошади встали на дыбы, поклажа рассыпалась, разбился бирюзовый сервиз, и т. д. и т. п. Случилось всё в пяти верстах от Б-ска при спуске (внимание!) в ложбину, которую возница назвал «Цукеров лог». Можно предположить, что «падь» превратилась в «лог» при двойном переводе, сначала с русского на французский, затем обратно. Второй документ — отрывок из судебной тяжбы за 1897 год между крестьянской общиной села Бежичи и помещиком Львовым, в котором бежичане жалуются что, мол, помещик второй год производит покос в Цукаревой Пади, в которой отродясь паслось сельское стадо. Чем тяжба закончилась, неизвестно, да это и не суть, а суть в том, что в прошлом году добрые люди установили указатель, и подите все нафиг со своими подначками!..
…Нам, прошедшим оба Судка и Подарь от истока до устья, устоять не было никакой возможности; дождались лучшего дня в году — конец августа, плюс двадцать два, лёгкие облака — собрались и пошли.
Судя по снимкам из космоса, Падь — самый длинный овраг в городе, чуть ли не в два раза длиннее прочих. Начинаясь от проезда им. Зиновия Гердта (самый дальний край Малого Кузьмино), он под углом в сорок пять градусов втыкается в Смоленскую трассу, пересекает её между Путёвкой и поворотом на Толмачево, а там уж под прямым углом несётся в сторону Антоновки, но не добегает, впадая в пойму речушки Волончи. Идти по дну оврага, виляющего средь полей — невелик краеведческий интерес, это вам не густонаселённые дачные судки, где: о, гляньте, штрифеля, спелые… о, гляньте, спортплощадка… о, гляньте, черметский мост! и т. д. Решено было вначале привязаться к местности, составить мысленную карту, а потом уж по дну, по дну. Тем более, бывалые велосипедисты Володины клятвенно уверяли всех вокруг, будто бы, если идти от истока Пади аккурат на север, затем резко свернуть на восток, то через пару километров упрёшься в десятый микрорайон. Верилось с трудом, потому как где Кузьмино — и где десятый? Любой кабинетный краевед, проехав на маршрутке туда и обратно, не глядя скажет: восемь километров минимум. Но мы-то полевые краеведы, кроме того, со студенчества помним: Б-ск — географический лист Мёбиуса, и в какую сторону ни садись на площади Ленина в троллейбус, непременно попадёшь в Бежицу. Объяснить приезжему, как такое возможно — невозможно, и схему рисовать бесполезно, ибо любая схема рисуется на плоскости, а тут нужны как минимум 3D.
И что вы думаете? Не соврали Володины! Через полчаса неторопливого ходу наш разомлевший от ласкового предосеннего солнышка отряд вошёл под кроны почти дикого леса, которым плотно зарос небольшой, но глубокий и сырой овраг, разделяющий именно что десятый микрорайон на две неравные части: многоэтажную, со школой, детским садом и универсамами, и малоэтажную, частной застройки. Как раз в этом овраге тренируются б-ские лыжники, в том числе сама Куркова, и, вон, виднеется синяя крыша лыжной базы. Благодаря олимпийским резервам овраг содержится в образцовом порядке, дорожки подсыпаны опилками, устроена аккуратная спортплощадка, где всякий желающий может прокачать себе любую мышцу, на выбор. В целом же похоже на туристический маршрут где-нибудь на Уральских горах, как одобрительно определил опытный турист Петренко (м).
Немножко повисевши мешками на турниках и констатировав полное личное несоответствие нормам ГТО, мы сделали попытку прорваться поперёк оврага к знаменитой берёзовой роще, законной гордости десятомикрорайонцев, и не прорвались — больно густо, круто, мокро и бездорожно. После оказалось: к берёзовой роще следовало идти от Пади аккурат на север, не сворачивая, и тогда можно было б в очередной раз подтвердить давно нами разрабатываемую теорию, что Россию спасут ползабора.
Тут, пожалуй, необходимо пояснение.
Роща эта, белоствольная и вообще есенинская, традиционно является местом народных гуляний — со всеми вытекающими. Ожидала её горькая судьба т. н. Рощи Любви, что между Кузьмино и Мичуринским по правую руку; пикникующие за три-четыре года засыпали её тарой по щиколотку. Но случилось неоднозначное: по краю рощи стали строиться небедные домики, и когда таких домиков выросло достаточное количество, выстроился Ползабора, перекрыв вход в рощу со стороны улицы Пограничной. Теперь всякий ищущий променада, как и прежде, имеет возможность пройти в общественную рекреационную зону, но только обойдя стописят метров трёхметрового Ползабора, плюс сплошной ряд частных участков. В общей сложности минут десять ходу, и если у тебя трубы горят, а в кармане фуфырик — не добежать. В результате нехитрого благоустройства между небедными домиками образовался анклав, и, если стать на невидимой его границе, разница будет очевидна: с одной стороны ухоженный почти парк, в котором даже листья — нет-нет! — не сжигаются, а сгребаются в канавки, с другой — свалка, нетрезвые вопли, и всё время горит, чадя, какая-нибудь дрянь. Вот нам и пришло в голову, что национальной идеей в России может стать создание сплошной сети полузаборов, через которые нельзя перелезть, но можно обойти; главное, правильно рассчитать психологически, чтобы для хорошего дела расстояние обхода всякий раз оказывалось пустяковым, а для пакости какой — непреодолимым. Но это тема для отдельного коллоквиума.
…С удовольствием пройдясь по чистой лыжне и скользнув по самому краю многоэтажной части микрорайона, наш отряд на несколько времени задержался, осматривая строительство «микрорайона Мичуринский». Неудачное название уже по одному тому, что сразу представляется посёлок Мичуринский на Смоленской трассе, в действительности же между посёлком и микрорайоном добрых четыре километра, да и то если ехать напрямую, по грунтовке. С недостроем этим случилось мистическое: на повороте к нему со Смоленской трассы стоял жёлтый, издалека видный указатель «Строительство микрорайона Мичуринский», то и дело шныряли гружёные стройматериалами КАМАЗы, работа кипела. Но тут по какой-то своей нужде собрался к нам Путин (ну, который дзюдоист… ну, он ещё мальчика в живот целовал… ну, который теперь президентом… не мальчик президентом, а дзюдоист… да ну вас, только бы ржать…), и дорожные начальники бросились убирать вдоль дорог всё подряд: мусор, траву, нехорошие указатели. Указатели свои народ быстренько поснимал, а вот этот жёлтый снимать было некому, его, недолго думая, зацепили трактором, да и пригнули к самой земле. Наверное, в голове дорожных начальников сложилась примерно такая картинка: вот едет Путин на жёлтой «Калине», вокруг всё зелёное, и вдруг — ба! — жёлтое! Конечно же Путин остановится, прочитает внимательно, а уж что после того случится и представить страшно. Может, руку вывернет болевым приёмом, а, может, того хуже, ка-а-ак поцелует в живот, и живи как хочешь.
И немедленно КАМАЗы сновать перестали, как отрезало. Стройку законсервировали. Всё правильно, как корабль назовёшь, так и тово. Вот раньше был РАЙисполком, и деревья в городе попусту не рубили. А теперь АДминистрация, и на бульваре Гагарина каменное яйцо и космическая лепёшка. Всё по фэншую.
Прямого прохода от микрорайона к Пади не оказалось. Некоторое время мы брели по грунтовке меж заброшенных полей, на которые там и сям вывалены здоровенные кучи куриного помёта; надо понимать, птицефабрика «Снежка» так незатейливо избавляется от ненужных активов… Наконец, влево нырнула нахоженная тропинка, за ней нырнули и мы, утонув в разнотравье по самые макушки — и что же? Вышли к секретной даче. Посреди заброшенного поля, на небольшом отрожке оврага, в траве выше человеческого роста какие-то добрые люди выгородили себе участок под сельское хозяйство. Ей-Богу, дачи секретнее не бывало даже у Сталина: вокруг плотного-плотного забора, слепленного из тонких хлыстов вербняка, высажены сплошным слоем кусты колючего шиповника, не подойдёшь. Проём, в котором по всем признакам обозначалась калитка, так же тщательно заложено прутьями, видимо, хозяева, приходя, всякий раз разбирают часть забора.
— Я знаю, что там растёт, за забором! — воскликнул Петренко (м), предвкушая.
И ошибся, ничего такого за забором не росло, мы внимательно рассмотрели в щёлки: несколько плодовых деревьев, кусты малины, картошка, что ли, или помидоры, и совсем уж нежданное — цветы! Притом нигде в округе ни малейшего признака ручья или болотца, мы ещё и дома на космоснимках просмотрели с пристрастием, забор есть, деревья, и никакого даже колодца, хотя колодец в таком месте вещь невозможная, до воды шестьдесят метров, бурили, знаем. То есть хозяева, наверняка люди немолодые, с собой ещё и воду для полива возят, на тележке, ибо на машине не проехать.
Ошалев от увиденного, все сделались как помешанные, забегали вокруг, запрыгали, пытаясь разглядеть зазаборные подробности. Потому что ну ведь невозможно оказаться в таком секретном месте и никак себя не проявить, даже не зайти и грядки не прополоть по-тимуровски! Спас положение Петренко (м), обнаруживший под лавочкой у секретной калитки заначку: дюжину гвоздей-пятидесяток в полиэтиленовом пакетике. Пошарившись по карманам, решено было вложить в заначку самое дорогое из найденного: дисконтную карту парикмахерского салона Валерия Тигрова. Во-первых, каждому приятно получить неожиданную скидку на стрижку у Мастера. Во-вторых, вдруг живо представилось нам выражение лиц хозяев при вскрытии заначки, а когда стали рождаться варианты телефонных переговоров (на карте был и номер салона), то дружно постановили, что поход уже удался на славу.
Спустившись, наконец, в Падь, мы не пошли налево, как было бы логично при намерении исследовать весь овраг, а свернули вправо, к истоку, откуда вышли в путешествие. Солнце катилось к закату, дойти одним днём до устья шансов было мало, зато чуть правее от русла оврага, километрах в двух к югу, давно звало нас к себе необследованное озеро, затерявшееся между заброшенных яблоневых садов.
Нужно признать, Цукерова Падь — самый красивый овраг в городе. Она не так живописна, как Подарь, не так непроходима и полна историями, как оба Судка, зато до чего же уютно шагать августовским вечером по пологому скату — слева стена леса, справа стена травы — дыша не проклюнувшимися ещё грибами и высохшим уже чабрецом… Идеальное место, идеальное времяпрепровождение…
Если бы не борщевик.
Сейчас будет абзац без единой шуточки, имейте в виду.
В прошлом году биологи признали борщевик самой серьёзной биологической опасностью в мире. И они правы. Эта четырёхметровая ядовитая дрянь выделяет эфирные масла, выжигающие вокруг себя всё живое: конкурирующие растения, насекомых, животных и человека. Она зацепила покамест самый краешек нашего оврага. Вот уж два лета мы боремся с борщевиком не на жизнь, а насмерть, и результаты покамест не в пользу хомо сапиенса: на месте одного скошенного стебля вырастает пять поменьше, понезаметнее. Семена его способны, не прорастая, пролежать в земле десяток лет, дожидаясь своего часа. Никакие гербициды борщевик не берут. Если растение собралось отцвести и рассеяться, можно срезать стебель двенадцать лет кряду — оно будет жить и продолжать попытки. Если срубить стебель с завязавшимися семенами, они дозреют и дадут ростки. Если в жаркий июльский день нечаянно коснуться листа незащищённой кожей, вы ничего не почувствуете. И завтра не почувствуете, и послезавтра, но как только на место контакта попадут прямые солнечные лучи, через час на нём образуется волдырь — эфирные масла лишают кожу способности нейтрализовать ультрафиолетовое излучение. Место ожога заживает два месяца, постожоговые шрамы весьма неэстетичны — приходите посмотреть на мои руки, или просто погуглите картинки. Если в зарослях борщевика спрячется маленький ребёнок, у него есть серьёзный шанс умереть от ожогов. Способ борьбы с этой напастью только один: косить, косить и косить, раз в неделю, не давая ни одного шанса на плодоношение. В Европе уже несколько лет нанимают бригады безработных на эту неравную битву, в России борщевик даже не признан злостным сорняком, так что надеяться на государство некогда, пока наверху дозреют, эта земля не нужна будет даже китайцам — слишком много хлопот, разве что напалмом выжигать. Поэтому если вы живёте возле зарослей борщевика, не тратьте время, покупайте косу и вперёд. Народ подтянется, как подтягиваются уже наши соседи, главное кому-то начать.
Всё, серьёзный абзац закончен. Извините за испорченное настроение.
Перейдя трассу, Петренко (м) снял обувь и зашагал по мелкой-мелкой дорожной пыли пешком, блаженно щурясь. Володина пыль взволновала ещё больше, он в неё буквально нырнул головой. Яблоневые сады по обе стороны дороги, когда-то охраняемые и не на шутку подвергавшиеся набегам, теперь постарели, одичали и изрядно заросли берёзой, вербой и даже сосняком, отчего стали похожи на леса детских мечт: чтобы густо, не слишком жутко и было чего пожрать, не выходя к жилью.
Озеро обнаружилось вскоре: перекрытый дамбой овраг, крутые берега, гуси и, увы, отдыхающие, некоторые из которых даже купались, рассчитывая победить антисанитарию алкоголем. Не спускаясь к воде, мы расположились на бровке, супротив заходящего солнца, развели костёр и совсем уж собрались меланхолично пить свежесваренный кофе с брынзой, помидорами и сардельками-барбекю, но, видимо, день этот не был предназначен для меланхолии.
— Мы на озере Х..! — негромко, но отчётливо сообщил кому-то в телефон отдыхающий рядом молодой человек.
Мы замерли. Не послышалось ли?
— Да! На озере Х.. мы! Приезжай!
(Написав Х — я имел в виду не «икс», но слово, начинающееся на наше, русское «х»).
Вскочивши, вся наша компания окинула взором изгибающуюся под солнцем водную гладь, и — о, да! — обнаружила несомненную её фаллическую форму.
Вы когда-нибудь находили сто рублей? А тыщщу? А пять тыщщ? Вот примерно так сделалось и с нами. И с каждым бы сделалось, найди он конечную точку главных векторов, источник главных знаний и корень главных прилагательных. До темноты мечтали мы, как славно было бы жить в маленькой избушке на берегу, говоря правнукам: да я всю жизнь на… здесь прожил, здесь и умру. Или организовать сельсовет и в день народного единства командовать парадом, зычно крича в мегафон: «Дорогие …яне!!!». Или… В общем, много чего мечталось нам, устало бредущим по пыли к трассе…
Дома народные яндекс-карты подтвердили: есть такие буквы. Периодически модераторы заменяют их унылым «озеро Толмачевское», но это даже не смешно — где Толмачево и где наше озеро. И ёмкий топоним появляется вновь и вновь. Видимо, не только мы любим родину до слёз.
Цукер
Ещё один бездарно прожитый прекрасный день
Мы идём по самому дну Пади, солнце, выскакивая из-за деревьев, целится в правый глаз, лопухи справа всё ещё в первой изморози, хотя на часах — ёханый бабай! — уже полдень. Ну как так? Два года собирались дойти до самого устья оврага Цукерова Падь. Дождались бабьего лета, прекрасного, как бывший депутат Алина Кабаева. Встали утром, кофе выпили, оделись, вышли, хренакс — полдень! Но труба зовёт однозначно, тем более, по карте там километров восемь от силы. Типа, к трём будем на месте, у Петренок, в Супонево.
Ну-ну…
Верхняя часть изучена ещё позапрошлым августом, но начали всё равно истоков, потому как начинается Падь аккурат за нашим домом. Буквально лет пять тому мы входили в неё, как конквистадоры в терра инкогнита, на цыпочках, а теперь шагаем широкой хозяйской поступью, ибо вот эти пятьсот-семьсот метров — они наши. Личные. Во время прошлого путешествия шли и ужасались борщевику, выбросившему зонтики-скелеты по обе стороны дороги, а теперь — нету! Нетути! То есть, борщевик никуда не делся, он, ссудорога, многолетний и живучий, как Жириновский, но мы его забили морально. Не даём размножаться. А это, между прочим, уже статистика: пяток человек с электро- и просто косами за два года забороли «врага №1» (по версии Минсельхоза Белоруссии) на территории в несколько гектар. В принципе, если бы нанять на лето крепкого пенсионера на должность «дежурного по оврагу», он бы совершенно не напрягаясь вычистил и борщевик с золотарником, и всякий человечий мусор по смоленскую трассу включительно до состояния новенького унитаза. Но это когда я стану миллиардером, а покамест сами, сами. Зато Падь теперь наша личная.
Идём, крутим головами: вот тут однажды стояла иномарка с затонированными стёклами и совершала фрикционные движения — классические, как на Голливудщине — а нам с Кирилиным приспичило срезать несколько верб для детского шалаша. Подошли, стали метрах в двадцати, никого не трогали, пилу завели: аааааззззызызызы! Аааааззззызызызы! На первой вербе движения замедлились, на второй машина замерла вовсе, как бы вытянувши шею и прикидывая: а не попали ли мы с вами, товарищи, внутрь фильма ужасов «Пила — 335»?, а на третьей резко дала по газам и скрылась из виду, сжав зубы и матерясь, но — молча, молча. И правильно, нам в Пади безобразий не надо, у нас тут дети гуляют.
А вот тут, в ямке, в четыре руки было собрано двадцать два мешка мусора, жёлтых. Огромная жёлтая куча несколько дней стояла укоризной, дожидаясь приезда КАМАЗа, и однажды воскресным днём к куче припарковались её создатели, приехали на очередной пикник. Надобно сказать, в деле экологического просвещения советского человека главное — не ругаться.
— Ребзя, — сказали мы миролюбиво, — вы уж, пожалуйста, увозите мусор с собою, а то вон сколько намусорили.
— Нет! — закричали создатели, — это не мы! Мы эти мешки впервые видим! Мы всегда вот в ямочку сюдой складаем, аккуратненько.
— Ну да, вот из этой ямочки мы и наковыряли двадцать два мешка…
— Да? — озадачились создатели, — вот те на… ну мы это… не будем больше.
И, между прочим больше ни-ни, за всё лето ни одной салфеточки, и даже, завидя издалека, кричали: вот у нас пакет! Всё с собой! И улыбались. Приятно, однако.
Тут вот, слева, в небольшом отрожке давным-давно, ещё до нас, прохудилась мощная горводоканальская труба, местные пацаны немедленно обустроили вокруг прорехи небольшую купальню и пропадали в ней всё лето. Коровы приходил на водопой. Через сколько-то лет прорыв таки залатали, но трава в отрожке до сих пор много зеленее и сочней, чем вокруг. Чудеса.
А вот тут, в амфитеатре из двух пологих склонов, прожит один из лучших дней в жизни. Во время Пикника справа стояла большая сцена, на ней нон стоп выступали шестнадцать музыкальных групп, слева зрители валялись в траве, и дым от мангалов рвался в небо. Наутро вышли убирать — а убирать-то и нечего. Тысяча человек за день не бросила мимо урны ни одной бумажки, и только обрывки лопнувших спонсорских шариков местами розовели в мятой траве. Но и трава через месяц восстала…
За большой сценой наш личный овраг кончается, начинается Падь бесхозная. Она всё так же живописна, но немедленно выбрасывает вверх иссохшие щупальца врага №1, и золотарник, враг №2, предательски сияет мёдом в каждой свободной прогалине.
— Так, — сказала Бочарова, — если ты не перестанешь ныть и цокать языком, я пойду домой!
И я перестаю цокать, и принимаюсь мечтать о тех временах, когда стану миллиардером. А ещё у нас новый губернатор; говорят, фермер. Может, ему не наплевать? Хотя, прошлый тоже был крестьянский сын…
Цукерова Падь на всём своём протяжении — самый широкий и пологий овраг в городе, даже шире Подари, бегущей от облбольницы к Чёрному мосту. Идеальное место для парка. Живущие в домах на правой бровке Пади — это совсем не то, что люди, живущие над городскими оврагами. Наверное, в городе с краешку в своё время селились те, кому всё равно, где жить. Овраг? Замечательно! Сюда мы будем бросать кости. За городом же землю вдоль леса раскупили именно те, кто хотел дом у леса, и теперь за заборами у них — деревья, трава и никаких бытовых отходов, ни-ни. Максимум качели. Впрочем, те, городские, они сюда тоже добираются, побухать… Всё! Всё! Не ноем и не цокаем!
…Каждый день пересекаем Падь по смоленской трассе, и ни разу внимания не обратили: дубрава! Деревьям лет по сорок, ветки почти параллельно земле, как руки. На другой стороне асфальта, по самой кромочке между дорогой и путёвским погостом тоже дубы, но уже не однобокие, а округлые, на открытом-то солнце. Такие даже миллиардеру не купить, зато мы к старости можем сподобиться: прямо за сараем — девятнадцать штук, и довольно рослых, и совсем ещё двухлеток. И непонятно, откуда берутся, ближайший плодоносящий экземпляр в полукилометре. Сойки, наверное, носят. Но нафига так далеко? Самое обидное, что ни один из разбросанных собственными руками желудей так и не взошёл! Ну чем, чем я хуже сойки?
Путёвское кладбище, оно — дааа… Очень. С дороги толком и не видать, так, дюжина оградок, но как только поднимешься на бровку оврага — дааа… Сразу за бровкой маленький, но глубокий отрожек, и места последнего упокоения ныряют в него по крутому склону, кто во что горазд: могилы постарше стоят под углом к горизонту, согласно рельефу, зато под новые могилы закладываются полноценные террасы, на всю семью. И места ещё полно, и света много. И солнце снова светит в физиономии, словно дразнится.
Метров через триста вдруг, откуда ни возьмись, выныривает совершенно настоящая купель. Ей-Богу откуда ни возьмись, потому что вот она, трасса, и сколько по ней ни шмыгай тудой-сюдой, ни за что не разглядишь этого домичка поперёк родника с совершенно серебряной водой. На колодце курит по-деревенски вежливая пацанва, внутри купальни всё на полном серьёзе: бассейн, божничка, и если бы делу быть в исступлённо жарком июле, чесслово окунулись бы.
Хм, интересно: до пересечения с трассой овраг довольно-таки глубок, но ни одной криницы нет, то есть совсем ни одной. В этом есть свои плюсы — минимум комаров, но и минусы есть, ближайшая свободная вода — в полутора километрах, в озере под чудесным народным названием Х.. (х — это русская буква «хэ», другие буквы вы тоже знаете). Но купаться в нём вместе с гусями, коровами и толмачевскими ухарями в семейных труселях — неа…
От купальни бежит первый ручеёк, судя по карте, ниже он сольётся с потоком, вытекающим их Х.. и станет речонкой Волончей. Кстати, о картах. Никогда! не заменяйте в походе по оврагу реальную карту виртуальной, на планшете. Во-первых, как ни закапывайся в тень, на солнце стекло всё равно отражает взгляд, как ракетка теннисный мячик. Во-вторых, планшет показывает махонькую часть реальности, чтобы увидеть общую картину, нужно уменьшать масштаб, но пока он уменьшается, вы забываете подробности, и так до бесконечности. Если добавить к этому Бочарову, с радостным лицом неофита шлющую в сеть снимки природных красот Средней полосы России, то впору одеть на шею плакат «Долой гаджеты» и стать в одиночный пикет.
Тропинка перескакивает ручей по мосткам и бежит по правой, толмачевской стороне. Самое удивительное, что все эти кущи и дебри вдоль ручьёв нашего детства, они, по ощущениям, до сих пор совершенно безопасные, да? Максимум, ногу бутылкой распорешь; приятного мало, но всё ж таки не шприцы за гаражами и не 100%-асфальтовый дворик ТРЦ Мельница. В таких местах и должно проходить нормальное совецкое детство, в кустах, воде и траве. Всех, кто считает иначе — подвергнуть люстрации, по последней моде. Тех, кто купил ребёнку планшет, не говоря уже про айфон, — расстрелять, для начала гречей из трубки-харкалки. Детство должно быть таким, чтобы внукам можно было рассказать: а когда мне было, как тебе, я… и душераздирающая история, пусть даже полная старческой брехни. Да-да, брехня тоже считается, ибо ты попробуй-ка соври, если всё детство просидел на крутящемся стуле, втыкая в экран. «Однажды я с demon из Омска шестнадцать часов подряд танчики гонял, пока мамка спать не погнала» — это вы будете внукам рассказывать? Да и не будет у вас никаких внуков, если только покемоны.
Не ною я!
Шныряя со склона на склон, тропинка несётся по оврагу, за ней несёмся и мы, мимо страшной чёрной коровы; мимо очередной распрекрасной нанодубравы, на краю которой хочется упасть в пересохшую траву и лежать, пока не придёт снег, не засыплет штаны, очки и головы. Мимо земляной дамбы, по которой идут люди, не зная, ни как называется это место, ни как называются они сами, не зная ни года, ни века, просто идут, как это могут делать одни только русские люди. Внизу дамбы — борщевик (я не ною), наверху — берёзовая роща, по роще стелется дым от кучи листьев. Ноги наши гудят, мы совсем одомашнели, мы дети асфальта и мало ходим в последнее время, солнце бьёт в лицо, мы разжигаем на опушке свой костерок и варим кофе в турке, и уже ради одного этого кофе стоило выйти из дому, ибо джезвы будут дарить нашему дому запах горящих листьев ещё месяц, до холодов. И бежим, бежим, осеннее солнце не будит слепить нас слишком долго.
Улица вдоль рощи оказывается Крыловской, кое-где дома уже перескочили дорогу и врезались в гущу деревьев. С одной стороны — караул, с другой — быть может, единственное спасение роще от человеков. Прошлым годом ездили к Аннушке в Подмосковье, на дачу. Посёлок оказался квазиэлитным, деревянные модерновые дома посреди елового густого леса, дощатые тротуары, пакет жёлтых ежовиков набрали тут же, на газонах, и всё это на берегу Истринского водохранилища, огорожено монументальным глухим забором. Социальное свинство, как ни крути. Но видели бы вы берег… мох и трава, трава и мох, и даже ступать с тротуара в это зелёное нету никакого желания, пусть растёт. А потом поехали к Жаннете. У них такая же фигня, окраина деревни, большой уютный дом на берегу чего-то там, но не у самой воды, а согласно правил землепользования, чуть отступясь. И вот это самое «чуть отступясь» ихний таджик-садовник чистит каждые выходные с граблями и лопатой, хоть огороди колючей проволокой и табличку вешай: «Минное поле». Теперь идём мы по улице Крыловской, видим самострой, наверняка беззаконный, — и не знаем, то ли свинство, то ли пускай себе, чем меньше доступа в рощу, тем она чище и сохранней.
— Ой, — кричит Бочарова, — я же знаю это место! Мы же тут чуть участок не купили под дом!
Ух ты, получается, где бы мы ни купили себе участок, везде под окнами была бы Цукерова Падь? Вот она — рука судьбы.
Улица Крыловская как бы дачная, но уже не совсем, слишком основательная застройка, на некоторых домах настоящие наличники, а на пересечении с асфальтовой трассой стоит немаленькое кафе «Добрыня». Между прочим, эта Крыловская — довольно-таки хитрая штучка. То ли её продолжение, то ли дубль, разорванный пополам проспектом Ст. Димитрова, пролегает километрах в четырёх от «Добрыни», параллельно со Щукина. Для Б-ска это не внове, например, переулок Осоавиахима начинается там же, на Карачиже, обрывается на краю Подари, откуда ни возьмись выпрыгивает перпендикулярно ул. Пересвета и окончательно тонет в Нижнем Судке. «И почтальон сойдёт с ума, разыскивая нас».
Перескочивши асфальт, держимся Крыловской, по всем признакам она должна вывести на самое дно Пади. Прохожие, как один, стремятся направить нас человеческой дорогой, но, услышав, что кто-то просто гуляет пешком до Супонева, делаются острожны, вежливо машут рукой в сторону солнца и сколько-то времени смотрят в спину взглядом психиатра, к которому вы только что ввалились в кабинет в сюртуке и треуголке. И мы таки спускаемся на самое дно! Речка Волонча всё ещё ручей, но уже вполне упитанный, на дне сыро, из склонов тут и сям бьют ключи, а поперёк тропинки стоит одинокий дом с гусями, курями и собакой не на привязи. В принципе, путешествие на этом может закончиться, потому что нету такой силы, которая заставила бы Бочарову пройти мимо злобненькой собаки не на привязи. К счастью, техника не стоит на месте, какой-то охреневший скутерист на тарахтайке на несколько секунд увлекает монстра за собой, мы проскакиваем жизненноопасное пространство, бежим мимо дома по склону, вздыхаем полной грудью — но только потому, что ещё не знаем: совершена фатальная ошибка. Карту нам, карту! Тут же обнаружилось бы, что склон — не тот, и овражек не тот, а всего лишь ложный отрожек Пади. Но в руках только планшет, и на солнце нифига не разобрать, и мы шпарим по невыносимой красоте, хрустя ворованной на дачах падалицей. Какой-то домохозяин пытается указать правильный курс, но, во-первых, неуверенно, во-вторых, надменно, в-третьих, тут слишком волшебно, а когда волшебство кончается, тропа упирается в задние дворы каких-то новостороек и, блииин, всё в ту же самую асфальтовую глисту, что соединяет Толмачево и улицу Щукина! Тоись, последние минут сорок мы тупо срезАли небольшой угол, а воз и ныне там. А солнце уже далеко не там!
Теперь мы обречены на асфальт, по крайней мере так считает нафигатор, настырно направляя нас по новёхонькому шоссе, год-два назад соединившему Толмачево с Супонево (-вым? –вом?). Если бы вместо гудящих ног под нами были роликовые коньки, самокаты или даже скейты, гладкое безлюдное шоссе всё равно не доставило бы, потому что а) не умеем ни на коньках, ни на скейтах, б) путешествие — по Пади!
Честное-пионерское, если бы поход начался не в полдень, а часов в десять, мы бы плюнули на асфальт и ломанулись с кручи, как антилопы гну на дальнем переходе. Мы даже оторвались от проезжей части и настырно пошли по кромке дач, и тут же не пожалели об этом: на бровке оврага кто-то лет тому тридцать-тридцать пять, посадил сосновый бор.
…Зацените, жил-был человек, наверное, лесником работал, и в какой-то момент подумал: а чой-то у нас вот туточки за дачами ботва всякая растёт, а не лес? Пригнал трактор, людей, и посадил бор. Его, конечно, дачники уже угваздали по полной, и поджигали не раз, но растёт. Человека, быть может, и нету на белом свете. А лес — есть. Завидно. Я уже решился, по весне с Серёгой накопаем молодых клёнов, ясеней и вязов и посадим аллею, прямо вдоль дна. Авось приживётся. Внуки будут говорить: это деды наши… дааавно… Важно, чтобы внуки про тебя что-нибудь этакое говорили…
…Но вниз не рискнули. Октябрь, хоть и бабье лето. Солнце сядет, дедушка Колотун придёт, и найдут нас на дне, замёрзших в позе креветок. Скажут: «вот ведь, как жили — по оврагам лазали, так и откинулись в Пади своей припадошной». Постояли на бровке, посмотрели с высоты на Антоновку, вспомнили анекдот про Василь Иваныча и Париж. Супротив Антоновки овраг превращается в полноценную пойму, широкую, зелёную и волглую. Только весенний паводок спасает её от бешеной застройки; впрочем, километром выше, на околице Толмачева, добрые люди нашли управу и на паводок: навезли грунта стотыщ камазов, засыпали овраг и уже строют очередной зомби-апокалипсис. Дай им Бог здоровьица и деток штук по десять-пятнадцать каждому, тоже здоровеньких, розовощёких, кровь с молоком.
В третий раз выйдя на асфальт, мы сдались на милость навигатора. Хотя внутренний голос настойчиво звал влево, напрямки, через дачи, навигатор твёрдо заявлял: только направо и только по шоссе, ибо там, слева, овраг и хляби непролазные. Вот же брехло, а? Уже дома, открыв аэрофотосъёмку на весь экран, было обнаружено, что внутренний голос — он не обманывал! Через овраг идёт отчётливая тропинка и мостки, и через полчаса максимум мы были бы у Петренок, а унылое шоссе как раз мотыляется, как мотня у рэпера, перескакивает ещё один отрожек (здоровенный! Берёт начало в дачах в районе Щукина) по полноценному мосту на почти стыке Антоновки и Супонева, а потом уже загогулинами выходит к магазину «Саяны», петренкинскому гнездовью. И у «Саян» мы были в пять! В семнадцать ноль-ноль. Итого пять часов ходу; пусть крейсерская скорость была невелика, километра четыре в час, но это же двадцать километров. Ну, восемнадцать.
В общем, вы нас извините, но мы ещё раз пойдём. Во-первых, нужно понять, как восемь километров превратились в восемнадцать. Во-вторых, пепел Клааса стучит в наше сердце, или как-то там ещё. В-третьих, нужно же точно знать землю, которую тебе вручили в пользование. Раз уж это судьба.
Цукер
Мостовщиков +
Хельсинки
Дети мои!
Я был в Хельсинки два раза, и оба — в пятницу. В прошлую пятницу причиной послужила надуманная производственная необходимость. Несколько лет назад мне вдруг приспичило самому посмотреть, как выходит из типографии первый номер журнала, который я тогда редактировал. Обычно я был противником всей этой новомодной привычки печатать журналы у финнов. Нормальному русскому изданию, как мне казалось, вполне достаточно и чувашей. Все они — добрые люди с усами, все носят фамилию Федоров, включая, по-моему, и женщин. В своих немыслимых Чебоксарах, где в музее пива экспонируются крышки от бутылок и за сущие копейки отпускают пенную темно-коричневую жидкость, сделанную из болотной воды, белены и сувенирной глины, чувашские полиграфисты прекрасно печатают все, что душе угодно, даже обои. Получается кособоко, бледновато и дешево, зато хотя бы честно. Можно подумать, тесный горшочек нашего ума действительно способен наварить нечто такое, что обязательно должно выглядеть, как эмалированный таз с абрикосовым вареньем.
Однако же, в тот раз мне явно захотелось увидеть себя чем-то гораздо более густым и сладким, чем я чувствовал на самом деле. Реальность быстро заполнила кислым электролитом жизни разницу потенциалов подсевшего аккумулятора моей судьбы — и в ближайшую пятницу я уже был в Хельсинки. В городе меня встретила представитель типографии, энергичная финнка в возрасте. Имени ее я не запомнил, допустим, ее звали Рааааа. Когда она заводила свой 740-й «Вольво», надежный и вечный, как дубовый гроб, из кондиционера в салон полетели чешуйки березовых сережек.
— Эттоо сдеессь опперныый теааатр, — торжественно объявляла Рааааа, показывая по дороге на здание, похожее на сберкассу, выстроенную из белого пластика и синего стекла.
— А эттоо двореецц «Финляндийаа», — мы как раз проезжали по пустынным улицам мимо точно такой же сберкассы, только более солидного размера и с какими-то манерными выступами-загадками, лишний раз подчеркивающими простую, обреченно-квадратную природу местной архитектуры. К вечеру Рааааа почему-то оказалась мужчиной по имении Ааааар, с которым по случаю пятницы мы безутешно пытались попасть хотя бы в одно заведение Хельсинки. Все они до отказа были забиты работниками дворца «Финляндия», оперы и серкасс. Это казалось мечтой — вместе с ними до смерти наглотаться местной жесткой темной водки, настоенной на равнинных лыжах, снятых с людей, пытавшихся бежать из Хельсинки по суше, и разбавить ее несколькими коктейлями «блади Мэри», деликатно намекающими на то, что жизнь сначала отбирает лучших из нас нас, как спелые томаты, а потом безжалостно давит сок и добавляет немного горечи по кончику ножа. Разумеется, мы в конце концов добились своего. И, конечно, журнал, ради которого я приезжал в Финляндию, благополучно закрылся четыре месяца спустя, оказавшись пустой тратой времени, денег и сил.
В этот раз все получилось точно также, но все же с некоторыми неожиданными отклонениями. Дело в том, что несколько месяцев назад я с удивлением для себя оказался на солидной должности заместителя главного редактора одной газеты с весьма известным названием. И стоило мне, несмотря на кажущуюся важность сложившихся обстоятельств, внезапно почувствовать себя недоумком, лентяем и абсолютно никчемным существом, как опять наступила пятница, и я тут же оказался в Хельсинки.
Газета сама уладила для меня все формальности. План состоял в том, что в аэропорту меня встретит некто с табличкой «Седов». А уж после этого мы вместе с ним отправимся на борт самого большого в мире четырехмачтового парусника, чтобы совершить переход из Хельсинки в небольшой финский город Оулу, а оттуда — в большой шведский город Стокгольм.
Балтийское море, полные паруса, соленые искры воды, мрачные северные волны, с капризных губ которых бессовестный ветер срывает белую пену злости, тошнота, подступающая к горлу от качки, литровая бутылка виски «Talisker», прихваченная в шереметьевском дьюти-фри, багровые закаты, холодные рассветы — все это наконец-то делало меня самим собой, то есть чем-то невнятным, но похожим на уличное караоке на набережной в Чебоксарах. Тихим воскресным вечером, напившись уже горького пива, расправив свои непослушные усы, все чуваши мира по фамилии Федоров, толкаясь, ругаясь и плача, кричат в меня, что есть мочи, свои законные «Миллион, миллион, миллион алых роз» и «Дым сигарет с ментолом». А я отвечаю им, как покоренное человеком Балтийское море: «Вы поете великолепно! 100 баллы». Кажется, в самолете я даже сиял, как эмалированный таз. И, разумеется, получил по своему серому мозговому горшочку, чтобы больше не варил. В аэропорту меня никто не встретил. Я бесцельно бродил по абсолютно пустому зднию, мгновенно и навсегда оставленному пассажирами и персоналом на попечение четверым замерзшим таксистам. Когда их безбрежное терпение начало сдавать, я забросил свой чемодан в багажник серого «мерседеса» и попросил отвезти меня в центр Хельсинки, к президентскому дворцу, прямо напротив которого, за небольшой рыночной площадью, где торгуют клубникой, варежками и ножами, за колонной с российским двухглавым орлом, начинается холодное Балтийское море. Когда таксист завел машину, в салон из кондиционера полетели чешуйки березовых сережек.
Дети мои! Я надеюсь, судьба не всегда будет к вам милосердна. Рано или поздно вы тоже окажетесь в городе Хельсинки, который, как известно, состоит из здания центрального вокзала с часами на высокой башне, Финского залива и огромного магазина «Стокман» из почерневшего от дождей кирпича. Между всем этим бродят люди, которые потеряли в своей жизни что-то очень важное и теперь никак не могут найти. Их гонит по улицам резкий промозглый ветер, который чаще всего оказывается обычным финским языком. Эти странные, порывистые звуки, кажется, рождаются где-то далеко в море, но настигают тебя здесь внезапно, врасплох, чтобы рассказать о трех главных преимуществах существования человека на Земле — холоде, голоде и тоске. И как же жаль, что по-настоящему понять и полюбить это может только лосось, из которго здесь готовят фрикадельки.
— Простите, вам не встречался большой корабль? Русский парусник «Седов»? Четыре мачты, полные паруса ветра, брызги соленой воды? Вы не могли его не заметить, это должно быть безумно красиво, — спросил я у типичной англичанки, невысокой крепкой полнолицей дамы, которая с веселым отчаянием вертела в руках листок туристической карты с синими и красными кружками достопримечательностей.
— О Боже! Зачем вам это?! — она явно не хотела отвлекаться от своего спасительного клочка бумаги, перевернула его еще раз, и мне показалось, что Хельсинки, поймавшие всех нас нас в свою ненужную западню, вместе с остальным земным шаром немедленно сделали то же самое.
— Ну, понимаете… Да нет, вы будете смеяться. Короче говоря, это такая со мной вечная история. Я… Я на самом деле не знаю, зачем мне все это нужно. Правда. Это как бы… Как будто вы остановились на месте, понимаете? Потерялись, не знаете, где вы, зачем. Куда вам дальше идти? И вот вы придумываете, мечтаете, но от этого, черт… Нет никакого толку. Все надоело. Все. И тут вдруг получается, что есть, может быть… Существует способ разобраться. Так происходит каждый раз, всегда. Это такое чудо. Разное. Каждому — свое. И просто мне сейчас подвернулся этот чертов парусник. «Седов». Он же куда-то идет, правда? У него паруса, курс, он же что-то преодолевает. А зачем? Что именно, а? Я… Просто хотел узнать это, вот и все. Вы его видели, скажите?
— Бросьте вы эти гпупости, — она показала мне свою карту. — Здесь нечего узнавать и смотреть, кроме двухзвездочного мишленовского ресторана. Черт, я же записала его название. Еще дома. Проклятие. Потеряла, не знаю, что делать. Вы его не видели по дороге?
— Ох, простите, — нас прервала высокая молодая американка. — Я вижу у вас тут есть карта. Где-то здесь должен быть бар «У нас есть говядина». Нет, правда. Вы не знаете про такой?
Именно в это мгновение произошло нечто необъяснимое. С соседней улицы имени русского императора Александра II грянул неистовый мажорный аккорд, невидимые люди забили в барабаны и несколько чаек с криком взлетели с пристани. Остолбеневшая рыночная площадь, поколебавшись несколько мгновений, угрюмо двинулась на звук, унося с собой и меня, и двух моих невольных собеседниц, как отлив забирает с собой в пучину все, что случайно брошено на берегу. Зрелище, находившееся еще в самом своем девственном начале, сразу убедило меня, что найти ему объяснение будет невозможно всю оставшуюся жизнь. Вокруг памятника императору двигалась оживленная процессия из нескольких сотен женщин, одетых в одни только трусы, называемые в Москве «саморезами». Над продрогшими их голыми ягодицами и животами трепетали пестрые лифчики из ярких тряпочек и цирковых бесток. Немилосердный северный ветер рвал с голов участниц внезапного представления длинные, попугаичьего вида перья. Чтобы не умереть от лютого холода, женщины бешено вращали грудью и глазами. Посредине этого безумия ехал грузовик с открытой платформой, на которой группа мужчин в бело-красных полосатых пиджаках и шляпах-канотье лупила в барабаны и пела в микрофон ту самую песню, которая, будучи повторенной бесконечное количество раз без какой-либо мелодии, неминуемо становится финской: — Африкаааа! Оппеерныый теааттр. Дворец Финляяндийаа. Сберкассаа. Африкаааа! Африкаааа! — неслось над площадью, и я понял, что, скорее всего, никогда уже не смогу вернуться отсюда к людям. Поскольку я начал отчетливо понимать местный язык, к вечеру из меня наверняка сделают фрикадельки и съедят под темную водку из лыжников и «блади Мэри» из пленных помидоров. Вся моя жизнь, как всегда окажется напрасной тратой времени, денег и сил. В кармане завибрировал телефон. Сообщение было написано транслитом: «Sergei! Sedov stoit u pri4ala Jätkäsaari Busholmen. Na turisti4eskix kartax vi legko nas naidete. To, 4to vas ne vstretili, uvi, 4ast estestvennogo bardaka».
Дети мои! Я надеюсь, еще с самого начала этого сумбурного письма вы догадались, что места под названием Jätkäsaari Busholmen не существует на картах мира. Через сорок минут поездок по всем портам Хельсинки, мы практически породнились с тихим финским таксистом. Он называл меня Сергей Седов, я предлагал ему бросить все и уехать в Чебоксары. Еще пара деней, и я научил бы его песне «Дым сигарет с ментолом». Но вдруг мы увидели его — огромный красавец-корабль о четырех мачтах, прижатый канатами к причальной стенке за бывшими контейнерными складами. «Седов» — было написано на его корме.
— Родионов, — представился капитан корабля, когда меня, порядком уже измотанного, подвели к нему для знакомства. — Максим Родионов.
— Скажите, капитан, — спросил я сразу, чтобы больше не испытывать судьбу. — В чем, собственно, смысл? Так сказать, миссия? Человеческая цель?
— Это очень просто, — ответил он и устало закурил. — 65-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. — Нууу… Усомниться в этом сегодня может позволить себе только враг модернизации и нанотехнологий. А в практическом, как говорится, плане? В плане, так сказать, реальных усилий и дел?
— В практическом — надо доставить три капсулы со священной землей с мест наиболее кровопролитных боев.
— Куда?! — мне показалось, что если он ответит «в Африку», я, пожалуй, окончательно предпочту сумасшествие своей ежемесячной зарплате.
— Туда, — он неопределенно махнул рукой в ту сторону, где соленые искры волн уже начали свой губительный танец с ветром и проливным дождем. Из глубин порта на палубу летели чешуйки березовых сережек.
…Утром мы вышли из Хельсинки в море. Но об этом, дети мои, как-нибудь потом. Следующим, что называется, письмом.
Пережитое
Половинка моя
Сейчас, по морозцу, уже не видно, но буквально ещё весь октябрь, если выглянуть в окно, то на куче песка обязательно увидишь их. Или в траве вдоль дороги. Наши личные полсобачки. В своё оправдание можем сказать, что нам досталась лучшая, верхняя половина.
Дело было так: два года тому, чуть за Рождество, мы сидели себе и вообще никого не трогали. И тут Перепелова прислала ссылку с темой: «А не хотите ли взять собачку? У вас ведь теперь свой домик»…
Чтобы понять неуместность подобного вопроса, нужно знать то, что твёрдо знают все: у Бочаровой фобия на собак. Не в смысле «ой, боюсь, боюсь», а в смысле: при виде самой мелкой шавки Бочарова каменеет всем телом, падает в обморок и ползёт в сторону кладбища с криками «прощайте, я любила вас всех». У меня фобии нету, я просто считаю, что правильная собака должна быть или умная, или добрая, или мёртвая. И лучше всё сразу.
И вот этим людям — нам, Перепелова предложила завести собачку. Без всех четырёх ножек.
Мы, естественно, немедленно ответили: «Перепелова, Вы ненормальная? Выбирайте выражения.»
Помолчали. Рождество. Бедная безногая собачка, замерзающая от голода в гаражах, стояла перед глазами, как живая. Ещё помолчали. Собачка не уходила.
— Ну что, давай брать? — спросил я осторожно.
— Давай брать, — отвечала Бочарова, упала со стула и поползла под диван, шепча «за что? за что? за что?»
Единственным нашим условием было: чтоб собачку стерилизовали, ибо стаи женихов во дворе без забора нам было не пережить.
Новую жилицу волонтёры привезли буквально на следующий день, уже с двумя дырочками от лапароскопии на свежевыбритых боках, отходящую от наркоза. На улице в таком состоянии ей было не выжить, так что собаку устроили в собранном наспех загончике в комнате дочери. Насыпали опилок, застелили постоперационной салфеткой, положили, рассмотрели. Приобретение звалось Жулей и оказалось не таким уж страшным, в целом похожим на рыжий батон докторской колбасы с глазками. Лапы действительно
срезаны, и, судя по углу среза, одним движением, словно бы кто-то махнул косой в тот момент, когда собака стояла. Представить себе человека, который не поленился бы прийти на промзону с косой с целью покрошить собачку, так и не удалось. Ну не бывает таких замороченных маньяков, хоть ты тресни. Может, каким механизмом зацепило? Впрочем, не важно. Важно, что Жуля все четыре ноги зализала без посторонней помощи, и уже по этой причине достойна была жить достойно.
Очень быстро выяснилось, что Жуля — идеальные полсобачки, словно бы созданные специально под семью Цукер-Бочарова. Во-первых, за первые полгода нашего знакомства, она не проронила ни слова. Во-вторых, несмотря на простецкое происхождение, Жульетта оказалась интеллигентным человеком, предпочитающим писать и какать на улице. В-третьих, это первые в мире полсобачки, вообще ничем не пахнущие. В четвёртых, как всякая настрадавшаяся личность, она счастлива приятными мелочами: тарелкой овсянки с куриными шеями, почесать пузо железной щёткой и чтоб тепло, не больно и не ругались. Мы прекрасно подошли друг другу. На третий день совместной жизни соседский лабрадор Рэй положил голову на бочаровские колени и открыл зубастую пасть с намерением перекинуться парой слов — и ничего, Бочарова добровольно погладила его по лобастой башке и задумчиво поинтересовалась у Небесей: я что, перестаю бояться собак?..
Волонтёры тем временем развили бурную деятельность, привезли кучу полезностей, включая утеплённую будку, весьма основательно сбитую, и параллельно рассказывали всякие собачьи истории. Например, одному человеку бойцовый пёс откусил нос. Человек пришил себе нос обратно и снова завёл бойцовых собачек, нравятся они ему. Пришла девушка Наташа, сняла мерки с культей, чтобы сшить Жуле чешки для прогулок, рассказала про людей, которые заводят овчарок и отнимают у них корм, раз за разом. Считается, что овчарки от этого становятся злее. Став злее, овчарки кусают заводчиков, заводчики обижаются, выгоняют злых овчарок на улицу, а себе заводят других, и снова отнимают корм. Мир собаководов открывался нам ширше и глыбже, и нам в этом мире не нравилось. А Жуля нравилась всё больше и больше. Как быть? Наконец, из Москвы приехала Аннушка, осмотрела обновку, осталась довольна, и не без грусти рассказала о подружке Оле, которая чокнулась на почве кошечек, собирает их по всей столице и пристраивает в хорошие семьи в рязанских деревнях. Причём, не стерилизует принципиально, уверяя, что кошечки должны жить полноценной жизнью. Мы мысленно представили себе несколько сотен вёдер, в которых плавают утопленные котята Олиных протеже, вздохнули и попросили Аннушку ничего такого Оле не рассказывать, а то ещё руки на себя наложит. Аннушка пообещала. Так выяснилось, что нам не нравятся не собаководы, а животноводы-фанатики.
Оказалось также, что мы очень ловкие ребята, успели ухватить лакомый кусочек прежде всех остальных претендентов — несколько раз звонили с волонтёрского сайта и предлагали собачку перезабрать, мол, есть желающие. Идите в жопу, вежливо отвечали мы, нечего было клювом щёлкать, такая собачка нам и самим пригодится. То тут, то там приходили сведения, что на собаководческом форуме нас славят за самоотверженность и за это… как его?.. ну, в общем, мы герои. Перепелова гордилась нами, даже несмотря на обещание подарить ей со временем слепого сексуально озабоченного ослика. Позвонили из центральной прессы, но тут уже Бочарова привычно ответила «идите в жопу», и от нас отстали. Знакомые и незнакомые то и дело интересовались, не нужно ли чего привезти для Жули? Я хотел было заказать компьютерный стол и мощный фонарик, но Перепелова сказала строго: не надо шутить с собаководами. Шуток про собак они не понимают по физиологическим причинам. Ну, не надо, так не надо.
Через неделю пришла беда. Позвонила Бочарова и гробовым голосом сказала: «Цукерок, придётся Жулю отдавать. Какие-то совсем уж забубённые любители живой природы из питерского центра «В***» прослышали про нашу Жулю и договорились с немецкими забубёнными любителями, что её возьмут в Германию и поставят полноценные протезы. Она снова побежит по дорожке, но в Россию уже не вернётся, отдадут в немецкую семью».
— Блииин, — сказал я — И чо, отдаём?
Сакраментальную фразу про «мы в ответе за тех» Бочарова произносить не стала. Чего уж там.
Вечером перезвонила тётенька из «В***» и срывающимся голосом закричала:
— Что у вас там вообще происходит?!! Поверьте, у нас всё серьёзно! Мы оформим все документы! Мы подпишем договор, и будем сообщать о Жуле все подробности! Пожалуйста, дайте ей помочь! Ей там будет лучше! Из Германии прилетит курьер, на самолёте, заберёт её из Домодедова, и сразу к специалистам!
— Женщина, — отвечали мы, — что ж вы так волнуетесь? Сказали же — если поставят протезы, забирайте. Мы хотим, чтобы она снова стала цельной собачкой.
— Уфф, — сказала тётенька, — а что у вас там вообще происходит? Из-за чего такой шум?
— Какой шум? У нас всё тихо. Но договор оформим по всей программе.
Через час позвонила Перепелова и, рыдая, закричала:
— Я про вас думала только хорошее! А вы… собачку… живодёрам отдаёте! Аыыы!
— Алё, — отвечали мы, — вы там чо все, героину объелись? Каким живодёрам? Ей руки-ноги сделают, она снова вальс танцевать будет, как Мересьев. Бориса Полевого читали?
— Это живодёры! Они же немцы! Фашисты! На опыты… русских собачек… аыыы…
Еле успокоили.
Утром позвонила Наташа, которая тапочки для собачек:
— Как можно?! У неё будет стресс! Она к вам привыкла! Она сделается несчастной! На органы… русских собачек… аыыы…
— Наташенька, — мягко взывали мы к благоразумию, — ну, например, на органы, да? Давайте считать: билет для курьера туда-сюда, суточные, плюс оформление собачьих документов, так? Как ни крути, а две тыщщи евро возьми и выложи. Например, у них пунктик на русских собачках. Но за две тыщщи евро гораздо проще за четыре часа доехать до Калининграда, напхать этих дворняжек полный кузов, отрубить им ножки, отвезти в Германию на органы, и ещё на пиво останется. А про стресс мы Вам расскажем: стресс, это когда собаке говоришь «гулять», а она отползает в угол загончика, потому что ей на оголённых костях больно стоять на холодном снегу. Вот это стресс, да. И к нам за неделю она ещё не шибко прикипела, когда Вы приходили, она Вам радовалась не меньше.
— А я ей тапочки! А они в кости металлические штифты вставят! Ей будет больно!
— Ну, наверное, будет какое-то время больно. Зато не придётся всю оставшуюся жизнь чувствовать себя Русалочкой. Бегать будет! Счастье-то какое.
— Если бы я её взяла, ни за что в жизни не отдала бы! У нас на форуме голосование идёт, отдавать немцам или нет. Все против!
— Во-о-от, видите, как Жульке повезло, что мы первые успели…
— У вас нету сердца.
— А мы, Наташенька, научим Вас, что делать: купите, значится, где-нибудь огнемёт — это сейчас недорого — да и спалите наш дом! Вы же знаете, где мы живём?
— Знаю…
— Вот и спалите. А Жульку спасите и себе заберите. Милое дело.
…Кстати, на будущее: никому не советуйте спалить свой дом огнемётом. Даже в шутку. Вскорости у нас в действительности случился нешуточный пожар, и хотя это я сам поджёг, шутки про огнемёт в нашем доме больше не канают…
…Перепелова рыдала. Наташа рыдала. Ближе к полудню зарыдала и Бочарова, пройдя по присланной Наташей ссылке на какую-то совершенно достоверную статью, в которой, если не ошибаюсь, с документами на руках доказывалось, что это именно немцы научили корейцев кушать собачек, причём безногие собачки — особо дорогой деликатес. Или что-то в этом роде, я не вдавался, а вот Бочарова не утерпела и глянула в форум. Мама дорогая! Столько проклятий не сыпалось на наши головы ещё с тех времён, как мы украли сына Касперского, и даже когда я Кеннеди подстрелил, народ так не матюкался. В поисках защиты Бочарова бросилась на форум «В***», но там было то же самое, только проклинали нас за то, что мы до сих пор сами не продали всю недвижимость и не отвезли собачку в Домодедово.
— Ну что ты ржёшь, — говорила Бочарова сквозь рыданья, — что тут смешного?
— Ах, радость моя, — отвечал я, не переставая скакать по комнате колесом, — жизнь-то как бьёт ключом! Ну разве не прекрасно, что на свете столько удивительных людей, и в голове у них столько затейливых мыслей! Надо только не забыть ввечеру прочитать о них «О ненавидящих и обидящих нас»…
И целовал Бочарову в заплаканные глаза.
— Так, — сказала Бочарова, отрыдав, — звоню Максовне, и как она скажет, так и сделаем.
Максовна, если кто не в курсе, это собачий бог.
— Так, — отвечала Максовна, вынимательно прослушав либретто, — если честно, не верится мне в такую удивительную халяву. Давайте вот как сделаем: все документы принесёте мне, и вместе их внимательно просмотрим. Если не мошенничество, нужно обязательно отдавать, потому что о подобном раскладе для собаки можно только мечтать. Ни разу ещё наши собаки так просто в Германию не попадали… Ну, и Жулю завтра же привезите, осмотрим её ноги…
…Голливудского хэппи-энда не случилось. Позвонили из «В***» и дали отбой — что-то с Германией не срослось. Потом позвонили ещё раз и долго объясняли, что мы всё неправильно поняли, никаких механических ножек собачкам не полагается, а просто в Дойчлянде им лучше по геополитическим соображениям. Ага, щаззз.
Наташа сшила — таки тапочки, все в стразиках. Не подошли. Опасения Перепеловой насчёт нешуткоёмкости собаколюбов подтвердились: добрая волонтёр, везшая нас к Максовне, долго слушала, как мы объясняем Жуле, что бояться нечего, ножики у повара острые, чик — и готово, и на полном серьёзе попросила не говорить таких ужасов, ибо собаки всё-всё понимают.
Кстати, всем волонтёрам огромное спасибо, честно-пречестно.
Максовна встретила словами: а, так вот эти идиоты, которые безногих собачек берут! Мы скромно завозили ножками по полу. Добрый человек, продолжала ветеринар, осматривая пациента, не стал бы так мучить бедное животное, а усыпил бы. Ага, конечно, подумали мы, то-то весь город знает историю про парализованную ньюфу, жившую у Максовны в квартире на каком-то там этаже восемь лет. Как и предполагалось, никто никому лапы не рубил, а упало на спящую собаку что-то твёрдое и тяжёлое, они и отсохли. В остальном же совершенно полноценный экземпляр.
…Первую зиму Жуля провела в доме, но, перебравшись в апреле в будку, стала истовой поклонницей свежего воздуха. На культях наросли порядошные шишки, и нынешним летом пришлось даже укреплять забор, чтобы наглая рожа не топтала соседям грядки. Лает только на соседскую кошку-террористку Шишку да на хорька, взявшего моду по ночам скакать по двору. Зимою, в морозы, на боку у неё образовалась проплешина. «Обморозилась!», — заорали мы, но Максовна только хохотнула в трубку:
— Обморозилась? Она у вас толстая?
— Нну, как толстая… Немножечко такая, конечно, упитанная. Если раньше была как колбаса, то теперь как дирижабль… Дирижаблик такой… небольшой…
— Жрать надо меньше! Это у неё собачий целлюлит!
Теперь на вопрос: как там Жуля, отвечаем коротко и гордо: у неё целлюлит. И фамилия: Навальная, потому что за раз меньше трёх куч не наваливает, а вчера было — шесть.
Единственная Жулина печаль: гости приходят не каждый день, потому что когда гости, можно делать жалостливый вид, поджать хвост, уши, и мелко-мелко трястись всем целлюлитным тельцем: ах, я так несчастна… Ещё ни один не уходил, не истрепавши всё пузо.
Подводя итог, можно смело заявить: с появлением полсобачки жить стало лучше, стало веселей. Прочих собак мы так и не полюбили, ну их, но всеми дивидендами от владения животным-инвалидом пользуемся по полной. Во-первых, работая метрдотелем, Жуля сильно укрепляет имидж хозяев в глазах незнакомцев, во-вторых, у Максовны у нас теперь карт-бланш, и за год она аж три раза спасла обеих наших кошек от неминуемой гибели.
Каждый раз, когда приходит Перепелова, мы сообщаем ей, что, вот, решили выводить новую породу, на продажу, название уже есть: среднерусская идеальная. Значит так: собираем небольших рыжих собачек, ампутируем ножки… «Дураки!», — кричит в этом месте Перепелова, — я про вас на форум напишу!
Действительно, с ними лучше вообще не шутить.
Цукер
Имя такое
На сроке девятнадцать недель узистка, сосредоточенно водя датчиком по моему животу, изрекла: «По-моему, это она. Хотя не могу гарантировать сто процентов». Сердце ухнуло в цветущую маргаритками пропасть, и больше не слушало никого. Я вышла из женской консультации. Позвонила подруге. Подруга вскрикнула: «Аааа, есть же Бог на свете! Это Он исполняет мечты!» После этого я часа два эйфорично шаталась по улицам, глядела в небо и говорила: спасибо большое. А примерно за год до этого в полном смятении и в резиновых сапогах в горошек брела по мартовским хлябям и думала: вот была бы у меня девочка Аглая, мы были бы с нею дружны, и я бы купила ей тоже резиновые сапоги в горошек. И мы бы шли вместе, ведь вдвоем не так обидно идти в резиновых сапогах в горошек. И все бы другие шли и думали: вот девочка. А это ее мама. Это сразу видно. На сроке двадцать пять недель узистка, еще более сосредоточенно водя датчиком, изрекла протяжное: дееееевочка. И тут я уже совсем конкретно заорала в беленый потолок медкабинета: спасибо, Господи. Мужу говорю: давай назовем девочку Аглая. Он удивился, редкое говорит такое имя, давай что-нибудь попроще. Пусть Варька будет. Варвара. Кто-то в тот момент дал мудрости не закатить истерику и не кричать, что я четыре месяца мучилась токсикозом, что я ее ношу, а она большая и растет, от чего у меня болит спина, что мне ее рожать в конце концов. Я закусила что-то такое внутри и сказала: ну давай. С тех пор пузо звали Варварой. В третьем триместре шла по улице. Остановилась. И поняла. Что нет. Что она не Варвара, что Варвара — не она, что вообще не может быть, чтобы ЭТУ девочку так звали. Позвонила мужу. И попыталась это чувство объяснить. И вот чудо. Он понял. Сказал: а знаешь, что-то в твоей Аглае есть. Пусть будет. Потом мы сказали родителям. И сначала прямо по-настоящему поссорились. Родители стращали нас тем, что над ребенком станут издеваться в школе, тем, что люди вообще не поймут такого имени, тем, что она будет достойным человеком, врачом там или учительницей, а звать ее будут Аглая. Потом мы помирились. И тему имени закрыли вроде. Но до самих родов мама иногда между делом как бы говорила:
— А тут смотри какое имя: Стефания. Клевое правда?
— Клевое, мама, — отвечала я.
А папа однажды прислал смску, где предложил назвать дочь Офелией. Даже уверял потом, что это не было шуткой. В общем к родам у нас с мужем была Аглая, у папы Офелию сменила Анюта, а мама пребывала в уверенности, что мы передумаем. Аглая родилась очень неожиданно. Не по сценарию. В последний момент все пошло не так как должно, и мы из родзала перекочевали на операционный стол. Меня трясло. По радио в операционной играл Пинк Флойд. Классный дядька анестезиолог, когда операция уже началась, чтобы отвлечь меня, видимо, спросил, как назвала дочку. — Аглая, — говорю. В итоге отвлеклись врачи, и тему имени решено было закрыть, чтоб ненароком не отрезать ничего лишнего. В общем, все благополучно, как говорится, спасибо, что живой. Начались тоскливые и ужасные будни в роддоме, которые мне изрядно скрасила моя девочка, а вернее ее имя. В нашей палате были одна Милана, одна Виолетта, один Владислав, ну и мы, да. Через день после родов вбежал в палату анестезиолог и сказал только:
— Агриппина? Я забыл!
— Не, — говорю, — Аглая.
Убежал. Только ленивый не спрашивал у меня, ну и как же я назвала дочь. Акушерка Ирина, которая оформляла меня, встретилась в коридоре и после стандартных расспросов про вес-рост ребенка задала сакраментальное какженазвали? Услышав ответ, молчала три секунды и просто смотрела на меня. — Ну, лишь бы здоровенькая была, — сказала акушерка Ирина и ушла. Я очень удивлялась, почему люди так реагируют. Имя известное вроде, ну Достоевского все читать должны, а половина просто не знает этого имени. Так и говорят: никогда не слышали. А одна очередная знакомая, поперхнувшаяся нашим именем спросила у меня: ты хоть знаешь, ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ?!!
Я знаю, что означает, но даже если бы оно означало что-то совершенно другое, даже диаметрально противоположное тому, что означает, все равно у нас была бы Аглая. Только по одной причине. Это решили как бы мы, но на самом-то деле совсем не мы. А вон Кто. PS. Кстати мама моя, которая больше всех вот прям по-настоящему страдала по поводу имени, теперь мне кажется где-то в глубине — глубине души очень довольна. PSS. А еще Аглашу запомнили в роддоме все потому что она родилась с очень густыми и длинными черными волосами. Меня еще все подкалывали, мол бант купила? И в один прекрасный день, когда детей привезли или уже увозили от мамаш, не помню, Глашку схватила цыганка Рада из соседней палаты. Я только слышала, как медсестра орала на весь коридор: мамочка, это не ваш ребеночек, положите на место. Ну я не думала же, что это про мою говорят. А цыганка Рада не могла врубиться: чойта не мой ребеночек, вон волосы черные какие, чей он еще может быть? Ну потом все разъяснилось, все смеялись. Кстати в таборе — то что. Там вообще похрену кого как зовут.
Пеепелова
Человек года-5766
Через три часа после того, как 9 июля 2006-го в Иркутске разбился летевший из Москвы аэробус А-310, унеся жизни 124 человек, мне позвонил главный редактор и сказал, что надо срочно лететь в Иркустк — писать материал о жертвах трагедии. Было воскресенье.
Опасаясь прогневить то милосердное божество, которое однажды привело меня в журналистику и этим на несколько лет сделало абсолютно счастливым человеком, я обычно не пыталась избегать связанных с этой профессией трудностей или — что случается гораздо реже, чем принято думать — опасностей. Но тот воскресный звонок редактора выбил меня из колеи. Я не хотела летать в Иркутск. За день до катастрофы у моего друга умер отец, и эта потеря оказалась для меня важнее смерти 124 пассажиров злосчастного рейса. Еще важнее был друг, которому — в отличие от жертв трагедии — еще можно было помочь. Мне казалось, что я должна быть в Москве, а не лететь в Иркутск за вышибающими из читателя слезу историями, которые все равно никого никогда не спасут. Но я не смогла сказать редактору «нет» и еще через три часа была в аэропорту — с коктейлем из мыслей о друге, хоронящем отца, отвращения к тому, чем мне предстояло заниматься, и осознания абсолютной неизбежности этого.
Десятичасовая задержка рейса в Домодедово, холодный дождь и +12 в Иркутске, морг с родственниками погибших… Проведя на ногах почти сутки и добравшись к вечеру понедельника до гостиницы, я зарыдала, едва открыв дверь номера, провела за этим занятием некоторое время и заснула под утро. Утро не было мудренее. Справившись с очередной порцией рыданий, я вышла, наконец, на улицу, но рыдания продолжали прорываться из меня наружу — в самых неожиданных местах. Одним из мест стало здание иркутского МЧС. Я приехала туда, услышав где-то в дороге про пресс-конференцию руководителей штаба, но к моменту, когда я туда добралась, все уже закончилось. И меня опять накрыло. Я стояла там и рыдала под дождем, когда кто-то из сотрудников вышел покурить на крылечко и сделал однозначный вывод из увиденной картины.
— Кто у тебя там был? — спросил он. Краем сознания я еще зацепила мысль про то, что это шанс узнать у МЧС много больше того, что говорилось на пресс-конференции, но еще быстрее произнесла:
— Никого. Я журналист.
Объяснять что-нибудь сил не было, хотя слез было стыдно. Не знаю, что подумал МЧСник, но чем утешить журналиста, он знал. Он написал мне на бумажке телефон и сказал:
— Попробуй позвонить. Этот мужик человек 20 спас.
Мужик оказался банкиром — директором местного филиала «Номос-банка», принципиально не летающим бизнес-классом, у пассажиров которого в том рейсе не было никаких шансов уцелеть. Когда он увидел пламя в салоне самолета, открыл запасной выход (в армии служил в авиации), выбрался сам, помог выбраться одной девушке, потом еще нескольким… Всего через тот открытый им люк выбрались несколько десятков человек. Когда я ему позвонила, он страшно удивился: «Я же только жене рассказывал», но согласился поговорить.
Работа, как всегда, делала свое дело. Рыдать я перестала. Но надо было еще написать текст… про что? Играть на читательских чувствах настоящим, невыдуманным горем ни в чем не повинных людей мне казалось таким же грехом, как избегание грязной работы. Мне неожиданно стало легче, когда я прочитала в новостях, что героической стюардессе, которая вместе с моим банкиром спасала пассажиров, будет присвоено звание Человек года. Сообщил об этом главный раввин России. И полностью звание звучало так: «Человек года-5766». Таким был 2006-й по еврейскому календарю.
Я включила эту деталь в текст про смерть и горе, потому что она неожиданно поместила их в такую систему координат, в которой я могла существовать, не рыдая. В жизни есть смерть. Иногда она случается неожиданно. Иногда она неожиданно случается с близкими людьми. С этим почти невозможно смириться (я оставляю это «почти» для тех, кто, возможно, понимает про жизнь и смерть больше меня). Но даже после этого в жизни все равно остается жизнь, в которой есть место смешному. Смех и ужас ходят рядом. Это банальная истина, которую я смогла осознать, только почувствовав, почти потрогав.
Мне без труда дается сочувствие — думаю, единственный мой настоящий талант. Любовь к жизни — та, которую вернула мне крошечная новость о «Человеке года», — дается куда хуже. Но тем, кого накрыл ужас смерти, этот дар нужнее сочувствия. Последнее время я стараюсь выучить несколько анекдотов посмешнее, отправляясь навестить кого-нибудь в больницу.
Рудницкая
Рассказ сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО)
— …А теперь встанет товарищ Лепёшко и расскажет, почему он не явился на пункт при получении сигнала учебной тревоги. Вот пусть прямо сейчас встанет и при всех своих ста товарищах, работу которых он похерил вплоть до оценки «неудовлетворительно», и расскажет!
Встаёт Лепёшко, детина, как и положено сотруднику ФСО:
— Разрешите доложить, товарищ военный комендант города!
— Да-да, мы вас внимательно слушаем.
— Значит так. Прошлой ночью, в четыре часа, я получил звонок об общем сборе. Через четыре минуты я был одет и двигался в сторону путепровода. Товарищ комендант, я живу на Новом городке, в четыре часа ночи там такси не поймать, сами знаете, поэтому принял решение добежать до железнодорожного вокзала, взять такси и прибыть на пункт сбора не позже половины шестого, согласно инструкции.
— Так-так-так…
— Примерно в это же время на станцию прибыла утренняя электричка, на которой приехали украинские челноки с мясом, вениками и прочими товарами народного пользования. К моменту достижения мною станции Орджоникидзеград, челноки с тележками плотною толпой перемещались по всей ширине путепровода, в результате чего движение моё замедлилось, но времени у меня оставалось ещё час пятнадцать минут, а ехать ночью на такси от силы полчаса. В этот момент я услышал возглас, явно обращённый ко мне: «Ковбой!». Я, как учили, товарищ комендант города, правой рукой прижимая кобуру, обернулся вначале влево, потом вправо, всем корпусом. Источник голоса не обнаружил, вокруг были только челноки, на меня внимание не обращавшие. Проследовал дальше. Опять: «ковбой!». Опять оборачиваюсь по инструкции. Никого. Я в напряжении, потому что явно обращаются ко мне. В третий раз — я остановился и внимательно осмотрелся, прижавшись к перилам. Поток челноков поредел, и невдалеке, у противоположных перил, обнаружена была молодая женщина лет двадцати пяти.
Товарищ комендант, если б вы её видели! Метр восемьдесят, платиновая блондинка, ботфорты, кожаная куртка, кожаная юбка-пояс, очень короткая.
— Лепёшко, давайте без подробностей!
— Товарищ комендант, это важно для понимания ситуации! Значит, она обращается ко мне: молодой человек, у меня там, внизу, киоск, и я его не могу открыть, что-то с замком. Вы мне не поможете?
Товарищ комендант, первая мысль моя, естественно, — это или попытка завладеть табельным оружием, или позарились на мою новую куртку. С другой стороны — стоит женщина в затруднительной ситуации, как мне ей отказать? До времени «Ч» ещё час пятнадцать, успеваю совершенно спокойно. Говорю: предъявите, пожалуйста, документы, подтверждающие, что ларёк принадлежит вам. Она тут же вынимает предпринимательское свидетельство, подтверждает. Мы спускаемся, я держу руку на кобуре. Замок действительно заело, но высока вероятность, что нападающие притаились в ларьке. За три минуты вскрываю замок, резко захожу в помещение, как учили: вправо, влево, вверх. Никого, пустой ларёк. Следом заходит хозяйка, благодарит очень искренне, предлагает чаю. Времени ещё час десять, из графика не выхожу, поэтому соглашаюсь — невежливо уходить просто так. Сажусь за столик, она ставит чайник, после чего садится на прилавок, ну, на который товар выкладывается, и я обнаруживаю, товарищ комендант, что она — без трусов!
— Так, Лепёшко!..
— Честное слово, товарищ комендант! Вообще без трусов. Она замечает, что я заметил, но с прилавка не слезает, а, наоборот, наклоняется ко мне и говорит: ковбой, мне сейчас очень нужен мужчина, выручай.
Поймите меня правильно: я молодой, неженатый мужчина, и у меня ещё час семь минут на всё про всё. Почему я должен отказывать женщине в таком сложном положении? Я говорю: презервативы есть? — я же помню, гигиена прежде всего, — она снимает с полки новую упаковку и надевает мне презерватив, РТОМ, товарищ комендант города. После чего произвожу ввод. И в этот самый момент звонит телефон, я просыпаюсь у себя на кровати, и мне говорят: учебная тревога, через полтора часа на пункте! Мог ли я после этого пойти на эти грёбанные учения!!!
Лепёшко получает неполное служебное соответствие с занесением.
Записал Цукер
Ярбух фюр психоаналитик
Паша всегда был очень спокойным ребёнком. Он даже в младенческом возрасте не орал, как положено, а кряхтел, если что не так.
Паша — мой внук. Живут они с мамой, папой и старшеньким Ваней в славном городе Челябинске. Я бываю там раза два-три в год, а в Брянск детей привозят на всё лето.
Так вот. Паша наш начал говорить в полтора года. Имена окружающих, некоторые слова. Шустрый, весёлый, нормально развивающийся ребёнок.
Прошло полгода. Приезжаю в середине января на Урал и не узнаю дитё. Нервный, злой, меня вообще не подпускает. «Нэ-э!», — кричит: мол, не подходи. Молчит. Ни слова не слышу день, второй, третий.
Ночью не сплю, верчусь, думаю: что это?! Потом соображаю — мультики. Не отрываясь. Сутками. Говорю родителям: «С ним что-то не то. Мне кажется, это аутизм в развитии…» Отменили напрочь мультики, растормошили — стал играть с нами чуть-чуть. Танцует. Ходит и ходит по кругу, как заведённый. И молчит. Показываю на Ваню — Паша, это кто? Молчит.
Караул!
Уезжая, прошу дочь и зятя: «Ради всего святого, не давайте смотреть мультики!»
На душе жуть и мрак. Через полтора месяца несусь через две тысячи км с инспекторской проверкой.
А он хороший! Нормальный, весёлый, общается. Начинает говорить, возвращаясь к опытам годичной (!) давности. Да, именно прошлой весной в год и четыре месяца он так же говорил «те» про сок, «ти-пи» про птичек.
Блин, что это было?!
И тут, просматривая диск с записью празднования дня его рождения, видим: да ещё за месяц до новогоднего ужаса Пашка был нормальным. Что-то болтал, веселился со всеми.
И становится ясной картина. На Новый год веселья полон дом — праздники-то дли-и-инные. Ваня в гуще событий. А Паша спокойный, я же говорила. Чем маленького занять? Смотри, Паша, мультики. Благо, у Ванечки их сто тысяч миллионов. Всё больше диснеевские — с быстрой сменой ярких кадров и совершенно непонятные для маленького ребёнка. Но ведь завораживают…
За полтора месяца моего отсутствия и отлучения от телевизора про мультики Паша не забыл. Но знает, что плод запретный. Мне как новичку, шепотом: «Ба, «Бемби»! — Нет, Пашечка, у нас «видик» не работает…
Успокоенная, уезжаю в Б-ск.
Вскоре случайно узнаю, что мультики Паша всё-таки смотрит…
Привозят детей в июне. Еще с порога: «Нэ-э!», никого из брянских не подпуская. Чуть что — в драку, в слёзы. Опять ни слова… Нет, вру. «Мама». Причем всех окружающих зовёт «мама».
Дядька его начал тормошить всякими акробатическими ужимками и скачками. Мои подружки-бабушки подключились со своими внуками-внучками. Поездки на дачу, купание в реке, попытки общения. Постепенно ребёнок начинает идти на контакт.
Но всё равно постоянное стремление к уединению. Берёт комочки земли, камушки и бросает, бросает в одну точку. Часами! Или ходит по кругу диаметром метра два. Как медведь в цирке.
Одна знакомая говорит: «Наш Дима так всё время ходил». А Дима-то у них так себе, по развитию куча вопросов…
Караул!
Я пробиваюсь на консультацию к логопеду. Ещё до проведения тестов мне высказывают самые мрачные прогнозы. Выкладки про недоразвитие долей мозга, влияющих на речевые центры. «Его надо укладывать на обследование и очень серьезно лечить». Внимания на мой рассказ о мультиках врач вообще не обратила.
Идём к детскому психотерапевту. Там всё практически то же самое. Я умоляю: ребёнок ещё три недели будет в Б-ске. Скажите, что можно сделать здесь. Она даёт направление на мозговое обследование, обследование глазного дна, массаж. Опять никакой реакции на ситуацию с мультиками. «В детский сад? Ни в коем случае. Его дети заклюют!»
Спешим к замечательному доктору Владимиру Николаевичу Астапову, нашему семейному целителю. Он не знает никого с аппаратурой для обследования мозга, но смотрит Пашкину «радужку» глаза на аппарате для иридо-диагностики и — о, Боги! — говорит, что с мозгами у ребёнка все нормально. А родителей — по ж… надо бить!
…Что впоследствии и показали приборы. Нет, не про родительские ж… На самом деле, в Пашкиных мозгах никаких отклонений не обнаружено!
Значит, чистая психика.
Я болтала с Пашей, не умолкая. Всё лето протаскала «на ручках», чтобы быть ближе и, как «акын», комментировать всё, что попадалось на глаза. Победой было первое слово из двух слогов «ДЕ-ТИ».
Два месяца постоянного контакта, полного отсутствия телевизионного экрана явно давали свои результаты.
Паша вернулся домой, пошёл в сад. В саду детки постарше, чудные воспитательницы. Всё в порядке в саду! Мама-таки сводила его к местным светилам. Прописали стимулирующие витаминные уколы, массаж каждые полгода.
Сейчас он говорит всё. Общителен и приветлив. Строит сложные предложения, склоняет. Запоминает песни, стихи. С удовольствием показывает весь свой репертуар перед любой — знакомой или чужой — аудиторией. Не слишком чисто и не всегда понятно, но говорит же! Это победа! Тьфу-тьфу…
Кстати, мультики он смотрит. Советские. Недавно смотрели «Винни Пуха» с Леоновым. При виде атакующих пчёл, Паша крепко обнимает меня и отворачивается от экрана: «Я боюсь!». Паш, а я-то как всё ещё боюсь…
Гордиенко
Занимательное чревоугодие
Помните, как всё началось? Когда появилась эта разрушающая семейную гармонию традиция покупать пельмени в магазине? Вообще все эти «дарьи» и «медвежьи ушки» совершенно девальвировали понятие «пельмени». Потому что пельмени — это не пачка мелких кусков мяса неизвестного происхождения в тестах, это, я извиняюсь, кропотливый труд.
Нужно встать чуть свет, истопить печь, вымести сор из избы, наколоть дров, сходить по воду, дождаться невестку с зятем, сноху, брата с женой, соседку с дочкой, накормить их, выдать по фартуку, замесить пресное тесто, накрутить фаршу и до поздней ноченьки лепить одну за другой аккуратненькие блямбочки, не жалея не только живота своего, но и спины, и прочего ливеру.
Лепить пельмени у нас в доме собрался весь истеблишмент. Ну, какой истеблишмент может собраться в Супонево? Цукер с супругой, Петренко с супругой, дочкой и тёщей — куда б мы делись, и Володин, который временно холост, потому без ансамбля.
Когда все уже двигались из своих пунктов А в общий пункт Б со снедью, радио Эхо Москвы сообщило, что сегодня Китайский Новый год, в который по древней китайской традиции (у китайцев, наверное, даже писяют по древней китайской традиции) все сто тыщ милльонов китайцев лепят пельмени. Что ж мы, хуже китайцев, немедленно подумали мы, и работа закипела.
Вместе с работой у Цукера немедленно закипела вода, в которой он всё время что-то варил, когда, казалось бы, и варить ещё было нечего, потом тихонько жевал, опершися на гранит подоконника, потом опять варил, опять жевал и опять варил, добиваясь, по его словам, вкуса «как у мамы в детстве».
Остальные тем временем занимались пельменями. Пельмени должны были получиться классические из коров и свиней, вегетарианские из грибов, детские из вишни и те самые ленивые вареники «как у мамы в детстве».
Проще всего оказалось с коровами и свиньями, искусно соединёнными при помощи старой советской мясорубки, посыпанными перцем, солью и облитыми тремя яйцами. На выходе получился правильный фарш, который, как впоследствии оказалось, следовало бы ещё раз пропустить через мясорубку, добавив сала для сочности. Но это всё для перфекционистов с опытом, то есть не для нас.
Тесто для пельменей Интернет рекомендовал делать из муки, куриного яйца и воды. Только находчивый и неприхотливый китаец мог выдумать такое простое и сытное сочетание продуктов, из которого получаются и пельмени, и макароны, и доширак, а в умелых руках — бумага, и даже порох.
Оказалось, если грамотно раскатать тесто в лепёшку, потом коньячной рюмкой нарезать кружочков, положить в середину каждого кружочка по куску фарша, потом пальцами защепить уголки, и повторить это раз триста, можно не только почувствовать себя грузчиком на оптовом складе чугунных ванн после суточной смены, но и решить проблему питания Петренко (м) на несколько дней вперед.
А если в тесто завернуть размороженных вишен, щедро посыпанных сахаром, выложить получившиеся конверты на блюдо и отставить в сторону, позабыв о них совсем, можно неслабо испугаться, увидев на полу под ними лужу крови. Потому что лужа из сока от размороженных вишен с сахаром отличается от лужи крови только по вкусу.
А если через мясорубку пропустить творог с яйцами и мукой, скатать потом получившихся червячков в колбаску, разрезать её шайбами и сварить на марле, натянутой на эмалированную кастрюлю, получится прекрасная еда, «как у мамы Цукера в детстве», даже лучше, для девочки Маши П.
Жареные грибы с луком можно и так поесть с большим удовольствием. Но если их тоже завернуть и защепить, а потом пожарить, то Цукер будет довольный, скажет своё «укусненько» и разрешит жене засидеться в гостях позже обычного, чтобы по сотому разу посмотреть с подругой Доктора Хауса.
И да, важное! Оказывается, использование коньячной рюмки не по её прямому назначению, тоже может иногда на выходе дать приятную усталость, веселую беседу и хорошее настроение, только голова с утра не болит и за исходящие звонки на мобильном не стыдно.
Петренко (ж)
Практически с лёгким паром
…Вот, к примеру, один знакомый полгода ездил всюду только на такси. Чтобы его не побили на улице. Ну, так он считал, что побьют непременно. Всю зарплату клал на алтарь брянского таксомоторного парка. А потом решил: хватит быть рабом сомнительной индустрии извоза, этак и в аварию попасть можно, стал ездить только на безопасных и предсказуемых автобусах и записался в секцию борьбы. Тут-то, надо сказать, его и отмудохали. И сильно. Ничего, оклемался, и решил, что наша жизнь игра. Так. О чем это я? А, вообще история будет про куртку. Довольно леденящая история про добротную теплую курточку. Её дала мне поносить мама. Купленная года два-три назад, куртка еще тогда стоила много денег. Не пять и даже не десять тыщ, а больше. Это к тому, что куртка очень хорошая и красивая. Мама носила ее аккуратно, она вообще рассудительная женщина, и радовалась. А тут мне до зарезу понадобилось ее поносить. Мама, скрепя сердце, отдала. Полюбовалась напоследок пушистым норковым воротником, вздохнула и с наказом отдать скорее, утрамбовала вещицу в пакет. Я курточку носила, было тепло-светло, ну и все, больше не нужно стало, поминая о мамином наказе, решила незамедлительно отдать.
Надо сказать, что мусор в нашем дворе вывозят крайне нерегулярно. Контейнер у нас один — для крупногабаритного мусора. Район новый, понятно, все ремонтируются. Он стоит по несколько дней, переполненный кусками каких-то плит, досками, один раз там был замечен сосновый стол и советский ящик для почтовых посылок с остатками сургуча и бумажкой с надписью Ленинград. А потом бывало проснешься, выйдешь из дому, а контейнер чист-пуст. Совершенно неожиданно и бессистемно.
В то утро, тридцатого декабря, я вышла из дому рано и вынесла мусор. Перед новым годом была уборка, многое отправилось в утиль, в общем пара-тройка пакетов у меня была. Швырнула я свои пакеты в звонкую пустоту контейнера и отправилась по делам. Подарки, тридцатое же, туда-сюда. Еще отметила про себя: надо же, пустой контейнер, наверное вывезли. В общем, моталась целый день, под вечер встретилась с мужем, мы пришли домой, я села на диван и тихо спросила его вот ни с того ни с сего: милый, а ты не знаешь где мамина куртка? Ответ очевиден, да? Милый, конечно, не знал. Ее не было на вешалке в прихожей, в шкафу, в двух комодах, в кухне, в спальне, в ванной, под кроватью, под диваном, на балконе, в кошкиной миске. Ее не было нигде. Накануне я сложила ее в пакет, чтобы отвезти маме, да. А утром выбрасывала мусор.
Когда мы спускались к мусорке, муж ободряюще смотрел на меня, а представляла, что ОНА мне скажет. И что я должна буду сказать ЕЙ.
— Не волнуйся, если ты нечаянно ее выбросила, мы ее быстро найдем, ты же сказала, что мусора было мало. Мы подошли к контейнеру. В тусклом свете фонаря высилась гора, нет просто огромная гора мешков с каким-то хламом и кусками стен. Кто-то явно сделал перепланировку. Тридцатого декабря. Мусорка безжалостно смотрела на нас. Мы вернулись домой молча. Он просил еще раз очень внимательно вспомнить все детали дня. Я не помнила уже ничего. Кроме того, что утром вынесла мусор. И что у куртки хорошенький норковый воротничок и она очень нравится маме. Пока он еще раз пересматривал все углы и ёмкости в квартире, я тихо подвывала. Когда углы кончились, а куртка так и не началась, я ныла в голос. То, что она выброшена в помойку, стало очевидно как то, что мне капец. Муж смотрел на мои метания. Потом вздыхал. Потом сказал: ну, знаешь ли! Потом ходил. Опять вздыхал. Предположил, что куртку уволокли инопланетяне, и мама таким ходом событий по идее должна быть горда. Но я знаю свою маму. Плевать ей на инопланетян Муж оделся, схватил строительные перчатки, взял налобный фонарик, буркнул себе под нос, что от баб одни несчастья, с тоской посмотрел мне в глаза, и ушёл. Его не было полчаса. Все это время я проводила конструктивно и с пользой. Рыдала.
Когда он появился на пороге весь в побелке и с пакетом в руках, мир засиял.
— На свою куртку. Пришлось перебрать мусорку. Зато на меня жалостливо смотрели все проходящие мимо женщины. Вроде приличный парень, а роется в параше. Куртка, к слову, осталась невредима-пакет был хорошо завязан. Новый год был спасен. Мама избавлена от стресса. Ну и я от позора и наказания. Где были мои мозги-не знаю. Наверное, ехали в такси на секцию борьбы. Теперь муж имеет передо мною сто очков вперед и при любом удобном случае заявляет: зато я куртки в помойку не бросаю. Или: ты забыла, КТО спас тебя от скандала? Я же уже говорила, что система ЖКХ очень спонтанна? Так вот следующим утром выйдя из дома, мы увидели апокалипсическую картину: мусоровоз опрокидывал в себя наш контейнер. Потому что чистота-залог здоровья.
Только маме эту статью не показывайте, пожалуйста
Перепелова
Совсем чужие
Заметки о несостоявшемся милосердии
Восьмое
Путь мой лежит по Канатному, к пятому дому. За двадцать метров сверху начальственный голос:
— Сегодня восьмое, девушка? Сегодня — восьмое?!
На балконе престарый старик в майке: вид, впрочем, внушительный и крайне заинтересованный.
— Да-да, — тороплюсь ответить, — восьмое! И — скорей по маршруту, от чужих, ненужных мне вопросов.
— Так восьмое сегодня или нет? — требует старик (оборачиваюсь) от следующего прохожего, такого, почти что в котелке и с тростью…
Исполнив дела свои в офис-центре на Канатном, движусь обратно. Вижу тётушку с двумя перегруженными, практически, сетками.
— Восьмое! — бодро кричит она вверх, — восьмое, дед! А что тебе восьмого?
— А то, что и восьмого мне одиноко… — накидывает дед на майку кофту.
Тётушка делает хмык со вздохом, перехватывает сумки, устремляется по своей тропе. Дед с интересом и жадностью смотрит в ту сторону, откуда ещё должны бы появиться добрые общительные люди…
Роллтон
…И вот они вошли в хлебный на Костычева.
Я оттого шла за этой парой от «Маяка», что такой честной бедности ещё не видела. Не бомжи, не алкаши: вопиющая штопанность, вытертость, ношеность, застиранность их одежд — летопись ежечасной, геройской войны с нищетой на грани срыва ко дну. И очень хорошие, как бы дурашливо-отчаянные сильно бледные лица.
От «Маяка» надо были идти за ними затем, что в тамошних «Журавлях» как-то ничего не удалось им купить. Не хватало постоянно денег. Каждый раз вытаскивали из карманов мелочь, пересчитывали наперёд известное. А через двести метров, в «Хлебном», стоя прямо передо мной, купили: два роллтона и две пачки чипсов. У них даже осталось, и она почти с озорством вскинула на него серые глазищи: «А вдруг нам хватит на ту малюсенькую?!»
И перед кассой произошла заминка: он попросил обменять один из супов-роллтонов на шоколадку с доплатой, а она вцепилась в его локоть, горячо уверяя: мол, шутка, не надо менять свой суп на её роскошь. А он на неё так покровительственно и любовно, нежно и глубоко посмотрел… так вложил в чистые, тонкие, разве что без маникюра пальчики маленькую шоколадку… так приобнял, поцеловал в макушку…
…что я разжала кулак с абсолютно лишним на сегодня полтинником, посмотрела на бумажку, на них, да и опустила обратно в карман. Отступила. Почувствовала себя нищей.
В ЦУМе
Всё-то время вижу их в ЦУМе: бабушка, еле передвигая ногами, катит коляску с парнем-инвалидом. И вроде бы всё у них отлажено. Было даже отмечено: в отделе самообслуживания на первом этаже продукты покупают пусть мало, но в ассортименте.
Но вот же фокус: до них каждый раз страдаю, что нет денег! Ну, блин, нет денег — опять и всегда! А появились на глаза мои знакомцы, и сразу жжёт карман — да практически всегда ведь лишняя! — сотня. Та, которая моих проблем уж никак не решит. А они, может, сосисок полкило купят. Или, я не знаю, апельсинов…
Через два раза на третий, я решилась, кинулась наперерез, сказала неловко-ласково: «Возьмите, пожалуйста!». И старушка, сделав поначалу неловко-благодарное лицо, устроила бумажку в кармане, а потом резанула, глядя прямо: «Ну и возьму! Ну и спасибо!»
А я побыстрей похлопала ресницами в совсем противоположный отдел. А чего я хотела? Чего ждала? Бабулька с инвалидом превратились чтобы в мадонну со младенцем? Озарили мир и меня своей улыбкой: «О, как это прекрасно! Теперь мы купим полкило сосисок и наша жизнь наконец-то изменится!»
По роже
Пол-двенадцатого ночи. Мальчик лет пяти стоит возле «Авоськи» на Фокина и тянет маму за плащ:
— Мама, я хочу домой, я хочу есть, хочу спать!.
А в другую сторону маму тянет за плащ дядя:
— Да мы быстренько, я такси потом вам возьму!
И было по дяде видно, что потом такси не будет. И было ясно, что мама это понимает.
И даже пацан это озвучил громким воем, когда тащили его к подъезду дома-«Авоськи»:
— Сама-то днём спать будешь, а меня в сад отопрё-о-ошь!
Я торопилась от подруги, а тут встала как вкопанная. Прямо неприлично остановилась и в упор уставилась на эту, блин, человеческую композицию. Опять же, чего я хотела? Навести среди них порядок? Защитить ребёнка?
Разрываемая на части мать, уставилась в ответ на меня, не глядя, дежурно, дала сыну по попе. Сказал мужику: «Ну пойдём — быстро!» И поволокла за руку, с силой, рыдающего беззащитного человека.
А у меня мысли были: дать бы ей по роже? (А как хотелось! Молча, без комментариев!) Вызвать милицию? Подойти и сказать им: «Не смейте мучить дитя. Пожалуйста, будьте людьми»? Решила было в другой раз (ситуации подворачиваются без конца) начать с безобидного. Но достоверные люди сказали: «Тогда дадут по роже тебе!»
Заблудилась
Женщина лет 65-ти заблудилась в чужих дворах. Говорит: ищу дочку, она замужем за новым мужем. Визуально дочка где-то здесь живёт, и квартира вроде «3», но уже в трёх третьих квартирах чужие люди открывают. Совсем чужие. Дочки нет нигде. Бабуш, а телефон, говорю? А точный адрес? А зовут её как? А сами вы откуда прибыли? Она «не помню» на всё говорит.
Предлагаю сопроводить её в милицию, чтоб помогли там. Ну а куда ещё? А она и говорит так здраво: «Нет, сейчас не пойду в милицию. Может, квартира не третья. Может я ошиблась. А вот дом точно этот. Буду сидеть на лавке, ждать, когда придёт с работы дочка».
Я и пошла домой. Нет, думала, конечно, прийти после ужина посмотреть, как она там, сидит, нет? А потом гости пришли, кино интересное принесли — вот ей-богу, просто забыла.
А через три дня вспомнила, когда на столбах остановок «Роддом» и «Вторая школа» объявление увидела: «Ушла из дома, пропала, разыскивается…» Лицо этой пропавшей старушки было точно другое. Ту я запомнила.
Воробьёва
Просто танцы
или Все там будем
Самозабвенно. Только так, и никак иначе. Никаким пубертантным золотым подросткам, двигающимся в нездоровом мареве танцпола, так не суметь. Глупы и пресыщены миром, собою и окружающими по причине молодости и её последствий.
…Воскресенье. Вечер. Парк Толстого. Танцплощадка и они, не какие-то там зелёные человечки, а те, кому за… Ну, сложно сказать, за сколько: танцевальный угар напрочь лишает возраста, груза всего пережитого и социального статуса.
Взять, например, меня. Я пришла вовремя. Лица танцоров уже разгорячены, движения импульсивны, выходные костюмы липнут к телу, а ноги предательски тяжелы. Становлюсь в сторонке, стараясь вычислить местные правила хорошего тона — и не успеваю, будучи немедленно ангажированной неким джентльменом. Честное слово, я в принципе-то только «за», но уж больно нарочито это небрежное скоропалительное «потанцуем?». Кроме того, этот юноша глубоко за 60, а то и за 70, регулярно посещает библиотеку — что плюс, но делает он там, как говорится, «шо зря»: мешает читать, раздражает работников, а ещё шляется по симпатичным читательницам и затевает двусмысленные разговоры. Ну, вы знаете таких живчиков, да? Получив отпор, несостоявшийся кавалер возвращается на скамеечку запасных. На всяких приличных танцах должна быть такая скамеечка, где сидят те, кто приходит на праздник жизни не ради танца окаянного, а знакомства для. Ну, или стеснительные. Или те, кого продинамила томная дама в белом.
На всякий случай смешиваюсь с толпой зевак. Нас тут много таких, не знающих, то ли искусать губы от зависти, то ли бежать сломя голову с криком «я замужем, я замужем, мне сюда не нужно!» Но никто не бежит, потому что глаз оторвать невозможно.
Когда-то мой добрый товарищ работал на танцах для тех, кому года не беда. Рассказывал много, ещё и уморительные сценки показывал, будучи профессиональным актёром. Но проскакивало-таки в этих историях что-то очень грустное, и смеялись мы тихонько, как будто сами чего-то внутри себя стыдясь и опасаясь. Скорее всего, именно того и опасаясь, что через годы сами станем нелепыми героями рассказов о танцах для тех, кому за. Я, например, до сих пор не могу решить: вот эти дискотеки для взрослых — это грустно или же радоваться надо: люди полны сил, танцуют, общаются по интересам и выстраивают отношения? Чувств ровно пополам. И безысходности толика, безнадёги даже какой-то, и радости, и жизни бушующей кусочек, не танцплощадка воскресного дня, а мини-модель человеческого общества. Всё по-настоящему. Во-первых, чёткая иерархичность: самые крутые танцоры тусуются в центре (это самая малочисленная группа), люди с меньшими претензиями на общественное внимание опоясывают центровых широким кольцом, а самым большим кругом расходятся граждане скромные и застенчивые. Из статуса следует и набор прав и обязанностей. Центровые громче всех вскрикивают, энергичней всех двигаются и малым числом оккупируют максимальное пространство. От остальных требуется немногое: не мешать людям отдыхать, читай: не затанцовывать в центр. Конечно, это правила неписаные, стихийные, эдакое вальсирование по понятиям, сами обитатели танцплощадки ни о чём таком не задумываются. Однако со стороны всё совершенно очевидно. Вот, например, только что отработала номер альфа-дама из самого что ни на есть центра, твёрдо осознающая свою умопомрачительность. Она прыгала, раскидывала руки, немножко вибрировала с большой амплитудой, давала канкану, приседала, обнимала самое себя, аплодировала, хваталась за голову и громко подпевала. Ритуальный танец, и овации-респекты от болельщиков в качестве коды.
Среди посещающих танцплощадку можно выделить три типа женщин и два типа мужчин. Женский тип №1 — это залихватские брутальные тётеньки, накрашенные широкой вольной кистью, обладательницы прокуренных голосов, очень сильно ненатуральные блондинки. После действа они, подхватив под руки только что приобретённых Васей и Володей, идут гужевать и есть шашлык в соседние шатры. Второй тип — клеопатры на излёте. В клеопатрах уже зародилась определённая доля мудрого отношения к себе и к возрасту, однако воспоминания былого цветения не отпускают. Они немного стесняются, но в целом ещё ого-го, хотя танцуют несколько рассеянно, непрестанно оглядывая пространство на предмет «не пришёл ли кто интересный?..» А ещё есть скромные женщины с грустными глазами, эдакие «вещи в себе». Пляшут, смотря в землю, никто их, кроме ближайшей подружки, не интересует. Они часто смотрят на часы и, сдаётся, ходят сюда, потому что так надо.
С сильным полом всё проще: одни пришли потанцевать, посверкать глазами, выпить по сто-писят и побалакать с товарищами. Другие, изрядно наодеколоненные и яростно выбритые, жаждут знакомств.
Кстати, об одеколоне. Амбре над танцплощадкой почти тропическое: смесь «Красной Москвы», «Кобры», одеколона «Саша» и какого-нибудь «Дипломата». У неподготовленного человека от здешней атмосфэры к вечеру в голове делается ощущение, что он мишка Тедди, забытый на ночь под прилавком фирменного магазина «Летуаль». Если бы меня приняли в НКВД дознавателем, я бы в особо жаркие дни водила сюда подозреваемых. Тех, кто через полчаса потерял сознание, смело можно пускать в расход — не наш человек, мериканьський шпиён.
…Нет, не нужно меня брать в дознаватели. Это литературный приём, образ, гипербола…
Быстрые танцы — основной репертуар дискотеки. Народ движется в ритмах «Золотого кольца», Николая Баскова и легендарной команды «Балаган лимитед». Популярные танцевальные па следующие: приставными шагами влево — вправо, вперёд — назад, поработать руками, согнутыми в локтях, поводить плечами, покружиться, прихлопнуть, притопнуть и снова приставной шаг. Раз, два, три. Раз, два, три. За мои зелёные глаза всё так же рыдает шарманка… Море экспрессии.
Медляки включаются редко. Ди-джей — смышлёный парень, давно вычисливший, что на пятьдесят девчонок статистика выдает десяток ребят, оттого девчонки танцуют парами, и над площадкой в такие моменты отчего-то сгущается грусть. Пронзительно печальны были интеллигентные бабушки — у одной волосы фиолетовые, у другой красные — медленно вальсирующие друг с другом, деликатно о чем-то беседуя.
…Мужики, а мужики? Ну кончайте вы так безнадёжно пить, а? Нам без вас одиноко. Эх… разве ж вам понять…
Хотя, может, они вовсе и не грустили? Может, это мой личный мозг фонтанировал мелодраматическими штампами, рисуя себе чужие жизненные истории? Может, это просто я сама боюсь одиночества, потери близких, толстой седой дворняжки на поводке, пыльной герани на окне, забегающих на минутку внуков?
Под первые аккорды бессмертного народного гимна Российской Федерации «Как упоительны в России вечера» публика начинает медленно расходиться. Самые рьяные дотанцовывают песнь песней и продолжают афтер пати на окрестных лавках. Подружки пудрятся, прихорашиваются, кто-то (о Боже, за что?!) обновляет парфюм.
— Слушай, ты видела? Видела? Эти-то, опять вместе танцевали. И как он так, она же никакуха совсем…
— Да ладно, для него самое то будет. Другая-то на него не глянет. Он всё ко мне клеился, потом понял, что бесполезно, и нашел себе под стать.
— Ой. Девоньки, а вы видели того, который на лавке просидел, с лысиной такой? Благородный мужчина, говорят, с машиной…
Закрываю глаза и стираю картинку. Рядом со мною щебечут семнадцатилетние старшеклассницы, счастливые, болтливые, восторженные: «а я ему такая фа-фа-фа, а он мне такой ля-ля-ля». Разве что голоса немного низковаты, и смех не звонок. Открываю глаза. Не сработало. На противоположном конце скамьи сидят усталые женщины за пятьдесят. Они болтают о пустяках, о машинах и галстуках, но слово «любовь» не произносят никогда, как будто наложив на него некое табу. Быть может, именно из-за этого они неуютно сидят, некрасиво курят и уже думают о прополке свеклы на даче или о курице, которую нужно не забыть разморозить. На них навалилась невыносимая тяжесть бытия. А ещё полчаса назад они ощущали его лёгкость, но, кажется, и она была для них невыносима.
Я выхожу из парка, почти бегу, спеша добраться до дамбы и застыть там, подставив лицо прохладе оврага. По проспекту бредёт одинокий благородный мужчина, который, говорят, с машиной. Старушки с разноцветными волосами сворачивают в проулок.
Я стою и думаю: почему всё именно так? Дело ведь не только в статистическом соотношении эМ и Жо, правда? Почему нельзя сделать для них… для всех нас… что-то более… более… человечное, да? Хотя бы включать ту музыку, под которую, они (мы) когда-то танцевали. Когда были молоды.
И теперь главное. Милый, мы, конечно, это уже не раз обсуждали, но всё-таки считаю нужным напомнить все три пункта: 1) долго; 2) счастливо; 3) и в один день.
Перепелова
Чур, не я
— Алё, я Наташа, ландшафтный дизайнер, вы меня снимали как-то…
— Ага, здрасте…
— Слушайте, очень срочно нужно: простая такая фотография, чтобы в меру серьёзная, но чуть-чуть с улыбкой. Очень срочно. У нас тут по партийному списку общий плакат делают, и нужна хорошая…
— Ох, Наташенька, не получится: я на предвыборку не снимаю категорически.
— Да нет, вы не поняли, это не предвыборка, это просто на плакат — как на документы, только хорошо.
— Наташ, совсем не снимаю предвыборку, честно, никому.
— Да не предвыборка никакая — я по партийному списку иду, просто плакат!
— Плакат, удостоверение, портрет, ню, натюрморт — если для использования в связи с выборами — категорически. Простите.
— К-как? Вообще, что ли?
И так раз в неделю, как минимум. Скорей бы выборы.
Интересно, говоря «предвыборные материалы», они что конкретно имеют в виду? Баннеры-постеры? Репортажи с мест? Освещение рабочих поездок? Не разберёшь.
Самое обидное, что никто не спрашивает, по каким-таким причинам забастовка, просто трубку бросают и суматошно ищут альтернативу. А у меня, между прочим, заготовлен шикарный ответ…
…надобно произносить тоном профессора Кузьмина, отвечающего буфетчику из Варьете Андрею Фокичу Сокову. Вот так: «Уберите сейчас же ваше золото, — сказал профессор, гордясь собой, — вы бы лучше за нервами смотрели».
…шикарный ответ:
— Не снимаю выборы, потому что пытаюсь не попасть в ад.
Слово «ад» следует интонировать таким образом, чтобы понятно было: «ад» — в смысле «геенна огненная», а не «предвыборный ад».
Шикарно, правда? Но так и не пригодилось. Никого не интересуют резоны. Обидно, блин.
А сугубо предвыборного ада не существует, работа как работа. Особенно, если политтехнологи не припрутся. Особенно заезжие. За работу с политтехнологами сразу нужно утраивать тариф, плюс молоко. Я их с самого первого раза невзлюбил, ещё когда одного бандита в какую-то думу пропихивали. Кандидат был издалека, и пиарщиков привёз своих, закалённых, как победитовые свёрла — девочку Вику с глазами мелководной хищной рыбки и мальчика… э-э, чей образ утерян.
Но вначале внесли костюмы, их было восемнадцать, все итальянские, с отливом. Костюмы поразили в самое сердце, но не потому, что мой последний снят был в десятом классе, а потому что разница между ними была исключительно в ширине полоски, с шагом примерно в полмиллиметра. Итого восемнадцать костюмов с шириной полоски от двух миллиметров до сантиметра включительно.
Потом вошёл клиент, сказавши: «Чё-то какая-то стрёмная студия, вот у нас в Москве…» Потом вошли политтехнологи и сказали: «М-да…» Но деваться им всё равно было некуда, не в Москву же переться. И началась мука. Бандитов вообще тяжело снимать, они мимически пассивны, но это полбеды, а сама беда стояла в сторонке и громко спрашивала:
— А ты кого снимал ещё? А, этого… ну, это чмо… и этот тоже чмо какое-то… у вас тут вообще на чмошников богато, да?
После чего заводила посторонние разговоры с объектом, отбирая и так еле наметившийся контакт. Через час я взвыл, потребовал выездной съёмки, нас свезли в офис, похожий на трёхэтажный бронепоезд, оставили тет-а-тет и за полчаса кандидат был разведён на мужественную, но проникновенную физиономию, игру на гитаре, подаренной рок-звездой, и чаепитие с сушками. В общем, нормальный оказался паренёк, а что его на костюмы кто-то лихо кинул — с кем не бывает, когда в первый раз в Италии и в кармане двести штук на мелкие расходы.
Счёт за фотосессию был выставлен на шестьсот долларов, что в три раза дороже расценок на тот момент. В сопроводительной записке политтехнологи по пунктам посылались нахер, а заканчивался документ предложением забрать фотографии бесплатно, но оставить за автором право ходить по городу и на каждом углу рассказывать, что у кандидата нету денег на фотографии. Вика и компаньон решили не связываться с психическим, отдали всё до цента.
Самое же главное, когда фотографии расклеили по нашему красному поясу размером полтора на три метра, на руке кандидата обнаружились швейцарские котлы белого золота, прямо на уровне глаз прохожих. К фотографу какие претензии? Фотограф в жизни мужской бижутерии не видал, а если бы и видал, откудова знать, что это нефотогенично в конкретной ситуации?
В общем, пролетел заезжий на тех выборах. Я бы на его месте политтехнологов чем-нибудь обидел, но недавно набрал по ошибке Викин телефон — ничего, голос бодрый, живая.
С тех пор много их просовывало свои щучьи мордочки в студийные двери, и всякий раз сплошной вред и никакой пользы. Последний отметился буквально третьего дня: сосредоточенный мальчуган лет двадцати пяти, зовут Толик. Шепотом было про него сказано: московский, таких звёзд эстрады раскручивал, м-м-м… Сам Толик изредка бросался фразами «…тут Чубайс и говорит…» и «…эта дура-генеральша звонила нам каждую ночь ровно в три и кричала, что мы засланные казачки и потому покойники…».
Работал с Толиком мой коллега Алексей, ещё не ушедший из большой политики. Подопечная — дама, приятная во всех отношениях — за последние десять лет снимаема Алексеем была неоднократно, и ничто не предвещало беды. Но москвич сложил руки на груди и задумчиво произнёс:
— Ну-с, с табуретки, пожалуй, я вас сегодня прыгать не заставлю…
Подопечная выдернула лицо из рук визажиста и уточнила:
— Ч-что?
— Я говорю, с табуретки не нужно прыгать, как-нибудь сегодня обойдёмся.
— Давайте, обойдёмся.
— Да-а… а метод-то хорош… Мерилин Монро всегда перед ответственной съёмкой раз десять туда-сюда с табуретки прыгала, глаз у неё от этого загорался, блестел… Ну, уж сегодня как-нибудь по-другому выкрутимся. Вы сами-то как в политику попали?
Дама не без волненья погрузилась в пучину воспоминаний, Толик задавал наводящие вопросы, и всё шло согласно главы четвёртой учебника «Портретная съёмка своими руками», но (цитата, Жванецкий) «они всё делали правильно, но не с той стороны. Ах, это искусственное дыхание не с той стороны, она хохотала, как ненормальная». Какой-то у Толика был неуловимый дефект в интонациях… какой-то… Помните, пионервожатая приводила на классный час передовика производства? Ну, такого, с большими красными руками? Приводила и говорила проникновенно: «Иван Дормидонтыч, расскажите же нам об этапах трудового пути!» И смотрела, не отводя глаз, и качала головой в нужных местах, и аплодировала азартно, подавая пример. Но Иван Дормидонтыч выходил из школы, плевал на порог и шёл за чекушкой забвенья, ибо даже передовику производства горько прочесть в глазах девушки «накласть мне на тебя, лось ты сохатый, дурновыбритый».
Толик не тянул даже на пионервожатую. Он перебивал рассказчицу за секунду до кульминации, он менял тему, он ныл:
— Глаза? Где же глаза?! Смотрите, даже фотографы хохочут!
Мы, действительно, уже некоторое время немо стучали головами о стол. Отчаявшись, пиарщик приказал визажистке рвать объект за левую руку, сам ухватился за правую, и стало очевидно: Толик в ужасе, как десятиклассник в постели завуча по внеклассной работе, матери троих детей.
Когда смотрели результат, Алексей аккуратно сидел на краешке стула, чтобы быстро-быстро соскочить в тот самый момент, когда дама с визгом вцепится политтехнологу ногтями в нос, или, например, примется наотмашь лупить по кудрявой башке. Но ничего такого не случилось. Как пить дать, Толик для собственной безопасности подсыпал клиентке в колбасу бодяженный кокаин.
Но ни Вика, ни Толик не способны заставить провинциального, но корыстного фотографа-бытовика отказаться от лишней сотни долларов. А имя того, кто заставил, увы, стёрлось. Как и внешность. Мужик какой-то. Из района? Хоть убей.
Тут хочется что сказать. Мы хоть и провинциальные, и корыстные, и бытовики, но тоже люди. И нам тоже нужно немножечко самообманываться, симпатия к клиенту нужна, где-то даже и эмпатия, иначе птичка вылетает дохлая, и не птичка, а так, перепёлка-гриль. И вот стоит он перед тобой, простой русский мужик в накрахмаленной сорочке, озабоченно теребя галстук из многобрендового бутика «Платинум», и ни о чём таком не думает, а ты ему по-нашему, по-простецки:
— А что, Федот Федотыч, руку на сердце положа, Вы зачем в депутаты идёте? Нет, я понимаю, у вас бизнес, все дела, но ведь быть не может, чтобы на уме не было никакой общественно полезной задумки. А?
Преимущество фотографа в том, что никто не понимает, чем конкретно мы занимаемся. Отсюда доверие. Скажешь невесте: «Аккуратно, голубя к шее не подноси, а то он, гад, сонную артерию норовит клювом пробить и крови напиться. Умереть не умрёшь, а платью кранты» — а она, душа прозрачная, верит истово, руку держит на отлёте, косится с опаской. Так же и кандидат: пришёл, доверил тебе свою внешность — всё, получи карт-бланш. Федот Федотыч бросает теребить галстук, плотно задумывается:
— Нет, ну, я, конечно, иду, чтобы порешать там один вопрос… Но знаешь, ещё чего хочу? Наркоши замахали, шприцы одноразовые в подъездах между рамами, как поленница. Так вот, иду барыг пошмонать. Всё-таки дети кругом… Ну, и зал спортивный на районе нужно подремонтировать. Дети кругом.
Мил-лай ты мой! И вот уже любишь его всею душой, и готов бежать по избирательному округу с агитационными матерьялами подмышкой, и лицо визави приятно взгляду, клац-клац-клац, снято, сейчас подбородочек приберём — и минус десять лет с плеч…
Хорошая у нас работа, серьёзно. Если есть шанс полюбить малознакомца хотя бы на одну шестидесятую секунды — это хорошая работа.
Но тот, чьё имя утрачено, ответил, ухмыляясь утраченной внешностью:
— Ты чо, фотограф, прикалываешься? Запомни: все идут за бабками. Остальное похер. Общественно полезного ему… обоссаться…
В общем, как-то так. Теперь хотите честно-пречестно, почему я не снимаю предвыборку?
Просто пытаюсь не попасть в ад.
Цукер
О вреде книг
У меня есть племянник. Петр. Есть еще племянник Александр, но сейчас не о нем.
Петру вот-вот исполнится 9 лет, и он прекрасен. Если ему сказать: «Петр, пойди, поиграй в мяч, потому что невозможно уже разгадывать твои бесконечные кроссворды», он сделается грустен лицом, помолчит несколько секунд, тихо ответит «не хочу», и сразу же: «Аня, а как называется самка тапира?» При этом Петр подвижен, игрив, любит дурацкие мультики и пельмени. Богатый русский язык еще не оброс эпитетами, способными описать, как Петр худ.
Два класса общеобразовательной школы он окончил на одни пятерки. В общем-то, все говорит за то, что остальные восемь, или сколько там придумает Министерство образования, он окончит так же. Петр умен, покладист и добр. Как случилось такое в одном организме — не знаю. Но факт. Мы с моим мужем и его дядей полагали, что школа непременно испортит Петра. Научит курить, материться и таблице умножения. Пока у школы получилось только с последним.
Каждое лето Петр проводит в Брянске. В этот раз Бог не оставил его, и чтобы разнообразить досуг, послал несколько журналов «Внучок» с кроссвордами и заданиями типа «Найди 128 отличий». Петр их освоил за пару дней и тут случилось непоправимое.
В руки к нему попала книжка «МеГа ТеСт для эрудита». Прям вот так вот психоделически криво и написано на обложке. Петр прекратил есть вообще. Даже пельмени.
«Какая температура на поверхности Солнца? 6000 градусов, 10000 или 15000», — жужжало у меня в ухе.
«Какие особенные животные обитают на Галапагосских островах? Карликовые свиньи, лягушки-быки, гигантские черепахи?» Лягушки-быки, вы подумайте!..
«Где впервые появился чай? В Турции, в Индии, в Китае?», — доносилось из соседней комнаты.
Мы радовались, что мальчик занят. Он не бегал, не топтал клумбы, не разбивал окна футбольным мячом. Не ел, не спал, не смотрел телевизор, не переодевался. Он только иногда ходил в туалет, что выдавало в нем нечто человеческое.
Все медленно, но верно двигалось к Академии Наук, пока Петр не спросил: «Аня, от извержения какого вулкана погиб город Помпеи? Везувий, Этна или Стромболи?» Я с уверенностью ответила, что Везувий и продолжила свой безмятежный послеобеденный галоп по хозяйству. «А вот и нет, — нагло ответил мне племянник, — Этна!» «Херетна!», — еле сдержалась я. Мы посмотрели в ответы вместе и внимательно. Девятилетнему отроку и в самом деле предлагалось думать, что город Помпеи, находящийся у подножья вулкана Везувий, погиб от извержения вулкана Этна. «Сожги эту книгу, Петр», — порекомендовала возмущенная я. Петр продолжал. Через десять минут он спросил, откуда берется хлопок. Из растений? Из шерсти животных? Или еще из чего-то, что моя память не сохранила. Мы единогласно вспомнили хлопкоробов и, не усомнившись, сказали, что, ясен пень, из растений. Книга велела нам пересмотреть свои взгляды на биологию. Вернее, на зоологию. Хлопок книга советовала добывать из шерсти животных. А на вопрос «Детеныши какого животного называются щенками?», из вариантов ответов «кошка», «собака», «лось», рекомендовала выбрать первый. Тут сдался даже Петр, признав, что книжонка весьма паршивая. Доверие к книге было сильно подорвано, но он ее не оставил.
В каждом из нас по очереди Петр стремился найти союзника. Мы велели ему с книгой идти прочь. Теперь он читает ее один. Подвергает сомнению каждый пункт, но читает.
И вот о чем я подумала в этой связи. С детенышами ладно.
Но вот Этна. Не случись нас рядом в тот момент, стал бы Петр сомневаться? Да ни в жисть! Продолжил бы свой тернистый жизненный путь с уверенностью, что Помпеи погибли из-за Этны.
Допустим, урок истории, на котором хмурая учительница в синтетической блузе леопардовой расцветки расскажет детям о гибели города Помпеи, Петр проболеет ОРВИ. Или прогуляет, что мало вероятно. Или будет в это время дежурить по столовой. Кстати, сейчас дети дежурят по столовой?
Передачу «Своя игра», где вопрос про Везувий будет стоить рублей 300, Петр наверняка не посмотрит, потому что канал СТС осчастливит его в это время сериалом «Папины жУчки».
На экскурсию в город Помпеи Петр не поедет, допустим. Даже, скорее всего.
В институте он будет учиться на факультете какой-нибудь молекулярной физики, если такой есть, и история там будет преподаваться необязательным курсом, зачет по которому получат все, скинувшись рублей по пятьсот преподу на Курвуазье.
И станет Петр Андреевич членом Академии Наук, как и предполагалось. К сожалению, я плохо знаю должностные обязанности членов Академии Наук, но уверена, что эти люди делают что-то очень важное и полезное. Тем и займется Петр. И в один прекрасный октябрьский день Петр Андреевич будет делегирован в город Неаполь на конференцию по последним достижениям молекулярной физики как самый лучший специалист в этой области по России.
И в первый же день конференции в Неаполе Петру предоставят слово. Он возьмет микрофон, откашляется и начнет. Он скажет: «Уважаемый дамы и господа!…» Голос у всех в наушниках переведет: «Лэдис энд джентльменс!» «Мне выпала большая честь представлять на этой конференции Россию…» Потом он будет передавать привет от Президента, восхищаться Италией и далее по протоколу. А прежде чем перейти к сути вопроса, рассказать о новейших достижениях в молекулярной физике и продемонстрировать новый Сверхмощный Улавливатель Наночастиц, Петр вдруг вспомнит книгу «МеГа ТеСт для эрудитов» и решит польстить хозяевам знанием истории их края. Он скажет «Жаль, что город Помпеи погиб из-за извержения вулкана Этна. Искренне жаль!» Он даже сам не поймет, зачем это сказал, в наушниках у всех возникнет непереводимая пауза, а канцлер ФРГ, который традиционно знает русский язык, неприлично крякнет в голос.
Карьера Петра пойдет под откос. Его позорно понизят в должности, разово лишив 30-процентной премии. Жене будет этого достаточно, чтобы начать ему изменять с его же теперешним начальником и бывшим подчиненным. Он иногда станет себе «позволять», чего до этого никогда не было, даже на день рождения Нильса Бора. Что будет потом, я не решусь прогнозировать, поскольку родной все-таки человек, не дай Бог накаркаю, потом себе не прощу.
Или такой вариант.
Петр проспит урок истории на тему «Последний день Помпеи». Дело в том, что уроки истории постоянно ставят нулевыми уроками, в 7.30, потому что у престарелой исторички бессонница.
Телевизора у Петра дома не будет, потому что родители увидят в нем Воплощенный Вред и перережут шнур.
Картину Брюллова Петр увидит, конечно, но на ней, к сожалению, не написано, какой именно вулкан устроил в городе такой переполох.
Цирковую студию Петр закончит с отличием, но историю там не будут преподавать даже факультативно.
Потом, в армии, Петр решит, что цирк — это не для него, и, вернувшись, откроет свой маленький автосервис, и будет виртуозно ремонтировать машины. По городу станут ходить легенды, что он единственный знает устройство двигателя БМВ даже, пожалуй, лучше, чем специалисты на заводе в Баварии.
Его бизнес будет шириться и крепнуть. Петр станет баснословно богат. Перестанет сам копаться в моторах. Хотя для своих близких друзей, которых у него будет человек двенадцать (и все владельцы заводов-газет-пароходов), он иногда будет себе позволять поменять свечи в Порше или заменить поршневые кольца в Мазерати. А на громких вечеринках в загородном доме Петр будет приводить всех гостей в восторг, по запаху определяя октановое число бензина.
Он оставит своим четверым детям огромное наследство, завещает похоронить себя в городе Феррара, в Италии. Разумеется, потому что его любимой машиной всю жизнь была Феррари. Так, после смерти в 97 с половиной лет Петр окажется в Италии, ближе, чем когда-либо к городу Помпеи, но уже никогда не узнает, что книга «МеГа ТеСт для эрудитов» его тогда обманула. Никогда не приведется в его счастливой жизни случая поговорить или услышать про Помпеи и вулкан Везувий. Ну, может же такое быть.
Может быть еще тысяча вариантов того, как сложится жизнь Петра. Но хорошо бы ни в одном из них не фигурировала эта идиотская книга. Потому что шутки шутками, а начитавшись в детстве Пушкина, я на полном серьезе в третьем классе написала в диктанте слово «океян», за что получила позор и порицание учительницы. Уж что-что, а на Пушкина никогда бы не подумала.
Петренко (ж)
У дьвух
В суражском доме милосердия поженились восьмидесятивосьмилетняя бабушка и восьмидесятилетний дедушка. И то ли у меня профдеформация, и в каждом незаурядном случае я вижу тему, и у меня краснеют щеки, и не сплю ночь, и уже даже представляю, как все будет выглядеть, то ли окружающие — черствые сухари, которым не понять моей тонкости душевной. Конечно, скорее первое, но приятнее думать, что на самом деле это у всех остальных второе. Поэтому я неуемно продолжаю восторгаться.
Вот бывают же женщины, которые и в девяносто такие женщины! Которые красят ногти и губы и глаза и не уважают себя, если они не обворожительны. Ульяна Михална в свои всего-то 88 обворожительна. Она вышла замуж в струящемся платье в пол, с цветком в волосах и, как положено, в белых туфлях. Она нашла себе молодого мужа (всего-то восемьдесят ему) и довольна жизнью. Она взвинтила дом милосердия, привлекла всю местную прессу, теперь у нее с мужем отдельная комната и слава старой сумасбродки. Ну не мечта ли? Определенно: мечта.
Сергей Иваныч появился в доме милосердия год назад. Сам пришел. Жена умерла, детей не было. Решил, что здесь ему будет лучше. Она оказалась здесь в августе. Замужем была дважды, детей тоже не нажила. «Это парадокс, — говорит директор дома милосердия, а по-правильному — интерната для инвалидов и пожилых людей Константин — но здесь средняя продолжительность жизни выше, чем в остальной нашей стране. Вот словно какая-то граница проходит по этим стенам».
Не удивляйтесь, что я говорю на директора Константин, без отчества и фамилии. Хотя человек уже немолодой, все подопечные дома зовут его просто Константин. Вот и у меня не сработало. Не запомнила. Действительно, здесь старики доживают до ста и даже часто переваливают свой жизненный вековой рубеж. Просто это никакой не официальный интернат, вовсе самый настоящий Дом милосердия. Просто только милосердные люди могут трудиться в предлагаемых условиях. Нет-нет, идеализировать не стоит, всего хватает. Но факт остается фактом. По всем меркам немолодые дедушка и бабушка объявили о свадьбе, и их поженили. Купили кольца, торжественно обставили церемонию и совсем не смеялись — а ничего смешного.
Когда драгоценный Константин пёр из магазина ящики со спиртным, местные по привычке спросили: «Ну и кто на этот раз помер?». «Не дождётесь, — был гордый ответ, — у нас тут новенькая молоденькая семья зарождается!»
Между прочим, не надо думать, что если дом престарелых, то его обитатели озабочены только местоположением утки и чем закончится сериал «Слёзы и путеводная нить Ариадны». У них, между прочим, только сейчас три официальных пары. Встречаются. Любят. Но такие чудаки, которые поженились, нашлись тут впервые.
В Доме некоторые называют невесту проституткой и ненавидят. Я лично нахожу, что она великолепна. Проститутка, знаете ли, проститутке рознь. Ей муж будущий жить предложил, а она грит: в беззаконии не буду. Женись, голубчик. А обзываются оттого, что она своего Сергея у всех увела. Угнала, если хотите, как в песне. Он всегда телевизор с бабушками другими смотрел, а она два раза посидела возле него, а потом женилась на нем. Выкусите все. В общем, я, как обычно, смеялась и плакала, и все остальные тоже. Ибо трогательно было до безумия. И молодожены плакали. И санитарки. И бабушки. Это только на слух смешно очень, а на самом деле ведь серьезней некуда. Старость. Такая штука, сложная. Я ее очень боюсь. А там, в доме милосердия она просто концентрированная. Ходит по коридорам, сидит где-то под потолком, дежурит у двери, смотрит во все окна, пахнет, говорит, пишет свои бесконечные бумаги за лаковым коричневым столом. И вот эта самая сумасбродная Ульяна Михална эту старость пнула. Пнула с такой силой, что она покатилась, обмякла и обозвала ее проституткой. Она сказала старости, что сильнее, она плакала, когда их с её Сергеем объявили мужем и женой. У нее задрожала голова, и губы, она ахнула, и зааплодировала сама себе. Клянусь, она плакала, как в первый раз. И еще они целовались. По-настоящему. По душному коридору гремело «горько», она закрывалась букетиком гипсофил. Божечка, научи меня, как так. Тут и сейчас-то ногти красишь по праздникам, а вся обворожительность зависит от пищеварения, а что будет в 88? Страшно подумать. Но, по крайней мере, теперь у меня есть положительный пример. Ульяна Михална. Кто-то в толпе гостей во время церемонии прошептал: «На смерть венчают их». А если даже и так, то и пусть. И хорошо. Вдвоем не страшно. А одна добрая бабушка сказала там: «Да и нехай живуть. Правильно говорят: у дьвух и чаёк веселее попить». И она, друзья, совершенно права.
Перепелова
Национальные выпады
Бамбл-бамбл
Ицхак Абрамович Рабинович привёл в фотографическую студию трёхлетнего сына Давида, совершенного ангела с кудрями до плеч. Ангела, согласно канонам, ещё ни разу не стригли, а теперь пора. Давиду в студии сильно не понравилось. Он хныкал и хотел выщемиться наружу из этого неприятного места. Пришлось сразу стрелять из самого мощного орудия: вынуть из загашника большую китайскую зелёную жабу с курком, обмакнуть её мордой в мыльный раствор и нажать на спуск. Жаба открыла пасть, засияла глазами и стала блевать крупными радужными пузырями. Давидик опупел. Ицхак Абрамович, на ангела вовсе не похожий, а похожий на малость ненормального, не успевшего поседеть Йеллопукки, тоже опупел, залопотал что-то по-своему, часто повторяя «бамбл-бамбл», запрыгал у меня за спиною, и строчил пузырями, не переставая. Кричал: «Вот! Вот! Снимай его!». Давид тоже кричал не по-нашему, наверное, что-нибудь вроде «Папа! Забираем жабу и валим, а очкастый пусть отдупляется в одиночку». От крика и я опупел, и снимал, пока клиент не решил, что хватит. Долго рассматривал на мониторе результат, и несколько раз переспрашивал: триста?! Триста, отвечал я твёрдо, такая у нас цена. За один кадр?!! За один. А скидки? А скидок нету. От «скидок нету» Рабинович практически падал в обморок, но таки не упал, выбрал десять кадров и ушёл, приговаривая: три тысячи, а?! Жабу я им не отдал. Утром принёс отпечатки. — Ну, посмотрим, что там на три тысячи получилось, — сказал Ицхак Абрамыч, — Ва! А почему он всё время вверх смотрит? — Потому что наверху вы скачете и кричите «бамбл-бамбл». — Ну да, ну да… Три тысячи? — Три. Рабинович воздел глаза к потолку, как бы говоря: Ты видишь это?! И Ты это терпишь? — А, например, сколько будет за свадьбу? — Восемь. — Тысяч? — Тысяч. Чтобы воздеть глаза на восемь тысяч, пришлось задрать голову почти параллельно полу. Казалось, клиент упадёт под стол. Но Рабинович не упал, а только провожал меня скорбным цоканьем: ц-ц-ц-ц! Восемь?! И знаете что? Есть у меня сильное подозрение, что Ицхак Абрамыч — еврей. Восемь тысяч за свадьбу ему много. Посмотрел бы на него, когда бы он скакал с фотоаппаратом перед тремя дюжинами пьяных гопников с Мамоновки и кричал «бамбл-бамбл!»
Есть рекорд
Уже немалое время мы живём на улице Малозавальской — без дефиса. И где бы мы ни жили на улице Малозавальской, везде нас окружали плохие дороги. Мы даже, бывает, таксистов жалели, говорили им ночью: не-е, вы туда лучше не едьте, мы уж сами, пешочком, тут метров сто…
И вдруг в ноябре, совершенно внезапно, на нашу Малозавальскую без дефиса наскочили армяне с асфальтоукладчиками, и давай её асфальтировать.
Делали они свою работу крайне неприятно, даже чисто визуально: бегают с совковыми лопатами, быстро-быстро швыряют асфальт, тут же его укатывают, ни один на месте не топчется, при этом разговаривают друг с другом не по-русски, да ещё и музыку слушают неприятную, армянскую. И так три недели, в том числе и по ночам, чтобы время не терять. Чтобы сделать всё быстрее и заработать много денег. Корыстные, в плюс к тому, что армяне.
Но асфальт-то очень нужен, и мы, местные жители, их даже не прогоняли ни разу. Ходили молча, ждали, пока сами уедут. И дождались, однажды в одиннадцать ночи доклали последний, самый длинный прогон — метров полтораста, и свалили беспокоить других местных жителей.
А утром, аккурат в полдевятого, приехали наши на экскаваторе и прямо посерёдке самого длинного прогона немедленно стали ещё тёплый асфальт ковшом колупать, по нашему, по-росссиянски: один в ямке шевелится, а семеро на бровке сосредоточенно курят. Выколупали огроменную яму, и стало видно, что подо всем прогоном идут трубы. А параллельно трубам, но в них не заходя, течёт вода, довольно бурно. То есть, место прорыва покамест не нашли, и завтра ещё намерены рыть вверх по течению.
Зато наши не раздражали совершенно. Вели себя по-мужски, и сразу видно, что не корыстные. Хотя одна женщина с утра сильно кричала на них, даже плохими словами.
А я не стал, чего кричать-то.
Кстати, не подкинет ли кто-нибудь адрес российской книги рекордов? Всё-таки только девять часов асфальт пролежал. Наверняка рекорд.
Оскал капитализма
Наш приятель приехал на каникулы из Франции, и рассказывает о тамошней жизни всяческие ужасы. Например, уверяет, что по французскому телевидению по сорок раз на дню крутят социальную рекламу, убеждающую население а) съедать не менее пяти порций овощей в день, б) питаться четыре раза в день, и по часам: завтрак в восемь, полдник в двенадцать, обед во сколько-то там, файв-о-клок и ужин, например, в восемь.
Эге, пять раз получается… Ну, не важно, не о том речь.
Таким образом государство заботится о здоровье нации. Задалбывает с непривычки, конечно, страшно, но последствия ужасны: организм на рекламу реагирует и в двенадцать часов начинает беспокойно искать, чего пожрать, а если не дать ему именно пять порций овощей — затевает истерику. Зато предложение перекусить после восьми вечера воспринимается среднестатистическим французом примерно как призыв заняться быстрым сексом в переодевальной кабинке «Детского мира».
То есть противно, но работает.
Тут же родилась концепция социального ролика «спешиал фор Раша»:
Как бы раздевалка при фитнессцентре, но довольно обширная: несколько рядов шкапчиков, лавки, оброненные полотенца и проч. На лавке сидит единственный посетитель, очень хорошо одетый дядя в дублёнке от Хуго Босс (шьёт Хуго дублёнки, нет?), итальянском костюме с отливом (семнадцать тыщщ евро на глазок), английских туфлях ручной работы; галстук, меховая панамка — всё как положено. С собою у дяденьки обширнейший багаж: саквояжи, барсетки, кошёлки, чемодан на колёсиках (крокодилья кожа), и он всё это дело постоянно осматривает, открывает-закрывает, достаёт из внутренних карманов толстые лопатники с еврой, на швейцарские часики посматривает, и при этом интенсивно потеет на нервной почве.
В конце раздевалки открывается обшарпанная дверь, из неё выходит не то тренер, не то мясник с закатанными рукавами и произносит равнодушно: «Иванов, на выход». Дядя подскакивает, хватается сразу за всё и пытается всю эту поклажу волочь за собою. Тренер-мясник, как бы даже позёвывая: не-е, без вещей… Дядя роняет авоськи на пол и понуро, бочком, бочком, постоянно оглядываясь, двигается к выходу. Дверь распахивается, камера наезжает, а там — ад. Как в самых страшных снах.
Голос за кадром: «Не воруй! В ад попадёшь».
И так сорок раз на день, в течение десяти лет, периодически меняя сюжет.
При положительном раскладе должны-таки поменьше воровать. При отрицательном — народ перестанет смотреть телевизор, что тоже неплохо.
Цукер, практически белорус.
Да, скифы мы!
Началось с того, что мы поставили варить рис. Японский рис для суши в алюминиевой кастрюле. Разумеется, он слипся. Но это был тот редкий случай, когда так и должно было быть. Конечно, настоящие кулинарные лохи, как я, с легкостью могут любой рис сварить так, чтобы он слипся. Вернее даже, только так они и могут. Но осознание того, что у вас только что слипся воедино специально приспособленный для этого рис, добавляет жизни устойчивости и гармонии.
8 марта наша редакция совершила прорыв на Восток. Мы самостоятельно готовили суши. Нет, не на продажу, токмо услаждения живота своего для.
Почему суши? Если так вот совсем уж честно, то потому что Цукер, подвижный умом и острый на язык, придумал для этого мероприятия подходящее название. Мы отмечали День Японаматери. Кроме того, накануне некоторые из нас были в заведении, ели там ролы, запивали их соусом и каким-то, — каким — некоторые не помнят, — сухим вином, хохотали и домой пришли за полночь. Душа требовала повторить.
Так вот, началось с того, что мы поставили варить рис…
Он там себе гулко и утробно побулькивал, мы ждали. Это, если вы не знаете, очень ответственно — делать что-то впервые в жизни. Обязательно нужно, чтобы получилось хорошо, иначе все, кирдык, можно даже не повторять. Вот я свой первый в институте экзамен по МХК сдала на тройбан и дальше на учебу плюнула. И так во всём.
Да, мы поставили варить рис.
Чтобы его было куда заворачивать, Рудницкая привезла из столицы нори. Рудницкая одна среди всех нас уже имела опыт приготовления японских блюд. Поэтому мы её слушались. Кроме того, Москва вообще ментально ближе к Токио, чем Б-ск, а, стало быть, и Рудницкая ближе, чем мы. Нори можно было купить и здесь, но мы не знали, где. Особенно же мы не знали, где можно купить японских палочек. Не станет же серьёзный человек, почти европеец, есть суши ложкою. Боже упаси. Среди вариантов раздобыть палочки были: попросить в суши-баре за умеренную сумму, стащить в суши-баре бесплатно, настрогать из дерева. Но Рудницкая привезла из Москвы.
Конечно, литературный градус этого текста повысился бы в разы, если бы я сказала, что Рудницкая специально мчалась из Москвы, чтобы наделать нам ролов и снабдить палочками. Но у Рудницкой, как и у всей страны, был выходной. И она приехала повидать родню. А заодно и посвятить нас в тонкости восточной кухни.
И да, мы поставили варить рис.
Рис был для суши, нори для суши, соевый соус для суши и рыба системы «сёмга» слабосоленая, поэтому не для суши, но мы, знаете, ещё не столь сильны духом, чтоб жрать сырую рыбу и жить после этого.
Кроме рыбы были заготовлены креветки и самые настоящие японские огурцы агрофирмы «Культура».
Знаете, когда что-то закручиваешь колбаской, вспоминается давно забытое ощущение из детского сада, когда лепишь из пластилина. Я, по крайней мере, никогда после ничего не закручивала колбаской. Это очень увлекательно, очень. И непременно нужно сделать так, чтоб морская капуста закрутилась как бы поверх всего самого вкусного, чтобы сердцевина была белоснежная из-за риса и розоватая из-за рыбы, и чтоб ни в коем случае все это благолепие не нарушал хвост темно-зеленого цвета из нори. Это сложно, друзья! Это как если бы вы сами стали делать себе эпиляцию на глубоком бикини, только чуть проще. И совсем не больно.
Мы поставили варить рис, и одновременно напекли блинов, чтобы наименее пострадать от японского кулинарного минимализма. Ведь даже соседи-китайцы говорят, что чтобы почувствовать вкус изюма необязательно съесть килограмм, достаточно всего двух ягод. И мы не станем спорить с китайскими мудрецами, они абсолютно правы, двух изюминок достаточно, правда, прежде надо немножечко подкрепиться. Тем более блины — это такие как будто бы роллы а-ля рюс.
Вы помните, да, сначала мы поставили варить рис. А в самом конце мы сели есть то, что получилось.
Не знаю, как справляются японцы, но им совершенно точно сложнее. Потому что, как выяснилось, японские блюда совершенно обязательно употреблять в русской компании. Ну, как русской… Относительно. Потому что сами японцы совершенно точно не умеют так уморительно громко ржать, как Цукер, так вкусно кушать, как Бочарова, так тихонько-тихонько разговаривать о чем-нибудь всем интересном, как Рудницкая, так по-детски за чистую монету воспринимать любую информацию, как моя мама, так кстати рассказывать поучительные смешные истории, как мама Петренки, и так отменно хаять все вокруг, включая еду, Цукера и японского премьер-министра, как мой муж.
Еще когда мы поставили варить рис, мой муж в глубине души понимал, что происходящее вряд ли его обрадует. Поэтому, как только гости ушли, сварил себе пакет пельменей «Медвежье ушко» для душевного равновесия.
Всем остальным же страшно понравилось отмечать День Японаматери, коим теперь решено считать всякое 8 марта.
Петренко (ж)
3+2
Нижний Новгород-Б-ск. Путешествие из детского дома в нормальную жизнь
— Почему сразу двоих-то? У тебя же есть уже трое.
— Я не люблю четные числа.
Смеемся. Мы едем с Олесей в поезде Б-ск-Москва в Нижний Новгород забирать из детского дома двух девочек. Я еду просто помогать. Одной такая задача не под силу. Дома у Олеси в это время Маша, Тимур и Вадим ждут внезапных сестер. Вернее, ждут только Маша и Тимур, Вадим еще пока сам всего два года как из детского дома. Он еще маленький и не особо вникает, что там за сестры, сколько их и зачем.
***
— Я как-то так прикинула, что на пятерых меня должно хватить. Получается так, что детей растить, учить и воспитывать я умею лучше всего. Мне это интересно.
Старшая Олесина дочь, Маша, закончила шестой класс с двумя четверками. Сейчас она учится в седьмом. Ей 11 лет. Она прочитала уже больше пяти сотен книг и не останавливается. Нет, она не вундеркинд. Она просто очень любопытная. И всякий раз, когда у нее возникают вопросы, Олеся на них отвечает. Таким плодотворным общением в режиме вопросов и ответов они в 5 лет обнаружили, что программа первых классов пройдена дома сама собой. Машу взяли сразу во второй класс. Взяли бы и в третий, но в 5 лет в третьем классе она бы вызывала массу вопросов у тетенек из РОНО. И если уже успело сложиться впечатление, что Маша «заучка» и «ботан», то оно неверное! Однажды, например, перед тем как пойти в школе на прививку, она написала шутливое завещание. Боится ребенок уколов! Но учительница вызвала Олесю в школу и велела внимательно следить за девочкой. А Олеся не сдержалась, спросила, почему Маша не включила в завещание братьев, подумала только про папу и маму. С чувством юмора там все в порядке, да. И озорства на четверых! Говорю же, просто очень любознательная.
***
— Вот смотри, всё очень ладненько складывается. Маша, Тимур и Галя — будут ходить в школу, Вадимка — в садик. А со мной дома только Кристина. Пятеро детей — это не так страшно, как кажется.
Когда мы брали Вадимку, было очень страшно. Но и не забрать его было нельзя. Маленький, ростом всего 74 сантиметра для своих полутора лет, испуганный мальчик. Но за два года дома Вадим «отогрелся» и догнал в росте и весе своих ровесников. А главное — стал ласковым и весёлым ребёнком, любимцем всей семьи. Надеюсь, с девочками тоже все хорошо сложится.
Девочки, за которыми мы едем, живут в разных детских домах Нижнего Новгорода. Кристине год и три месяца. Она родилась 26-недельной, весом в полтора килограмма. Мать отказалась от нее сразу же после родов. С тех пор от нее никаких известий. Как выглядит ребенок весом в полтора килограмма, даже страшно гуглить, но сейчас невозможно себе представить, как кто-то мог отказаться от такой красоты.
— Фотографии в базе данных в интернете вообще не передают ничего. Кристина там, например, запелёнатая с головы до ног, один нос виден. А когда я ее увидела вживую, первая мысль была — неужели мне отдадут этого ребёнка?! Ну, чем я заслужила такую красавицу! Влюбилась в неё по уши!
У Гали другая история. Ей 8 лет. В 2 года умерла мама, а других родственников не было, поэтому 6 лет она живет в детском доме.
— Галю очень хвалят воспитатели, но мы с мужем долго думали, справимся ли с таким большим ребёнком. Ведь часто у детей, которые почти всю жизнь провели в детском доме, возникает расстройство привязанности. Представь: дети с рождения лежат в манежах, перед ними, как в калейдоскопе, мелькают воспитатели, няньки, медсестры. А ведь любому ребёнку жизненно необходим свой собственный взрослый, который подходит к нему, когда он плачет, который берёт на руки, который разговаривает с ним. И если такого взрослого нет, ребёнок может так и не научиться устанавливать длительные отношения с кем-либо. И исправить эту ситуацию через много лет — очень сложно. Но мы решили рискнуть. Очень жалко девочку. Совсем недавно ей исполнилось восемь лет, а значит, из дошкольного детского дома её переведут в интернат, скорее всего коррекционный. А так — пойдёт в первый класс с моим Тимуром, в обычную школу.
***
Дорога у нас впереди длинная. Сперва мы доедем до Москвы, потом сядем на другой поезд и поедем до Нижнего. А там еще до пригородов добраться. Так что наговориться время есть.
— А почему в коррекционный интернат?
— Скорее всего, обычная педзапущенность. В детских домах мало детей, которые могли бы справиться с программой обычной школы. Почти у каждого за плечами своя история, часто трагическая, разлука с родителями или родными. Откуда тут взяться любознательности. Ты даже не представляешь, как в детском доме диагнозы ставят! Вот с Кристиной, например. Год и три ребенку. Ты представляешь себе ребенка в год и три месяца? Что он умеет? Так вот у Кристины в медицинской карте стоит отставание речевого развития 5-ой степени! Я сперва думала, может, она немая. Нет, гулит, лопочет что-то, на имя своё откликается. Стихов не декламирует, врать не буду. Но я чего-то и за своими в год и три стихов не припомню. Думаю, как же так? Как вообще можно поставить ребенку такого возраста отставание речевого развития? Это ж как-то проверить нужно. Она должна повторить за врачом слово «крепдешин», или как? Думаю, все дело в том, что в кристинином доме ребенка целых два логопеда. Вот и работают на результат. С Галей не знаю еще, как сложится. Никаких очевидных причин, которые заставили бы меня поверить в необходимость коррекционной школы, я не заметила.
***
Мы приехали в Москву. У нас пять позиций — говорит Олеся. Смеемся и пересчитываем: коляска, два рюкзака с вещами для девочек, сумка-холодильник и мой рюкзак с фотоаппаратом. Прямо скажем, дофига! Это мы еще не знаем, как умножатся все наши «позиции» на обратном пути. Пока мы переезжаем с вокзала на вокзал, жуем какие-то бутерброды, сидя у фонтана в ожидании поезда, и размышляем, как бы так все успеть за один день. А успеть все за один день совершенно нереально. Наша авантюра заведомо провальная. Поезда из Нижнего Новгорода до Москвы идут так, что если мы не уедем из города в 16.30, то потом мы будем всю ночь куковать на вокзале в Москве, потому что нечем будет уехать в Б-ск. Но мы не расстраиваемся. Накануне поездки написали всяким благотворительным группам в Нижнем, в надежде заполучить какого-нибудь волонтера на машине, готового за умеренные деньги нас повозить. Волонтер нашелся в последний момент. Он прислал смс, когда мы уже были в Москве. Смс состояло из двух слов. «Куда? К скольки?»
Вы когда-нибудь видели живого волонтера, готового возить двух барышень с «пятью позициями» целый день по жаре, ждать их часами возле детского дома, потом слушать у себя в машине детский плач и постоянные вопросы «Мам, а это что? А это что?» Мы если и представляли его как-то, то непременно с нимбом над головой. Реальность превзошла все ожидания.
«Синяя Нива с восклицательным знаком. Я в шортах», — сказал телефон. Нива была синяя. Восклицательный знак был размером с половину лобового стекла. И наш помощник действительно был в шортах. Это важно! Еще он был с усами, в шлепках и с печатью социофоба на лице. Как его зовут, мы узнали часа через полтора гробового молчания. И то случайно, когда ему позвонила мама, а телефон в режиме навигатора был включен на громкую связь. Павел был угрюм, строг и крайне неуверенно чувствовал себя за рулем. Разговаривать он не хотел. Ни о чем. Спрашивал — куда ехать? — и молча давил на газ.
***
Кристину нам отдали быстро и легко. Переодели во все привезенное, напутствовали соблюдать режим и пожелали счастливого пути. И несмотря на то, что ни время, ни Павел в усах не способствовали долгому и обстоятельному мимими, мы не могли налюбоваться, какой же невероятный красоты ребенок внезапно оказался с нами в синей Ниве с восклицательным знаком.
С Галей вышло немного сложней. Но было бы странно, если б за всю поездку нам не довелось бы ни разу встретиться с Системой. Это была бы какая-то непозволительная роскошь. В половину первого у Системы был обед. И документы, которые нужны были, чтоб нам отдали ребенка, Система готова была выдать только после обеда. Ровно в час. И ни 32-градусная жара, ни маленький ребенок в коляске, ни разговоры о том, что у нас поезд и если мы на него опоздаем, то придется спать на вокзале, Систему не интересовали. Она обедала.
Это удивительно, — рассказывает Олеся, пока мы прячемся от жары под кустом возле администрации и отдела опеки, — насколько неохотно детей отдают в семью. Бывают случаи, что за детей приходится бороться, буквально выцарапывая их из системы. Далеко не у всех кандидатов хватает на это сил.
До того, как мы узнали про девочек из Нижнего Новгорода, нам очень понравились брат и сестра из Ленобласти, у которых умерла мама, и больше из родных никого не было. Мы позвонили в опеку, договорились о том, что приедем познакомиться. Прямо отказать нам не могли, но потребовали сделать дополнительные справки. Когда мы справились с этим заданием и уже купили билеты на поезд, оператор перезвонила мне и сказала, чтобы мы не приезжали. Мол, внезапно у детей нашлись родственники, которые их забирают. Проверить, правда это или нет — невозможно. Я спросила, можно ли ещё с кем-то познакомиться, но мне ответили, что в Ленобласти детей для нас нет. Прошло уже три месяца с тех пор, а те брат и сестра всё ещё в детском доме.
А мы снова стали обзванивать опеки всех ближайших городов и почти везде нам отвечали: «детей нет». Или уже забрали, или родители вот-вот выйдут из тюрьмы, или ребёнок с тяжёлой инвалидностью. Если бы мы были новичками в этой теме, мы бы поверили и просто опустили руки. Но мы твёрдо знали, что детские дома переполнены и детей хватит на всех. Нужно только не отчаиваться и продолжать искать.
***
Обед тем временем закончился, мы забрали документы и поехали за Галей. Галя выпорхнула на улицу нарядная, в белых гольфах, с распущенными волосами и очень возбужденная, будто выпускница после последнего звонка. Всех вокруг она называла «мама» и на «вы», как приучили в детском доме. До последнего не верила, что все происходит на самом деле, сто раз переспрашивала, правда ли мы едем домой навсегда и больше никогда сюда не вернемся. Для Гали все было незнакомо и непривычно. Она боялась спускаться по лестницам, боялась всех проходящих мимо собак и кошек, боялась заходить в поезд. Начнем с того, что в поезде Галя ехала впервые. Да что там поезд, она впервые ужинала бутербродами с соком, а не тушеной рыбой с пюре. А в Москве, когда мы ехали в такси с одного вокзала на другой, Галя увидела высотку МИДа и восторженно прошептала: «Мама, смотри! Настоящий замок!».
Это вообще удивительный опыт — оказаться рядом с человеком, который за 8 лет своей жизни не видел и не знает и сотой доли того, что знают и видели обычные дети в этом возрасте. Она не знала, что все дети рождаются из живота своих мам, что каждый человек проходит определённые этапы взросления: девочка вырастает в девушку, становится женщиной и бабушкой. Ей казалось, что это просто такие разные люди, кто-то девочка, а кто-то бабушка. Она никогда не видела холодильника, удивлялась, что сырые яйца жидкие, а чай заваривается из листиков, боялась есть пельмени, вскрикивала, когда на плите зажигали огонь. Она спрашивала, придет ли сегодня вечером папа с «черной грудью». Ребенок в детском доме вообще практически не видит мужчин, а чтобы они еще ходили в жару без футболки, как папа по дому, об этом и говорить нечего.
Папа! Это понятие в детском доме отсутствует вообще. Если мамой дети там называют всех взрослых женщин, то о существовании пап некоторые даже не догадываются. А у Кристины с Галей теперь будет папа. Самый настоящий. Папа Саша. Это еще одни счастливый билет, который вытащили девочки, сами того не подозревая.
Но все эти стороны другой жизни Галя и Кристина откроют уже по приезде. Пока же мы распрощались с нашим волонтером с нимбом и усами и оказались у окошка кассы вокзала Нижнего Новгорода.
***
Там мы поставили в тупик билетершу четырьмя разными фамилиями на четверых. Олеся объяснила ситуацию, забрала билеты. Взмыленные, с отрывающимися от тяжести руками, мы вбежали в вагон за 5 минут до отправления. Само то, что мы успели на нужный поезд, было чудом из чудес. Но это было еще не все. Вслед за нами в вагон вошла женщина, стоявшая с нами в одной очереди за билетами. Ей вообще не нужно было в этот поезд, но она услышала олесино объяснение про девочек из детского дома, нашла нас и протянула тысячу, пожелав Олесе сил и здоровья. Силы, здоровье и тысяча были нам в тот момент необходимы больше всего на свете. Силы и здоровье с такими неподъемными сумками очевидно зачем, а тысяча — на такси от вокзала до вокзала в Москве, потому что путешествие в метро мы могли уже не пережить.
В Москве чудеса продолжились. На Киевском вокзале, у самого входа нас поджидал человек. Он практически выхватил наши сумки, спросил «Вам же в Б-ск? Сдавайте билеты, у меня купе свободны, я вам продам дешевле плацкарта». И окольными путями повлек нас за собой. Так мы оказались в купе поезда Москва-Одесса. Да не в новом, безликом и комфортабельном, а в старом купе с плюшевыми диванами, с открывающимися настежь окнами и ни с чем не сравнимым железнодорожным запахом. За окном проносились поля цветущего люпина. Начиналось лето. Обе девочки уснули мгновенно, едва почувствовав под собой плоскость. Никто из них, ни младшая, ни старшая, еще толком ничего не поняли. Удивительно, что в обычном купе поезда Москва-Одесса можно ехать не только в другой город, но и в другую жизнь.
P.S. Прошло уже полгода с тех пор, как девочки дома. У них все хорошо. Кристина хорошо кушает и крепко спит, как обычный домашний ребёнок. Галя каждый день открывает для себя мир. Играет с братьями и сёстрами. Научилась читать и писать. Вполне успешно осваивает программу первого класса. Счастлива, что ей прокололи уши и купили детский блеск для губ. С удивлением узнала, что можно купаться в ванне с пеной и одновременно есть принесенные мамой бутерброды. И каждый вечер засыпает только после того, как мама поцелует её и пожелает спокойной ночи. В общем, обычная жизнь у детей!
Петренко (ж)
Любовь, комсомол и змея
Мы жили дружно. Весь наш блок в общаге. Несмотря на то, что компания была совсем интернациональная. Три русских, три украинца, анголец Шиванга, никарагуанец Нестор, чеченец Гаджибек, руандец Силас, колумбиец Герман и совсем уж неожиданные в нашем мужском царстве биологов две полячки-филологини Дорота и Магда. Секрет нашей дружбы прост — пили вместе. И если учитывать простые мелочи (Нестору не наливать много, у Силаса после ста офигенно краснели белки глаз, а Гаджибек любит сало, но не надо к нему по этому поводу дорываться) все было естественно и мирно. Главной звездой блока был Толя. Толя был биолог от Бога. Полевой. Даррелл и Брем в одном лице. Ловил животных по всему миру. Какого-то хитрого ушастого ежа месяц выслеживал в Приазовье, ночуя на голой земле в степи. Уже семь лет учился на втором курсе, но был для факультета важнее замдекана.
Так вот, у Толика всегда было полно разных тварей. То он головастиков каких-то редких припер с Суматры, то перепела какого-то канадского завел. С перепелом отдельная история. Все это бегало по блоку, размножалось, гадило, но Толю все любили и животный мир терпели. Тем более, что хозяин мини-вселенной имел на гадах твердый заработок, который пропивался всем миром. А еще в двухе Германа жила Наташа. Герман был колумбийским коммунистом из Сендеро Луминозо, террористом и боевиком. Прибавьте внешность инкского принца — ну офигенно романтический образ. Барышни таяли на третьей минуте. Но Герман был улыбчив и одинок. Пока не привез с практики Наташу. Наташа была девушкой трудной судьбы. Он отбил ее в ростовском кабаке от каких-то страшных армян. И влюбился. Честно говоря, было во что. Глаза типа блюдца с голубикой, фигурка художественной гимнастки, съевшей два лишних пирожных, волосы до попы, попа божественная, как небо над Краснодаром в мае. А самое главное — русская женщина. Со всеми своими прибабахами, но и с полным пониманием человека, с которым живет. Врубившись, что судьба послала ей за горести и разочарования юности принца с калашом, Наташа бросила попадать в истории и за месяц научилась стирать, готовить и улыбаться, как счастливая женщина.
Со стирки все и началось. Я пришел с лекций. Наташа стирала в сортир-блоке и помахала мне приветственно мокрыми трусами борца за социальную справедливость. Я отсалютовал прической и проследовал в свои покои, где пятикурсники Андрюха и Серега уже меня заждались, поелику я должен был прикупить каспийской тарани. А за пивом на Семена они уже съездили. Сидим, значит, пьем пиво, едим лучшую в мире рыбку, говорим о Бердяеве и дамах. Одновременно, естественно. Заходит Толик. Молча берет канистру, наливает себе банку пива, выпивает и говорит так спокойно: — Пацаны, я вчера кобру королевскую принес. — О, покажи. — Она сбежала. Видели, как синхронно подпрыгивают три мужика? Очень смешно. Только мы не просто подпрыгнули, но и зависли в воздухе. Вингардиум Левиоса, как говорил некий Поттер через много лет. Кобра — это кобра. Это укус и до свиданья, родное село. Толик, между тем, пришел с предложением. — Пошли ловить. — Пошел ты! — Пять бутылок «Витязя». «Витязь» был омерзительнее жизни русского рабочего перед пролетарской революцией, но пять бутылок — это пять бутылок. Мы пошли. Но ушли недалеко.
Она кричала так, как будто увидела на балконе общаги королевскую кобру. Так, в целом, оно и было. Наташа вышла развесить для просушки портки Германа. Заодно пришлось стирать и свои. Кобра тоже испугалась Наташу. Наташа ходила в очках и змеюка, вероятно, приняла ее за выдающуюся особь своего вида. Старшую по серпентарию. Наташа помчалась в сторону жизни и спасения, то есть к комнате Германа. Змея благоразумно не стала ее преследовать, а лентой потекла по лестнице вниз. Три обморока, скандал с комендантшей, который Толик замял при помощи секса с этой старой некрасивой представительницей власти, фингал под глазом змеевода авторства железной руки Германа и упущенная прибыль от непродажи змеи. Плюс наши пять бутылок. Через пару дней мы с Наташей синхронно жарили картофан на кухне. — Ну что, Нат, отошла? — Ты знаешь, он меня так обнял, когда я в комнату влетела, что я поняла — любит он меня. Они женились летом и уехали в Перу. Надеюсь, она счастлива. И если и случаются разлады в их партизанской семье, то шальные анаконды исправляют положение своим неожиданным появлением.
***
После истории с коброй Толик, Ловец Зверья, немного угомонился, и мы вздохнули свободнее. Но неожиданно в сломанные двери нашего блока постучалась война. Короче, сели мы пить ящик водки. Сам по себе ящик — вещь небольшая. Но вот вобла… Ее можно с водкой, но кошеру в этом нет никакого. Поэтому еще и пиво. И вот в этот святой момент победы и тризны мы упустили Толика. Толик принес маленькую птичку. Какая-то то ли североамериканская, то ли южноамериканская дрянь, представленная нам как перепел. Маленькая, серенькая и заискивающе улыбающаяся во весь клюв. Мы согласились, что это не кобра и нехай живет. Тем более, что за нее какой-то маньяк-орнитолог платил Толику 500 рублей, но сам отсуствовал, будучи в какой-то командировке. И бедной птичке нужно было дождаться своего будущего хозяина. Короче, все познакомились с Яшей (так нарекли перепела за хитрый и вороватый взгляд) и отправились спать или кто на что горазд. Я проснулся оттого, что кто-то бил меня раскаленной кувалдой по плохо оттрепанируемой голове. «Фигассе, похмелье», — подумал я и ошибся. Уже через тридцать секунд я понял, что ад в голове вызван исключительно звуковой компонентой. Это кричал Яша. В комнате у Толика было вообще невыносимо. Гаджи лежал под тулупом Толи и стонал, а сам Зверолов метался из угла в угол с крайне бледным лицом. — Толя, вы напоили Яшу? — Да какой там напоили. У него брачный период начался. Он самку ищет. — И долго у него этот период? — По учебнику — две-три недели. — А ближайшая самка? — За океаном. — … Я начал ходить на пары, а после них в библиотеку. А после библиотеки в кино. А после кино еще два часа катался на ночных троллейбусах. Пацаны жили в наушниках, но не помогало. В тщедушном теле Яши скрывался резонатор гигантской мощи. И Яша не отдыхал. Раз в десять секунд он орал, как потерпевший на Благбазе. Не помогало ничего. И мы сделали самое мудрое. Мы привыкли. Пятьсот рублей маячили перед нами бесконечной чередой выпивок и закусок. Надо было терпеть. Тем временем весна стала теплой и нежной. В один прекрасный день мы под безумный рык Яши пили пиво и играли в преф. Окно было открыто. Студгородок пиликал магнитофонами Маяк, стучал мячами на волейбольной площадке, ругался и пел на нескольких десятках языков. Над всем этим витал безумный вопль нашего мелкотелого мачо. И вдруг раздался совсем другой звук. Из окна соседней общаги (какого-то техникума повышения руководящих кадров до уровня небожителей) какой-то мужчина пальнул в наше окно из дробовика. Гаджи опомнился первым. Он аккуратно прикрыл окно, взял Толика за лицо и сказал — Толян, ты мой брат, но пойди и выпусти его. — А пятьсот рублей? — Деньги не главное. Главное — жизнь. Сколько живу на белом свете, а слова эти никогда не забываю. А Яшу Толик поместил в изолятор общежития на первом этаже. И там птичка дождалась хозяина, а блок получил свои законные пятьдесят рублей на пропой и разврат, да еще каждый подзанял у Толика десятку-другую. Потому что жизнь — это главное, но жизнь без денег — все же нисходящая кривая, как график успеваемости во втором семестре.
Смирнов
Хрен вам
Всё-таки русский язык удивительно богат на интонации.
Тут недавно в блогах вывесили фотографию демонстрантов с транспарантом «Хрен вам!»…
…там не «хрен» написано, но смысл примерно такой…
…и все, кто бы на этот транспарант ни взглянул, 1) немедленно и безошибочно понимают, кому этот хрен адресован 2) готовы подписаться под каждым словом. Некоторые даже выражают желание пройтись с таким транспарантом по улицам, но тут непременно нужно помнить: те, кому вы шлёте этот многолетний корешок семейства крестоцветных, тоже всё поймут и… в общем, лучше не надо.
С одной стороны, обидно, что всё именно так, а не иначе, ибо получатели хрена в любой момент могут прийти и забрать всё: пельмени из кастрюли, паспорт, свадебный галстук, и даже жизнь.
С другой, как показывает отечественная история, поделать с этим ничего нельзя. Ну невозможно запретить им объявлять горячие и холодные войны, ссать в подворотнях и врать в телевизорах. Остаётся надеяться, что не придут, потому что пельмени им надоели ещё с общаги, паспорт просрочен, галстук завязывать не умеют, а жизнь… ну да, жизнь, да. Надеяться, верить, Верить, шевелить губами, опершись виском о прохладное стекло маршрутки, и пусть все думают, что это у вас блютус в ухе.
И тогда обнаружится: возле кинотеатра «Родина» слева, если стоять лицом ко входу, растут грецкий орех, шелковица, она же тутовник, и ирга. С грецким орехом всё понятно, зато тутовник — это для средней полосы России ненормально. Но факт налицо — взрослое дерево, на дереве пацаны с перемазанными губами, под деревом кляксы, как в южном городе детства. Очень расточительная ягода, ни в какие заготовки не годна, есть её можно только свежесобранную.
Иргу здесь почему-то никто не знает. В соседней Белоруссии она растёт у каждой избы; очень популярна из ирги наливка: пересыпать сахаром 1:1, ёмкость поставить в тёплое место, через три недели готово к употреблению. Бабушка ставила бутылки на подоконник, между оконных стёкол лежала пыльная жёлтая вата, а на вате… на вате тоже что-то лежало, связанное с Новым годом, быть может, треснувшая ёлочная игрушка… или оранжевый кусок канифоли, похожей на янтарь? Наливкой старушка угощала подруг, мы же втихаря отливали в столовую ложку и слизывали аккуратно, опасаясь опьянения. Но в наливке было от силы градусов пять, и никакого опьянения не случалось.
Из зелёных грецких орехов мама варила варенье, и, сказать честно, оно у неё никогда не выходило. Но сейчас, особенно зимою, этого варенья можно бы и навернуть с белым хлебом — цвета нефти, с кусочками непроваренных скорлупок, которые следует аккуратно сплёвывать на край тарелки, зато проваренная кожура имеет такой… своеобразный вкус… пожалуй, да, зимою можно бы и съесть полбанки, особенно с чаем.
Нужно будет посадить и орех, и тутовник, и иргу возле дома, и готовить из них чего-нибудь. Жалко, из тутовника не готовят. Ну, пусть тогда просто пацаны сидят на дереве, и чтобы морды перемазанные.
Некоторые скажут: устроили себе Миргород. Скажут: фи.
Мы в ответ выставим в окне транспарантик. И вы в курсе, что на нём будет написано.
Цукер
Глаз пристрелямши
Летом единственную в городе шелковицу возле кинотеатра «Родина» спилили. Не совсем единственную, осталась ещё одна в ботаническом саду. Но тут прямо на тротуар сыпались в июне жирные тёмно-красные ягоды, которые собираешь в горсть и ешь, и ещё, и ещё, пока губы не станут иссиня-чёрными, и тогда уж можно идти по своим делам с чувством лета, набившего тебя изнутри, как повидло набивает конфету «Подушечка сахарная» согласно ГОСТ 51074.
Срубили. Клали плитку, могли бы и обойти сторонкой, или обложить вокруг, но… кому есть дело до дурацкой шелковицы, когда в 2012 — конец света, а семнадцатого сентября — праздник города? Да и не знали, небось, чего рубят, дерево и дерево. Обижаться особенно не на кого.
Но… на свете и так не очень-то много удивительных и прекрасных штуковин, и зачем же тюкать по ним с размаху топором? Если для кого-то южное дерево посреди нечерноземной полосы — не диво, то извините, у нас с кем-то разные представления об удивительном. Пусть кто-то идёт себе и гуляет по плитке, а другим оставит возможность гулять, чтоб кудри виноградных лоз вились, красуясь меж дерев, прозрачной зеленью листов; и грозды полные на них, серег подобье дорогих, висели пышно. Чувствуете разницу? Мы с Михал Юрьичем чувствуем.
…Ой. Мы что — брюзжим? Больше не будем, нет. В конце концов, пристрелямши глаз, человек то и дело натыкается на всякие чудесные штуковины, как гусар на хозяйскую дочь в тёмной гостиной, и как только одна из штуковин делается утеряна, следует немедленно оглядеться в поисках двух других на замену. Если вы сейчас собираетесь сказать «ай, да не дурите мне головы (гхалавы)!», то сами вы брюзжите, нелепый человек с насморком. Тренироваться надо, глаз пристреливать, ибо в этих играх кто участник, тот и чемпион.
В помощь начинающим хорошо бы соорудить из города, не побоимся этих слов, постояннодействующий интерактивный перфоманс. Не в том смысле слова, чтобы бегать на четвереньках голышом, в ошейнике и лаять на прохожих, не-не-не. Начать с простого и проверенного временем: вот есть бульвар Гагарина, да? Сам по себе хорош, но малолюден, ибо делать на этом бульваре особенно нечего. Третий год на газонах бульвара кто-то настырный пытается вырастить металлические канделябры с пластмассовыми горшками, из которых торчит ботва. Третий год кто-то удалой разбивает эти горшки ногами, и правильно делает, потому что — а как не разбить, если нога достаёт? Так может, ну их, канделябры-то? Давайте для затравки посадим одно железное дерево, на которое молодожёны тут же примутся вешать свои заповедные замки, как на каком-то столичном моcту, где однажды поставили пяток таких деревьев, через год они сделались кудрявыми от цветного металла, и теперь, говорят, металлический сад побежал по набережной Москва-реки. Попса? Ну и ладно, зато весело, и толпы народа, читающего гравировку на замках, и по выходным белым бело от невест — движняк, лепота.
Потом, значит, можно установить в сквере Тютчева, под фонарём, чугунную фигуру влюблённого: в правой руке букет, на запястье левой — электронные часы под толстым антивандальским стеклом, но работающие, подходи, смотри время. Можно пустить слух, что та, которая, подкравшись со спины, ровно в полночь закроет ему ладошками глаза, в течение года выйдет замуж. Закрыла, сфотографировалась и подарила тому, от которого бьётся сердце — как хочешь, так и понимай. А? Что? Это вам не на фоне Кургана фотографироваться «привет из Б-ска».
В арке за аптекой №1, за милицейской будкой, непременно нужен чугунный же фонтанчик «Писающий мужик», там есть специальное местечко за бетонной балкой. А возле самой будки охраны правопорядка — спящий алкоголик, пусть даже и деревянный.
Дальше как получится. Тут главное начать. Ведь хочется чего? Хочется ещё немножко поводов любить этот город. Хочется идти по бульвару, и чтобы дети собирали каштаны, и солнце сквозь жёлтые листья, в одной руке палочка, в другой — локоток, и говорить: а помнишь?.. а ведь не зря… только вот этих деревьев тогда ещё не было… но всё равно было неплохо, да?.. но сейчас, конечно, город расцвёл, да?.. быть может, мороженого, грамм по семьдесят?.. с шоколадной крошкой?.. а я, пожалуй, с орешками… только тс-с, только тщщщ, только не торопись… нет-нет, не ноет, просто хочется ещё погулять… да… да…
Цукер
Праздники
Перебирала старое, нашла ежедневник за 96 год. 14 лет. Какие-то доклады по истории, неразрешимые теперь, как ни бейся, математические уравнения, стихи про «вы помните, вы все, конечно, помните», опять доклады, сдать деньги на проездной, исправить четвёрку по алгебре, в общем, ничего личного. В начале там календарь, в нём зелёной ручкой кружочки 16 сентября, 19 марта, 17 октября — мой, мамин да папин дни рождения, как будто их когда-то забудешь. 11 декабря — не помню что, наверное, какая-то единственная-на-всю-жизнь-любовь или день рождения классной дамы. Новый год, 8 марта, 23 февраля.
В школе почему-то эти 8 марта и 23 февраля были гораздо значимее, чем теперь. Тогда надо было непременно скинуться всем гуртом и купить пацанам на 340 рублей — или какие в нашей стране тогда водились деньги — на базаре мягких игрушек — вот потеха. Или кружек с дебильными надписями. Но хоть так.
Пацанам всегда было труднее, потому что на десять девчонок ни хрена даже не 9 ребят, а в лучшем случае три с половиной. Потому 8 марта ознаменовывалось открыткой с надписью: «Анечке с пожеланиями здоровья и счастья от мальчиков 3—11 „А“ класса включительно». Иногда открытки носили более персонифицированный характер, но так чтобы без открыток — так не было. А столько удовольствия, сколько доставляла дискотека в школьной рекреации, проводимая обычно числа 15 и посвящённая сразу двум праздникам, один из которых уже неделю как прошёл, а второй ещё неделю как не начнется, не доставляло вообще ничего.
Сейчас всё по-другому. У меня. Может, у вас всё, как было, я не знаю. Муж считает, что 8 марта — это не праздник, а 23 февраля, может, и праздник, но уж точно не его. У меня как-то не поворачивается язык его переубеждать. Хотя бы потому, что когда мне было лет восемнадцать, а ему двадцать семь, мы ещё не были мужем и женой, но нечто гендерное между нами уже сквозило, я подарила ему на 23 февраля мягкую китайскую игрушку неизвестной видовой принадлежности и галстук. И даже после этого он на мне женился.
А прежде, чем подумать про праздничный февраль, я вспомнила наш январь. Мы три ночи подряд сидели перед телевизором, смотрели 14 серий фильма Ликвидация, а в перерывах между сериями муж ходил курить, я стояла на пороге, мы пылко рассуждали, кто предатель, доктор или Пореченков, или, может, Довжик, хотя нет, вряд ли. Три ночи абсолютно синхронно существовали мы в послевоенной Одессе. Вместе. Потом как-то вечером он читал мне вслух «Скрипку Ротшильда» и ещё всякого Чехова, а я смеялась и думала о важном. Ещё в январе мы ходили в хороший ресторан. Очень хороший, даже странно. Ели там без меры, разговаривали о мелочах и потом нам даже спели песню про все-в-твоих-руках, что было бы пошло, если бы за деньги, а так приятно, потому что знакомые и бесплатно.
И вот ещё что. Весь январь каждый понедельник и четверг, если не проспим, мы ходим в детский центр развлекать девочку Машу. Так вот, девочка Маша там единственная, кто ходит вместе с мамой и папой, все остальные ходят только с мамами. А!
Поругались мы за январь единожды, потому что что-то там не поделили, и он мне сказал «иди ты в жопу», а я обиделась.
Он, наверное, подарит мне что-нибудь 8 марта, а я возьму у него денег и тоже что-нибудь подарю на 23 февраля. Но всё-таки у нас другие праздники.
Я люблю тебя, муж.
Петренко (ж)
Сплошные чуда
Учитывая, что зима была волшебной, а весна — идеальной, можно надеяться на умеренно жаркое лето, кратковременные дожди, льющие исключительно по ночам, не считая нескольких грибных с радугой — на закате, и нескольких скоротечных гроз воскресным утром, часов до восьми, максимум до полдевятого.
Идеальная осень уже случилась в прошлом году, и снова надеяться на оранжевый ковёр под ногами и ясное небо над головою было бы наглостью. Впрочем, если хорошо получилось, почему бы и не повторить? Но нет, нет, мы не настаиваем… так просто, размышляем вслух…
Если же и грибы уродятся четвёртый год подряд — то непонятно, что и думать. Вроде, ничего такого не делали, как жили одним днём, так и живём. Вот разве — Володину подарили пароварку, и мы теперь целыми днями коллективно едим пареное, диетическое, легкоусвояемое, отчего стали чувствительны к музыке, фильмам и стареньким родителям.
А ещё Воробьёвы ввели семейный мораторий на критику окружающей действительности. Действительность, как и прежде, предоставляет множество поводов, но опытным вдруг путём нащупалась закономерность: сначала критикуешь действительность, потом переходишь на личности, потом личности кончаются, и переходишь друг на друга. Объявили мораторий. С непривычки в доме воцарилась тишина, прерываемая просьбами вскипятить чайку, зато в наступившей паузе появилась потребность смотреть в лицо собеседнику — нужно же как-то общаться. Короче, долго рассказывать, а если самую суть: Воробьёвым понравилось.
Но, во-первых, вышеперечисленное случилось буквально на днях, когда идеальные времена года уже состоялись, во-вторых, не может такого быть, чтобы за одну володинскую пароварку и воробьёвский мораторий подфартило прямо таки всем, включая посёлок Супонево. Нужно брать шире и копать глубже. Быть может, безупречное поведение природы выдано нам заимообразно? Не в укоризну, типа: «мы вам такие погоды устраиваем, а вы?..», но в качестве жеста доброй воли: «вот вам все условия, не отвлекайтесь». Теперь бы понять, в какой валюте отдавать кредит. Можно начать переводить старушек через дорогу, не менее трёх за день. Или пить пиво только по выходным, не более трёх по ноль-три за вечер. Ну что ещё, не знаем прямо… не смотреть новостей по первому каналу… матюгаться негромко и по делу, а не как некоторые: сядут в маршрутку, гарнитуру в ухо засунут, и давай орать…
Нет, всё не то, всё как-то мелко. Старушками и пивом разве отмажешься за три грибных года подряд? Или за зиму с сугробами по шею, без единой оттепели? За сошедший в неделю снег — без потопа, обратите внимание! Старушки с пивом — это проза, и норма жизни, между прочим. А требуется ответить чудом на чудо.
Есть одна мысль. Тут возле одной серьёзной конторы каждую весну тщательно вскапывают газон, но травой не засевают, руки не доходят. Так вот, зреет мнение, что надобно в этот газон посадить несколько тыквенных семочек. Тут рядом совсем, ночью выскочить, полить — пять сек. Сорт нужно подобрать крупноплодный и оранжевый, как кирпич. Прикиньте? Осенью народ в троллейбусе едет, а на газоне — тыквы, оранжевые, как кирпич. Чудо? Чудо.
Если кому надобно карету, на бал, там, метнуться, или просто девушку прокатить — пожалуйста, пользуйтесь. Только, чур, покатались — к полуночи припаркуйтесь на место. Девушек много. Чуд мало.
Цукер
И вовсе не смешно
С луной было что-то не так, я это сразу понял. Вот как только вышел из студии, так сразу и понял: что-то не так. На часах начало второго, ночи, естественно. Из студии я вышел не один, а с женихом и невестой. Кто-нибудь посторонний, увидевши во втором часу ночи в тёмном закоулке между тюрьмой и стадионом, где и столовки-то никакой нету, жениха и невесту в полной экипировке, решил бы, что именно с молодожёнами что-то не так, но с ними как раз всё было в порядке. Ну, не добрались в студию до ресторана, приехали после — нормальный процесс, кто женился, тот поймёт. А с луной непорядок. Во-первых, она была в виде узенького полумесяца, хотя вчера было полнолуние. Во-вторых, полумесяц висел вниз рогами, как в художественном фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Фигня, подумал я, это облаком её прикрыло снизу. И сел в такси. Но минут через семь облако никуда не делось. К подъезду я шёл медленно, не отрывая глаз от свихнувшегося светила. После трёх часов за компьютером глаза фокусировались плохо, картинка плыла, но перевёрнутый серп был бесспорен, как сидящие на лавочке алкоголики. Алкоголики слушали попсу из телефонных динамиков, и луна их не волновала. Где-то это уже было. Ах, ну да: когда Ной строил свой лайнер, предупреждая о потопе, ноевы соседи безмятежно вели натуральное хозяйство. Нет, поймите правильно, я в курсе, что бывают такие специальные лунные затмения и всё такое прочее. Но про них, как правило, предупреждают заранее во всех средствах массовой информации, типа: внимание-внимание, такого-то числа будет проводиться затмение в целях какой-нибудь там… ну, не знаю, нафига их проводят, каждый развлекается, как умеет. Про нынешний перевёрнутый рогалик никто даже не обмолвился: как раз утром новости смотрел, пока невеста красилась. Кроме того, логично предположить, что затмение происходит по тому же принципу, что и обыкновенное новолуние, тень наползает сбоку и перекрывает видимость; ну, может, не слева направо, а против часовой стрелки, чтобы как-то отличаться. Чтобы пустить вектор движения снизу вверх — это нужно Лобачевским каким-нибудь быть, математическим беспредельщиком. В общем, как хотите, подумалось, а дело к концу света. Совершенно серьёзно. Или галлюцинации.
— Счастье моё! — сказал я аккуратно, чтобы не напугать. Хотя поди, не напугай такой новостью. — Посмотри, пожалуйста, на луну, сдаётся, у меня галлюцинации.
Счастье подняло всклокоченную голову от подушки и сообщило, что разбудил правильно, ибо снилась совершенная дрянь. Я промолчал.
Это были не галлюцинации. Она тоже увидела.
— Или облако. Или инопланетяне. Посмотри в Интернете насчёт затмения (в смысле: вряд ли это конец света, потому что там перед ним ещё много всякого должно случиться — авт.).
— Сейчас, сначала сфотографирую (в смысле: а вдруг случилось, а никто и не заметил?
— авт.).
На фотографии при увеличении ясно было видно: не облако и не инопланетяне.
Календарь лунных фаз показывал полнолуние и никаких затмений. Счастье лежало головой на подушке, но не спало, обдумывало.
— Если конец света, нужно молиться.
— Да я уже.
— Посмотри интернет.
— Смотрю.
Уф-ф-ф. Какой-то добрый человек из френдленты сообщал, что любуется неполным лунным затмением.
— Неполное затмение сегодня. Счастье немедленно засопело.
Хочется сказать: товарищи, отвечающие за затмения и всё такое! Нужно аккуратнее; предупреждать нужно. И вот ещё что. Я не испугался. Ощущения, конечно, неприятные, но и некоторое облегчение образовалось. При этом я довольно-таки счастливый в последние тридцать девять лет, и терять есть чего. Но не испугался. Хотя ещё неизвестно, хорошо это или так себе.
Цукер
Требуют наши сердца
…И, значит, звонит и сообщает:
— По немецкому на дом задали сочинение-описание. Я пишу про тебя. Нужно тебя описать. Щас будем тебя описывать. Щас, тетрадь открою. Ага. Ты какой?
— Я толстый.
— Толстый… толстый… э-э… а мы ещё не проходили слово «толстый». А ещё какой, говори давай, ну?
— Ещё этот… как там… кудрявый. Вот ещё я — кудрявый.
— Ну, па-а! Мы «кудрявый» тоже не проходили!
— Да откуда мне знать, что вы проходили, а что нет? Что вы проходили, давай, ищи что-нибудь подходящее…
— Ну, на прошлом уроке проходили «прелестный». Ты прелестный?
— Я-то? Ну-у, да-а…
— Ага. Пишу: «папа — прелестный»…
Всё. Теперь «Прелестный» — ваше второе «я».
Это к чему: вот так живёшь, живёшь, по утрам ешь яишницу, в обед — суп с сельдереем, и вдруг звонят и говорят: да вы, батенька, прелестный. Или, скажем: вы выиграли сто тысяч миллионов, для получения отправьте sms на номер ххххх, звонок платный. Или кто-нибудь шёл мимо, чисто чайник поставить, и вдруг, раз — и спину тебе почесал именно в нужном месте. Вот тут. Да. Ещё ниже. И левее чуть-чуть… о-о-о…
Это к чему: никогда не знаешь, в каком именно месте жизни настигнут большие перемены. Следовательно, нужно всегда быть готовым, чтобы не застали врасплох, а то хорошенький вид: яишница в сковородке заскорузла, сельдерей к губе прилип, глаза стеклянные, на улице плюс восемнадцать, а льняные брюки не глажены, пуховик бы сдать в химчистку — а вдруг заморозки…
Это к чему: ну надо же меняться, ей-Богу. Даже если всё хорошо, а тем более, если не очень. Взять, например, Володина. Раньше Володин покупал исключительно фотоаппаратуру, а давеча взял, и купил валасапед о двадцати четырёх скоростях и с бортовым компьютером. Осталось купить шлем, наколенники, налокотники, зимнюю резину, багажник, чтобы возить девушку с длинными волосами, и аккумулятор на сорок ампер, чтобы бить током всякого, кто замыслит похитить ценную технику или девушку с длинными волосами. Но Володина уже и сейчас не узнать, потому что привычные визуальные критерии утеряны. Теперь главный критерий — скорость. Например, идёте вы по улице, а мимо некто — фььььь-юююють со скоростью 33,45 км/час, и сразу ясно — обновлённый Володин поехал. Разве не хорошо?
Одно плохо: во всём городе некуда поставить двухколёсного друга, потому что сопрут даже с сорока амперами; наденут резиновые перчатки, подстелют резиновый коврик, и сопрут.
Но это ведь тоже повод для больших перемен: пора делать велостоянки.
Пора что-нибудь уже, ну.
Давайте уже что-нибудь, кто чего умеет.
Цукер
Нас спасут
Так вот знайте же: нас спасут девушки. Нормальные такие девушки, в основном с длинными, выпущенными на волю волосами, и с глазами в пол-лица. Но внешность не принципиальна, коротко стриженые казашки с миндалевидным разрезом глаз нас тоже спасут, по крайней мере, приложат к этому все усилия. Слово «нас» охватывает то ли конкретных жителей конкретного населённого пункта, то ли россиян, то ли вообще всё человечество. Слово «спасут» подразумевает приведение в порядок мыслей, чувств и поступков. Доказательства? По порядку. Во-первых, девушки пишут в редакцию письма, спасая лично нас от вопроса «а смысл?». Не нужно никакого особого смысла, пока тебе пишут письма. Во-вторых, девушки ведут дневники в ЖЖ.
Дневник в ЖЖ — невесть какое достижение, пока кто-нибудь не пришлёт ссылку на несколько строчек, застрявших между необязательным трёпом, и эти строчки прошивают человека в нескольких местах и навылет, как пулемётная очередь. Так вот, обычно такие строчки написаны девичьей рукой. Мужские руки пишут остроумнее, искромётнее, злее и конкретнее. Мужчины изобрели медведа, чочо упячку и «первый, нах». А девушка вдруг пишет: «Ты играй, Господи, в шахматы и нарды, ты вози, Господи, на печи Емелю, не давай мне Господи, того, что мне надо, дай мне только Господи, понять, что имею». И всё. Навылет. Вы, конечно, можете возразить, мол, из-за своей чувствительности девушки также плачут на концертах группы «Руки вверх». Так ведь и мы хороши со своим душу выматывающим шансоном…
Наверное, есть научные объяснения. Наверное, у девушек повышенная проводимость горних чувств. Или малое сопротивление любви. А может быть, дело не в физике, а в химии, в наличии в крови катализатора нежности? Субтильные девушки становятся сильными мамами и верными жёнами, да. Но этого всё-таки так мало для спасения человечества — если бы только не знать наверняка: пока есть сильные мамы и верные жёны, количество девушек в мире будет расти. И значит, нас спасут. Уж будьте уверены.
Цукер
Угадал
Прошлым летом снимал свадьбу. Хотел написать: «забавную свадьбу», но в слове «забавная» есть ироничный оттенок, как если бы я смотрел на ситуацию чуть-чуть свысока. А никакого свысока и не было. Просто жених и невеста, два вполне взрослых и состоявшихся человека, смотрели на жизнь немножечко детскими глазами. Кажется, даже… сейчас некоторые захихикают, ну и зря… кажется, оба они в свои двадцать с небольшим были ещё девственны, и не потому, что никому не нужны, а потому, что для них это был важный момент — быть с кем-то раз и навсегда. Вот и ждали, и дождались друг друга. В Овстуг поехали четыре родные сестры невесты и один брат, самый младший, очень дружное семейство, и все как один с такими же детскими глазами.
Ходили по поместью стайкой, щёлкали друг друга на мыльницу, хлопали в ладоши, радуясь лебедям, цветам и парку. Словом, щебетали — немножко чересчур, но в целом вполне славно. Ну, вы же знаете Овстуг: вальс в бальной зале, музицирование за старинным расстроенным роялем, портрет на фоне портрета, и, наконец, сиденье за тем самым столом, за которым Тютчев написал про «умом Россию не понять». Сидящему за столом, по фотографическим канонам, необходимо иметь вид вдумчивый и проникновенный. И тут вдруг оказалось, невеста не имеет в себе сил быть вдумчивой и проникновенной, а имеет только силы хохотать от счастия.
Что тут поделать? «Товарищ невеста, — сказал я ей, — возьмите себя в руки, в них же возьмите гусиное перо и пишите». От «товарища» невеста вновь захохотала. «Пишите!», сказал я, и закрыл глаза, потому что если хочешь, чтобы тебе поверили, нужно прежде всего поверить самому: «Сердце моё, я всё хочу сказать тебе одну вещь, но никак не успеваю. Особенно хочется мне её сказать тебе утром, но только соберусь оторвать голову от подушки, а ты уже стукнул калиткой, и только силуэт твой шагает в конце улицы, когда я подбегаю к окну… А вечером всё кружусь и кружусь вокруг тебя, касаясь то рукою, то плечом, смотрю, как ты ешь, аккуратно подставив хлеб под ложку, и подпираю рукой голову, и забываю все приготовленные за день слова. Вот и сейчас калитка хлопнула, а я опять не успела, ну просто беда. Знаешь, что? Я напишу на бумаге, благо это коротко. Вот: мне хорошо с тобою, а без тебя худо. Нет-нет, не оборачивайся, когда уходишь, лучше всматривайся в окно, когда идёшь обратно. В окне всегда стою я». Я открыл глаза. Невеста сидела молча, пальцы её, держащие перо, чуть-чуть шевелились. Я угадал.
Цукер
Никогда не разговаривайте с незнакомцами
Особенно с таксистами.
Давно подметил: если таксёр с тобою общается на максимуме дружелюбия, то непременно в конце поездки скажет одну и ту же гадость:
— Ай, да пусть будет полторы сотни…
Как бы делая одолжение и скидку. На самом-то деле там от силы сто десять накрутило! Но ты, ещё весь в запале дружеской беседы, только нервно щёлкнешь челюстью, и спорить посчитаешь неудобным. Через полминутки уже бы и поспорил, но сукин сын только хвостиком вильнул в конце переулка.
Один такой бородатенький меня развёл месяца полтора тому: за два от силы километра с наилегчайшими картонными коробками в салоне (даже багажник не открывали) содрал сто двадцать. А минималка тогда была ещё восемьдесят.
А сегодня снова приехал, улыбнулся, как корифану, и с места закричал:
— Нет, ну да? Двадцатый век, а они снова воюют! Никогда бы не подумал, что мы до такого доживём!
— Молчи, — сказал внутренний голос, — молчи, как Щирлиц. Каждое слово — рубль. А тебе дом строить.
Рожа сделалась каменной от напряжения. Бородатенький посмотрел испуганно, и до самой студии не проронил ни слова. Забрав фотографическое причиндалле, поехали в кафе «Медведь», где ждал сниматься человек по фамилии Медведь, член, между прочим, «Единой России».
— От ведь уроды, — пошёл на второй заход бородатенький, завидя цыган на телеге, — знаки не для них понавешены!
Покосился, и до места назначения не проронил ни слова.
— Сколько с меня? — спросил я, прикидывая: сейчас скажет полторы, я скажу хрена в нос, и сойдёмся на ста двадцати. Протянул пятьсот и ещё раз, как можно хмурее: сколько?
Бородатенький попытался поймать мой взгляд, расстроился, молча отсчитал три сотни, на секунду завис, и вытащил четвёртую. Опаньки. В следующий раз выну из сумки грибную финку, купленную на лотке «всё по пять рублей», и стану всю дорогу демонстративно чистить ногти.
Молчание золото, гадом буду.
Цукер
Опять повезло
Тезис №1.
Даже и не мечтайте, здесь всегда будет именно так, и не иначе.
Тезис №2.
Иначе будет в другом месте, не здесь.
Тезис №3.
А если по-другому и здесь, значит, Родину захватили китайцы, а россияне, не желающие ассимилироваться с желтой расой, уехали в Землю Обетованную, благо визы теперь не нужно. После чего там тоже будет по-другому, сколько бы наших там ни окажись.
Потому что только в этом месте и только мы можем устроить нашу фирменную Родину, с дураками-дорогами, разговорами за жизнь, загадочной душой, суверенной демократией, бабушками на лавочках, солёными рыжиками, антоновскими яблоками, алкоголиками в детсадовских беседках, непереводимым понятием «я собираюсь», и сразу двумя маленькими президентами в одном телевизоре.
Попробуйте, например, представить, чтобы китайский таксист обиделся на пассажира за накинутый ремень безопасности? Китайский таксист: «я тебе говорю: не пристёгивайся!»? Или израильский таксист: «…не пристёгивайся, потому что тогда и мне придётся!»? Или болгарский таксист: «…а я ненавижу пристёгнутым ездить!»?
Представили? То-то же. Только здесь и только мы.
Ага! Решили, небось, что предыдущие абзацы — это такая сатира, задорнов-петросян?
Та не-е. Просто как-то неожиданно обнаружилось, что всё идёт по плану. Перед Новым годом сидели в гостях, и одна из присутствующих говорит:
— Ну что такое? Везде Рождество перед Новым годом, а у нас через неделю после! Какой пост? Сделали бы уже по-нормальному…
А все остальные хором, не сговариваясь:
— Не надо! Пусть так остаётся.
Пусть остаётся, ибо мы заточены под эти лекала, и глубокий смысл в наличии.
Взять тот же ремень безопасности. Где-нибудь на другой родине пристегнуться — почётная обязанность каждого пионера. У нас — гражданский поступок. Выпивали в овражке, все ушли догоняться, а ты мусор в пакетик складываешь — диссидент. Лоханулся, взятку не взял — Герой России, вот тебе чайный сервиз «Лидия», вот двадцать восемь статей в центральной прессе, и внуки будут своим внукам рассказывать легенду о кристально честном прадеде.
Там, где фирмачу нужно раздать два миллиона на благотворительность, нашему достаточно честно купить билет на электричку до Земляничного (пятая зона), а не до Навли (четвёртая зона), и не скакать по вагонам, скрываясь от облавы. Социальный резонанс одинаковый — овации, крики браво, бис, цветы из партера.
То есть, фора существенная. И это только касаемо морального роста. А есть же ещё рост духовный. Во Флориде, бегая под солнышком в новеньких кроссовках по идеальным асфальтовым дорожкам, всякий дурак заборет в себе смертный грех уныния. Поди-ка в Средней полосе забори, балансируя на бордюре между лужей справа и раскисшим газоном слева, в физиономию дождь-не-дождь, снег-не-снег со скоростью два с половиной метра в секунду, ветер северо-восточный, порывистый, и «нигде нет неба ниже, чем здесь».
Поди-ка забори смертный грех гордыни, когда все вокруг козлы, а ты на белом коне и звезда во лбу горит.
Поди-ка прости водителя маршрутного такси, поклонника Кати Огонёк. Поди-ка полюби, поди-ка поверь.
Но ведь как-то же мы приспособились сквозь всю эту ботву продираться? Елки ставим, на валентиках пишем там чего-то, хоть и не сильно в рифму, глинтвейн варим, смотрим друг на друга, улыбаясь одними уголками глаз, жжём римские свечи в неположенном месте.
Опять фора, ребята, опять фора. «Нигде нет неба ближе, чем здесь» как справедливо заметил носитель ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени Борис Борисович Гребенщиков.
Цукер
Живёшь
Бывает, ничего не хочется. Ничего. И вот не учишься, не работаешь, не видишь, не слышишь, не читаешь. И устаёшь страшно. Начинаешь выдумывать себе всякую тоску и пить кофе в два раза больше чем обычно. А нужно-то что –то такое маленькое, чтоб на ладошке помещалось, и радостью всё сердце заполняло.
И мы пошли в антикварный за значками. Советскими. А продавщицы говорят: «Вам про что?» А мы им говорим: «Нам про всё. Мы дилетанты» Они высыпали на витрину звеняще-блестящую груду. И я откопала Терешкову. Терешкова — это такой круглый значок небольшой, в котором собственно портрет Валентины Терешковой. Кудрявая такая Терешкова. Красивая. Мы купили Терешкову, юного стрелка, чего — то ещё и пошли в следующий антикварный. Диалог состоялся такой же. Только за прилавком стоял дяденька, по которому было сразу видно, что он много знает. Роюсь в значках. Нахожу точно такой же по формату значок, как с Терешковой. Только на значке мужчина. Я показываю продавцу оба значка:
— Это случаем не родственник?
— Совершенно верно. Муж это её, муж. Второй что ли? А вам стыдно не знать. Он космонавт.
Я неудачно шучу, что женщина-космонавт космически любвеобильна. Тогда продавец наклоняется ко мне и произносит: «Да ты знаешь, что это за женщина? Красавица! Волос-во! И седины почти нет. Да я её видел вот как тебя! Красавица!» Я понимаю, что мужчина просто восхищался красивой женщиной, но в глазах его я читала: «Не то, что ты». Вот так Валентина Терешкова встретилась с мужем-космонавтом в Б-ске.
Ещё здорово сходить в секонд-хенд. Сами понимаете. Там иногда такие прихотливости модельерской мысли попадаются, что в который раз убеждаешься: «Человек — это звучит гордо» Однажды попалась ещё и интересная продавщица. Заворачивая кофточку, сказала вот что: «Мы из Казахстана приехали. Там национализм начался. В Б-ске очень хорошо, только зимою холодно. А вот в теплое время — просто прелесть. Сюда нужно приезжать ОТДЫХАТЬ, такая природа красивая. Но нам не нравится, что жители её не берегут. В плане мусора. В Казахстан бы их, в пустыню. Тогда бы научились. А так всё прекрасно. Мы много читали про Б-ск. Хороший город». Приятно. Так же приятно, когда надеваешь постиранные, только что выглаженные джинсы. Чувствуешь себя гордо и красиво. В джинсах и в красивом городе. В котором, кстати, только и делаешь, что отдыхаешь.
А потом всё проходит. Тоска, апатия, лень. Начинаешь чего-то делать потихоньку и с виноватыми глазами, писать, звонить, шевелиться. Пересматриваешь «Фореста Гампа», переслушиваешь Нину Симон, перечитываешь Цветаеву. Живёшь.
P.S. А ещё живешь, когда в твоей папке, где хранятся тексты, появляется творчество мечтавшей стать журналистом маленькой Даши:
Текст о месяцах д. я.
Русский месяц значит Лучший Месяц.
Буквы Учим ну ишто сечас февраль ну А скора Март после апрель май июнь июль август сентяборь октяборь нояборь декаборь январь и сново февраль
Госпосподин нильсан это всем эзвесная обезяна повидать её можно У нас дома унего есть на глазах очки А на шеи красивый яркий красный шарф он очень спокойный и молчиливливый и очень добрый. Аещё Он придумал месяца.
Не зря живёшь. Спасибо тебе, Даша.
Перепелова
Секретик
Сегодня впервые за последние лет пятнадцать-двадцать я делала секретик. Из цветущей ветки яблони, трех конфетных фантиков, рублевой монетки и куска стекла почти правильной прямоугольной формы. Это системообразующее занятие. Я в этом уверена настолько, что, думаю, хорошенько бы напряглась, если бы меня поставили перед выбором для моего ребенка — математика в школе или секретики. Не знаю, сформировалась бы я в себя без математики вовсе, но вот без секретиков — точно нет. Пока Маруся спала днем на улице, я сидела на стуле рядом, засучив штаны, подкатав футболку насколько позволило мне мое пуританское воспитание, и читала Бродского. Так бывает редко, чтобы в одно время в одном месте я делала бы что-то настолько приносящее мне удовольствие.
Мне было тепло, будто на мне варят утреннюю овсянку, а я будто такое горячее молоко. Мне было вкусно. Особенно вкусно, по-Бродски. И мне приятно пахло. Так пахнет только в солярии, но это суррогат. Сегодня очень правильная Пасха. Радостная, спокойная. С таких дней нужно делать скриншоты и помещать в закладки.
А поправлять на спящем ребенке одеяло — такой же инстинкт, как отдергивать руку от открытого огня или вздрагивать от громкого звука.
Петренко (ж)
Пришло наше время
Сейчас будет быль. Очень личная.
Расскажу, как мы женились.
Значит, долго ходили кругами вокруг да около; гуляли, да. Пристреливались. Потом думаю: надо, стало быть, жениться. Но легко сказать: жениться. Ведь это говорить нужно что-нибудь этакое… чтобы согласилась… или хотя бы не напугалась… Подарить что-нибудь символическое… не знаю, там… чулки фильдепёрсовые? Хотя нет, чулки не положено, ещё в училище на этике-и-эстетике тётенька предупреждала: детали интимного туалета деушкам не дорят. И духи, кажется, тоже. Кольцо? А не налезет? А не понравится? Ну не цветы же, ну?!
Сейчас будет лирическое отступление. Очень личное.
Я получаюсь теперь стукачок, ибо сливаю совсекретную информацию, но нужно же как-то объясниться. В общем, дорогие девушки! Пришло время узнать, почему мужчины так не любят дарить цветы, в том числе и вам. Если чей-нибудь мужчина божится всю жизнь, мол, любит, — вот прямо сейчас отложите газету, подойдите к нему и лясните со всей силы по физиономии, потому что лжец и проходимец. Стойко врёт даже в малости, представьте только, о чём он врёт по-серьёзному.
А ещё знайте, если вы сердцу симпатичны, то нам глубоко наплевать, что вам сегодня на себя надеть. А если несимпатичны — тем более. (Проверка: надевают одежду, одевают Надежду; садись, пять). А ещё мы терпеть не можем ваши новые причёски — любые! — только страдаем молча, потому что мужчины именно так страдают — молча. Этот абзац к остальному тексту никакого отношения не имеет, просто накипело.
Так вот, цветы дарить неприятно, потому что они — несъедобные. Постоят три дня, а потом в ведро не лезут. Цена букета — вообще не критерий, если бы они были съедобные, или стояли полгода, или хотя бы в ведре места занимали меньше. Нам не жалко денег. Нам противно тратить их на крупногабаритную фигню. Идёшь по улице с хрустящим веником в руках, а на тебя все смотрят, и пихают друг друга локтями: во, жениться идёт, вишь, какая рожа стеклянная. (Проверка: стеклянный, оловянный, деревянный, но: пьяный, рьяный, румяный)
Продолжаем основное повествование.
Пришёл, такой, и хожу по кабинету. А она, такая, сидит в кожаном кресле и следит внимательно. Они же чуют, о-о-о, брат… И тут — опа! — спрашиваю неожиданно:
— Как думаешь, пачка кофе заменяет букет цветов?
Ну, то есть, внезапно, шаблон порвал. Она обалдела:
— Н-ну, — говорит, — если кофе хороший, то нормально, заменяет.
А я, — раз, — и пачку на стол, нашего, любимого, мы, пока кругами ходили, его килограмм пять выдули, если считать на сухой вес.
— Тогда, — говорю, — давай поженимся. Раз уж всё так один к одному складывается.
Ей и крыть нечем, логика-то железная. И женились, вот.
С тех пор прошло… прошло… проверка: смотрим паспорт на странице 15… правильно, прошло некоторое количество времени, и всякий раз, когда кто-нибудь собирается жениться, рассказывается вышеприведённая быль, заканчивая словами:
— … потому что они несъедобные!
Но никого авторский метод так и не вдохновил, наоборот, отвечают, мол, что взять с кофеманов, радуйтесь, что вас не на арбузах повело, хорош бы ты был с пятнадцатью килограммами подмышкой. И идут за букетом.
А что плохого в арбузах, объяснит кто-нибудь, или так и будем говорить загадками?!
Цукер
Случаи
Случай первый: из-за угла выходит плоховыбритый мужичок со следами вчерашнего употребления. Ему не очень хорошо и, кажется, скучно, а организму хочется действий и определённости. Прикрывая от ветра плечом, закуривает, делает затяжку и смотрит в нашу сторону. Мы шагаем по скверу мимо, прилагая некоторые усилия, чтобы не обращать на себя внимания, ибо такие обычно говорят: «братишка, можно тя на секунду…», а отмазываться нам лениво. Но он высматривает не нас, а того, кто за нашими спинами. Сигарета летит в сторону, руки раздвигаются и плечи ходят ходуном, как если бы пришла пора выступить из-за печки и дать комаринского, лицо делается: «о-пань-ки! кого я вижу!» кого-кого… известно кого… мы даже не оборачиваемся. «Па-а-а-апка!!!» Таки оборачиваемся. девочка лет пяти в воздушном сарафанчике бежит от противоположного угла сквера, сигает с разбегу в распахнутые руки, оба кружатся и хохочут, кружатся и хохочут…
Случай второй: у фрукто-овощного вино-водочного отдела стоят двое. Один высокий в кепке-жиганке, с серым лицом досрочно освобождённого, другой пониже, но шире в плечах. Тот, что пониже, вполголоса, но напористо убеждает товарища в какой-то для него очевидной истине, высокий же недоверчиво смотрит поверх голов на витрину, непрестанно перемещаясь в пространстве, в основном за счёт движения выпуклого кадыка. Наконец приходят к консенсусу. «мне как обычно, двести граммов», говорит высокий продавщице. «Двести граммов чего?» «Ну чего-чего?» удивляется высокий, «двести граммов петрушки для моих животных, как обычно. И бутылку жигулёвского, стекло». Второй берёт бутылку липецкого бювета. Расстаются на углу.
Случай третий: двое на остановке, она на восьмом примерно месяце, живот торчит параллельно асфальту, он с сильного бодуна. Ссорятся: она укоряет, он огрызается, она укоряет, он психует, машет рукой, уходит вдаль, она кричит в спину совсем обидное, он останавливается, оборачивается, лицо его сухо и зло, кулаки сжаты, почти бежит назад. Она даже не трогается с места. Подбегает, крепко хватает за затылок, целует в глаза, лоб, губы, щёки, пока она не перестаёт хмуриться. Держась за руки, уходят вдаль вместе.
Мораль: а нефиг строить из себя психологов!
Цукер
Семь процентов
Когда Кирилин был маленьким, кирилинский папа его застраховал в Росгосстрахе. И долго платил туда какую-то пошлину, чтобы у сына было всё хорошо. Кирилин вырос, купил себе телефон, нажал кнопку «ответить», а из телефона: здравствуйте, мы из Росгосстраха, хотим дать Вам денежку, которая наконец накопилась спешал фо ю. Кирилин, конечно, обрадовался, ура, говорит, как кстати, говорит, а, кстати, скока? Ой, говорят, это Вам нужно прийти и получить, тогда. Но в среднем выходит полторы тыщщи на брата, хотя бывает и десять. Тут, конечно, радость поприугасла, потому что только за один телефон три тыщщи китайцам уплочено, и даже может не отбиться. Но всё ж таки полторы тыщщи на дороге не валяются. Кирилин всем позвонил и объявил пари: кто угадает, сколько ему от Росгосстраха перепадёт, тому все проставляются, ну, и того… употребить проставленное, в общем. Петренка сказала: полторы и будет. Бочарова, что ли, пять. А сам Кирилин определил, что всё идёт к десяти, иначе фиг ли звонить?..
Выиграла Петренка. То есть как выиграла… ближе всех оказалась… потому как на руки выдали восемьсотпиисят… За много-много лет накопилось у Росгосстраха.
Между прочим, во всей этой истории заключена самая суть Его, великого и ужасного Российского Государственного Страха. Среднестатистический россиянин всё время чо-то ждёт от Российского Государства, а оно с многообещающим видом копается в карманах, говоря: ща… ща, погодь… тут у меня было для тебя, ща, специально же заказало… Уже и ждать всем надоело, уже собрались по своим делам, как вдруг в совершенно неожиданный момент из кармана вынимается большой медный таз и, — хренакс! — среднестатистический россиянин накрывается им по самое не балуйся. Да твою же ж растудыть! — говорит накрытый россиянин, — да что ж за ботва! Каждый раз одно и то же! Опять накрыло! И начинает привычно копошиться, выколупываться обратно на свет, бормоча под нос: хорошо хоть тазом… в позапрошлый раз таким накрыло, что… нет, ну как я опять повёлся, а?.. Выколупнувшись, россиянин достаёт из своего кармана вооот такенный сложноустроенный стальной Прибор со множеством пимпочек и пинделюшек и торжественно кладёт его на Государство, прямо поперёк физиономии. Ты охренел? — визжит Государство, утираясь рукавом. От охренела слышу, отвечает россиянин, и оба расходятся по своим, друг друга совершенно некасаемым делам. Цикл закончен.
…Какие-то опять ненормальные учёные вычислили, что всех на свете — примерно семь процентов. Коллекционеров, шахматистов, вегетарианцев, пианистов — всех семь процентов от общего числа. Примерно. Тех, про кого вы только что подумали, но не успели сказать вслух, тоже 7%, но речь сейчас не о меньшинствах, а о вообще, о принципе. Мы эту научную заметку долго искали в интернете, но не нашли, так что придётся поверить нам на слово; может, даже и переврали всё совершенно, теперь не узнать, да и неважно. Тут идея важна: чем бы ты ни жил, где-то вокруг тебя околачивается куча таких же, как и ты, бездельников и охламонов и живёт тем же самым.
Всё оказалось просто: ищи своих. Мы лично этот статистический фокус давно обнаружили, просто сформулировать не могли, а британские учёные — раз! — и пользуйтесь на здоровье. Например, газета «Кофе понедельника» — типичный случай поиска своих. Или проведённый пошлым июнем городской пикник «Все в сад!» — ну кто ещё попрётся за пять километров от города, чтобы валяться на траве и слушать музыку? Только свои. До сих пор фотографии и видео пересматриваем, и нестерпимо хочется в этот день, хотя бы на полчаса. Уж больно легко летается, когда вокруг одни свои…
И вы заметили? Заметили? Всё минувшее лето, почти каждую неделю, где-нибудь что-нибудь происходило, какие-то нелепые, безумные, прекрасные всенародные гулянья при полном отсутствии представителей партии и правительства. Оптимист скажет: ура, гражданское, как это?.. общество, вот! Пессимист: нужно же как-то спасаться от войны и телевизора… А мы говорим: сенкью вери мач, бритиш сайентистс! И чего-то там шуршим по хозяйству, готовим площадку для очередной тусы.
…Странное слово «свои», да? Интересно, на другие языки переводится, или это что-то вроде русского «ничего»? Но ведь, если буквально, то свои — это такие человеки, да? И всем их надобно искать? Раз, два, три, четыре, пять?
Цукер
Снег
Снег пошел утром. Мелкие редкие хлопья неторопливо покрывали улицы, крыши домов, пальмы, цветущие кусты. «Ура! Новый год!» — подумала я. А надо было подумать о том, чтобы купить хлеба, соли и спичек.
Как известно, Израиль продал России машины по производству снега для олимпиады в Сочи. Но все-таки в самом Израиле снег — явление редкое. Русскому человеку сложно представить, что небольшой снегопад может парализовать жизнь в стране — пока сам не окажешься в ловушке.
Первые полдня мы с малышом втыкали на снегопад через балконное стекло, все еще не осознавая угрозы. Потом позвонил из центра города папа. Сказал, что автобусы не ходят, и спросил у меня, как вызвать такси. Потом позвонил еще раз и сказал, что такси не ходят тоже, и реально ли ему дойти до дома пешком?
Потом позвонила няня. Я уже догадалась, что она скажет — что она завтра не приедет, потому что нет ни автобусов, ни такси. Малыш продолжал втыкать на заснеженную улицу за стеклом. Мне захотелось перечитать Памука.
Два дня снег продолжал идти. Закрылись школы и детсады. А вечером в четверг перекрыли дороги, ведущие в Иерусалим. Я еще не знала об этом, когда поехала покупать воздушные шарики, чтобы украсить квартиру к дню рождения мужа, который должен был прилететь в четверг ночью.
По улицам, заваленным сломанными деревьями, ходили редкие люди с фотоаппаратами. У тех, кто фотографировали на «айфоны» или мыльницы, поверх кроссовок или ботинок были одеты и кое-как завязаны обычные полиэтиленовые мешочки — чтоб не промочить ноги в сугробах. У людей с профессиональными камерами поверх ботинок были одеты толстые синие мешки для мусора, обклеенные скотчем.
Такси остановилось рядом со мной уже минут через 10. «В ближайшем супермаркете хлеба нет, — сразу сказал мне таксист. — Но я знаю, где есть, поехали? 60 шекелей». В мирное время за 60 шекелей можно проехать весь Иерусалим из конца в конец. Я покачала головой. «Только потому, что ты такая милая — 50», — сказал таксист и тронулся с места. «Вы не поняли, мне не нужен хлеб», — сказала я. «А, так тебе нужен радиатор? Так бы сразу и говорила, зачем ты морочишь мне голову? Тебе повезло! Я знаю, где купить радиатор», — обрадовался таксист. Я поняла, что задача найти такси была не самой сложной. «Мне нужно купить воздушные шарики», — как можно более невозмутимо произнесла я.
У таксиста оказались крепкие нервы, он не повез меня в ближайшую психушку, а отвез в торговый центр (он работал!), дождался меня с шарами и доставил назад все за те же 50 шекелей. Полвечера я эти шарики надувала. Потом еще полвечера они лопались — с оглушительным грохотом. Уложив малыша спать, я хотела было пойти на балкон — прокалывать оставшиеся шары, чтоб не грохотали ночью, но потом просто привязала их к крыльцу снаружи.
Муж прилетел и поехал ночевать к другу, а утром стал пробираться в Иерусалим — окольными тропами, которые не перекрыла полиция. Дорога заняла семь часов вместо обычного одного. Заодно он доставил в Иерусалим двенадцать попутчиков: четверо расположились в багажнике, шестеро на заднем сиденье и двое на переднем пассажирском. Все они были одной большой семьей, ехавшей на свадьбу. На день рожденья мужа из дюжины запланированных гостей добрались трое. Снаряжая их в обратный путь, мы извели весь домашний запас полиэтиленовых мешочков.
Рудницкая
Гриша детка
Жена, когда забеременела, то сильно изменилась. Если говорить коротко — у неё появились мои привычки! Она стала там чего-то планировать! А раньше думать — было просто не заставить… Она стала есть! Много и без перерыва. Жадно, не жуя, чуть не руками в себя запихивала практически любой корм, который находила в доме! А раньше! Цирк! Культурно садилась, пережёвывала с закрытым ртом всю свою цыплячью порцию, аккуратно глотала. Я заканчивал пить чай, когда она доедала первое! А тут — я смотрел на неё, а видел себя. «Боже мой!, — думал я, — в её характере ребёнок живёт так же, как и в её теле!» Это было невероятно! Ну, плод — понятно, как без него. Но — характер, чувства, эмоции! Два характера сплетались и уживались у меня на глазах! Это было совершенно очевидно. Потом я стал замечать, как он ей управляет. Совершенно было прозрачно — кто захотел гулять, кому захотелось пить, кому — на ручки к папке! А после шестого месяца это стал уже характер настоящего ребёнка. Она стала очень смешливой. Как маленькие детки смеются непонятно чему, она смеялась два дня назад, когда смотрели фильм о природе, как там пингвинчики выныривали из моря и пузиками плюхаясь на снег, катились по нему, потом вскакивали и, переваливаясь на лапках топали к своим парам. Я видел перед собой совершенно дитё, которое смотрело глазами жены, смеялось, тряся её животиком! :) Он живёт её чувствами. Смотрит её глазами, говорит её языком, трогает её ручками и ощущает её телом! Это фантастика какая-то, её Богу!
Но это было только начало чудес. На шестом месяце «пуз» пришлось переименовать в «бутуза». Потому что он начал бутузить. То есть — шевелиться, вертеться и трогать пальчиком. В этот момент выяснилась ещё одна зависимость. Оказалось, что он всегда во всех спорах принимает мою точку зрения! И бутузит мамку соглашаться с папкой. Я ощутил сомыслие с дитём, а жена потеряла один голос при голосовании. Что за голосование? А вот что — когда мы стали беременны, она придумала способ воздействия на решительного меня: голосование. И их всегда было больше! А меня — меньше. Этот метод решения споров был смешной и радовал всех. Но теперь-то меня стало больше! И голосований сразу не стало. А потом выяснилось, что бутуз бутузится, когда я слушаю задушевные песни, и меня плющит от них не по-детски. Когда стонет душа. Причём даже когда жена на работе. Так он и со мной — одно целое! В голову всё это вместе не помещается до сих пор. А оно и радостно, и грустно. Я, прожив треть века, не нажил опыта контактов с людьми. Рефлексирую, замкнут, при том проблемы вижу в обстоятельствах, а не в себе. Есть комплексы. И что же? Я должен передать сыну все эти проблемы характера?! А вместе с характером, в подарок, и нашу с женой судьбу… Я бы такой подарок — послал подальше.
Значит, надо становится сильным, и жить среди людей с удовольствием. Учиться самодостаточности, бесстрашию, доброте. Чтобы было, что подарить сыну. А любовь он мне сам подарил.
Неизвестный автор
Наш личный календарь
Март был страшным: тоскливо-тёплым, серым, воющим нездешними, степными суховеями. Апрель… что было в апреле? Дожди? Что-то неприятное было и в апреле, сейчас уже и не вспомнить. Май был идеален, как, впрочем, и всегда. Поле за бетонкой засеяли овсом, и этот нейтральный факт почему-то заглушил скрежет, оставшийся в груди после марта. Ветер не потерял силы, но стал нашим, совецким, весёлым ветром. Июнь — просто классика, лучше не бывает. Июль вроде тоже ничего, если не считать урагана, повалившего в лесу аж семь деревьев. Осин не жалко, туда им, гнилушкам, и дорога, а вот берёзы и сосна — эхх… Но ништо, мы уже присмотрели себе уйму молодых клёнов, ясеней, маньчжурских орехов и даже три липки. В сентябре засадим всю проплешину и будет лучше прежнего. Овёс чуть примяло ливнем, но он стоял весь такой изумрудный, что ловили себя на мысли: вот бы стать толстым, ленивым конём, нырнуть нагло в эту стоеросовую зелень и пастись, рвать губами сочное, сладкое, пока не прибежит сторож и не огреет по ляжке дубьём.
Однажды в овсах что-то шумно копошились дети, но с дороги не видно, что за кипешь; потом вдруг сорвались разом, вскочили на велосипеды и погнали вдоль улицы, глядя в небо и вопя от счастья: «Всё! Погас! Нет, поднимается ещё! Давайте быстрее, а то ща за дома упадёт!» В синем-синем мотылялся какой-то дирижбандель, наверняка китайский, и никак не собирался идти на посадку. Дети, велики, воздушный змей… Мы что, уже в раю?
Август хоть и истомил жарой, зато уж накупались — мама не горюй. Серёга с утра сажал в машину всех наших многочисленных мам и возил на Орлик, и за неделю мамы сделались гладкие, румяные и оптимистично смотрящие в будущее, несмотря на сыр, бульдозеры, бешенство валюты и прочий ад из антенны.
Сосед Паша выкатил тележку, насыпал в неё остатков старого своего дома и поволок через наши дворы — заборов-то нет! — в лес. Вывалил на опушке раз, и два, и три. Мы пришли, сказали миролюбиво: «Паша, мы ваш мусор, конечно, уберём, сожжём. Но не могли бы вы хотя бы шифер в бочажок не сваливать? Уж больно муторно его оттудова доставать, а потом ещё до свалки волочить». Паша застеснялся, засмотрел вдаль, отвечал: «дак это… я тоже хотел спалить… потом… а шифер… ну а куда его? Разве что на дорогу, в ямки?» «Да хоть бы и на дорогу, в ямки», согласились мы и ушли, уверенные, что нас услышали. А Паша снова за тележку — и в лес. И знаете что? Да и фиг с ним. Уберём мы этот несчастный шифер. Два камаза мусора выволокли, ещё дюжина тележек — не вопрос. А злиться на Пашу чо-то лениво, серьёзно. Старость, что ли.
Случилось: три часа сидели на солнцепёке, на лавочке. Ну нужно было, по делу. Налетело стадо каких-то мелких мух, облепило все наши голые колени, не кусались, но смотрели оч. выразительно, как бы говоря: намёк понятен? Да? Уже били, били их, а они не отстают. И уйти нельзя, дела. Наконец, солнце упало за дом, и на одну коленку нашла тень. И мухи пересели на те, которые на солнце! А потом и совсем улетели, догонять последние лучи. То есть, они вовсе наоборот, считали нас источником тепла и света. А мы их по морде.
И всё равно, не такое уж мы и дерьмо. Хотя бы с точки зрения мух.
Цукер
Мостовщиков +
Странные вещи
Странные вещи в последнее время происходят у меня с телефоном. На днях звонок.
— Москва? — говорит трубка.
— Ну, в принципе Москва, только я сейчас Новосибирск.
— Слушайте, вопрос такой. Сколько можно? Мы просто хотим жить достойно, по-человечески.
— Ладно, — говорю. — Не вопрос.
— Вы издеваетесь опять? Понимаете, воровство, бандитизм, расправы над людьми. Это невыносимо. Просто невыносимо. Больше так не будет. Будет как надо. Как мы решим.
— Я не против, валяйте.
— Мы — человечество. Вы обязаны это признать. Вы признаете, что мы — человечество?
— Легко. По голосу я понимаю, что вы не кактус, это значительное облегчение для нас обоих.
— А кто вы такой?
— Я Сергей. А вы? — Не важно, я представляю народ. Волю победившего народа. Мы довольно от вас настрадались. Теперь все будет по-нашему, а не по-вашему. — Хорошо. А я вот сейчас в туалете, вы не могли бы перезвонить буквально через пару минут?
— А какая ваша фамилия?
— Мостовщиков.
— Что это значит?
— Ровным счетом ничего. — Я так и знал. Ну, пеняйте теперь на себя.
Откуда звонили, непонятно. Но сейчас поди знай — могли звонить хоть из Сирии или из Хабаровского края. Просто ошиблись номером. Бывает.»
Стих
А вот если были бы
У меня бы жабры бы
То бы я бы с жабрами
В море б жил бы с рыбами
Не писал бы б буквы я
А ходил бы стаями
Там где нету горя мне
Там где лучше стало бы
И неплохо было бы
Чтобы вместе с жабрами
Выросли б и крылья бы
В случае б в пожарном бы
И в пожарных б в случаях
Прямо вместе с птицами
Пролетал по небу б я
Как в руках синица бы
И еще прекрасно б бы
Чтобы зубы острые
Мне бы в рот бы вставили
Силы б венценосные
И зубами б этими
От судьбы б от имени
Я бы грыз бы что-нибудь
Родины б во имя бы
И где раньше не было
Сразу б стало много бы
А себя б любимого б
Я бы сдал на органы
Очень бы хотелось бы
И того б и этого
Только нету этого
А того б и не было
Наш маленький Путин
Суждения современников о человеке по имени Владимир Владимирович Путин имеют совершенно радикальный характер. С одной стороны, он отчаянно любимый народом президент. Он человек-метеорит, взявшийся ниоткуда и потрясший страну. Он человек-радуга, сулящая исполнение давних желаний. Человек-пуля, рвущая сердце врага. Человек-аккордеон, способный обнадежить простолюдина. Человек-блокнот, в который записаны все горести и нужды людей. Человек-северное сияние, тайный атмосферный каприз, вызывающий трепет, восхищение и немоту.
С другой стороны, есть те, кто столь же сильно не любит Владимира Владимировича. Такие называют его фашистом, чекистом, коварным хитрецом, дорвавшейся до власти серостью и земляным червяком. Путинофобы ждут от него подлости, страданий, унижений, тюремного сухаря, экономической катастрофы и других бед. И тех и других объединяет страшное заблуждение. Рассуждая о спорном нашем президенте, граждане говорят о нем как о неком живом существе, способном влиять на жизнь страны и судьбы подданных. Тем временем в реальности никакого такого Владимира Владимировича Путина не существует.
Конечно, можно допустить, что где-то в центре Москвы и вправду работает президентом некий мужчина по имени Владимир Владимирович Путин. Утром, чуть запоет воробей, чуть рабочий просверлит дырку, чуть инженер развернет чертеж, чуть пекарь сделает первую булку, этот человек собирает свой ядерный чемодан и торопится в Кремль. Там нужно подписать ему судьбоносную бумагу, совершить трудный разговор, задумать и осуществить важную перемену. Большинство людей в России никогда не встречали этого человека, не знают его забот, но некоторое мои знакомые, которые видели его, отзываются о нем как об интересном собеседнике и крайне симпатичном персонаже. Штука только в том, что на развитие нации это действует примерно так же, как бытовой радиоприемник и фотография в витрине парикмахерской влияют на судьбу человека. То есть никак. Поэтому на полном серьезе спорить о пользе или вреде реального Владимира Владимировича — занятие малоинтересное. Он фикция, сын воображения и пропаганды. Куда труднее разговор о другом, мистическом Путине, маленьком человечке, который все время живет в каждом из нас.
Присутствие маленького Путина можно обнаружить в глубинах подсознания всякого россиянина. Не на поверхности мозга, где собраны имена родственников, паспортные данные, сумма долгов, обида на тещу и обрывки воспоминаний о ночи с пятницы на субботу. А глубже, там, где хранится летопись веков, начатая не нами. Там, где сходятся свет и тень. Там, где записаны легенды о румяных, трудолюбивых и гостеприимных русских людях, способных на любой подвиг во имя добра, о чудесных богатырях, о бессребрениках, снимающих последнюю рубашку, о присядке, баранке, матрешке, сапогах-скороходах, скатерти-самобранке и говорящей богородице-щуке. И там, где есть другая правда. Правда о тупом, языческом, безбожном, упрямом, покорном, злопамятном и ленивом крестьянском народе. Том народе, что крал, кроил черепа, сначала кланялся в пояс, ломал шапки, а потом жег барские усадьбы, резал животы кулакам, предавал и писал доносы. Наш маленький Путин всегда прячется там. В той темной области сознания, где обычно рождаются сомнения.
Наш маленький Путин — это соблазн, надежда, шанс. Это вера в чудо, в безболезненный способ справиться с пустотой. Нет ничего страшнее этой пустоты. Ибо свобода, о которой мечтает всякий человек, как это ни печально, не сливочный крем, не кедровая шишка. Это всего лишь та самая пустота, чистый лист, который можно превратить в шедевр, а можно сами знаете во что. Труд заполнения этой чистоты и есть настоящее счастье, даруемое смертным за их волю, веру, духовное богатство, страсть и разум. Однако это сложный путь, часто сопряженный с мучениями и ошибками, и далеко не всякий в силах пройти его. Поэтому всегда есть шанс, соблазн, надежда на то, что кто-то другой, более сильный заполнит эту пустоту. Из маленького тайного существа, живущего в глубине создания, он превратится тогда в метеорит, радугу и пулю, рвущую сердце врага. И с этой минуты смертному будет даровано право более не заботиться о своей свободе, его счастье отныне станет радостью послушания. Ибо теперь пустота — это сила большого Путина. Это его власть — над пустотой.
В принципе в пустоте нет никакого особого горя, а есть даже некий элемент веселья и торжества. Допустим, пустота применяется в барабане. В него бьют, а он надрывается звуком — громким, весомым, озорным. И чем больше пустоты, тем даже страшнее звук. Но с барабаном ведь как? Оркестра не составишь, с друзьями не отдохнешь, с девушкой не потанцуешь. Одна пионерская линейка. Если же от усердия он порвется, то и звук-то выйдет никудышный. А внутрь потом заглянешь — что там? Пустота.
О взаимодействии видов
Автор умоляет не искать в данном тексте сатиры, памфлетов и намёков. Для написания сатиры, памфлетов и намёков надобно иметь хоть какие-нибудь политические взгляды и предпочтения, а все политические взгляды автора умещаются в заключительный монолог Главного Егеря из главы №12, состоящий из шести слов и восклицательного знака. И если позволил себе автор слегка импровизировать на тему текущих новостей, так это не сатирических побуждений, а, единственно, от скудости авторской фантазии. Ну нужно же о чём-то писать, ей-Богу.
Убедительно рекомендуется не ставить знака равенства между персонажами и реально существующими лицами. Например, персонаж по имени Василий Иванович Шандыбин не имеет абсолютно никакого отношения к реальному Василию Ивановичу Шандыбину, бывш. депутату Госдумы, уже по той простой причине, что Василий Иванович Шандыбин был гораздо более благоразумен. Поэтому, увидев любые знакомые фамилии, знайте: сплошные враки, не имеющие никакого отношения к.
И именно как враки и пустяки следует читать эти заметки — или не читать.
Глава вторая, февраль 2007, а первая глава будет дальше
Результаты органолептических и физико-химических испытаний проб блюд, отобранных при проверках лечебных учреждений Б-ской области»:
…МУЗ Жирятинская ЦРБ — суп картофельный с вермишелью с недовложением сухих веществ (вермишели, картофеля, овощей) — 15%, кисель из свеклы имел неестественный цвет с фиолетовым оттенком, слабо выраженным вкусом…
30 января 2007 г. // пресс-служба администрации области
Перечень заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению
Газета «Комсомольская Правда» 9 февраля 2007 г.
В ночь на Валентинов день на Неведомом пруду, что в овраге Верхний Судок, кричал Мыколай Иваныч — слыхали многие. Насчёт того, что именно кричал, мнения разделились, одни говорили, явственно было слышно «Етит твою растудыть!», а другие твёрдо стояли, что «Ой, болить, болить, болить!» Как бы там ни было, а по всем приметам сильно не к добру.
И пруд этот, и Мыколай Иваныч при нём, числятся в нехороших городских достопримечательностях. Дело давнее, но было так: коза Сидорова шла как-то с девишника и решила срезать от милицейских дач через Судок.
Смеркалось. От дач товарищества «Дзержинец» коза спустилась, как по писанному, потому что не в первый же раз — но на самом дне оврага ждал её сурприз: лужа не лужа, озеро не озеро, а илистый такой прудок, изрядно поросший ряской. Сидорова, натурально, оторопела, потому что не было здесь никакого пруда, уж ей-то не знать! Походила по глинистому зыбкому берегу, потыкала копытом в воду — пруд; что за напасть? От волнения, а ещё и от выпитого допреж того «Белого аиста», у козы пересохло в горле, и она сунулась мордой во влагу, напиться. Ан, видно, только того и ждали, набросились сзади, подставили под вымя алюминиевую кастрюльку и принялись доить без спросу. Уж как там Сидорова не захлебнулась со страху, неизвестно, собралась боднуть наглеца в бок, и вдруг затихла, затуманилась. Жизнь у козы до этих пор была, прямо сказать, беспутная, шебутная была у козы жизнь. Но, вот, ухватили в темноте мохнатыми мужскими ручищами за вымя — и женское нутро сомлело, словно отродясь дожидалось такового с собою хозяйского обращения. Только и спросить успела: «ты хоть чьих родов будешь, мил человек?», но тать уже щемился вверх по склону, ломая кусты, и прокричал в ответ лишь: Мыколай Иванович мы, будете теперь знать!
Ладно.
Поутру Б-ск, взбудораженный козьими россказнями, а больше того, горящими её глазами, кинулся на поиски маньяка. Верхний Судок прочесали с собаками сверху донизу, не нашли не только никакого Мыколая Иваныча, но даже и намёка на пруд. Сидорову высмеяли жестоко и выписали направление к наркологу, но тут подряд случилось несколько схожих случаев с теми же самыми показаниями от потерпевших, и с горящими их глазами. Говорили, Ирэна Павловна, секретарь из присутствия, пыталась дать взятку начальнику Советского РОВД, со слезами умоляя найти лично для неё этого самого Мыколая Иваныча, кто бы он там ни был, пусть даже суслик-переросток. Мало того, феномен получил всероссийскую прессу, отчего в Б-ск валом повалили всякого рода дамочки. Дамочки чкались по городу с заранее купленными автомобильными картами и приставали к прохожим с вопросами «где у вас тут пруд?», нарываясь на известный ответ.
Чаша терпения переполнилась, когда одна из приезжих перепутала Верхний Судок с Нижним, в котором пруда тоже нет, но имеется порядочный ручей, нашла место поглубже и легла на берегу загорать топлесс. Плывший по ручью на работу нутрия Себастьян, интеллигент и известный энциклопедист, не выдержал пакостного вида, цапнул тётку за выпуклую ляжку и, пока та с визгом карабкалась вверх по склону, долго кричал вдогонку, что, мол, у нас тут дети плавают, между прочим. После этого случая особым распоряжением оба Судка объявили памятниками природы и стали запускать в них только по местной прописке, да и то через раз…
Сами видите, нехорошая достопримечательность этот Неведомый пруд. Поэтому про мыколайиванычевы ночные вопли уже утром было доложено Главному Егерю, причём доклад поступил от той партии, которая слышала «ой, болить, болить, болить!»
Ладно.
Собрано было экстренное заседание всех служб, призванное определить, откуда ждать напасти, и поскольку крикнуто было «болит!», тут же решили, что речь о национальном проекте в области здравоохранения. Побледневший директор департамента зашуршал бумажками, вышел к трибуне и, откашлявшись, честно признался:
— Да, товарищи, в областном здравоохранении имеются ещё некоторые недостатки. Так, рационы питания больных по-прежнему не сбалансированы, фактическое потребление мяса, рыбы, молока, творога, овощей ниже утвержденных суточных норм, в меню преобладают углеводсодержащие блюда. Или вот ещё: в одной районной больнице для приготовления котлет и картофельного пюре выписано продуктов больше нормы на общую сумму 469 руб., кроме этого котлеты были приготовлены с недовесом 48% на порцию. А это недопустимо, товарищи… далее…
Список у директора департамента был длинный, и, зачитывая его полностью, докладчик норовил усыпить бдительность коллег, да просто усыпить. И почти что достиг требуемого, но нечаянно прочёл лишнее:
— …суп картофельный с вермишелью с недовложением сухих веществ (вермишели, картофеля, овощей) — 15%, а кисель из свеклы имел неестественный цвет с фиолетовым оттенком, слабо выраженным вкусом.
На словах «кисель из свеклы с фиолетовым оттенком» Егерь выскочил из дрёмы, ляпнул ладонью по столу и, вскричавши: заткните его!, бросился в уборную. Наступила болезненная тишина. Вернувшись за стол и прижимая к губам платок, Сам был сух и краток: уволен, мля.
Любой другой немедленно написал бы по собственному, но от ужаса и обиды на Мыколай Иваныча, чучело овражное, недодезинфицированное, в директорской голове что-то щёлкнуло, зажужжало, и, выхватив из папки бумажку с грифом «совсекретно», он заблажил в голос: врё-ошь, не возьмёшь! Мы теперь с Онищенкой и Зурабовым вас, удодов, на верёвке видали, потому что у нас теперь на всякую животину список имеется!
Про этот секретный список диагнозов, ведущих к увольнению с госслужбы, давно ходили тревожные слухи, и коллегия напряглась, ожидая гадостей. Видя всеобщее замешательство, директор взбодрился и стал читать вслух, подвывая и тыкая пальцем в подходящую кандидатуру:
— Акромегалия средней тяжести и тяжелая форма, активная фаза и гипофизарный нанизм…
— Онанизм? — тревожно переспросили из зала.
— Нанизм! — повторил торжествующе докладчик, — то бишь великанство!
И торжественно ткнул пальцем в зубра Кондратия Опонежко, ответсекретаря комитета по укрупнению. Опонежко медленно отвалился от стола с документацией.
— Тотальный гипопитуитаризм, тяжелая форма; гипофизарный нанизм, — с напором продолжал медик.
— Онанизм? — тревожно переспросили из зала.
— Нанизм, то бишь карлики!
Не дожидаясь тычка пальцем, белка Бэла Кржижановская, отдел по грибам, вскочила на стол с ногами и показала директору что-то среднее между факом и дулей. Тот только махнул небрежно рукой:
— Дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных функций, в просторечии маразм!
И палец сунулся в сторону медведя Зайончонкова. Косолапый, прошатавшийся весь бесснежный декабрь, да и январь, в феврале дождался снегов и морозов и спал теперь целыми днями, где только можно, периодически пуская слюни на когтистую лапу. Он и сейчас не открыл глаз, а только замычал во сне возмущённо и растерянно, чуя беду. Следом за Зайончонковым сидел как раз Главный Егерь… Тут директор по старой памяти маленечко спасовал, и это было главной его ошибкой. Неожиданно быстро для своей комплекции Главный подскочил к трибуне и, сказав: «дай-ко и я пошукаю…», выхватил совсекретный список из рук докладчика и стал продираться сквозь латынь в поисках чего-нибудь знакомого. Все ждали, ухватив медика за полы пиджака, чтобы не мешал. В самом конце списка лицо главного просветлело, он провёл ногтём под понравившейся строкой:
— Да вот же. Пункт 16.1. Последствия внутричерепной травмы с указанием нарушений функций головного мозга…
Пронёсся вздох облегчения, и только директор зажмурил глаза, потому что увидел, как на противоположном краю стола медленно и страшно просыпается медведь Зайончонков…
Глава первая, объяснительная, январь 2007
Давно пора объявить публично, что город Б-ск — суть лес. Если кто не верит, приезжайте и посмотрите сами — лес и лес кругом. Но живём дружно, согласно Конвенции.
И гимн у Б-ска — «Шумел сурово б-ский лес».
Есть в Б-ске и городской голова, и генерал-губернатор, но последняя подпись всегда за Главным Егерем, чья приёмная занимает единственный на весь город пентхаус на пятнадцатом этаже здания городской администрации. Уж таковы особенности местного самоуправления.
А поезд Москва-Б-ск отходит от столичной платформы ровно в полночь и на всех парах, ибо, если не закрыть наглухо двери вагонов, можно растерять половину столичных командировочных. Москвич, он ведь не готов видеть плюсов провинциальной жизни. Обнаружив на верхней полке, например, бобра Игната, стремится непременно выскочить вон, словно в купе у него не исконно российский житель бобр, а какой-нибудь вомбат.
Но ближе к Б-ску, на третьей бутылке «Партизанской» (местная рецептура, на женьшене), побеждает дружба, и вот уж приятели наши, наступая друг другу на хвосты, шагают через переход.
— Ой, — кричит командировочный, — у вас тут и выхухоль есть!
— Это не выхухоль, — поправляет бобр, — это росомаха Гаврилыч, таксист. Иди ровно, а то прицепится ещё, падальщик…
— Да? А я и не знал, что росомахи — падальщики.
— Насчёт росомах я не в курсе, а таксисты — все, как один.
Нынче вопрос с фирменным поездом решён радикально. В рамках нового проекта в поездах дальнего следования один-два вагона теперь равно делятся на мужские и женские купе. Под это дело наши подсуетились и кроме литер М (мужское купе), Ж (женское), С (смешанное) стали пробивать в билете ЖЖ — купе для животных. Задумано умно, да не для нас; возникла ажитация, многие из принципа бросились требовать именно литеру ЖЖ, а один коммивояжёр из Тамбова устроил у девятых касс на Киевском дебош, уверяя, что является волком в четвёртом поколении, размахивал справкой из судмедэкспертизы, выл на милиционера.
Со всевозможными справками в последнее время выходит сплошное безумство. Несколько дней у областного архива стояли очередями селяне из области и требовали справок о том, что во время войны их хата спалена врагом. Кто и зачем пустил утку, — мол, по этим справкам будет выплачиваться компенсация — сейчас разбирается прокуратура, на месте же вопрос решён был третьего дня. Из архива выскочил взопревший от адского крику медведь Зайончонков и ухватил за грудки стоявшего в очереди первым зубра Кондратия Опонежко, крича:
— Слышишь, жеребец? Ежели ты тут бородой своей трясти не перестанешь, я тя прямо отсюда к Батьке вашему, прощелыге, катапультирую.
Остальная очередь злорадно захохотала, зная про Кондратиевы перипетии, Опонежко вскинулся, боднул рогом, случилась потасовка, из УВД чрез дорогу прискакали четыре лося-дружинника и разогнали толпу к едрене фене, от греха.
С Кондратием вот какая история: его, как осеменителя, выписали из братской Беловежской Пущи в заповедник «Б-ский лес», где изнывали без мущщины три зубрихи. Отдали за белорусского гостя никак не менее трёхсот тонн нефти-сырца из нефтепровода «Дружба», плюс несколько почти что новых газовых баллонов. Опонежку привезли с помпой, не нарадовались. Стали ждать приплода, завели журнал спариваний — но остался он без единой записи, ибо хитрый Лука прислал одну видимость, рога, копыта, и никакой потенции. Из Пущи Кондратий наш оказался уволен по выслуге лет, как после открылось. Что делать? Сначала, говорят, Главный Егерь взъярился и лично ручкою подписал резолюцию «говядину на колбасу, шкуру таксидермистам, чучело в музей, об исполнении доложить», но потом убоялись Гринписа, дело замяли, дали Кондратию квартиру в Доме-с-Часами и даже устроили ответсекретарём при комитете по укрупнению. За сколько-то лет Опонежко обжился, завёл друзей-пенсионеров, и дни напролёт стучал в парке костяшками домино, то и дело приговаривая: вот Лукашенко такого бардака не допустил бы, не-е-ет… Но тут случился нефтегазовый межбратский кризис, зубру пришлось отдуваться за себя и за того Батьку, и даже коллеги по подкидному дураку теперь вешали Кондратию «погоны» с особым злорадством, говоря: вот тебе на правое плечо за газ, вот на левое — за нефтепровод, а вот и м… да на уши, Луке передай.
Национальный вопрос этою зимой вставал неоднократно. В середине января накатила волна федерального закона №271 «О розничных рынках». Тут же собрана была межведомственная комиссия, и единогласно постановили: этих — гнать, работу — местным, продукцию — свою! А то баб наших без спросу хватают за интимное, лопочут гнусаво, того и гляди, взорвут. В качестве исключения — граждане братской Белоруссии.
Последним абзацем постановления зубр Опонежко был несколько реабилитирован в глазах товарищей.
В целом постановление комиссии было встречно с единодушным одобрением, и только енотовидная собака Лёва злорадно кричал из своего киоска прохожим:
— Идиоты (имея в виду комиссию — авт.)! Как они будут это выполнять? Они трёх городских грузинов не смогли подвергнуть остракизму, а теперь думают выпереть азербайджанцев! Они у них в паспорте давно смотрели? Там же у каждого с восемьдесят пятого года проставлено «гражданин России»; и у каждого на Советском кладбище по три бабушки похоронено на случай, если победят евреи. Кого они собираются депортировать? Шакалов? Я вас умоляю! Валька-кинолог из клуба любому за тыщщу рублей делает свидетельство с гербовой печатью, что предъявитель сего есть чистопородная русская борзая. Осушили Арал, носатые!
Прохожие реагировали по-разному, и некоторых ушей Левины слова таки достигали, но тут мимо шёл бессонный шатун Зайончонков, и собаке увесисто прилетело по сусалам. А не возбуждай!
Но в кое-чём зловредный Лева оказался прав. Реально пострадала от закона №271 только единственная в городе панда Лю Цзы, в просторечии Люська, мирно торговавшая в углу рынка эвкалиптовыми вениками и поделками из бамбука. До закона №271 Люська никогда никому паспорта не показывала, при каждой проверке пользуясь гораздо более убедительным документом — красненькой пятихаткой. Теперь же трюк этот не сработал, даже наоборот, и вот на глазах у всей комиссии был предъявлен паспорт, купленный ещё в Москве, в переходе на Охотном Ряду. Это был очень хороший паспорт, однако продавцы краснокожей книжицы недобро насмеялись над пандой и при всём честном народе толстый милиционер, крутя левою рукой свисток на верёвочке, громогласно прочёл: «Имя: Лю. Фамилия: Цзы. Национальность: падла». Вот тебя-то нам и надо, сказали Люське и депортировали до ближайшего участка, где одной пятихаткой, ясное дело, не обошлось, а вывернули все карманы дочиста, и ещё веники поломали об коленку.
Ну и чем им веники помешали?
Глава третья, март 2007
Российские пограничники спасли попугаев, которых в понедельник пытались ввезти контрабандой с Украины на территорию России. 300 редких и дорогих птиц, среди которых были и какаду, везли в шести маленьких и одной большой клетке на гужевой повозке. «Все попугаи живы. В ближайшее время их судьбу решат ветеринары», — отметил руководитель пресс-службы. Пограничный наряд доставил попугаев в служебное помещение, где их отогрели и накормили.
NEWSru.com // Криминал и происшествия // Вторник, 20 февраля 2007 г.
Давненько уже не было, чтобы весь Б-ск напряжённо следил за дебатами в облдуме. Сказать по правде, никогда такого не было, особенно с тех пор, как не переизбрали Василия нашего Иваныча Шандыбина и пропала интрига. Но вот уж две недели сидим, как прилипшие у телевизоров и дотошно выслушиваем всё, что скажут в информационном блоке.
Всё потому, что волнистые попугаи, натурально, задрали.
С попугаями этими просто мука: каждый год ушлые хохлы-контрабандисты везут паскудную птицу через границу в багажниках, и каждый год попадаются пограничникам. В прошлом году сто сорок, да в этом триста, итого четыре с половиной сотни разноцветных тварей шастают по городу, терроризируя районированные виды пернатых. А после того, как две дюжины паскуд, щебеча на своём то ли идиш, то ли хинди, проехались в такси от камвольного комбината до стальзавода (это километров двадцать, чтоб вы знали), мало того, не заплатили за поездку, так ещё и изодрали когтями новенький дерматин на сиденье, так ещё и нагадили на спину таксисту росомахе Гаврилычу, когда он погнался за ними с монтировкой, — после всего этого случился социальный взрыв. У стен гинекологического отделения прошёл спонтанный митинг протеста, взбудораженный избиратель засыпал депутатский корпус наказами разобраться, потому — жить и без попугаев сложно, а с попугаями вообще хоть удавись поутру в понедельник.
Всё это было страшно некстати, потому что на комитете перед тем уже три дня слушали в первом чтении по вопросу «Об отводе земельных участков, пустошей и паровых земель под посевы рапса и дальнейшем покорении Европы». Но при таких рамсах пришлось прерваться и внести в повестку пункт «О полной и безоговорочной депортации попугаев».
Хотели принять как можно камернее, быстро и без свидетелей, но не получилось: сначала в присутствие в форточку ввалилась толпа красных-синих-голубых виновников заварухи и расселась на гардинах и люстре, чирикая и как бы говоря: ну, мля?, отчего депутаты невольно притихли. Тут двери распахнулись, и вошла толпа с митинга во главе с росомахой; в одной лапе у Гаврилыча была монтировка, а в другой старый жёнин зонтик, заблаговременно раскрытый. Расположились на галёрке.
Почувствовав поддержку электората, председатель прозвонил в колокольчик, и приступили.
— Товарищи, — сообщил в микрофон городской голова, — я заканчивал лесотехническую академию, и уверяю вас, попугаи никогда в нашем лесу не водились. Иначе бы я знал ихнее название по латыни. А я не знаю! А в ЦФО, между прочим, птичий грипп, и у кого угодно спросите — это диверсия, даже в телевизоре говорили.
Докладчик сел.
Вызвали нутрию Себастьяна, известного в городе энциклопедиста. Выйдя к трибуне, докладчик благоразумно развернул номер Комсомолки-толстушки, покрыл ею голову и плечи, откашлялся и прочёл из Брокгауза и Эфрона, что родина волнистых попугаев — тропики. На Комсомолку несколько раз пякнуло с неприятным звуком. Кроме того, продолжал сухим голосом энциклопедист, новейшая история знает немало случаев, когда необдуманное внедрение чуждых видов имело трагические последствия: взять хотя бы колорадского жука или ротана, сорную рыбу семейства головешковых.
С люстры засвистели нецензурно, галёрка захлопала.
— Но поголовная депортация — не наш метод, — вдруг вздохнул Себастьян, захлопывая толстый том, — ибо международное сообщество нас не поймёт. Нету правовой базы.
На люстре загалдели радостно, галёрка недовольно молчала. Слова попросил ара Погосянц, давно живущий в городе адвокат по лесоотводу. Эффектно взбив ножкой оранжевый хохолок, адвокат предъявил собранию коллективное прошение на предоставление политического убежища (четыреста сорок подписей) и коллективное заявление о приёме на работу.
— Господа! — воскликнул в микрофон ара, — эти птицы готовы стать полноценными членами общества и приносить городу пользу. Кроме того, международное сообщество нас не поймёт. Нету правовой базы.
— А кем же они хотят работать на благо города? — настороженно поинтересовались из зала.
— Ночными сторожами на птицефабрике! — заорали несколько голосов сверху.
При этом известии директоры обеих птицефабрик вскочили с места, замахали в воздух дулями и закричали в один голос: «Хрен вам в клюв! Знаем, знаем, чем кончится: бардак, блуд и яйца высшей категории размером с пятак!».
Поднялся гам. Мнение специалистов застенографировали и стали голосовать за самые жёсткие меры вплоть до ощипывания, но тут в зал вскочила белка Бэла Кржижановская, отдел по грибам, и закричала:
— Отбой! Главный Егерь велел передать: отбой, с попугаями надо повременить, а то Европа нас не поймёт.
— Пусть и акклиматизирует их у себя, если простых вещей не понятно, — заорал с места Гаврилыч, — фиг ли нам европейские понятки?!
— Ша, Гаврилыч, — отвечала белка, подняв коготь, — если на тебя разок какнули, так пойди и помойся. А с Европой нам сей момент ссориться не с руки — на вокзал Б-ск-I только-только привезли два вагона семян сортового рапса, посевная на носу…
Поняв, что вопрос с депортацией отложен в долгий ящик, большая часть попугаев снялась с места и выпорхнула на улицу. Кржижановская выдержала паузу и принялась излагать заинтригованным собравшимся весь расклад.
Меж тем в розовом здании через две площади шла примерно такая же беседа. Собрав в Овальном зале самый ближний круг, Главный Егерь мерно вышагивал вдоль большого стола с картой области, собираясь произнести самую значительную речь за последние три года. Откашлялся.
— Да… прямо скажем, выпал нам шанс — в корне… на триста шестьдесят градусов развернуть историю нашего леса.
— На сто восемьдесят, — поправили из зала.
— На сто восемьдесят щас кому-то бошку открутят, слышь, грамотный! Тут волна идёт на миллиарды, а он меня пунктуации учит… Короче, с рапсом вот какая ботва: попугаи, мать их, натрындели в сельхозкомитете, что в Европе норовят готовить из рапсового масла биодизель… Мы эти сведения проверили. Действительно, хоть наука ещё толком не определилась, но, чтобы вписаться в рамки Киотского договора, фирмачи над вопросом работают активно. А мы на западном рубеже Родины торчим — не считая Калининграда, но он уже ломоть отрезанный. И пропускаем через себя нефтепровод «Дружба»! Кому как, а руководству области обидно смотреть, как полнокровно отмечается день нефтяника — и не иметь возможности хоть пипетку воткнуть в Трубу.
От волнения докладчик даже остановился, опершись руками о стол, и склонился над картой.
— У нас только на выселках можно сто тысяч га засеять. Этот рапс-хренапс ведь ещё чем хорош: жрать его невозможно и пропить не пропьёшь — кому он надо? То есть, ростим повсюду, создаём стратегический запас, а если из Центра запрос — морду ботом, мол, на комбикорм, чтобы земли не стояли. Пока, слышь, Европа у себя технологию отработает, как раз наша нефтянка гавкнется, недра-то не бесконечные! А мы уже тут как тут со своим сырьём, гоним его по «Дружбе» по шестьдесят долларов за баррель. И опять Европа без нас, как запор без клизмы — неприятно, а надо…
— Без нас — это без России? — аккуратно уточнил зубр Кондратий Опонежко.
— Ну… и без России тоже…, — задумчиво отвечал Сам, подойдя к окну и глядя на пустынную в это время площадь, — мы тут на малой родине маленечко потренируемся… а потом и на большую вырулим…
Собравшиеся привстали и посмотрели в окно через плечи Егеря. На секунду представилось, что внизу не битая гранитная плита, а красный булыжник, и не гостиница «Десна» застит обзор, а купола Василия, и где-то за лесотехнической академией небо отливает жёлтым — это бесконечные рапсовые поля отражаются в серых облаках. Все вздрогнули, сели и откашлялись, как бы прогоняя наваждение.
— Но с попугаями нужно погодить. Мы с ними разберёмся тотчас же, как возьмём Европу за… в сырьевую зависимость возьмём её, родимую. И хохлов за это дело возьмём, братьев бывших, иудушек… Сделаем мир многополярным — с одного конца Америка, с другой — Б-ский лес. Яхту купим самую длинную, какая только в реку влезет. Клуб какой-нибудь английский купим — и распустим тут же… поджопников им напенделяем… и Бэкхему заодно, чтобы серёжки не носил, как баба… и распустим демонстративно. Попугаев этих заутюжим в цыплёнка табака, прямо с перьями. А пока надо потерпеть, а то объявят бойкот нашему рапсу — и белорусы на нем подымутся…
В этом месте речь главного была прервана диким воем, чириканьем и криками «гаси вокзал!». Подбежавши к окнам, было видно, как из сквера Карла Маркса, со стороны облдумы, вылетел сначала красно-сине-зелёный клубок, впереди которого несся оранжевый ара Погосянц, а следом за попугаями выскочила толпа разношёрстного народу, возглавляемая росомахой Гаврилычем, даже нутрия Себастьян семенил в арьергарде, занеся над головой толстый том Брокгауза и Эфрона.
Налившись фиолетом от ярости, Сам в запале полез на подоконник, сунул голову во фрамугу и только собрался закричать: «пиндец всем настал, кто тут мечется!», как двери распахнулись и без доклада вскочившая белка Кржижановская завизжала нечеловеческим голосом:
— Сожрали! Склевали! Два вагона склевали попугаи, два вагона сортового рапсового семени, как французскую булочку распатронили!
Немного поприподзастряв в форточке от такого известия, Егерь почти сполз с подоконника в бережные руки подчинённых, чуть постоял, глотая пыльный кабинетный воздух, и сказал секретарше, распустив узел галстука:
— Ирэна Пална, откройте постановление по попугаям, пожалуйста.
Ирэна Павловна немедленно открыла.
— Пронумеруйте пункт шесть-шесть-один-а. Скобка открывается: …заявляем о полной своей терпимости к попугаям. Но, для скорейшего вхождения в ряды районированных пород, надобно, чтобы они сдали экзамены по русскому языку на кафедре сравнительной се… се…
— Семантики, — подсказала секретарь.
— Вот именно… и выглядели, как… как… — главный оглянулся, ища классических форм; первой на глаза попалась Кржижановская, — и выглядели, как белка. То есть отрезать им крылья и вставить в жопу, как хвост. Вот такой попугай отвечает исконным российским представлениям о… о…
— О прекрасном, — подсказала секретарь.
— О хренасном! Представлениям о волнистых попугаях. Ставьте точку. На подпись, пожалуйста.
Подышал на печать, прижал, подписал «К исполнению и доложить», уронил голову на руки и заплакал.
Через неделю после выхода постановления в городе не осталось ни одной волнистой твари. Большинство издохло в леску в пойме Десны, неподалёку от станции Б-ск-I, объевшись рапсовым зерном до удавления, кое-кто улизнул-таки на Украину и поднял хай в прессе, рассказывая жуткие истории о межрапсовом конфликте в Б-ском лесу, остальных отловил росомаха Гаврилыч и отравил ядовитым поцелуем падальщика.
Совсем уж ни за что пострадал ара Погосянц, которого Гаврилыч настиг в подъезде Дома-С-Часами и десять минут держал в заложниках, ухватив за хохолок и водя у клюва острыми клыками. Адвокат закатывал глаза, два раза падал в обморок, но таксист только приговаривал:
— Не нравится? Не нравится?! А какать тебе нравится?!!
Глава пятая, апрель 2007
Куланша Гуля, хоть и старательно скрывает свой возраст — а какая женщина не скрывает? — но делает это непринуждённо, без натуги. Немудрено: в гулины сколько-то там с хвостиком в Европах только-только выходят из девичества. В б-ских же наших гребенях всё происходит согласно природному расписанию, и посему у куланши на попечении уже то ли два, то ли три жеребёнка и муж-оглоед, за которым она прибыла лет пятнадцать тому из среднеазиатских республик. Но пустяки, наличие семейства лишь оттеняет гулину природную ладность. Почти альбиноска, куланша носит пшеничного цвета гриву, стриженую по последним наказам Сергея Зверева, мышцы ног её ладно перекатываются под шелковистой шкурой, а когда Гуля ненароком дрожит спиною, как бы сгоняя невидимую муху — о-о!.. даже кабаны припадают к стёклам троллейбусов.
Кое-кто, выпимши лишнюю граммульку, на ушко уверял автора, что на правой задней гулиной икре, под шёрсткой, наколота махонькая татуировка, и, мол, потому она никогда не бреет ног, а муж её, оглоед, именно по этой причине раз от разу показывает жёниным знакомым длинные жёлтые опасные зубы.
Но в целом в гулиной семье всё протекало спокойно — пока модный стилист Пчелинский Валентин не устроил себе ребрендинг: выкрасил стены золотисто-медовыми сотами, развесил на них картины маслом с цветами-медоносами, и рассказывал всем, что, мол, логотип ему разрабатывали два месяца во всамделешнем дизайнерском бюро. Денег взяли уйму, но получилось выразительно: на хорошенькую, но несколько всклокоченную женскую головку откуда-то с высоты опрокидывается порядочная бочка мёду, а внизу подпись латиницей «Bdjelinski». Этого показалось мало, и за ЦУМом установили баннер: на всякого проезжающего по проспекту Ленина пронзительно и загадошно глядел сам Валентин размером 3х6 метров, а внизу шла подпись строгим шрифтом Times New Roman: «Привет вам, почитатели моего таланта». Рассказывают, в первый день две дамы достигли оргазма прямо в маршрутке, но может и врут.
Гуля же, увидевши баннер, нечаянно обронила: какой гламур… Слово «гламур» разорвало Магомедхабибу душу, ибо корнем своим явно имело «л’амур», что по-французски, как известно, означает «любовь».
Как всякий ревнивец, кулан принялся двигаться в разных направлениях, стараясь перехватить инициативу. Перво-наперво купил в киоске пачку глянцевых журналов, и, уяснив про какой такой гламур-тужур идёт речь, стал воплощать его на дому, рассудив, что лучше дома, чем на стороне. Так, к ужину были приготовлены суши-сашими по рецепту из газеты «Городская карта»: разложить на настольной циновке листья водорослей нори, на них сваренный до липкости рис о-су гохан, пропитанный соусом «Киккоман», сверху сладкий омлет, сверху сёмгу из вакуумного пакета и резаный огурец, свернуть в ролл и дать настояться. Поскольку в оба городских суши-бара Магомедхабиб жену не пускал, в рестораны не водил, в первый раз отведав на ужин настоящие японские роллы, Гуля от воодушевления устроила мужу тысячу-и-одну ночь, но облегчение кулановых страданий было временным.
Надо сказать, куланша давно просилась съездить на море. Хотя бы в Крым. Хотя бы всей семьёй. Оглоед по обыкновению удивлённо задирал редкие брови кустиками и честно спрашивал «а зачем, э?». «Загорать!» — только и оставалось язвить Гуле, да ещё хлопнуть дверью. То ли вислоухий дурак действительно не чуял сарказма, то ли делал вид, но только это самое «загорать!» крепко отложилось в упрямой башке. Даже Магомедхабибу было ясно, что загар — прерогатива человечья, голокожая, но нет предела техническому совершенству и, когда объявили о новой салонной процедуре: «Технология моментального загара без ультрафиолетовых лучей! После ошеломительного успеха в Европе и Америке, наконец-то в России! Оденьте свою кожу в бронзовый цвет на основе вытяжек из сахарного тростника!» — кулан понял, что пробил его час.
Магомедхабиб купил большой букет мелких белых хризантем — и по дороге не съел ни одной. Магомедхабиб встретил жену после работы призывным взглядом, как в молодости. Магомедхабиб сказал: дорогая! я хочу тебе делать суприз, э? Сердце Гули замерло на мгновенье, потому что в глубине души она всегда любила своего вислоухого дурачка. Магомедхабиб сказал: дорогая! я тебе закрою глазки, чтобы суприз, да? Гуля посмотрела на мужа томно, как в молодости, и поклялась себе, что если так пойдёт дальше, сегодня опять будет тысяча-и-одна ночь. Магомедхабиб вытащил новые, ручной работы шорки, ласково одел на глаза любимой, ласково посадил её в выехавший из-за угла белый лимузин (две с половиной тысячи в час, чтоб вы знали!) и поехал в новый солярий. В солярии всё уже было договорено. Не снимая шорок, Гулю долго водили по коридорам, наполненным загадочными ароматами, касались её спины нежными шёлковыми материями и павлиньим пером, после чего поставили во французскую кабинку для автозагара и на полторы минуты включили все восемь форсунок… Когда жена выскочила из кабинки и содрала с себя шорки, Магомедхабиб смог только вымолвить: ва… как Наоми Кэмпбэлл…
Гуля подбежала к зеркалу, и оттуда на неё глянула не хорошенькая белогривая куланша в самом соку, а тёмно-коришневая дикая ослица. Гуля снова закрыла глаза. Гуля развернулась к мужу задом и изо всех сил лягнула правой ногою прямо в длинные жёлтые опасные зубы…
…Когда Магомедхабиба привели в чувство, жены уже не было, и дома её не было тоже. Почтовый ящик на мобильнике ледяным голосом отвечал: иди на хер, чмо вислоухое, ты мне не муж, я тебе не жена. Кулан вышел на балкон, в ночь, и заорал от горя ослом так, что с Неведомого пруда заорало в ответ чудище Мыколай Иваныч. Оглоед заметался по дому в поисках наводки, но нашёл только журнал, открытый на странице с рекламой нового отеля: синее небо, синее море, на песчаном берегу влюблённая парочка, и даже со спины видно, что французы. «Отель „Круиз“. Апартаменты для новобрачных. Завтрак, шампанское в номер. Мы ждём вас по адресу пос. Супонево, ул. Шоссейная, д.8, 3-й этаж, спросить Симакову». Кровь ударила в глаза Магомедхабибу; в Супоневе отродясь не было не то, что моря, но даже захудалого прудца, а что такое апартаменты для новобрачных с шампанским в постель — ясно даже детям. С ужасом представляя себе жену и стилиста в нумерах с таким паскудным названием, ревнивец в полчаса своим ходом прискакал в Супонево, нашёл Шоссейную улицу (она там вообще одна) и, выбив двери, ворвался в апартаменты.
Понятное дело, не было в «Круизе» ни Гули, ни стилиста, а были два тихих печальных гомосексуалиста, один из Москвы, другой вообще из Голландии, давно и безнадёжно влюблённых друг в друга. У каждого дома семья и бизнес, и встречались влюблённые раз в году, на какой-нибудь нейтральной территории — в этот раз остановились в хорошеньком придорожном отельчике чуть не доезжая Б-ска, знать не зная ни про какие наши местные заведёнки. Трудно себе представить, что пришло бедным геям на ум, когда ворвался к ним в комнату среднеазиатский дикий осёл, занесённый в Красную Книгу и принялся шариться по шкафам с криком: игде мой жена?! уб’ю сукин сын Пчелинский, шайтан, маму его видел по всякому! Ещё труднее представить, как объясняла Симакова постояльцам, почему вызвали милицию, а прискакали два лося в фуражках и загоняли разбушевавшегося Магомедхабиба в «воронок» ветвистыми рогами… Впрочем, это проблема Симаковой, согласитесь.
Гуля, меж тем, сидела у подружки белки Бэлы Кржижановской, и обе уже порядочно нахлестались неразбавленной «Клюквенной на коньяке», и плакали обе при свечах от тоски. С чортовым сахарнотростниковым автозагаром решено было расправляться радикально, эпиляцией — не ждать же следующей линьки?! В результате провалялись в постели весь следующий день, а ввечеру, совершенно никакущие, отправились в салон красоты в Дом-С-Часами, и долго выбирали между воском, лазером и фотоэпиляцией. Рассудок всё же не оставил наших подружек, и решено было не радикальничать, а только состричь под машинку самые тёмные кончики волос, а гриву осветлить. Осмотрев полученный результат в большом зеркале, Гуля почти что успокоилась сердцем, но вдруг задумалась на секунду и решительно попросила таки сделать фотоэпиляцию на задней правой, там, где скрывалась под шёрсткой знаменитая наколка.
— Четыре тысячи, если по колено, — предупредила мастер, беря в руки инструмент.
— Да хоть четырнадцать, — отвечала куланша бесшабашно, — жги, родная!..
Смеркалось. Домой шли пешком по проспекту Ленина, и не было машины, которая не просигналила бы подружкам вслед, но девчонки только отмахивались хвостами, как от мух. Где-то посередине дамбы вдруг глухо заскрипели тормоза, и енотовидная собака Лёва распахнул двери белого лимузина:
— Гюльчатай Хабибасовна! Бэллочка! А вот — к нам!
Из салона замахали приветственно фужерами с шампанским коза Сидорова и Ирэна Павловна, секретарь из присутствия, донеслась бешеная музыка. Подружки переглянулись.
— Вот честное слово — к нам, — не отставал Лёва, — мы тут недалечко, сразу за угол и в «Фортуну», там сегодня мужской стриптиз из столицы: «настоящие парни с настоящим телом, вы не забудете это шоу никогда!». Цитата. Ну же, девчонки?
Гуля никогда не была не то что на мужском стриптизе, но даже и в самой «Фортуне» (гнездо разврата, надо сказать). Гулину ногу жгла выставленная на свет татуировка. Белка плюнула на бордюр и шмыгнула в лимузин. Куланша подумала-подумала, и тоже села. Лимузинщик Вова дал по газам…
…Магомедхабиба отпустили из «телевизора» уже затемно, надавав поджопников и попытавшись повесить дело о пропавшем из подъезда велосипеде, да не совпали отпечатки пальцев. Кулан много передумал в неволе, и даже один раз сказал себе: «тупой ишак», но негромко. Повесив голову, шёл он вниз по Фокина, мимо УВД, мимо кофейни, и у самой «Фортуны», светящейся букетами прожекторов и вывеской мужского стриптиза, его обогнал белый лимузин, на котором ещё вчера вёз отраду сердца своего, Гюльчатай Хабибасовну. Дверь лимузина открылась, из неё выскочил не по-хорошему возбуждённый Лёва. «Ва! — вяло удивился кулан, имея в виду вывеску и давешних голубчиков из отеля, — и ты туда же?», но тут на асфальт посыпались коза, секретарша и Кржижановская. «Ва, ш-шайтан!» — подумал кулан не без уважения. Дверь всё ещё не закрывали, и вдруг на тротуар, освещённый ярко-жёлтым лучом, неуверенно ступила знакомая до каждого суставчика, но совершенно голая ножка, где по-над самым копытцем выколото было то, что должен был видеть только он, Магомедхабиб, и только в самые лучшие минуты своей жизни…
…Гуля сидела дома около недели, потом всё-таки вышла на работу, пряча под попонку порядком выдранные хвост и гриву, и около месяца испуганно прядала всякий раз ушами, когда муж говорил: пора домой, дорогая. Лёва уехал в Трускавец, поправлять здоровье хохляцкой минералкой. Белка Кржижановская обнаружила у себя в хвосте четыре седых волоска. Белый лимузин, за который Вова ещё не отдал кредит, и который неосмотрительно хранил во дворе своего дома в Радице-Крыловке, неизвестные спалили той же ночью, дотла, и теперь в Б-ске остались только три чёрных — два коротких, один длинный, — и все три работают исключительно на свадьбах, от греха.
Глава шестая, май 2007
В середине апреля 2007 года правительство Эстонии приняло окончательное решение перенести «Бронзового солдата» с холма Тынисмяги в центр города. Демонтаж монумента и снос мемориальной стены в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года повлекли за собой массовые волнения в Таллине и других городах Эстонии.
Википедия
По мнению британского правительства, бывший офицер ФСБ Литвиненко был отравлен полонием в Лондоне по приказу органов государственной власти России.
Википедия
Теперь-то уж всем понятно, что наши, местные события с ревельскими безобразиями никак не связаны хотя бы по той причине, что спроси у любого в лесу: «что за Тынисмяги такое?» — и в ответ тебе споют с фальшивым акцентом: «Спаси-ттэ, спаситтэ, спаси-и-иттэ разбиттое сердце моё!». А нутрия Себастьян, интеллигент и энциклопедист, добавит, что Тынис Мяги — это советский эстрадный исполнитель.
Из-за Себастьяна и началось: пришла весна, овраги распустились всеми оттенками зелёного, и, как всякому учёному, нутрии об эту пору сделалось не до сна. С утра, понимаешь, шарится по лесу с сачком и папкой для гербария, и на расспросы отвечает туманно: «мне в пятницу доклад читать на конференции…» или «глобальное потепление обязывает каждого интеллигента…». Ну, так наши уже и не спрашивают, привыкли.
Ладно.
Недели тому две или три из оврага Лесные Сараи вдруг визжат страшно: курва, мол, косолапая, урою враз, мол, хрена ли ты тут чкаешься?!!! Мужики из гаражей поповыскакивали: ба! Несется, выпучив глаза, сквозь крапиву и череду, медведь Зайончонков, за ним совершенно взъярённый Себастьян, и клацает страшными резцами с явным намерением отгрызть и без того куцый медвежий хвост. Насилу разняли, но медведь объясниться не мог, а только дышал прерывисто и кричал, что ничего такого не делал, даже нужду в Сараях не справлял, ну разве вот надрал несколько крапивин на щи — жена заказала. Нутрия же попервоначалу говорить был не в состоянии, а только сидел на земле, плакал и что-то рассматривал махонькое в кулачке — оказалось, бабочка, раздавленная, но ещё довольно-таки целая.
В конце концов выяснилось, что Зайончонков наступил на редкий вид, мнемозину Parnassius mnemosyne osiliensis. Медведь, конечно, расстроился, закряхтел, обещал проставиться в ближайшие выходные, но энциклопедист его уже не слушал, а лихорадочно листал карманный справочник, и завыл пуще прежнего:
— А-а! Это была не Parnassius mnemosyne osiliensis! Это подвид Parnassius mnemosyne estonica — эстонский эндемик, у нас такие ваще не водятся, шуба ты ходячая…
Не обижаясь на «шубу», медведь ухватил под микитки и Себастьяна, и мнемозину, и сачок и, натурально, сволок куда следовает, потому что в разрезе последних событий дело запахло политическим, как бы даже не шпионством или вредительством.
В жёлтом доме по улице имени писателя М. Горького обоих внимательно выслушали, открыли справочник на нужной странице и убедились, что, действительно, в Сараях завелось насекомое из бывшей Эстляндской губернии. «Ага…» — задумчиво сказали в жёлтом доме и радировали сначала непосредственному руководству, а потом и в Главное Лесничество.
По городу пошёл нехороший шепоток. Говорили, засланные эстонцы тайно разбрасывают страшную насекомую тварь, которая по ихним расчётам должна догрызть то, что не догрызли полосатые жуки из штата Колорадо: репу, щавель и брюкву. Говорили также, эта самая мнемозина эстоника откладывает яйца в область бикини, и вылупившиеся гусеницы в три дня выжирают всё хозяйство под корень, а вывести их можно исключительно раствором медного купороса в керосине… За три дня слухи набрали такой неприятный оборот, что Главному Егерю пришлось зачитать по телевизору отчёт, где говорилось, что мнемозины кушают только побеги травы-хохлатки, и ещё очиток, называемый также заячья капуста.
— Но! — сурово сказал Егерь, отложив отчёт, — мы пристально следим за ситуацией и не допустим! В данный момент проводится мониторинг всех памятников с целью проведения дальнейших действий. Если что — крепенько дадим по ручкам, так и имейте!
С учётом четырёх городских кладбищ, памятников в Б-ске прорва. Во-первых, конечно же, богатырь Пересвет на коне, а подле них музыкант Баян с гуслями, которые прошлой зимою какая-то падла откурочила и снесла в скупку. Во-вторых, поэт Тютчев напротив драмтеатра, про которого рассказывают, что под плащом у него в целях экономии металла не сделано штанов, а одни лишь семейные трусы. Ну, Лениных мы за памятники не считаем, но зато видали б вы нашего оленя возле ДК глухонемых — м-м-м… красавчик! Это, между прочим, тот самый олень Василий Эдуардович, который: «Вези, Лесной Олень, По моему хотенью! Умчи меня Олень В свою страну оленью, Где сосны рвутся в небо, Где быль живет и небыль, Умчи меня туда, Лесной Олень». И по сию пору, по прошествии стольких-то лет, поэт-песенник Энтин никому не рассказывает, как написался хит, но вы у него и не спрашивайте, а спросите у любого б-ского старожила. Тут же в лицах вам распишут, как поэт на четвёртый день командировки вышел из гостиницы «Б-ск» воздуха глотнуть, и поволокла его нелёгкая через дорогу, в магазин «Тысяча мелочей», за штопором — в шесть-то утра! Ладно, за штопором, так за штопором, иди себе спокойно.
Василий Эдуардович, глухонемой благородный олень, в эти же шесть утра трусил по обочине на работу (он тогда ещё не на пенсии был). И вот представьте себе: поэт-песенник на четвёртый день командировки виз-а-ви с белым (альбинос) глухонемым оленем. Утро. Туман. Ветер в кронах гудит; возле гостиницы «Б-ск» всегда ветер, потому что она на монастырском кладбище поставлена. И тишина. Поэт выразил изумление, а олень, хоть и глухой, но по губам читает, принял на, буквально, счёт своей мамы, покойницы. В полседьмого, когда уже троллейбусы поехали, песенника обнаружили на голубой ели, он сидел где-то в середине её кроны, а в комель рогами стучал Василий. В итоге поставили поэту диагноз «delirium tremens, зрительные галлюцинации, нервный срыв» и отправили за счёт ВОГ на воды в Трускавец, где и была написана песня. А Эдуардычу, соответственно, поставили скульптуру, потому что — мужик! Ну, и для понту тёлку к нему пририсовали, хотя по жизни не любил баб-с за трындёж. Выйдя на пенсию и поддав по полной, Василий непременно шёл спать под свою скульптуру, какая б ни была распогодица, и уж тут-то ни один лось его в мойку забрать не смел. Мужик, одно слово.
Но это мы ушли в сторону.
Меж тем комиссией по охране памятников очень скоро было обнаружено надругание сразу над двумя монументами, и это уже были никакие не хаханьки, потому что оба были памятники освободителям (выделено автором). И в любое другое время случился бы шум, а при нынешних рамсах и вовсе вышел скандал с намёком на мировую закулису.
Во-первых, начисто пропал монумент Пролетарской дивизии, многофигурная бронзовая композиция. Композицию поставили лет двадцать тому назад, и она тут же начала пропадать, потому что полое бронзовое литьё очень удобно отпиливать по кусочкам и носить в скупку. Лет через десять безобразие заметили, памятник демонтировали и свезли на завод по соседству, чисто отремонтировать.
— И вот на заводе, скажем прямо, — чеканил Егерь на пресс-конференции, — на заводе-то его окончательно спи… прое… заххху…
— Демонтировали, — подсказала Ирэна Павловна, секретарь из присутствия.
— Да! Как какие-то последние эстонские чухонцы.
— Чухонцы — это финны, — поправила Ирэна Пална, — а эстонцы — это чудь.
— Я и говорю: как последние эстонские чудаки поступили товарищи с завода! Но мы им указали на вид, что они неправы. Правда ведь, господа заводчики?
В середине зала встал представитель завода и покивал головой, держась за левое ухо. Из нагрудного кармана его пиджака торчал разодранный пополам галстух.
— Мы, конечно, виноваты, — сипло покаялся представитель, — пустили процесс на самотёк. Но есть и достижения: согласно отчётности у нас ни одного эстонца в картотеке. А памятник мы тово… восстановим… Только уж разрешите в этот раз из чугуна, и цельнолитой? Ещё поступило рацпредложение: в сплав добавить полония, буквально чайную ложку, а? И если какая-нибудь сволочь монументу руку всё-таки отхреначит, то мы его найдём на пятые уже сутки — придём, и плюнем на могилку.
— Валяйте, — разрешил Главный, — только аккуратно, в перчатках.
В общем, если с Пролетарской дивизией худо-бедно разобрались, то с Лосём-Освободителем вышло совсем несуразно.
Статуя Лося стоит аккурат у входа в СИЗО, и официального статуса на себе не несёт. Но на кой ляд ей официальный статус, если всякий прохожий не преминёт потрогать Освободителя за правый рог и произнести заклинанье не заклинанье, а присказку: «сидельцам — чифирьку, вертухаям — табачку, куму — (нецензурное пожелание), а мне, добру молодцу, вовек не попадаться». Говорят, очень помогает от милиции, и даже от жёлтого дома по улице имени писателя М. Горького. А всё потому, что с Лосём нашим связана одна романтическая история, ещё дореволюционная.
Значит, так. В позапрошлом веке Б-ск был невелик: десяток кварталов да Набережная с рынком. На весь-провесь город было то ли три, то ли два городовых, и вполне хватало. Ладно.
Один, значит, молодой городовой, лосёнок почти что, сам из Почепа родом, влюбился в одну дуру местную, ну, и всё по полной: цветы в стойло кидает, мычит под окнами, сена откуда-то воз приволок. А она, вишь ты, кобылячится — я за вас, говорит, Афанасий, не хочу замуж итти, потому что вы, говорит, мне кажетесь натурой приземлённой, не способной на подвиг и романтику. Ну — дура. А у Афанасия уже такой либидоз, что глаза болят — на них изнутри давит. Он и отвечает: я вам, Маруся, может, замуж и не предлагаю. А насчёт подвига — читайте «Губернские ведомости». Той же ночью пошёл к тюрьме, да и выбил рогами ворота. Все заключённые, не будь дураки, разбежались.
Что там дальше с Афанасием и Марусей было, история умалчивает, но зато среди заключённых на тот момент оказались политические, эсер кабан Бригадный и два большевика, братья Семён и Патриций Чумкины, зайцы-русаки. Семён в гражданскую погиб, а Патриций дослужился до подполковника, и уже после НЭПа написал книжицу про свои с братом перипетии. В тридцать седьмом его расстреляли за троцкизм, но книжечка где-то в библиотеке осталась и после войны, вишь ты, всплыла. Какая-то умная голова в отделе культуры прилепила к Афанасию байду с любовью и перерождением из городового в героя-революционера, тут же сладили пьеску и показали в драмтеатре, да так удачно, что некоторые в зале рыдали. В закрепление эффекта изготовили скульптурную композицию «Афанасий и Маруся» и установили на месте непосредственного подвига.
Во-о-от. А теперь глядь-поглядь, а волшебный рог у Освободителя отломлен напрочь, и ни следа. Оказалось, начальник СИЗО распорядился, обидевшись на нецензурное пожелание. Ну, здоровый разве человек? Вызвали на ковёр:
— Ваша фамилия Лупецку. Вы, часом, не эстонец?
— Нет, я молдаванин по отцу, а по маме не скажу.
— Ты, дурья башка, зачем Лосю рог отколупал?
Молчит, дуется.
— Ладно, — говорят, — иди, и чтоб всё было как раньше.
— Ещё лучше будет, вот увидите!
— Ну-ну…
Так он взял, гад, поставил возле Афони и Маруси детский домик, на курьих ножках, разноцветный, рог же так и не приделал, принципиально. Но на всякую хитрую у нас с фонариком есть: мы теперь Освободителя за другое место трогаем, и присказку всё равно читаем, потому что проверено, помогает.
P.S. Откуда мнемозина взялась, так и не узнали.
Глава седьмая, июнь 2007
Столицей зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 г. назван Сочи. Такое решение было объявлено в Гватемале, где прошла 119-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК).
Из новостей
Первым неладное заподозрил таксист росомаха Гаврилыч. Пять раз за ночь возил он туда-сюда компанию выпускников из Жуковки: то им на Набережной в фонтане купаться, то в Жуковку за мамкиной самогонкой, то обратно в Б-ск, встречать на Покровской горе рассвет — умаялся страсть, особенно же переживал, что у детин посреди дороги кончутся деньги. Но деньги всё не кончались, с каждой поездкой гаврилычев карман согревала новая синенькая, и было росомахе от этого успокоительно. Уже в шестом часу, уговорившись на «последний разик» и полторы в один конец, Гаврилыч, на сто сорока подъезжая к областному центру, с размаху ударил по тормозам. Вся гоп-компания с матюками навалилась ему на волосатую шею. На матюки росомаха вниманья не обратил, а вышел из машины и оторопело уставился на то место, где ещё три часа назад стояли облезлые бетонные буквы «Б-ск — город партизанской славы», а теперь красовалось новенькое жестяное «Сочи — город, который достоин». Пассажиры тоже выскочили наружу и самый трезвый, мальчик-эмо с чёлкой на глазу, констатировал: «чо-то я как-то не втыкаюсь…», а самая пьяненькая, худенькая блондинка с засосами по всей шее, заплакала в голос и повалилась на колени прямо в новеньких чулках. Третьего дня она ходила в «Родину» на роуд-муви триллер «Попутчик» и испугалась, что сейчас будут мучить.
Не разобравшись, но твёрдо уверенный, что прибыл на малую родину, Гаврилыч дальше поехал с осторожностию. Птицефабрика была на месте, и Самолёт стоял, где положено, но прямо над кольцом-развязкой какие-то бобры с вылупленными от удивления глазами торопливо вешали огроменную растяжку «Привет участникам зимней Олимпиады! Добро пожаловать в Сочи! Проезд к морю — направо, через Чёрный мост и влево. Купаться запрещено».
Направо, через Чёрный мост и влево всегда располагалось озеро Мутное. Купаться в нём, действительно, было неприятно.
Твою мать, сказал росомаха и нервно закурил. Блондинка уснула, эмо на всякий случай быстренько поцеловал её за ушком. Высадив компанию на Покровке, к которой вёл указатель «гора Большой Ахун», таксист купил большую «Русского азарта» и нажрался в одно лицо, не доходя до дому.
Город меж тем просыпался. Сразу после Гимна и «Пионерской зорьки» радио скомканно забулькало, причём явственно слышны были слова «ёф-тыть… у-у-у, мля… просто пиндык!», после чего радостный женский голос исполнил песню «Сочи — город, который достоин!», а «Шумел сурово» не спели вовсе. Раздражённые пенсионеры бросились звонить на радио, но по телефону отвечали грубо и трубку бросали. Наконец бульканье прекратилось и знакомый голос Главного Егеря торжественно произнёс:
— Дорогие мои сочинцы! Как быстро бежит время! Ещё вчера вы были обыкновенные б-цы, а уже на следующей неделе у нас наступают всемирные зимние Олимпийские игры, а мы будем их, едрёныть, столицей. Встретим же игры грудью и достоинством. Сочи-и-и, город, который достои-и-ин! Оле, оле-оле-оле, «Динамо», вперёд!
— Сегодня и всю последующую неделю по телеканалу ГТРК «Б-ск» в прямом эфире он-лайн репортаж о подготовке зимних игр в наших родных Сочах! — бодро объявил диктор.
Новосочинцы поспешили к телевизорам, и оно того стоило. Он-лайном шла передача про то, как Главный инспектирует фронт работ. Съёмка велась в три камеры, одна из которых всё время крупно давала лицо, и очевидно было, что Сам ничуточки не пьян, а только курит одну за другой «Беломорканал», щурясь и пуская уголком рта сизый дым. У лица Егеря ведущая Галина Насонова держала длинный микрофон и хорошо поставленным голосом спрашивала о том, что волновало сейчас каждого сочинца:
— Ваше Высокопревосходительство, ладно — Олимпийские игры, но почему всё-таки Сочи?
— Что ж тут непонятного? — удивлялся Сам, одновременно руководя установкой приветственной растяжки во весь пятнадцатиэтажный фасад мэрии, — Россия заявку на Сочи подавала? Подавала. Песню по радиу двадцать раз на дню крутили? Крутили. Бренд создали (Сам произносил «бренд» через «е»)? Во такой брендище создали (Сам показал руками размер брендища. Выходило размером с семикилограммового сома). Что ж теперь добру пропадать?
— Ну, так уж и пропадать, — осторожно уточняла Насонова, — Сочи, небось, тоже хотели бы им воспользоваться…
— Хотели, да вспотели! Кто успел, тот и спел! Галюня, ты что, против малой родины?
— Нет, — отвечала ведущая, аккуратно выкручиваясь из объятий, — я — за малую родину, но как быть с МОК? Вдруг не хватит голосов?
— МОК? МОК?! В трусах песок! МОК покурит в сторонке, пока мы тут будем золотые медали для Родины печь, как оладушки. А припрутся, им Зайончонков по пи-и-и-ип настучит. Скажи, Аркаша?
— Легко! — бодро отвечал медведь Зайончонков, но в глазах его металась тревога.
— Ладно, Сочи, — не унималась Насонова, — ладно, Олимпиада, но почему зимняя?
— Чё-то я, Галюня, тебя не пойму. Ты сегодня, случаем, не выпивала? Что значит «Почему зимняя»? Заявку подавали на зимнюю, вот и зимняя.
— Но ведь это же неудобно…
— Неудобно в гамаке, ноги проваливаются, а Олимпиада — самое то. Ну, говори по пунктам, что тебя не устраивает?
— Ну, слалом, например… Его же планируется провести в Соловьях, под лыжным трамплином?
Тут Главный потянул журналистку за рукав, перебежал площадь Ленина, сквер Карло-Маркса и, запыхавшись, остановился на краю Потёмкинской лестницы. Камера бежала за ними.
— Вот! Самая сложная трасса в Европе, зуб даю.
— Ваше Превосходительство, но тут же ступеньки…
— Галя! Не буди во мне! Ты точняк выпивала! Дураку известно, что ступеньки, так ведь потому и самая сложная. Без ступенек куражу немаэ. А тут, если кто до низу доедет — сразу чемпион. Кстати, кто от нас кто у нас поедет?
Ирэна Пална, секретарь из присутствия, быстро-быстро перелистала страницы и сообщила бледным голосом: Опонежко Кондратий. После чего где-то на заднем плане послышался шум и третья камера немножко не в фокусе показала, как подъехавшая «скорая» долго кружится вокруг престарелого зубра Опонежко, упавшего в обморок. Наконец из машины вылез реаниматолог и вылил на морду бедолаги никак не меньше поллитра нашатырю. Зубр, шатаясь, встал.
— Не-не-не, — закричал издали Главный, — Кондраша, не ссы, у тебя ещё неделя на адаптацию. Пошёл, пока, нарезай лыжню!
Кстати, Аркадий, что у нас с ледовым дворцом?
— Ремонт там плановый у нас…
— Это, брат, херовенько… Ладно, давай, значитца, заливай стадион Динамо, и морозьте его по полной…
— Ваше превосходительство! Ну как — «морозьте»? У нас через два дня матч с «Шинником», билеты проданы.
— Зайончонков! Ты сегодня не выпивал? А ну, дыхни.
Медведь дыхнул.
— Странно… а как будто выпивал, скажи Галюня? Я ему — заливай для всемирной Олимпиады, а он мне про матч с «Шинником» дудонит. Заливай, кому говорят!!!
Медведь отскочил и расстроенно пошёл распорядиться насчёт Динамо.
— И где у нас Игнат? Бобёр у нас где?
Подвели за лапу Игната, причём шёл он, закрыв глаза.
— Игнат Петрович! А?! Чего жмурисься?
— Бобры зимой впадают в спячку, — отвечал Игнат.
— А если им на хвост наступить, они просыпаются? Ага, разожмурился. Доброе утро! Игнатушко, выручай, нужно отстоять честь города в биатлоне. Биатлон у нас будет в старом аэропорту, там всё равно покамест ничего не построено.
— Надо — отстою. Только я стрелял два раза, в тире. Один раз пиво выиграл.
— Уберите камеру. Ещё уберите. И отойди подальше, слышь, тарантина. Игнатушко, — засипел Егерь бобру интимно, на ухо, — будет тебе и пиво, и вобла. В аэропорту щас бригада ваших устанавливает мишени. Ты только становись напротив седьмой, к ней идёт дистанционное управление — ты пёрнешь, она повалится, и так восемнадцать раз подряд. Яволь?
— А лыжи?
— Что — лыжи?
— В биатлоне лыжи ещё.
— Да? Вот что: мажь хвост лыжной мазью №7, для оттепели, и покатил, да? Разрешаю. С меня пиво.
Разобравшись, поехали смотреть море. Бывш. оз. Мутное глаз не радовало: бычки, битое стекло и утоптанный, как асфальт, берег. С очистных, с противоположной стороны Московского проспекта, несло плохо перепревшими фекалиями. Операторы бродили по берегу, пытаясь найти план покрасивше — и не нашли. Воцарилось неловкое молчание.
— Значит, так, — задумчиво сказал Егерь, — убирать тут бесполезно. Поэтому привезти самосвалов тридцать песку и присыпать все к едрене-фене. А в воду через каждые два метра опустить электроудочку, для стерилизации. Только не забудьте вынуть, когда иностранцы приедут.
— Электроудочки запрещены к использованию, — ни к селу ни к городу отозвался вдруг из толпы нутрия Себастьян.
— О, — обрадовался Сам, — Себастьян, у тебя сачок с собой?
— Да…
— Никуда не уходи, вылавливай весь мухуяр, что всплывёт от электричества. Отвечаешь лично. В воду не лезь, труханёт.
Теперь поехали все в «Спорттовары». Будем покупать зимнее обмундирование для нашей сборной и четыре дюжины калориферов для Олимпийской деревни Большое Полпино.
— Это — потому что игры зимние? — догадалась Насонова.
— Всё-таки накатила с утра, да? А теперь прочухалась, смотрю, соображалку включила. Уважаю — за профессионализм.
…К вечеру всё было распределено. Коза Сидорова отвечала за фигурное катание на площади Эволюции. Белка Бэлла Кржижановская — за бобслей по дико убитой дороге слева от Покр… от горы Большой Ахун, и налево, к Октябрьскому мосту. На никому не понятный кёрлинг поставили Ирку Фердыщенко — просто потому, что дура. Ну, и так далее.
Прямой репортаж закончился около полуночи, но часов до трёх утра весь город жужжал по телефонам, обсуждая шансы сочинской команды. Сошлись на том, что шансы есть, но нужно поработать.
Утром радио рявкнуло пуще вчерашнего, и сразу, без Гимна и Зорьки, включили «Шумел сурово», после чего в микрофон долго кашляли, сипели и всё тот же знакомый голос, тщательно пережёвывая слова и периодически сглатывая ком, отрапортовал:
— Короче… Сочи опротестовали наше решение через прокуратуру… Типа, Сочи — это бренд, с такой, знаете, махонькой хренотенью в кружке — «R» английское. Ну, и МОК чё-то там завыдрючивался. Короче, отбой покамест. А жаль, такая волна патриотизма накатила.
Радио немножко помолчало, потом спросило: ну, где у вас тут тумблер? Вот этот, красненький? Что-то щёлкнуло, но звук не ушёл, а только сделался приглушённее.
— Значит, так, Аркаша, — сказал Главный Егерь и вздохнул, — ежели ты ещё мне раз скажешь: а не раскумариться ли нам, Ваше Высокопревосходительство, чуйским ганджубасом — я тебя, чмо косолапое, прикопаю детским совочком прямо на газоне. Ты проникся?
В динамике захлюпало.
— Теперь. «Шинник» приезжает через два дня. Ты всю воду со стадиона откачал?..
Глава восьмая, июль 2007
Цена за жизнь «террориста номер один» на планете Усамы бен Ладена увеличилась. Сенат приказал Госдепу США поднять планку до 50 млн. долларов.
Взгляд, деловая газета
— … И вот, согласно результатам секретного лингвистического анализа, в последних выступлениях вышеозначенного Беньямина Ладена присутствует не свойственное арабскому языку фрикативное «гэ». Кроме того! — нутрия Себастьян даже помахал в воздухе волосатым когтистым пальцем, — Кроме того, по неподтверждённым данным, при мощном усилении фоновых шумов удалось вычленить фразу: «что ты тут чкаешься, как Аноха бордовицкая?!» Как известно, блаженненькая Аноха проживала в селе Бордовичи Б-ского уезда в конце девятнадцатого — начале двадцатого века, и вошла в местные поговорки и присказки…
— Я вот сижу тут уже полчаса, — прервал докладчика Главный Егерь, нетерпеливо барабаня пальцами по столешнице красного дерева, — сижу, значит, и думаю: ты, Себастьянушко, не еврей ли?
— Я нутрия! — отвечал нутрия обиженно.
— А гундишь ну натурально, как еврей: бэ-бэ-бэ, бэ-бэ-бэ… Вроде по-русски, а ни бельмеса не понять. Ты толком объясни, что за цидулю нам прислали с фельдегерями, и почему на ней «совсекретно» стоит?
— Так я же и объясняю: столичные аналитики считают, что в нашем лесу может прятаться Бен Ладен, террорист номер один. Предлагают объявить в розыск, но без шума, дабы не поднимать излишне заранее.
— Еханый бабай… Значит, Ирэна Пална, пишите резюме по совещанию: «Предложить службе охраны военного аэропорта Сеща усилить действия по охране самолётов». На словах передайте: припрётся на КПП старик-хоттабыч в тюрбане на всю бошку — гнать в три шеи, к технике не подпускать. С него станется, сядет в «кукурузник» и ка-ак чмякнет об горсовет…
— А розыск? — растерялся Себастьян.
— Херозыск! Мы тут Ладена выловим, а они там в белокаменной медальками будут бренчать. И они ж его за океан сольют, как пить дать. Ты что, за америкосов радеешь? Я — нет. И не гунди мне, что мы партнёры по антитеррористическому взаимодействию. Такие партнёры в овраге лошадь доедают.
Всё, совещание закончено, пошлите в «Ла Веранду» обедать.
— А пятьдесят миллионов долларов премии?
— …Так, быстренько все сели на места, дверку прикрыли. Сколько, ты говоришь, миллионов долларов?
— Пятьдесят. Американцы платят. Можно будет городской планетарий отремонтировать, и ещё останется на джазовый фестиваль.
Присутствующие внимательно посмотрели на докладчика и жалостливо вздохнули.
Резюме вышло такое: «Совсекретно по Б-скому лесу. Террориста Бениамина Ладена арестовать. Шухера не поднимать, в Москву не докладывать, а напрямую выйти на американские спецслужбы и выдвинуть ультиматум: они нам пятьдесят миллионов ежегодно, а мы за это держим террориста №1 в областной психлечебнице „Малое Полпино“, колем внутримышечно сульфазин, не даём летать на самолётах и шариться в интернете. Если откажутся, грозим передать Ладена белорусскому батьке Лукашенке, и пусть тогда пеняют на себя. Печать. Подпись».
Легко сказать: арестовать. В УВД на основе имеющегося видеоматериала составили фотороботы нескольких версий внешности искомого Бена, но получилась сплошная сумятица. Согласно одному мнению, коварный араб мог полностью сбрить с себя бороду и тюрбан, переодеться в гражданское и ассимилироваться с коренным населением вплоть до распивания спиртных напитков и поедания сала. Вторая версия предполагала бритьё одной лишь бороды, но зато переодевание в женскую одежду и туфли марки Motivi. Третий эксперт выразил уверенность, что Бен Ладен внешности менять не будет, но радикально переменит выражение лица: с человеконенавистнического и фанатичного на дружелюбное и простецкое. Все три варианта расклеены были на стендах «Их разыскивает милиция» и пропечатаны в газете «Б-ский рабочий», причём за содействие в розыске обещался бонус в пятьсот долларов США.
Не то, чтобы пятьсот долларов такие уж большие для нашего леса деньги, отнюдь. Но халява, друзья мои, халява, — вот ключевое слово в процессе становления правового общества. Город взбурлил.
Уже к обеду в Советский РОВД лейтенантом-лосем Анциферовым и капитаном-лосем Убобожко был доставлен в наручниках совершенно лысый и гладко выбритый гражданин, при дальнейшем осмотре оказавшийся бывш. депутатом Государственной Думы Василием Ивановичем Шандыбиным. Согласно рапорту, вышеозначенный Василий Иванович в трико и тапочках сидел в парке им. А. К. Толстого, играл в домино и вёл себя ассимилированно, а именно: пил пиво и ел хычини со свиными сосисками. По дороге в РОВД капитан Убобожко умудрился взять у Анциферова предполагаемую часть будущего гонорара за поимку в размере двухсот пятидесяти долларов США и пропить их в кафе на первом этаже казино «Ройял».
Перед бывшим депутатом извинились и даже довезли до парка на ровэдэшном уазике, но уже через полчаса Василий Иванович с разбитой бровью вновь оказался в обезьяннике РОВД, причём у доставивших его лося Канталупцева и медведя Зайончонкова, соответственно, были сорваны погоны, отломана внутренняя часть правого рога и прокушены оба уха.
На этот раз невинно арестованного довезли прямо до квартиры и уже из-за закрытой двери порекомендовали пару дней не выходить из дому. Тщетно. По наводке соседских детей проходившие по улице Горького сотрудники УБЭП Ривкиндтдт, Померанцев и Зевако с применением спецсредств ворвались в квартиру депутата и попытались произвести арест, после чего были увезены на машине «скорой помощи» в поликлинику УВД. К Василию Ивановичу лично прибыл замначальника УВД и слёзно упросил перекантоваться несколько дней в гостевом домике на базе летнего лагеря школы милиции, со сплит-системой, плазменным телевизором и баром во встроенном шкафу. По базе Василий Иванович принялся, от греха, ходить в резиновой маске с внешностью Вл. Вл. Путина, отчего слухи по городу поползли самые неимоверные, сходившиеся лишь в том, что Бен Ладен сдался добровольно и теперь Президент размышляет над указом о помиловании, ибо выдавать кого бы то ни было кому бы то ни было Россия не намерена.
Параллельно развивалась история с гражданкой Ихтиянц, арестованной в полибрендовом бутике «Платинум» после того, как некто позвонил по 01 и изменённым голосом сообщил, что, мол, там-то и там-то сидит восточного вида якобы женщина, но с усами. Пока с арестованной разбирались, совершали личный досмотр и ждали результатов генетического анализа, муж Ихтиянц был замечен в кафе «Чилим» с двумя студентками строительного колледжа, блондинками.
И совсем уж не повезло козлу Валентину Рубашкину, шедшему с пляжа и намотавшему на рога большущее вафельное полотенце на манер тюрбана — для просушки. В морде Рубашкина действительно было невероятное сходство с Ладеном, опять же, борода и бешеное выражение глаз. По совокупности признаков козёл просидел в КПЗ четыре дня, пока не пришёл факс о том, что аналитики из центра нечаянно проанализировали видеозапись Бен Ладена, но переозвученную Гоблином.
Тут бы и конец истории, но плохо же вы знаете наших. Вскрылось вдруг, что террорист №1, несмотря ни на что, пойман в лесу под Почепом и идут интенсивные переговоры в рамках Б-ск — Вашингтон.
Надобно сказать, область наша уникальна по месторасположению, и одним своим куском под городом Климово примыкает одновременно к Украине и к Белоруссии. Ежегодно на этом клине у Монумента Дружбы празднуется праздник единства славянских народов, и именно к Монументу ранним июльским утром выехала кавалькада чёрных машин с тонированными стёклами. Договорённость была такая: с продажной украинской стороны колонну встречают американские специалисты по Бен Ладену с четырьмя чемоданами наличных денег; с белорусской стороны ждут своего часа хлопцы батьки Лукашенко. Наши предъявляют террориста, получают бонус на ближайший год и гарантируют отсутствие неприятностей от главного врага Америки. И так каждый год по пятьдесят миллионов, что не так уж и много за безопасность целой североамериканской нации.
По дороге к месту «Ч» была совершена попытка нападения на колонну, впрочем, совершенно неудачная: боевые дятлы из спецназа УИН точными и мощными ударами тренированных клювов вывели из строя четырнадцать засранцев в камуфляже, остальные спаслись бегством в сторону украинского леса.
Прибыв на место, Монумент окружили тройным кольцом спецназовцев, оставив покупающей стороне невеличкую щель, только лишь чтобы смотреть в бинокль. Знаменитый араб, кажущийся на экране компьютера довольно-таки субтильным, был выведен из чёрного фургона и оказался здоровенным мужчиной с пудовыми кулаками. Чёрная борода его трепетала на ветру, белый тюрбан был несвеж и несколько съехал набок, глаза горели ненавистью в сторону украинской части леса, и даже стоя за полкилометра от террориста, держатели четырёх чемоданов каждой клеточкой кожи чувствовали исходящую от него мощь и неприязнь.
Но сделка сорвалась…
— … Ну, Василий Иваныч, — горевал после всего Егерь, — ну пятьдесят мильёнов на кону, ну кто ж тебя за язык тянул?
— Да я и сказал-то всего: янки — кирдык! Это хоть по-арабски, хоть по-каковски понятно, — оправдывался бывш. депутат.
— Да?! А вот «бля буду, кирдык» — это по-каковски?
— Ну, не стерпел, — Василий Иваныч чуть не плакал, — я, может, всю жизнь америкосу эту фразу сказать мечтал. Не удержался я.
— Ну ты б хотя б дождался, пока деньги получим, а потом мечту воплощал! Что ты шмыгаешь носом? Четыре чемодана прошмыгал. Планетарий могли бы отремонтировать, ещё и на джазовый фестиваль хватило бы.
— Джаз — музыка толстых.
— Да без тебя знаю…
Глава девятая, август 2007
«Экспедиция была очень сложной, но мы счастливы, что установили российский флаг на глубине океана, где никогда не было ни одного человека. И мне наплевать, что по этому поводу говорят какие-то там зарубежные деятели. Если кому-то это не нравится, то пусть сами попробуют туда опуститься и что-нибудь установить», — заявил предводитель «Арктики-2007» На дне был установлен выполненный из сверхпрочного металла флаг России и капсула с посланием потомкам, флагом Третьего Международного полярного года и памятной медалью.
«Я не уверен, что именно они водрузили — металлический флаг, резиновый флаг или пластину на дне океана. Но, чем бы это ни было, это не имеет никакого легального значения или эффекта для этой заявки», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Том Кейси.
Взгляд, деловая газета, 7 августа 2007 года
— В этакую жару, — высказал бобёр Игнат, — жить надобно в воде! Жить вообще лучше бы в воде, как деды наши живали, а на берег лазать за хавчиком и по большой физиологической нужде.
— Позвольте с Вами не согласиться, — вяло оспорил нутрия Себастьян, — на берег выходить следует только за зарплатой, а всё остальное — исключительно в воде… особенно по интимной части… я, помнится, в студенчестве с одной нарезал тут недалеко, за детским пляжем…
Разговор шёл в воскресенье на берегу озера Мутное, где оба сидели по горло в тёплой коричневой влаге, раз от разу отгоняя от себя проплывающие мимо алюминиевые банки. На берег, где лежали полотенца, пакет с помидорами сорта «Чёрный принц», пупырчатые огурцы и фуфырик, обёрнутый от жары в старую футболку, даже и не глядели. Солнце било в темя. На утоптанной суше Ирка Фердыщенко азартно играла в пионербол с какими-то мужиками с Б-ска-Второго. Весь пляж отстранённо следил за траекториями фердыщенковского бюстгальтера и думал об одном и том же: вот ведь дура… В общем, было хорошо.
В этот момент со стороны Чёрного моста послышался рёв моторов, и в полуденном мареве видно стало, как от магистрали в сторону Мутного, обгоняя друг друга, движутся две колонны чёрных «вольво» с простыми, запоминающимися номерами, типа Ж 999 ЖЖ.
Свадьба с Карачижа, подумал Игнат, нажрались косорыловки и прут наперегонки.
Вообще обнаглели стритрейсеры, подумал Себастьян, уже посреди бела дня газуют.
Это Алик, сволочь, подумала Ирка, хрен ему.
Не угадал никто. Первая колонна, остановившись с восточного края озера, который ближе к Советскому району, открыла двери джипов, из них посыпались люди с геодезическим инструментарием и быстро-быстро забегали между полотенец и подстилок, жужжа рулетками. Вторая колонна, напротив, завизжала тормозами на западном берегу, со стороны Фокинского района, но дверей не открывала, а только выглядывала в окна, чего-то ожидая. Вскоре по просёлку запрыгала старенькая «газель», волоча за собой жёлтую квасную бочку, тут и западные выскочили, сняли ёмкость с колёс, вынули из багажника газосварочный аппарат и принялись безжалостно резать-паять крашеные бочкины бока.
Во, блин, подумал Игнат.
Интере-есно, подумал Себастьян.
Точно, Алик, подумала Ирка, так вот хрен ему, пусть помучается, сволочь.
Восточные смотрели в теодолит и вбивали колышки, западные ставили в прорезанную дырку толстое кривое стекло — по всему выходило, иллюминатор. Снявши пиджак и галстук, в бочку полез довольно-таки упитанный гражданин, в котором тут же опознали замглавы Фокинского района по органическим возобновляемым ресурсам. Замглавы кряхтел и норовил сложиться втрое, и сложился бы, но полные бёдра не пускали в люк даже хозяйского зада. В стане восточных саркастически захохотали. Не вынимая ног, затейник принялся яростно звонить по мобильному, и по лицу было видно, что на том конце связи посылают его куда подальше. Получивши очередной отказ, замглавы отчаянно огляделся — и увидел бобра с нутрией.
— Товарищ Себастьян! Товарищ Игнат! К вам обращаюсь я, как к представителю науки… и как к патриоту Фокинского района! Администрация района нанимает вас на работу! Приступайте немедленно, пока не случилось страшного!
— А чо страшного-то?
— А то, что эти чмошники из Советского района подзаконным постановлением претендуют на Мутное озеро, которое, будучи на фокинском берегу, всегда относилось к нашему району! Поэтому нужно срочно установить на дне озера флаг района, как символ географической принадлежности.
— Да до Фокинки отсюдова полдня на экскаваторе пахать! — заорали оппоненты, — вот ужо мы сейчас промеряем на местности и научно докажем, что Мутное гораздо ближе к Советскому! Не слушайте их, мужики, идёмте к нам, у нас пиво в термосе!
Но пива друзья не хотели, а плавать в бочке — это же мечта с детства, кто не мечтал, тот не пацан. Правда, вместо флага вручили им вымпел «Фокинскому району за II место в конкурсе патриотической песни» — больше в администрации ничего под руками не оказалось, на выходных-то. Ну и ладно. Бочку перевернули вниз люком и ухнули в воду, как заправскую подлодку. Ко дну она, ясный перец, опускаться категорически отказалась согласно закона Архимеда.
— Тьфу ты, — сказал Игнат Себастьяну, гулко дыша перебродившим квасным духом, — даже утопить как следовает не умеют. Ну что, нырнули по-простому, по-нашенски?
И нырнули. За последние десять лет никому нырять на дно Мутного и в голову не приходило. Через несколько метров ныряльщики с головою ушли в тёплое месиво ила и принялись усердно распихивать его лапами в поисках песка для втыкания махонького железного флагштока, но, сколько ни щупали дно, всё им попадалось какое-то плоское, гладкое и совершенно твёрдое покрытие, явно искусственного происхождения. Выскочивши на поверхность и хватая лёгкими воздух, потребовали себе герметичного фонарика ватт на сорок хотя бы. Нырнули с фонариком, долго не показывались на поверхности, а, всплывши, неистово закашлялись, замахали лапами, заморгали выпученными глазами и произнести сумели только одно: там — секретик. Тут уже из обеих администраций народ собрался, и с пляжа многие любопытствующие, но, сколько не выпытывали, твердят, как заведённые, мол, секретик, и всё. Явные признаки кессонной болезни. С другой стороны, а вдруг «секретик» — это как «слово и дело государево»? Позвонили Самому.
Главный Егерь, меж тем, никаким звонкам рад не был, потому что именно в этот момент проводил международную прогулку на уровне глав муниципально-федеральных образований. Третьего дня, вернувшись из Эмиратов и несколько расслабив всклокоченный отдыхом организм, Его Превосходительство обнаружили, что привезли с собою хвоста: в гостиной на кресло-кровати беспокойно спал шейх Али-ибн-Алифари-ибн-Суммелад XI, между прочим, наследный принц и прочая.
— Ёханый бабай, — подумал про себя Егерь, имея в виду, что супруга его с интересом расспросит Али-Суммелада XI про культурную программу в Эмиратах, но потом сообразил, что ни по-арабски, ни по-английски благоверная ни бум-бум, да и шейх за три недели показал себя только с лучшей стороны, не трепанёт.
Разбудивши гостя и выпив из холодильника четыре тёмных «Свени» местного пивзавода, кое-как вычислили, что арабский гость запрыгнул в самолёт уже в самый последний момент с целью осмотреть знаменитые керосиновые месторождения под посёлком Сеща. Залежи авиационного топлива образовались под военным аэродромом, где пятьдесят лет сливали недопаленный керосин прямо между взлётными полосами, и теперь учёные изучают феномен естественноприродной очистки низкооктановых ГСМ.
Ладно. Поевши окрошки и ватрушек с добруньским рассыпчатым творогом, отправились на променад в сопровождении законной половины, явно что-то подозревавшей. Во избежание ненужных разговоров, Сам заскочил в «Спорттовары» на Фокина и вышел весьма довольный, с рогаткой для прикорма рыбы в руках. На то, что жена отпустит ещё и на рыбалку, надеяться не приходилось, поэтому пошли в сквер Кырло-Мырло и стали азартно пулять из рогатки зелёными каштанами в латунную Золотую Рыбку в фонтане. Проходивший мимо кабан чинно приподнимал навстречу соломенную шляпу, желая здравия, на лавочке юные зайцы с «тоннелями» в ушах сипло пели под гитару из Цоя, гость, как ребёнок, радовался каждому попаданию, и в этот-то идиллический момент позвонили и сообщили про свихнувшихся под давлением нутрию и бобра.
С другой стороны, это был повод сдёрнуть от супруги по рабочему вопросу. Делая за спиной шейха круглые глаза и тряся телефоном, мол, по делу, уселись в лимузин и газанули. По пути пришлось придумывать на скорую руку отмазки, не объяснять же про «секретик»:
— Али Суммеладович, мы ща с тобой едем наш раша-аттракцион: головастиков ловить панамкой! Крейзи фрогги! Они у нас, блин, ядрёные, как бройлеры, с кулак. Берёшь, значит, соломинку… ну ладно, сам увидишь… прикольные такие, с кулак… матюкаются, блин… ну, сам услышишь…
А вот и Сам приехал, подумали все на пляже, пусть сам и разбирается.
А вот и Алик приехал, сволочь, подумала Ирка Фердыщенко. И, подойдя, молча с размаху ударила побледневшего враз принца Али-ибн-Алифари-ибн-Суммелада XI ребром ладони по арафатке, после чего упала в обморок.
Поднялся страшный шум. Главный, в ужасе перед назревающим международным скандалом, принялся трясти окаменевшего принца за рукав, говоря: да не обращай внимания, брателло, она у нас известная дура! Принц, наоборот, упал перед Фердыщенкой на колени и норовил сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, при этом шептал «чорние глаза… вспоминаю-уммираю…». Остальные просто бегали вокруг и поливали Ирку водой, пока не догадались отнести обомлевшую в лимузин, под кондиционер. За Иркой залез и шейх, из лимузина послышались звуки ещё нескольких оплеух и горячий крик «телефон теряль, мама клянусь!», в общем, оказалось всё не так страшно.
Ладно.
— Ну, где тут у вас эти секретнички? — наконец сообразил Егерь, кто сейчас за всё ответит. Ему указали на бобра и нутрию, отрешённо сидевших на берегу, свесив в воду хвосты.
— А-а! Игнат Петрович! Себастьян Венедиктович! Ага! Ну что, вы звали, я прибежал, давайте, выкладывайте, что там у нас на дне водоёмца?
— Секретик, — отвечал бобёр, трогая воду когтистой лапой.
— Действительно, у нас там секретик, — подтвердил нутрия.
— Я тоже знаю один секретик, — пообещал Главный, закипая, — я знаю, кто сегодня пойдёт к стоматологу ставить новые зубы.
Но угрозы не произвели ровно никакого впечатления. Щёлкая костяшками кулаков, Егерь распорядился привезти самую здоровенную бочку, какая найдётся, и в голосе его было столько тихой угрозы, что уже через пятнадцать минут огроменная дубовая тара стояла на берегу, распространяя вокруг себя аромат малосольных огурцов с тмином и чесноком, которые из неё только что выкинули.
— Значит, так. Ты, ты и ты — я сейчас зайду в воду по шею, а вы на меня эту кастрюлину сверху напялите, я в неё буду дышать. Я сейчас зайду на самую глубину, посмотрю, чего там такое, а потом выйду и этих двух грызунов пущу на воротники, слово пионэра. Фонарик мне быстро дали, ну?
Тут дверь лимузина распахнулась и из неё вывалились Алик с Фердыщенкой, обнаружившие в холодильнике коньяк «Белый аист». One moment! сказал шейх, скинул белые одежды и в плавках подбежал к другу, за ним со словами «теперь я тебя не оставлю ни на минуту!» примчалась Ирка. Всех троих накрыли бочкой, в которой тут же стало душно и тесно, и, еле переступая ногами процессия двинулась на глубину. Бочка тоже слушалась законов физики и норовила всплыть, но хитроумный замглавы по ресурсам додумался вскарабкаться на неё всем своим немаленьким весом, остальные бросились на помощь, и на середине озера на бочке балансировали уже человек пять.
Расшвыряв ногою ил, Егерь светанул фонариком и с изумлением обнаружил, что стоит на плоском листе толстого стекла, под которым проглядываются какие-то блёстки. Судя по всему, таким образом устроено было всё дно Мутного, от берега до берега. А, ш-шайтан, изумился и шейх, зато Ирка вдруг присела на корточки, выскочив на минуту из спасительного воздушного пузыря, а когда вернулась обратно, волосы её были мокры от воды, а глаза — от слёз.
— Мой секретик, — сказала Фердыщенко и глотнула коньяку прямо из бутылки.
Присел тогда и Главный, и прямо под левою ногой обнаружил блестящую круглую штуковину, про которую память шептала: ты это уже видел, видел…
— Твою мать, мой катафотик! Я его с дядивасиного «Урала» ночью свинтил! Хотел на велик поставить, а потом передумал, потому что собирался в лётное училище, я космонавтом хотел, понял?! Думал: возьму катафотик с собою в космос, и мамке в иллюминатор мигать, когда мимо пролетать буду! А покамест в секретик засунул, понял? Али Суммеладович, у вас там в Арабии секретики делают? Ну, секретики? Расчищаешь площадочку в земле, укладываешь всякую красоту, типа фантики, крышечки от чешского пива, стёклушки цветные, катафотики, на них — стекло, и сверху это дело маскируешь. Утром вышел, раскопал, полюбовался, вечером такая же ботва… Но меня выследили, понял, да? Утром раскопал — ни стёклышка, ни катафотика… И я космонавтом передумал после этого… У вас в Арабии катафотики тырили, Али Суммеладович? Ныряй, покажу!
Но араб уже сидел на дне, пускал пузыри и тыкал пальцем в еле видневшееся колечко с тремя бриллиантиками, явно на детский пальчик рассчитанное…
… — Ну, Ваше Превосходительство, что там на дне нашего районного Фокинского озера? — как бы невзначай спросил фокинский зам по ресурсам, когда бочку уже погрузили на «газель».
— Нет, позвольте, — опротестовал его советский оппонент, — GPS-расчеты показывают, что это озеро Советского района!
Егерь сидел на берегу, опустив ноги в тёплую воду. Шейх с Фердыщенкой укатили на лимузине в Сещу, ловить чартер в Эмираты, или хотя бы до грузинской границы. Рядом сидели Себастьян и Игнат. Молчали.
— Значит, так, пиши проект постановления: шельф озера Мутное, его прибрежную территорию объявить зоной повышенной секретности и перевести в распоряжение областного лесничества. Это раз. Здесь будем строить валютный дайвинг-центр повышенной комфортности, плюс отель пять звёзд. Это два. Вопросы есть?
Вопросов не было.
Глава десятая, сентябрь 2007
Комиссия по празднованию Дня города заседала безвылазно третий день, и коза Сидорова, стоявшая при буфете, идти в ночную в четвёртый раз отказывалась напрочь, тем более, пиво кончилось ещё вчера, а болгарское вино никто покупать не желал.
К обеду случилась почти потасовка, как в японском парламенте, и всё из-за реактивных самолётов. Городской голова кричал, что ему к зиме кровь из носу нужно пустить путепровод к Новому Городку, и денег на всякую летающую хню он не даст, хоть режь, на что комиссия отвечала: да забей ты на свой путепровод, дурья башка, тут момент политический! Говоря «политический момент» имели в виду приезд мэра Москвы Лужкова.
Ещё в июле отправили фельдегерем в Москву посылку с мёдом, и живыми раками, и банкой бобровой струи, и приложили приглашение на фирменном бланке лесничества. Сначала хотели позвать даже Сами-Знаете-Кого, но потом рассудили, что тому осталось меньше года, и что проку? Другое дело старик Батурин, вона как вложившийся в Сочи. Б-ская область, между тем, даст фору любой столице любой олимпиады, ибо стоит на перекрестье тыщщи дорог, и на одной таможне люди такую копейку подымают, что мама дорогая. Фельдегерь вернулся, доложил, что мёд Лужков при нём мазал на булку и ел с молоком, банку со струёй нюхал внимательно, насчёт раков ничего определённого, а на приглашение сказал: мы с Леной подумаем, если в сентябре в Турцию не махнём, то, может, и подкатим, тут езды четыре часа.
И теперь ждали Лужкова.
Пока кричали, Ирэна Павловна, секретарь из присутствия, принесла две докладных. В одной докладывалось, что вчера, и третьего дни, на Неведомом пруду в Верхнем Судке истово орал чудище Мыколай Иваныч, причём одно и то же несколько раз за ночь: «Пи-и-идоры-ы-ы! Все-э пидоры-ы-ы!» В другой адвокат по лесоотводу ара Погосянц просил аудиенции по вопросу об участии в демонстрации. В общем, обе записки малоприятные. Мыколая Иваныча в городе недолюбливают, но к слову его прислушиваются, как к гласу вопиющего в овраге. А Погосянц — адвокат, и замашки у него гадские.
Впустили Погосянца, тот с места в карьер нырнул в свои бумажки, долго искал, наконец, выудил нужную:
— Прошу только не подумать плохо, но ко мне обратились, и я не имею права… у-гм, значит… у-гм, вот: «…согласно закону об муниципальных образованиях, бла-бла-бла, в уведомительном порядке, бла-бла-бла, — а, вот! — участвовать в праздничной демонстрации отдельной колонной с транспарантами „Геи — за великую Россию!“. Просим обеспечить порядок и безопасность согласно бла-бла-бла». Конец цитаты, тридцать восемь неразборчивых подписей. Мои услуги оплатили через сберкассу №2.
Муха Шизованная перестала бить чёрной хитиновой башкой о стекло. В зале было очень тихо.
— Кого-о? — негромко уточнил Главный Егерь, — я правильно понЯл, геи — это такие пидоры? И это вот твоё «блё-блё-блё» означает, что они будут ходить со своим пидорским флажком по нашей демонстрации?
— Н-ну, я бы не стал формулировать именно так, — отвечал ара, бочком, бочком пробираясь к двери.
— Да мне перпендикулярно, как бы ты стал, курощуп оранжевый! — заорал Главный и запустил в адвоката тяжёлым цептеровским стаканом, но промахнулся. Дверь хлопнула. Всем хотелось думать, что Погосянц и сам из этих, но у чёртового попугая была стойкая репутация ходока и ловеласа.
— Значит, так, Аркаша, ты в курсе, что делать?
— Без вариантов, — отвечал медведь Зайончонков, — мы введём их в мир боли. Мы перекуём их морально. Они вздрогнут всем телом.
Все стали наперебой предлагать свои варианты воспитательной акции, и только ответсекретарь комитета по укрупнению престарелый зубр Кондратий Опонежко смотрел задумчиво.
— А вот Кондратий Семёныч почему молчат? Может, они разделяют взгляды?
— Кондратий Семёныч размышляют о политическом моменте, — отвечал зубр, жуя жвачку, — как-то слишком всё срослось: и московский голова едет, и Мыколай Иваныч орёт, и голубчики активизировались. Есть мнение, что это проверка на вшивость. Мол, как выкрутимся. Это один вариант. А второй — может, Лужкову голову намылили за запрет парада, всё ж таки перед Европой неудобно, и теперь достигнут компромисс? Типа: хрен с вами, посмотрю я на вашу пятую колонну, но не в столице нашей Родины городе-герое Москве, а рядом, в городе партизанской славы. А потом перед Евросоюзом отчитаются.
Опонежко был старый аппаратчик, и к нему прислушивались. Тут ещё и нутрия Себастьян, известный в городе энциклопедист, заметил с места, что самыми активными гомофобами являются, как правило, латентные гомосексуалисты.
— Да я не сильно активный, — пошёл на попятную Сам, — вон, у нас на малолетке был такой один — и я ничего…
— А у нас на погранзаставе тоже один прапорщик-удмурт всё на меня глядел так, специфически, — вспомнил и Зайончонков, — и я тоже ничего… Потом, правда, оказалось, он у себя в Удмуртии на медведя с рогатиной ходил.
Стали думать, чьи бы это могли быть тридцать восемь неразборчивых подписей, но, сколько ни считали, никак не набиралось по городу такого количества. Ну, козёл Рубашкин, ди-джей из «Фортуны». Ну, Потетенькин, Волянский и Чегорда — известные товарищи, однажды даже выскочили на сцену к Боре Моисееву, подарили цветы, плакали в восхищении. Ещё, там, несколько деятелей культуры… Но тридцать восемь не набиралось. Значит, заезжие. С заезжими был мрак, ибо под Лужкова позвали: духовой оркестр из польского города-побратима, духовой оркестр из Литвы, два клуба исторической реконструкции из Москвы и две группы девчонок-барабанщиц в киверах, одну из столицы, другую из Тулы. Барабанщиц сначала хотели вывести из-под подозрения, но зубр всё так же задумчиво спросил: «А вдруг это переодетые мужики с голыми ногами?», и решили как раз на барабанщиц обратить особое внимание.
План был — действовать по обстановке, исходя из реакции высокого гостя. Если нахмурится — мочить извращенцев, как девочек в песочнице. Если сделает вид, что всё нормально — пусть себе вертят жопами.
Семнадцатое сентября выдалось зябким, но солнечным. Народу вдоль проспекта Ленина стояло втрое противу обычного, и все пришли посмотреть на геев, слух про которых разошёлся с быстротой телеграммы. Через каждые пятьдесят метров стояли лоси в новеньких фуражках. Лужкова ждали до последнего, но вместо него прибыла женщина-заместитель главы муниципального района Сокол, говоря, мол, Юрий Михайлович могут и приехать, не волнуйтесь. Теперь женщина-заместитель стояла, опершись задом на постамент памятника Ленину, поддерживала светскую беседу с белкой Бэллой Кржижановской, отдел по грибам, и куланшей Гулей, но часто говорила невпопад. В Б-ске дамочка была впервой, и в голове её крутилась лишь одна мысль: это сон, это сон, а когда проснусь, расскажу всё мужу. Нет, муж скажет: пора уходить с этой долбанной работы. Тогда напишу докладную Юрию Михалычу — и в отпуск, в Карелию…
Оба духовых иностранных оркестра, напротив, ещё вчера нарезались в гостинице «Турист» с какими-то кабанами до состояния зю, и дружно нашли в этом особую приятность. Девочки же барабанщицы, приехавши в полседьмого утра, адаптироваться не успели, и только объяснили им, что вот эти олешки вдоль тротуаров — дрессированные, не бодаются, помогают милиции. Но барабанщицы всё равно шагали нервно, косились и на лосей, и на зайцев с шарами, и на бобра Игната в бойнице боевой машины пехоты.
За углом, на улице Горького, стоял засадный полк лдпровцев, а единороссы с лазоревыми флагами на углепластиковых удилищах притаились у самой дамбы, готовые затоптать пятую колонну массой. Стратегически всё было устроено безупречно.
Ровно в десять из уличных динамиков грянул марш, барабанщицы ударили палочками, трубачи дунули, военком принял доклад, колонны пришли в движение. Чем дальше шли они по-вдоль проспекту Ленина, тем больше вытягивались шеи зрителей, вычислявших гейскую группу, но никто не подходил по типажу, даже одетые в средневековые одёжки историко-реконструкторы в латах и оружии. Девчонки явно были женского полу, с приятными ногами в колготках сеточкой, а толстые весёлые трубачи — ну какие из них извращенцы? Напряжение нарастало.
Наконец напротив старого корпуса БТИ заметались лазоревые флаги. Впереди колонны три паренька развернули длинный голубой транспарант «Горжусь Россией!». То ли цвет навеял на енотовидную собаку Лёву нехорошие ассоциации, то ли нервы не вынесли ожидания грядущего несчастья, но только в этот момент выскочил он на проспект, аккурат напротив симпатичной блондиночки в алом кивере, заскулил, завизжал нечеловеческим голосом: «Пидоры! Пи-и-до-о-ры! Да они же пидоры все!», и даже несколько раз крутанулся волчком, ухвативши себя самоё за хвост.
Барабанщицы из Тулы как снопы повалились без сознания на асфальт, барабанщицы из Москвы сломали строй и с визгом бросились по проспекту, благо там уже под горку. Услышав заветное слово, единороссы римской «свиньёй» ломанули в сторону потенциального противника, но тут им в бочину колонны врезались возбуждённые члены местного отделения ЛДПР. В кучу-малу вклинились лоси в фуражках. Женщина-заместитель, стоя в короткой юбке на постаменте, стряхивала с плеча вцепившуюся в платье очумевшую белку и натужно кричала: это не сон! Это не сон!..
А Лужков так и не приехал.
Глава одиннадцатая, октябрь 2007
«Владимиру Владимировичу нет альтернативы. Конституция требует, чтобы был избран формальный глава государства, и ее нужно исполнять. Но фактически заменить Путина некем. Никакие теоретические рассуждения о принципе периодичной сменяемости власти не перекроют той данности, что он и только он может в полной мере гарантировать преемственность курса, социальную и политическую стабильность. Уход Путина из власти породил бы вакуум»
Газета «Известия»
А началось-то с ерунды.
Коза Сидорова, по образованию техничка, убираясь на третьем этаже облдумы, обнаружила поперек ковровой дорожки морщину, чтобы даже не сказать — пригорок. Ладно. Потопав на всякий случай по вспученному ковролину всеми четырьмя копытами, Сидорова только убедилась, что дорожку придётся закатывать и выметать оттудова всяческий мухуяр: песок, шерсть клочками, окурки, рваную бумагу, раздавленные каблуком пивные банки, разодранное женское исподнее, а то и чего похуже — да, да, да! Пустынные думские коридоры полны скрытой жизни.
Закатав дорожку до неприятного бугра, Сидорова обнаружила под ним всё вышеперечисленное плюс собственные козьи горохи.
— Э-ге, — подумала про себя Сидорова нейтрально, без эмоций, — э-ге-ге. Не столько-то я давеча была пьяна, чтобы под собственный коврик гадить. Э-ге.
В самом низу кучи обнаружилась порванная на осьмушки бумага с печатью, в которой легко угадывался документ с грифом «Комитет по короедам и сосновому шелкопряду».
— Э-ге, — подумала коза уже с предчувствием большой несправедливости, — бумажка-то со второго этажа, а не с моего, третьего…
Тут же вспомнился вчерашний вечер, плавно вытекший из праздника Примирения-и-как-там-его-ещё, в завершении которого Сидорова злорадно, но справедливо сделала за фикус на втором этаже. И правильно сделала, потому что Антонина Погребняк, нижняя техничка, две недели не давала никому единственный на всю думу пылесос, говоря: это для второго этажа и для приёмной приобретён!
— Ага, — сказала коза уже в полный голос, — вот, значит, как? Ага…
Стараясь не цокать по истёртым ступеням, коза спустилась на этаж и ещё из холла увидала выпуклую из дверного проёма нижнюю часть коварной Антонины — на свою беду та тоже выметала из-под ковра в приёмной остатки праздника. Не тратя времени на разговоры, Сидорова резко взяла с места и с разбегу страшно ударила обидчицу небольшими круто загнутыми рогами чуть пониже поясницы. Не ожидавшая ничего такого техничка Погребняк юзом ушла под старый, обкомовский ещё ковёр, за нею по инерции нырнула и коза, и там сцепились они в схватке, поднимая тучи пыли, громко рыча и блея от натуги. Пока представитель по ЦФО лично выволакивал из-под ковра за рога дурковатую козу, изгваздав новенький итальянский костюм с отливом, пока вызволяли охающую Антонину, в приёмную набилось порядочно зевак, и среди них, как назло, енотовидная собака Лёва, мать его так-то и так-то.
Вот Лёва-то и вынес сор из избы. Ладно бы просто растрепался, но нет, сделал как хуже, а именно: побежал в редакции, приврал с три короба, скачал фотки из телефона, а наутро сам же бегал по городу с воплями «В коридорах власти обострилась подковёрная борьба!». И раздавал газету, на первой полосе которой представитель по ЦФО на карачках лезет из-под ковра с искажённой физиономией. В цвете.
Город взбурлил. Никого не удивил бы мелкий дебош, пусть даже и в облдуме, после праздников с кем не бывает, но незнакомое словосочетание «подковёрная борьба» сильно взволновало общественность. Было в этом словосочетании что-то не по-хорошему столичное, что-то от большой и неприятно насыщенной политической жизни.
Срочно вызванный на комитет нутрия Себастьян, интеллигент и известный в городе энциклопедист, разъяснил, что словосочетание «подковёрная борьба», как и «закулисные игры», в данном контексте означает «сезонное обострение политических противоречий, вызванное неопределённостью ситуации с отсутствием реального преемника». На слове «преемник» всё собрание, как один, окоченело, и только белка Бэла Кржижановская, отдел по грибам, переспросила торопливо, с надеждой: приёмника?
— Преемника, — твёрдо поправил белку Себастьян и строго поглядел поверх очков, — то бишь кандидата в Президенты.
— Президенты России? — шёпотом уточнила Кржижановская.
— Её самой. А в чём, собственно, дело?
Ничего не объяснив, нутрию вытолкали вон, и только потом загалдели, ибо буквально третьего дня звонили из белокаменной в подкомитет и спросили прямо: в лесах ваших, случаем, преемник не завёлся? А то, мол, у нас тут обе столицы на ушах, всё ищем, ищем, да нетути родимого… И трубку положили. Главное, не объяснили, что именно требуется: найти и обезвредить или способствовать?
Несколько времени вели поиски своими силами, проводили тихое дознание. Меж тем слух о преемнике в брянских лесах вышел на улицы, кого-то озадачив, а кого-то и вдохновив. Так сукин сын Лёва из своего ларька у рынка немедленно стал намекать прохожим, что, мол, преемник — это он, Лёва, но, мол, время открыться ещё не пришло. За ним и раньше было не раз замечено, что неравнодушен к Президенту, но какою-то странною любовью; видя кумира в телевизоре, Лёва вздыхал порывисто и причитал всякий раз одно и то же: ах, какие ножки!.. — даже если гаранта показывали по пояс. Теперь же неугомонный пёс и вовсе взбесился, и брал на себя сверх всякой меры. Добросердечная панда Лю Цзы, не выдержав такого хождения по лезвию, пришла в киоск с увещеваниями, говоря:
— Тебе сто, плиспицило сыть лукавицы в Класнокаменске?
— Ах, Люська, — отвечал самозванец, — пусть и рукавицы шить, пусть и в Краснокаменске, зато потом — ах, какие ножки, и все четыре — мои…
— Как — цетыле? — изумилась панда, — у Сам-Знаешь-Кого две?
— При чем здесь Сама-Знаешь-Кто? — изумился в ответ кобель, — я тебе про Кони толкую! Ведь Кони — президентский лабрадор? Её же преемнику оставят?
— Лёва! Тебе давно плививку от бесенства кололи?
Поняв, что опростоволосился, собака немедленно от показаний отказался и залёг на дно. Других претендентов не было.
Ладно. Решили действовать как всегда, а именно: спросить заколдованное чудовище Мыколая Иваныча, живущее на заколдованном Неведомом пруду, что в овраге Верхний Судок. Технология опроса была отработана давно. Дачную тележку наполняли фуфыриками «Партизанской на женьшене», свозили к дачному товариществу «Дзержинец» и хреначили бутылками через огороды в сторону зарослей внизу оврага, одновременно громко выкрикивая вопрос. По бухгалтерии операция значилась как мониторинг общественного мнения с анкетированием фокус-группы. Иногда Мыколай Иваныч отвечал что-нибудь, иногда нет, но ни разу впоследствии не удалось найти ни следа от хоть одного фуфырика. Феномен.
В этот раз забросили пятнадцать единиц продукции Б-скспиртпрома, крича «Кто преемник?», а на шестнадцатой из Судка донеслись звуки расстроенной гармоники, пьяные непотребные частушки и только одна сколько-нибудь внятная фраза:
— А-а, мля, напужалися? Вот ужо большой ведмедь придёт, всех вас, удодов, оттапескает не по-детски!
Известие про большого медведя вынесли на расширенную коллегию в Хрустальный зал обладминистрации. Народу было тьма, в том числе и журналисты, и взоры всех присутствующих обратились на медведя Зайончонкова. Обыкновенно медлительный, тот вдруг уверенно поднялся, перебрался через стоявшие большим бубликом столы, встал как раз под свисающей с потолка огромной хрустальной люстрой и произнёс голосом, полным внутреннего достоинства и скорби:
— Я не причём, потому что неизлечимо болен.
— Чем же таким ты, брат, болен? — закричали язвительно из зала.
— Это наследственное, называется медвежья болезнь.
— Какая-такая медвежья болезнь?!
— Демонстрирую. Ирэна Павловна, будьте добры, поассистируйте.
Смущённая секретарь, прижимая коротковатую юбку к бёдрам (защёлкали вспышки), переползла через столы.
— Напугайте меня, пожалуйста, Ирэна Павловна.
— Да как же я вас напугаю-то, Аркадий Петрович?
— Сделайте пальцами козу (секретарь сделала). Скажите: «бу!» (секретарь сказала «бу»).
***
…Когда уже вся толпа выскочила из дверей и стояла на крыльце, втягивая ссохшимися лёгкими воздух…
…когда уже приехали ассенизаторы и вволокли в зал видавший виды шланг…
…когда уборщицы наскоро протирали под люстрой одноразовыми тряпками…
…только тогда Главный Егерь отбросил сигарету и произнёс, глядя на Зайончонкова с плохо скрываемым уважением: если ты, Аркаша, ещё хоть раз себе такое позволишь… ты меня знаешь… Медведь виновато стоял под голубой елью, но даже со спины было очевидно, что глаза его горят тихой гордостию.
Вошли, наконец, в зал, расселись, выпили воды из графинов, позвонили в колокольчик — и слова неожиданно попросил нутрия Себастьян.
— В данном контексте, — сказал энциклопедист и посмотрел поверх очков, — словосочетание «большой медведь» может быть иносказательным и означать: представитель группы или партии, отождествляющей себя с медведем. А большой — значит, главный представитель.
Немое ах! прокатилось в публике. У кого-то зазвонил телефон, но тут же был брошен на пол и раздавлен ногою. Бледный, как полотно, Сам встал с глубокого чёрного кресла и обвёл залу ищущим взором, как бы пытаясь найти опору, но все глаза тут же отводились в сторону, а в тех, которые не отводились, читалось: рукавицы шить… Краснокаменск… Одна лишь Ирэна, верная Ирэна, смотрела участливо и шарила рукой в сумочке, ища валидол.
— Не надо валидолу, — просипел Главный Егерь, — моя болезнь гораздо смертельнее… Ирэна Пална, милочка, сделайте, пожалуйста, козу и скажите, пожалуйста, «бу!»…
Глава двенадцатая, ноябрь-декабрь 2007
А начальника тюрьмы третьего дня чуть не уволили. Вызвали в управу, говорят:
— Лупецку! Ты чо?!
А он стоит, лыка не вяжет, просто гриб-пенициллинум в фуражке. Ему говорят:
— Лупецку! Работа у тебя сложная, спору нет. И про запой на полторы декады никто тебе ни слова не говорит, потому что все люди, и есть взаимопонимание. Но ежели ты, с-судорога, хамишь всему городу — накануне выборов! — то ты ведёшь себя неэлегантно, и за это получишь два балла в четверти. Э-э, Ирэна Пална, дайте товарищу из правого сейфа, на донышке, и рассолу из холодильника, а то такое ощущение, что он вместо нас зелёных человечков наблюдает.
Рассол начальник тюрьмы пить не стал, а вместо того упал на колени прямо посреди присутствия, стукнул себя кулаком в солнечное сплетение и сказал отчаянно:
— Дорогие россияне! Земляки! Я, конечно, немножечко тово, но службе это только на пользу, потому как в нашем деле без сюрреализьма нельзя. А что вы ругаетесь касаемо насчёт этой анаконды — гадом буду, из-за неё и выпимши, и сил моих более нету. Чтоб не голословно, вот, я привёл расконвоированного Лепнину, он вам подтвердит мою алиби.
После чего лёг ниц. Ввели Мстислава Лепнину, пожилого барсука, карманника. Расконвоированный некоторое время кряхтел и вздыхал, глядя на поднос Ирэны Палны, но, поняв, что ему наливать не собираются, насупился и заговорил безо всякой охоты:
— Да почём мне знать? Я же её не караулю, а только листья гребу в обед. Там (в скверике возле тюрьмы — авт.) сначала только лоси стояли, Афанасий, значит, и тёлка его. Потом вдруг на пеньке грибы появились: я утром вышел грести — грибы! Не настоящие, из жести, но вылитые опята. Вот, думаю, каков гражданин начальник тюрьмы, эстетику развивает, а с виду и не скажешь. Они тут сами из корпуса выходят, увидали, что я грибами интересуюсь, лицо сделали приветливое.
Ладно.
Другой раз выхожу — ещё грибы, мухоморы, тоже жестяные. Потом — избушка на курьих ножках, дети вокруг неё так и вьются — нравится. Хорошо! И так каждый день какая-нить хохлома. Наконец появились аисты на столбе, высоко. Я их не щупал — высоко — но тоже видно, что жестяные. Гражданин начальник прямо даже улыбались, и борщ в обед наваристый разносили в тот день, со сметаной, за четыре ходки такого ни разу не обедал.
А на следующий день появилась эта, мать её, анаконда: тулово из крашеного пожарного шланга, в заду хвост деревянный с чешуёй, впереди башка такая ж. Лежит в кустах и явно аистами интересуется. Лупецку увидал, насупился, говорит: а вот это, Лепнина, ты зря изобразил, тем более рукав пожарный испоганил. Я говорю: кто? Я? Да я вообще думал, эту красоту по вашему указанию блатари в цеху от нефиг делать лепят. Гражданин начальник говорят: во, блин, а я на тебя цидулину на досрочное подал, за художественность… Ну, как там ни было, а змея этого разбери, он мне не симпатичен, и рукав на место повесь.
Да пожалуйста.
На следующий день опять лежит, и видно, что к столбу ползёт целеустремлённо. Мы её с гражданином сержантом конвойным тогда спалили в овраге, от греха. А она опять ползёт! Лупецку ругается матом, лопатой гадину изрубил, а она через день уже на дереве сидит и пасть открыла. То есть, сожрать аистов желает, тварь, прямо мурашки по телу. Тут гражданин начальник от нервов запили с каптёром, и — чу! — ползти перестала, замерла. Но мы её всё равно каждый день с дерева сымаем по особому распоряжению.
Прошлую субботу засаду устроили: гражданин начальник собственноручно сели в домик, мы сверху крышу накрыли и четыре армянских тризвёздочки в окошко сунули, греться. Утром они такие вот, как сейчас, в домике скорчились, и с тех пор употребляют беспробудно, плачут на вечерней поверке.
В общем, не мы это делаем, зуб даю.
Лупецку повернулся набок, свернулся калачиком и, сказавши: это не мы делаем, это другие, уснул сном младенца.
Собрание задумчиво молчало, ибо что тут скажешь, если оно само из ниоткуда вылезает. Вон, прошлым годом на улице партизана Дуки за одну ночь возникся трехэтажный замок красного кирпича — натурально, в одну ночь. Зашли с проверкой, а там все городские девки сидят, в офисе четыре мамки, и на руках у них документы с печатями, что замок, тут же прозванный в народе «Бастилия», построен со всеми разрешениями и даже с согласия горархитектуры. У нас, говорят, профсоюз работников досуга, знать ничего не знаем. Послали роту ОМОНа разгонять этот бардак, а хлопцы возьми и зависни на неделю, на телефонные звонки не отвечают, пишут смски, мол, берём Бастилию; то же самое с депутатской комиссией. Так и стоит посреди города гадюшник. Историчка из школы №1 на этой почве поимела нервный срыв, потому что муж три ночи домой носу не кажет, а тема урока — французская революция и взятие Бастилии.
Но это так, к слову.
Первым, откашлявшись, заговорил Главный Егерь
— Значит, так. Начальник тюрьмы в данном режиме уже к субботе поприподсядет на белого коника. Это негоже. Но и из запоя выходить нельзя, анаконда как пить дать птицу сожрёт прямо на глазах у публики — на маршруте тринадцатого троллейбуса, а там ещё стадион «Динамо», детский садик милицейский и школа №2. Избиратель нам вандализма не простит. Отсюда предложение: входим в запой по очереди, вахтовым, так сказать, методом, чтобы разгрузить человека. Одновременно разбираемся, какая гнида ложит нам свинью накануне выборов в Думу и президента РФ.
— Кладёт, — поправил с места нутрия Себастьян.
— Ситуация такая, Себастьян Венедиктович, что кладём исключительно на орфографию. Кто за?
«За» были все, кроме Себастьяна, воздержавшегося до уточнения графика и оглашения винной карты. Первым рвался в бой рецидивист Лепнина, но ему, ясный перец, показали руку по локтевой сгиб и отправили на шконку. По размышлении решили начать с медведя Зайончонкова, всё равно он уже недели две как написал заявление на берлогу, и даже на заседании умудрился захрапеть. Выписали четыре ящика «На клюкве» с расчётом сорок литров на четыреста килограммов живого весу на неделю, уложили справа от избушки, под голыми плетьми ивы, закидали снегом и строго-настрого наказали отслеживать ситуацию, впрочем, не надеясь на результат.
Номер сработал, анаконда так и не поползла выше взятой высоты. Лупецку дома отпаивали минералкой и хашем, зато в районе СИЗО началась совершенная чертовщина. В среду напротив детской поликлиники (это метров сто вперёд по маршруту тринадцатого) откуда ни возьмись появилась пивная бочка. Ладно — в декабре, но тётка-продавец в набивном пальто торговала продуктом по пятьдесят копеек литр, хамила, не сдувала пену, а те, кто успел купить, уверяли, что в бочке было настоящее «Жигулёвское», тёплое и подкисшее. Некоторые пили, плакали от ностальгии и снова становились в очередь, но больше литра в одни руки не давали. На следующее утро возле поликлиники стояла огромная очередь с бидончиками и полиэтиленовыми пакетами, но ни бочка, ни торговка так и не появились. Толпа мужиков пошла в пивбар «Нептун» и к вечеру разнесла снежками витрины круглосуточного гастронома «Пятёрочка», крича: суки, такую страну просрали!
Дальше понеслось по нарастающей:
над второй школой двое суток висел дирижабль, с которого спрашивали по-немецки, где купить кексы производства ЧП Сичковой. Когда учительница немецкого указала в окно, что продукция Сичковой есть в наличии в магазине «Авоська», с дирижабля спустили на верёвке корзину, набрали кексов, кондитерской колбасы, и улетели в сторону Шибенца;
группа пингвинов на автобусе «Неоплан» подъехала к выставочному залу на бульваре Гагарина и коллективно посетила отчётную выставку художника Юрия Махотина, оставив запись в книге отзывов;
ди-джей козёл Валентин Рубашкин, резидент клуба «Фортуна» получил чёрную клубную карту, посреди вечеринки принявшись выгонять с танцпола малолеток, крича: хорошим детям здесь не место, а плохие Родине нахрен не сдались!;
ну и так далее.
При том расследование показало: к изготовлению художественной композиции у тюрьмы не причастны 1) воспитанники милицейского детского сада, ибо пожарный рукав был выкрашен масляными красками, в дошкольных же учреждениях пользуют акварельные и гуашь; 2) школьники, ибо трудовик клятвенно заверил: так ловко по дереву и жести у него не работает никто; 3) спортсмены СК «Динамо» по причине отсутствия чувства юмора, да и мозга. Троллейбусники в ответ на расспросы отвечали прямо: идите в жопу со своими хаханьками, лучше на повороте дорогу от снега разгребите.
На третью неделю, когда очередь дошла до нутрии Себастьяна (текила с червячками, скоч, ситро) случилась неприятность. Енотовидная собака Лёва снял на видеокамеру мираж — океанский лайнер, горящий тысячью огней, неторопливо плыл по улице Советской в семь утра, затемно. На раскадровке ясно было видно, как в брюхо лайнера вонзается совершенно реальный троллейбус и исчезает в глубине трюма, неся в своих окнах изумлённые, расплющенные о стекло лица пассажиров.
Сюжет показали на центральном телевидении, со всеми вытекающими последствиями. Меж тем нутрии удалось, кажется, выйти на первоисточник. Ровно в полночь в районе столба с аистами замечен был престранный тип: здоровенный негр с дубиною и двумя косичками в жидкой бородёнке. Сказавши «ай эм мистэ Эко», негр посмотрел на энциклопедиста мудро и внимательно, после чего дежурный по запою потерял сознание.
— Ага, я же говорил — это другие! — взволновался известием Лупецку, всё ещё жёлтый лицом.
Тридцать первого вечером, когда все нормальные люди уже прихватывают ложками оливье из большой фарфоровой салатницы, прямо под столбом с аистами милицейский патруль обнаружил некий механизм, видом напоминающий домашнюю маслобойку, но размерами выше человеческого роста, и в три обхвата. Проверив механизм на реальность, лейтенант Анциферов позвонил Самому, как и было указано в ориентировке.
В двадцать минут двенадцатого к маслобойке прибыла комиссия во главе с Его Превосходительством, который дежурил вот уже четвёртые сутки (на бруньках, «Балтика» №9, домашняя на калгане, рассол). Вывалившись из ПАЗика, комиссия озадаченно ходила вокруг механизма, пока оный не был опознан бобром Игнатом:
— Очень похоже, — сказал Игнат, — на установку по выращиванию искусственных сапфиров. Такие у нас на «Изотерме» собирают и корейцам продают. За валюту.
При словах «сапфиры» и «валюта» все принялись осматривать установку с удвоенным интересом. Неожиданно со стороны улицы Фокина выскочил длинный прицеп с надписью «Первый развлекательный» на оранжевом боку и, по-столичному взвизгнув тормозами, выкинул из себя несколько народу с проводами, прожекторами и микрофонами. Последней вышла неземной красоты телеведущая Тина Канделаки. В пылу профессионализма телеведущая вбежала в скверик, прожектора вспыхнули сразу и мощно, осветив разношёрстную во всех отношениях комиссию и прибор, кто-то за стеной света закричал «Камера!» и ничего не оставалось делать, кроме как сунуть микрофон крупному краснолицему мужчине и сказать: здравствуйте, я Тина Канделаки, вы в прямом эфире новогоднего огонька!
Не то, чтобы Главный боялся камер — ни-ни. Просто всё было несколько неожиданно.
— Здравствуйте, — отвечал он, стараясь поддержать лёгкий тон, — я вас давеча в «Плейбое» листал. Вы там голая. Нормально.
— Кхе-кхе, — закашлялась сзади Ирэна Пална, попутно выдирая из причёски серпантин и стараясь повернуться так, чтобы разрез на юбке был не чересчур очевиден.
— А, ну да, — сообразил Главный, — прямой эфир! Камера там? Разрешите обратиться к супруге? Дорогая! Видишь? Я работаю, как и говорил.
Чувствуя себя на грани здоровой женской истерики и ухватясь за микрофон, как за последнюю здравую нить, Тина Канделаки спросила тоном лёгким, но несколько натужным:
— Говорят, у вас тут нарушаются все законы физики, материя возникает из ниоткуда и исчезает никуда?
— А? — переспросил Главный.
— Видите ли, — вступил в разговор нутрия Себастьян, — это не совсем верная интерпретация.
Камера ушла вниз, и страна увидела здоровенного грызуна в очках и ногу Канделаки в микроскопической юбке. Ведущая вынуждена была наклониться к собеседнику, камера невольно ушла в декольте. Страна, сказавши друг другу: «А что? Нормально. И графика компьютерная на высоте. А то задолбали уже эти «Старые песни о главном», поудобнее уселась перед экранами.
Дальше разговор пошёл в том ключе, что материя, безусловно, придерживается принятых ранее законов, но есть некоторые нюансы, позволяющие говорить о возвратно-поступательном её перемещении в районе сквера Двух Влюблённых Лосей. Страна принялась, было, зевать, но тут Главный снова перевел оптику на себя, подтянув оранжевый микрофон к распаренному лицу.
— Венедиктыч, не трынди. Тина, не знаю как вас по отчеству! Расклад такой: какая страна, такая и материя. Что, в первый раз из ниоткуда берётся и ни в куда пропадает? Да если бы у нас ниоткуда не бралось, мы бы уже лет триста сосали бы лапку, как Аркаша под ивой (крупный план медведя Зайончонкова: пар из ноздрей, заиндевевшие брови, сдавленный визг Канделаки за кадром). А если бы никуда не девалось, мы бы уже лет пятьсот, как заутюжили бы все окрестности, включая Португалию и Жёлтое море, до состояния колхозной усадьбы села Страшевичи. Там же, Наверху, небось, соображают, что без нас никуда, но и с нами — мама дорогая. Вот и легурируют.
— Регулируют, — машинально поправила ведущая, ненавязчиво стараясь освободить микрофон.
— Тиночка, пофиг, когда у нас тут такая красотища! Камерщик, поворачивай правее! Видали, какую хренделень нам подбросило под Новый год?! Игнат, сформулируй.
— Отечественная установка по выращиванию искусственных сапфиров производства ОАО «Изотерм». Валютный тренд.
— О! Из ниоткуда принесло, и мы её сейчас попользуем, пока не унесло.
Слово «сапфиры» и на Канделаки оказало тонизирующее влияние:
— А что в неё нужно засовывать, чтобы получились сапфиры? И сколько карат в час получается?
— Доча! — отвечали Его Превосходительство, — да какая разница, куда совать и сколько на выходе? Здесь ведь что главное: о нас заботятся Сверьху, а потому не пропадём, втыкаешь?
Камерщик взял правее, пробежав взглядом по стальному кожуху и остановившись на толстенном — в руку толщиной — пучке рыжих медных проводов, припаянных к медным же клеммам, похожим на золотые слитки Центробанка.
— О, — сказала Тина на всякий случай игриво, чтобы развеять воцарившееся молчание, — судя по всему, по этим проводам идёт много электрического тока! Как вы думаете?
Камера опять упёрлась в Самого. Где-то недалеко, в тюремной радиоточке, начали бить куранты. Его Превосходительство переложили микрофон в правую ладонь, раздутую от вколотого в молодые годы парафина, левую приставили к груди и сделали круглые глаза — как символ искренности. Посмотрели прямо в красный глазок видеоаппаратуры, но попали в глаза всей неспящей страны. Его Превосходительство сказали:
— Так..б же ж твою мать!
И изо всех сил рванули рубильник с надписью «Осторожно! Высокое напряжение!».
На экране появилась откупоренная бутыль, из которой в бокалы било пенистое вино. Страна чокнулась и поздравила друг друга с Новым, 2008 годом.
Праздничные рейтинги канала составили 23,31%, что на 1,79% больше, чем в прошлом году.
Глава тринадцатая, январь 2008
По словам замглавы ФМС, уже с начала 2008 года любой российский гражданин может получить новый паспорт. Он пояснил, что уже до конца этого года по стране будет оборудовано 249 пунктов по выдаче паспортов нового образца.
Из новостей
Нету тяжелее, чем сразу после Старого Нового года.
Не работает организм. Отказывается.
Причём, слесарь ещё, туда-сюда, может не выйти на работу. А руководство не может, потому что город вторую неделю в говне по колено стоит, по пояс в ошмётках от салютов.
Ладно.
Вышли, значит, пятнадцатого, на работу: в наружном кармане пирамидон, во внутреннем настойка боярышника, в руке авоська с нарзаном. Щека изорвана — на святки на санках с дамбы до четырёх утра катались. Лифт не работает — чтоб все сдохли, а особенно лифтёр Геннадий Поликарпыч!
Добравшись до пентхауса на пятнадцатом, весь Общественный Совет был взмокши, а Главный Егерь ещё и полез в штанину за платком, а достал комок какой-то липкой дряни:
— Ёоо…
— Это у вас, Ваше Превосходительство, от колядок карамельки остались, — предположила Ирэна Пална, секретарь из присутствия, — снимайте брючки, надо простирнуть и скоренько утюгом пройтись.
— Каких колядок?
— Ну, каких? Вы же с шестого на седьмое, аккурат после всенощной, с Шандыбиным на дамбе колядовали, не помните? Ой, так мило вышло: у Василия Иваныча крылышки из ваты, вы в козьих рожках: коляда, коляда, открывай ворота…
— А вас чего по дамбе после всенощной носило? Вам же в другую сторону, на Макаронку.
— Так мы по телевизору видали. У вас Галина Насонова интервью брала, вы всё ей хотели ручку поцеловать, да чуть рогами глаз не вышибли.
— Галине? Ручку? Рогами?..
Егерь сел без брюк за бюро, спрятавши голые ноги под стол, упёрся подбородком в руки и стал тяжко размышлять, видала ли интервью супруга. По всему выходило, видала, ибо с чего тогда эти странные давешние намёки: «завтракай сеном, козлиная морда!» И у Васи телефон пятый день отключен…
Бобёр Игнат, меж тем, сдавал. На покер сил не хватало, но в очко было в самый раз, отдохновение тяжкой голове. Играли на карамельки, и когда шулер зубр Кондратий Опонежко заточил пятую, в приёмную вихрем вскочила Ирка Фердыщенко, ещё летом уехавшая замуж за арабским шейхом Али-ибн-Алифари-ибн-Суммеладом XI. Замужество повлияло на Фердыщенку положительно: грудь у ней не то чтобы шибко подросла, но как-то попендикулярнела, талия заострилась, ровный шоколадный загар шёл из-под самых корней волос, и только от виска спускалась к плечу узенькая седая прядь, очень пикантная.
Повизжав положенное количество раз и похлопав в ладоши, Ирэна Пална с Иркой присели на диван в дальнем углу присутствия и зашептались о фердыщенковских перипетиях таким громким шёпотом, что весь комитет, воленс-ноленс, оказался в курсе, что шейху Али-ибн-Алифари-ибн-Суммеладу XI Ирка третьего дня прокричала по-арабски «развожусь, развожусь, развожусь», и ещё кое-что по-русски, села на ближайший же самолёт и умчалась на малую родину.
— Он идиот, Ирэночка Пална! — горячо шептала репатриантка, введя всех в некоторое недоумение, ибо по сию пору считалось, что страшнее дуры, чем Фердыщенко, в городе и не сыскать.
— Он идиот! У него, Ирэночка, два развлечения: павлинов кормить комбикормом и из-за угла выпрыгивать. Куда ни пойди, выпрыгивает из-за угла, рычит, как Зайончонков весной, когда из берлоги вылазит, кричит: «Ха! Я тибю съем, ай эм лайон, ха!» А когда он из торта выскочил, весь в креме, я — видите? — вся сделалась седая. Вся, видите?! Ну, ладно, седая, пусть — но вот это «я тебя съем!», между нами, Ирэночка Пална, полная фикция. У этого «лайона»… — тут Фердыщенка перешла на совсем тихий шёпот, и как ни старались, как ни вытягивали шеи, не услышали нифига, а только видно было, что рассказчица разводит руками, подобно рыбакам. Получалось, что рыба в Аравии водится мелкая, в половину женской ладони.
Егерь снял голову с рук и украдкой посмотрел под стол, остальные посмотрели туда же, и остались вполне себе довольны. Тут бывшая шейхиня перешла на танец живота, который обнаружил, что это не талия заострилась, а бёдра обрели нужную конфигурацию. Щебеча и извинившись, дамы побежали вниз, в кафе, за горячими пончиками. Егерь одел влажные ещё брюки и, задумчиво потоптавшись у радиатора, поводил руками в воздухе, формулируя вопрос. Вопрос формулировался тяжело.
— …Я говорю: вот эти новые паспорта… Себастьян Венедиктыч, ну что ты молчишь?!
— Биометрические? — попытался ухватить мысль нутрия Себастьян, известный в городе энциклопедист.
— Вот. Там же нужно будет делать эти…
— Сканирование сетчатки и отпечатки пальцев?
— Да. Так уж не сделать ли сразу?… — Его Превосходительство изобразили в воздухе подобие восьмёрки, что, надо понимать, означало фигуру Фердыщенки.
— Полную антропометрическую карту?
— А?
— Всё померить?
— И можно даже сфотографировать. Хуже не будет.
— Тогда уже и сельскохозяйственную перепись, — задумчиво сказал старый аппаратчик Опонежко, хрустя карамелью, — всё равно скоро всем паспорта менять.
Все согласились, и только Игнат, сталкивавшийся с замерами природных явлений по работе, сказал уверенно:
— Ничего не выйдет. Среднерусская природа обмеру не поддаётся, ускользает в нематериальное. Проверено опытным путём.
— Это ещё писями по воде виляно, кто куда ускользает, — отвечал Сам, — от паспортизации в нашей стране ещё никто не ускользал.
Тут же набросали на бумажке примерный опросник:
1. Пол
2. Масть
3. Объём груди…
Ну, и так далее, включая сугубо личные вопросы по желанию опрашиваемого.
Распечатали. Тут вернулись девушки с пакетом пончиков, по два на каждого. Из пакета капало на ковёр горячим маслом.
— Э-э, Ирусик! — сказали Его Превосходительство проникновенно, — ты же только приехавши? А паспорт-то у тебя, небось, арабовский? Нехорошо! Могут и в милицию арестовать. Давай прямо сейчас тебе новый выпишем, чего тянуть?
Фердыщенка, дуя на пончик, согласилась. Пол определили быстро, подчеркнув «самочка» жирною чертой. Масть написали: «гнедая брюнетка», но тут экс-шейхиня, маленечко порозовев, отозвала в сторону Ирэну Палну и белку Бэлу Кржижановскую и что-то долго им объясняла, ломая в волнении пальцы.
— Пишите: трёхцветная, — подытожила переговоры Кржижановская, — с учётом седой пряди.
Всем страшно хотелось уточнить, но все промолчали, и только энциклопедист, поправив очки, подтвердил, что, согласно закону расщепления генетических признаков Менделя, именно кошки бывают трёхцветные, а коты не бывают.
По третьему пункту работать желали все, даже зубр, но белка безапелляционно взяла сантиметр в свои лапы, измерила и получила цифры 92—57—93. Дальше пошло как по маслу, и только напротив пункта «длина хвоста», подумавши, поставили прочерк.
Назавтра запустили поголовное анкетирование по всей области. Тут же начались нюансы, про которые предупреждал бобёр.
Так, ёж Бахметьев, выкаченный опросной группой из груды листьев под каштаном в сквере Тютчева, ни в какую не желал разворачиваться, на все вопросы отвечал: подите нахрен, и даже на фотографии получился в виде серого шара с высунутой наружу лапой и оттопыренным средним пальцем. Все, кто знавал Бахметьева в дружеской обстановке, уверяли, что непохоже.
Василий Иваныч Шандыбин вёл себя вежливо ровно до тех пор, пока не обнаружил в графе «масть» кем-то неосторожно поставленное «безволосый типа сфинкс». Мало того, что руководителя группы увезли в челюстно-лицевое отделение, так ещё и жена бывш. думского депутата прибежала в комиссию с иссиня-чёрным локоном в конверте с надписью «Васеньки в четыре годика» и стала кричать, что не позволит пошлых намёков.
Седой долгожитель Цимельский, напротив, налил комиссии чаю и долго объяснял, что он вовсе не блондин, а типичный русак.
— Русый волос — есть природное свойство славянской типофактуры, — говорил старик, стуча в пол клюкой, — если, скажем, идёт по улице русая, и коса о жопу бьётся, значит, наша кровь, бери её тут же, пусть рождает государству младую поросль. А ежели идёт такая, знаешь, блон-дин-ка, и косе биться не обо что, а только сплошные ноги, то пусть её волки злые берут, и пусть лезет обратно к себе в телевизор, в кабельный канал после полуночи, дура.
На седьмой чашке краснодарского чаю чаеразвесочной фабрики №31 комиссия в полном составе сбежала вон.
Молодожёны зайцы-беляки Переменко, наоборот, записали масть «платинум-блонд», хотя такой расцветки нету ни в одном справочнике по среднерусской фауне. «Нам Пчелинский (популярный в городе стилист — авт.) пообещал именно платинум-блонд, взял за приём по восемьсот шестьдесят с носу — что ж теперь, как лохи, писать „окрас русый, с отливом в грязно-бежевый“? Нет уж, платинум, так платинум.»
И так почти по каждому пункту. Получалось не анкетирование, а какая-то эпидемия бешенства. Но это ещё были цветочки.
Ягодки пошли, когда начались статистические подсчёты. Первым запил кролик Даниил Коноплёв, специалист отдела статистики, обнаруживший, что среднее количество за ночь в целом по области выходит никак не менее пятнадцати раз. Лично у Коноплёва в самый удачный день более двенадцати не случалось. Кролик позвонил жене и, сказав: «Маша, прости меня, импотента, я сломал тебе жизнь», исчез с работы. Нашли Коноплёва через три дня в первом русском пивном ресторане «Бухтилов», рыдающим в женской туалетной комнате.
К тому времени пила уже половина мужского населения, прочитавшая в «Б-ском рабочем» передовицу под названием «Наши гордые восемнадцать сантиметров в спокойном состоянии!». Передовицу, как правило, бросали в лицо жёны, молча или с криком: «Я всегда это знала!». На посторонних мужчин стало принято смотреть с интересом и уважением, но процент мимолётных романчиков резко пошёл вниз, ибо никто не хотел рисковать репутацией.
Рабочий процесс замер хуже, чем с первого по тринадцатое. Для вывода области из депрессии решено было в срочном порядке провести некое сугубо положительное действо, несущее в себе развлекательно-просветительские функции.
— Методика социального инжиниринга… — пояснял на заседании нутрия Себастьян.
— Венедиктыч! — ударил кулаком по столу Главный, — Не мудозвонь!
— В общем, давайте устроим шоу с выдачей первого биометрического паспорта в режиме on line…
— !
— …в прямом, короче, эфире. Предлагаю Ирину Фердыщенко, она репрезентативна…
— !
— …и сиськи красивые.
— Вот! Ведь можешь же членораздельно! Кандидатуру поддерживаю единогласно.
Программу запустили в самый что ни на есть прайм-тайм. Ведущая — белка Кржижановская, долго и доходчиво объясняла преимущества нового документа, тыкая указкой в плазменный экран с крупным планом паспорта, с которого открыто улыбалась зрителям Фердыщенко. Камера плавно перешла на открытое пространство Хрустального зала, в центре которого мялись с цветами и паспортом в руках Его Превосходительство. Заиграл джазовый оркестр Бена Мирзояна, облепленные шарами двери распахнулись, вошла Ирка, но какова! Вместо брюнетки с пикантной белой прядью сделалась она совершенно пронзительной, кристальной блондинкой — а бёдра!
Выхватив документ из руки онемевшего Егеря, арабская разведёха ухватила микрофон и сказала живо и взволнованно:
— Спасибо! Спасибо!! И разрешите передать особую благодарность моему любименькому стилисту Валечке Пчелинскому, за это совершенное, полное (слово «полное» было подчёркнуто ударением и выражением лица — авт.) преображение в настоящую русую среднерусскую красавицу! А также благодарю фитнесс-клуб «Браско» за те ужасные пять сантиметров, которые я сбросила с бёдер за каких-нибудь полторы недели! Здравствуй, Б-ск! Я вернулась!
Главный уронил букет, достал из внутреннего кармана аптечный пузырёк с боярышником, свинтил, выпил безостановочно, ударил тарой оземь и вышел из залы. Плечи его тряслись.
Поскольку конец прямого эфира был ещё через пятнадцать минут, камеры выключить никто не смел. Возникла неловкая пауза, которую заполнил енотовидная собака Лёва, выскочивший на сцену с криком:
— Эммочка, милая, можно я вернусь домой? Я вчера был в мужской бане на Никитина, Эммочка! Газеты всё врут, у меня есть доказательства, я снимал скрытой камерой! Это заговор против нашей любви!
В зале поднялся шум, кто-то кричал, но большинство аплодировали. Вплотную к объективу подошёл бобёр Игнат, развернул карамельку, расколол её резцами, сунул бумажку в карман, после чего подмигнул и подытожил:
— А я предупреждал! Ускользает в нематериальное.
Наутро после передачи город вошёл в обыденный свой ритм, и даже кролик вышел на работу, несмотря на то, что в многодетной семье Коноплёвых телевизора не водилось в педагогических целях. На новенькой белой футболке Даниила лапкою Машеньки Коноплёвой было вышито крестиком «My name is Sexteen!», а ниже, для тех, кто не знает по-английски, стоял номер: 16.
…Через неделю бобёр принёс Главному две распечатки А4 формата: на одной была изображена самочка, точь-в-точь Ирка Фердыщенко до фитнесс-клуба, но только покрытая коротенькой трёхцветной шёрсткой и с аккуратным рыжим хвостиком, на другой — некое неопознаваемое существо в бурой шерсти и с огромными ручищами. Судя по большому чёрному квадрату на чреслах, существо было мужского пола. Егерь, до сих пор ещё не отошедший от провала, посмотрел на распечатки неприязненно:
— Картинки на работе малюем?
— Это не я, — отвечал Игнат с достоинством, — это компьютер из статотдела выдал. Слева — среднестатистическая женская особь средней полосы России, справа — среднестатистическая мужская, согласно результатам обмера.
Оба задумались. Тут вошла Ирэна Пална, поставила на стол поднос с чаем, заглянула через плечо и всплеснула ладошками:
— Ой! Это же Мыколай Иваныч, чудище из Верхнего Судка! Как славно получился… Игнат Петрович, миленький, можно я картиночку на память заберу? А вы себе ещё напечатаете…
И ушла, зардевшись и прижимая листок к груди.
— Чай будешь? — спросил Сам примирительно.
— Зелёный?
— Фиолетовый, мля…
Глава четырнадцатая, февраль 2008
Лет тому двадцать с гаком обнаружилось, что Б-ску вот-вот исполняется ровно тыщща лет. По документам вроде как не больше восьмисот пятидесяти, но по всем остальным признакам — никак не меньше тыщщи.
Решили отметить достойно. Ладно.
А вот музея-то порядочного во всём лесу и нету! Заказали чертёжик, построили, разместили на трёх этажах исторический контент: от бивней мамонта до чучела прадедушки кабана Димы Калиты — Кузьма Платоныч Калита, почётный гражданин города, знаменитый картофелевод, автор скороспелого сорта «Сиреневое утро Придесенья», трижды лауреат. Получилось славно, комиссия полдня ходила, витрины рассматривала. На День Города назначили торжественное открытие, народу понагнали уйму, и ещё столько же само пришло. На площади Партизан не протолкнуться.
В это время по второму этажу гуляет лучший официальный баритон Рудницкий Анатолий Борисыч и голосом Левитана разминается перед проведением парада, типа «раз-з… раз-два-три… ми–ма-мо…». И, вот, остановился напротив кабаньего чучела, взгрустнул, потому что они с Кузьмой Платонычем как-то под горячую руку нарезались в «Нептуне» до поросячьего визгу. Анатолий Борисыч в то время бегал ещё Толиком безусым, а Калита-прадедушка лет семь как был на персональной пенсии, медали по всей щетине понатыканы. И никакой спеси, заметьте!
Стоит баритон наш насупротив кабана, грустит, но дела своего не оставляет: «Раз! Проверка связи! Повернись, избушка, к лесу задом! З-задом! К лесу задом из-збушечка, повернись!» И так далее.
Пробило два пополудни, пора начинать. Выходит Рудницкий через центральный вход — ёханый бабай! А площади-то Партизан нетути! И народу никого, и трибун, и огня вечного, один только хоздвор и гаражи металлические ржавые. Потом говорили, мол, с этого самого момента Анатолий Борисыч и начал седеть благородно, с висков.
Оказалось: музей краеведческий в один миг развернуло чёрным выходом к лесу а парадным — на хоздвор. И никто не заметил — в один миг случилось. Кое-как замяли, сделали вид, что так и было, благо, никто шибко не присматривался. Но после торжеств взялись крепко, потому — дело подсудное. Архитектор говорит: вот эскиз и идите туда-то и туда-то. На эскизе, действительно, всё правильно. Строители говорят: ну, говорят, пару-другую кирпичей могли скоммуниздить, песочка в штукатурку переклали, каемся, но чтобы целый трёхэтажный музей развернуть на сто восемьдесят градусов — наш прораб столько не выпьет.
Всё это время, пока идёт дознание, баритон кружит немножечко не в себе от пережитого и приговаривает беспрестанно: избушка-избушка, стань к лесу передом… ну стань… что тебе трудно, избушечка? Наконец, прислушались, заметили это дело, составили протокол по факту, но дальше протокола не пошло, потому что никакой прокурор на данной доказательной базе не спляшет. Что вменить? Распевку в неположенном месте? Тогда надо судить всякого, кто под душем мурлычет.
Взяли виновника под локоток, говорят тихо и вежливо: Анатолий Борисыч, давайте проведём следственный эксперимент. Вы где стояли? Здеся? Становитесь. Вы что говорили? Дословно? А теперь говорите наоборот, со всем сердцем говорите — городу нужен ваш голос.
Он и так и этак повторяет: развернись, мол, обратно — бесполезно. Битый час, хоть бы хны. А те двое дознавателей не отстают, орать стали, на понт брать. Рудницкий возьми и скажи: да идите вы к такой-то матери, ушлёпки. Только не подумайте, он человек интеллигентный, устал просто очень, передёргался. Вот. И двух ушлёпков как корова слизала. Тут все перепугались не на шутку, но через часа полтора дознаватели на такси приехали с камвольного комбината, где оказались на блатхате у известной в городе мамки Маши Супесочной по кличке Вологодская Землечерпалка.
Чучело Калиты-прадедушки немедленно из витрины выставили и свезли в жёлтый дом на улицу имени писателя Максима Горького. Вызвали экстрасенсов, они над Платонычем месяца три камлали. Параллельно велись строго научные проверки кафедрой прикладной биологии из соседнего Технологического института, Лесотехнический факультет. Ноль результата, чучело и чучело, внутри солома.
Тут нутрия Себастьян, тогда ещё аспирант простой, чертит на доске функциональное уравнение, согласно которому система срабатывает комплексно: во-первых, чучело, во-вторых, люстра Чижевского сверху и звёздочка на полу. Там при строительстве какой-то студент-практикант влюблённый впендюрил звезду прямо в бетонный пол, да так, что не выколупаешь. А сам потом женился на другой по залёту, а та, которой звезда посвящалась, уехала с горя на историческую родину и вышла замуж за старика-генерала, он вскоре помер, оставивши громадные миллионы. Недавно бывшему студенту пришла открытка, где генеральская вдова на фоне Средиземного моря ножки свесила с борта собственной яхты, такая же молодая, как и прежде, только лучше, а у него — пузо от дешёвого пива, двухкомнатная квартира-хрущёвка, три оглоеда и жена припадошная. Еле успели мужика из петли вынуть. Страшные вещи случаются от беспорядочных половых связей.
Расчёты Себастьяновы показались не то чтобы убедительными, но других вариантов всё равно не имелось. Поставили Кузьму Платоныча на место и стали исподтишка наблюдать, не случится ли знаменья. Как в воду смотрели: мимо кабана бежал разнорабочий хомяк Ключников, наступил на звезду — и упал замертво. Испугались, стали пульс щупать, а он пьяный вдребадан, только брови шевелятся. Оказалось, хомяк бежал до гастронома, за третьей портвейну, и мысленно хотел быть очень нетрезв. Аспиранту выдали премией двухместную байдарку, Ключникова уволили, строго-настрого запретив кассиру продавать ему входной билет в музей, но он всё равно изредка прокрадывался, оставался на ночь.
Сильно боялись, что феноменом воспользуются враги и устроют пакость, но вскоре выяснилось, что ничего такого специально сделать невозможно: сколько ни долдонь, эффекту ноль. Срабатывает только спонтанное изъявление чувств. В связи с полной практической непригодностью, официальная наука на «Звезду Желаний» забила, но Себастьян так и не прекращал многолетних наблюдений, изучая психологию глубоко скрытых устремлений среднестатистического б-ца. Каждый год на итоговой научно-прикладной конференции энциклопедистом зачитывается доклад, всегда вызывающий бурные обсуждения в кулуарах. Доклад за 2007 год содержал следующие факты: постояв напротив чучела почётного гражданина К. П. Калиты
1. 3479 студентов получили оценку «три». Из них 15 человек — круглые отличники.
2. 48 или 49 (цифра уточняется) женщин вышли замуж.
3. 17 мужчин развелись, 3 похоронили тёщу, у одного тёща, считавшаяся умершей в 2004 году в городе Саратове, оказалась живой и приехала в отпуск на 42 дня — в Саратове она работает водителем троллейбуса.
4. Коза Сидорова нашла серёжки белого золота с четырьмя бриллиантами весом 0,7 карата каждый, которые, впрочем, были ею утеряны в тот же вечер на пати в доме культуры завода дорожных машин.
5. Енотовидная собака Лёва выиграл в покер 17000 рублей, на которые немедленно купил фотографический штатив фирмы «Manfrotto», установив на который 21-мегапиксельный аппарат Canon EOS 1D Mark III, взятый напрокат, сделал несколько весьма качественных снимков собственной задней части, которые и разослал по адресам всех отделов городской администрации. Подписался: dobrojelatel.
6. Кабан Дима Калита по кличке Стрёмный долго смотрел в стеклянные прадедушкины глаза, после чего заплакал и сказал: «дед, ну он сам нарывался — слово пацана».
7. Самый же интересный случай произошёл на позапрошлых выходных, при встрече городского головы и Главного Егеря, приведших семьи на выставку экзотических животных. Пока жёны и дети пытались покормить чипсами лемура-сифаку, руководство решало вопросы по благоустройству.
— Я, конечно, извиняюсь, — осторожно спрашивал голова, — но полвагона белгородской плитки тю-тю. Страшно интересно было бы узнать, Ваше Превосходительство, что случилось со стройматерьялами?
— Интересно, когда в бане тесно, — логично отвечали Его Превосходительство, неосмотрительно стоя на звезде, — вы тут по всему городу фонарей понатыкали на шестьсот тысяч из федерального бюджета, а башкою своей не подумавши, что с ними будет после Дня Десантника. Или, вот, хоть бы и после Нового года. А? Что?
На справедливое замечание крыть голове было нечем, на том и разошлись. Продолжение случилось ближайшей ночью, когда супруга Его Превосходительства с 90-сантиметровой битой для игры в бейсбол, купленной накануне в магазине «Спортландия» (Дом быта, первый этаж, прямо и налево), ворвалась в баню на улице Никитинской, в которой действительно было довольно-таки тесно. Рассказывали, Сам сбежал через боковой выход и парикмахерскую «Семирамида», зато то ли четырнадцать, то ли пятнадцать участниц фольклорного ансамбля «Госома и бабы» в исподнем выпростались конкретно на улицу Пушкина. Благо уже заполночь, троллейбусы не ходили, фонари не горели, и свидетелей погони было немного.
— А фонари в сквере на Советской, в самом деле, расколотили вдребезги дня через два после того, — закончил докладчик, сорвав продолжительные аплодисменты.
По регламенту далее шли вопросы, и тут же с места спросили: случалось ли, чтобы комплект «чучело-люстра-звезда» никак не прореагировал на субъект, генерирующий эмоциональный посыл?
— Бывало и такое, — отвечал нутрия, — например, первого мая 2007 года Василий Иваныч Шандыбин провёл час напротив трижды лауреата, при том весьма эмоционально требовал победы коммунизма как минимум в Северном полушарии, даже пинал ногою толстое стекло витрины. Реакция нулевая.
А в 2006, ближе к осени, помните? — был проездом из Синезёрок, где зажигал газовый факел, небезызвестный Дмитрий Медведев. Этот ничего не просил, стоял молча, только вздыхал. И тоже никакой реакции.
— Наверное, в семье что-то, — предположили из зала, — неприятности какие-нибудь.
— Это всего лишь версия, — возразил докладчик, — но мы отслеживаем ситуацию.
Глава пятнадцатая, март 2008
На двадцать третье февраля Ирэна Пална, секретарь из присутствия, допустила стратегическую ошибку, имевшую в дальнейшем последствия.
По порядку. На мужеско-женские праздники выделено было определённое количество, да ещё и собрали по двести пятьдесят с носу, как обычно. Ирэна, значит, Пална, решила два раза не ездить, взяла всю сумму, вызвонила таксиста Гаврилыча, росомаху, и двинула в гипермаркет «Линия», что на Самолёте. В «Линии» куплено было всего как всегда, плюс двойной набор алкогольного.
— Еды на Восьмое-марто я и в Пятёрочке возьму, — рассуждала секретарь на обратном пути, — а лишние два с половиной ящика запру в лифтёрной, и вытащу только в Международный женский день солидарности имени Клары Цеткин и Розы Люксембург.
Как бы не так. Лишние два с половиной ящика отчётливо были запеленгованы всеми административными этажами, пока Гаврилыч пёр их на горбу до самого пентхауза — лифтёра Геннадия Поликарпыча чтобы разорвало вдоль и пополам, алкаша!
И двадцать третьего, уже часов около восемнадцати, как ни отбивалась Ирэна Пална, а нашлись хитрованы, всковырнувшие лифтёрную булавкой и, с криком «Мы дамам на Восьмое ещё больше купим!», принесли добавку, выставили на стол. Ну, и понеслось…
В десятом часу выскочили лепить снежных баб прямо на площадь Ленина, и дружно наблевали под ёлками ликёром «Бейлис». Тут Главный Егерь и скажи:
— Все идёмте медведя Зайончонкова поздравлять! А то нехорошо — как ни двадцать третье, Аркаша не отдупляется, спячка у него, видите ли. Пойдёмте, у меня «пять звёздочек» во фляжке, Зайончонков любит: выпьет за мужиков и пусть опять спит.
Медведь, прошлым ноябрём уснувший нечаянно в сквере возле СИЗО, под ивой, так там и остался. Пока не было снега, ставили над ним солдатскую шестиместную брезентовую палатку, а когда выпал, привезли два грузовика с площади Партизан и засыпали, только продух оставили. Всю зиму каталась с берлоги на санках пацанва, некоторые даже руки грели о медвежью шкуру, проглядывавшую в проталины, косолапому хоть бы хны.
Добравшись до СИЗО, проковыряли дыру, да и влили сколько-то армянского через соломинку, крича: Аркаша, западло спать, с праздничком, корифан! Коньяк попал немножечко в рот, немножечко мимо, основная же порция вошла в ноздрю, чего не сможет стерпеть даже выхухоль, не говоря о медведе. Закашлявшись, Зайончонков рывком сел в своём сугробе и вкусно зачмокал губами, но глаз не открывал.
— А-а, — обрадовался Егерь, — есть контакт!
И стал бросаться снежками, за ним подхватили. Косолапый, хоть за зиму исхудал, мишенью был — не промахнёшься. На десятом снежке, влетевшем в ухо, Зайончонков неохотно приоткрыл глаз, увидел Его Превосходительство, заулыбался сонно, повёл правой лапою, сгрёб четверть бывшей берлоги, прихлопнул левой и, особо не целясь и не размахиваясь, швырнул. Ком попал аккурат в темя Егерю, наклонившемуся за очередной порцией снега.
Ни слова ни говоря, Его Превосходительство упали головою в сугроб и замерли…
…Сознание включилось вдруг, как большая горячая лампа, распиравшая голову изнутри.
— Ы-ы-ы-ы! — ревело низким, утробным звуком прямо возле левого уха.
Ресницы сцепились друг с другом крепкими братскими объятьями, но когда глаз на немножечко приоткрылся, то тут же был захлопнут, ужаснувшись увиденным: прямо над головой раззявилась огромная медвежья пасть, и именно из неё раздавалось это самое «ы-ы-ы».
Подождавши, не станут ли рвать на части и жрать живьём, и не дождавшись, он снова приоткрыл глаза, еле-еле. Медведь никуда не исчез, но только шатался из стороны в сторону, выл, притом ещё принялся рвать на себе плотную бурую шерсть огромными когтями.
— Не голодный, — подумалось неожиданно спокойно, — наверное, решил, что добыча мертва и ждёт, пока подтухну. Медведи, говорят, любят подтухшее… Ладно.
В этот момент медведь вдруг заговорил — да, да, я не вру!
— Ы-а-а, а помнишь, как мы с тобой на карачижских ходили? Нас двое, а их семеро, помнишь? Ну, мы же их сделали, как котят, да? А-ы-ы… только тебя Вован-Сучёнок за щиколотку укусил, волк позорный, так я ж тебя до травмопункта на себе, помнишь? И Сучёнка ещё тащил, чтобы тебе от бешенства в пузо не колоться, помнишь? Ну чо ты молчишь, а? А помнишь, с цирковыми за Снежанку, медведицу белую, на нунчаках гасились? Тебе же тот гимнаст вона как тогда в висок перемахнул, и ничего, ещё до четырёх утра на дискотеке со Снежанкой — мы ж отбили её тогда, скажи? Ну, харэ молчать, серьёзно, скажи чего-нибудь, ну… а-а-ы-ы…
— Ага! — догадался он, — Это галлюцинация… Интересно, кто же это в моём сознании в медведя обратился? Какая выразительная аллюзия… Кто же он на самом деле? Он? Он?!! А КТО ЖЕ Я?!!!
Ни одной версии. Во рту стало сухо. Намереваясь произнести «господа, соблаговолите водички!», только и смог — пошевелить запёкшимися губами. Движение уловлено махонькими медвежьими глазками, косолапый взревел ещё громче, ликуя и приговаривая «ща, ща, ща, рассольчику, как ты любишь», сунул в губы край посудины. Едва не захлебнувшись мерзопакостной жидкостью, он попытался выплюнуть её, закашлялся, произвёл звук «пю-у-у». Откуда ни возьмись, над медведем возникли развесистые рога и горбоносая лосиная морда, оттопыривая губу, сказала: «всё, Аркаша, ты просил, пока не очнётся; пора в камеру, а то Лупецку с утра нам рога обломает…» и рыдающего топтыгина увели.
— Какой странный всё-таки сюжет для галлюцинации… Как пить хочется…
Неожиданно в круг зрения вплыло женское лицо, уже не очень молодое, но и не старое, довольно приятных черт, с несколько печальными глазами. Незнакомка неторопливо и мягко обтёрла ему лоб, губы и глаза влажным полотенцем, с усилием разомкнула затёкшую челюсть и влила в рот несколько ложек свежеотжатого грейпфрутового соку.
Правая рука вдруг сама собою пошевелилась. «Я не парализован!» — подумалось радостно, и пришёл сон…
Дни текли за днями, ясности не наступало. Он в больнице, на шее корсет, тело не двигается, но чувствительность сохранена даже в ногах. То и дело в палату заходили, и никогда не ясно было, какую шутку выкинет с посетителем воспалённое сознание: то ли оставит человеком, то ли превратит в очкастого грызуна порядочных размеров, или ещё какую животину. Часто прибегала одна, довольно приятственной внешности, с глазами на мокром месте, читала вслух из папки с надписью «на подпись», сморкалась в платок, пересказывала погоду на улице и всякие происшествия, смысл которых ускользал. Приходил лысый, с огромными кулаками, приносил апельсины в авоське, и тут же съедал половину, говоря, что колбасы видеть больше не может. Как-то возник огромный седой зубр, долго смотрел в глаза, дышал прерывисто, после чего поинтересовался у сиделки: «У него эрекция по утрам есть? Если есть, значит, организм борется», на что та молча встала, взяла скотину за рог, подвела к двери и пнула в голень. Зубр не обиделся и ещё долго глядел из-за стеклянной двери.
Сиделка, кстати, была всегда одна и та же. Когда ни открой глаза, располагалась на широком кресле, почти диване, в углу палаты, иногда вязала, иногда читала вслух толстую книжку «Муми-тролль и все-все-все», очень выразительно интонируя. Головы поворачивать он не мог, но боковым зрением рассматривал её целыми днями. Когда подходила умыть, покормить с ложки кашей-размазнёй или подать утку, всякий раз замечал в себе странное движение: правая ладонь сгребалась в горсть, как бы ожидая, что в неё насыплют нечто полновесное. Других движений тело не производило, язык мотался во рту безо всякого смысла, мозг заниматься самоиндефикацией отказывался.
Иногда она и вовсе стояла над кроватью, словно изучая лицо больного, поправляла свалявшиеся о подушку волосы, один раз даже легонько похлопала по руке и дотронулась губами до брови, думая, что он спит. Лучше бы и спал, потому что организм отреагировал немедленно, и зубр непременно отметил бы, что больной пошёл на поправку. Всё это было страшно неудобно, потому как в свои двадцать два — двадцать пять (по внутренним ощущениям!), негоже так реагировать на немолодую женщину, у которой, небось, семья и даже внуки. Но пронесло, не заметила.
Несколько раз случались консилиумы, врачи смотрели озабоченно. Уходя, кивали головами, а когда дверь закрывалась, сиделка выходила из своего угла, одёргивала одеяло, махала в сторону ушедших рукою и глаза светились покойной уверенностию.
Лишь один раз видел он её вне этой покойности: когда заскочил в палату некто под видом то ли енота, то ли собачонки, не разглядеть, и стал слепить вспышкой и выкрикивать какую-то околесицу: «А правда ли, что на Литейной на мебельном магазине вертолёт Ми-2 поставили с разрешения Лесничества? А ежели он станет над городом по ночам летать и гадить? А ежели он в администрацию захочет на полном ходу влететь, как Жанна Фриске на автомобиле в гостиницу в фильме „Дневной дозор“? А вдруг теракт?..» В этот момент вошла сиделка, ни слова не говоря, накрутила хвост посетителя на правую руку и принялась бить с размаху о чисто вымытую жестяную утку, которую несла в левой. Енотовидный визжал, фотоаппарат разлетелся на куски, ударившись о тумбочку, утка гудела, как средний колокол на звоннице, парализованный смотрел на женщину в немом восхищении и думал: никак не больше тридцати… ну, тридцать пять от силы… ей-Богу, женюсь… если замужем — отобью и женюсь… если захочет… ах, какая — сердце в клочья…
Руку, натурально, сводило от нереализованного действия.
Однажды разбужен он был не светом и звуками, а запахом. Солнце било в окно особенно ярко, в коридоре то и дело случалось мельтешение и раздавались радостные вскрики, беспокоивший его запах шёл отовсюду, не то, чтобы неприятный, отнюдь, но что-то означающий. Какие-то ассоциации с жёлтым, и ещё — вот странность! — с мытьём полов, а потом и посуды. Не желающее сгущаться воспоминание мучило, как невозможность почесаться.
Двери распахнулись, вошла сиделка (узнал по шагам!) и, перегнувшись через кровать, принялась устраивать на тумбочке букет жёлтых, пахнущих… «мимозы»! — вспыхнуло слово. Цветы никак не желали лезть в трёхлитровую банку, грудь почти оперлась о корсет, белый халат распахнулся прямо перед глазами больного.
— Я… — произнёс он с натугой.
— Что?! Что? Ты что-то сказал? — вскричала женщина, наклоняясь к самому его лицу, чтобы не пропустить ни слова.
— Я… — язык не слушался, — я, каытся, луб…
— Что? Говори, кыса, говори, я слушаю!
— Вас… люблю… я… замуж… если не против… вы… за я.
— Врача! — не отходя от кровати воззвала спасительница, обернувшись к открытой двери, — Врача сюда!
Тут произошло неожиданное: правая рука его, опять сложившись горстью, сама собою подскочила в воздух и изо всех сил прилунилась на выпуклом заду, обтянутом белым хлопком, издав при этом удивительной приятности звонкий шлепок.
— Всё пропало, — похолодело в груди, — всё пропало! Теперь она никогда не будет моей…
Но взбесившаяся конечность так не считала, и сползать обратно не собиралась. Более того, попавшее в горсть естество заполнило руку так полно, словно вырезаны они были по одному лекалу.
— Кыса, — обернулась охлопанная, застенчиво зардевшись, — не безобразь… Врача в палату, Его Превосходительство очнувшись!
И память вернулась, а с нею и тело.
Содравши с горла корсет, Егерь спустил жилистые ноги с кровати, слабыми руками взял с тумбочки мобильник и, найдя в справочнике «УВД Генерал», просипел в трубку:
— Алё, Климов? Это я… Да нормально… нормально, говорю, забей… Слушай, Климов, ты, это, Аркашу-то выпусти… А я говорю: выпусти Зайончонкова!.. Да, без претензий… Я ему лично с левой по яйцАм отвешу, и без претензий. Выпускай, давай, а то тюльпаны разберут, его Валентина без тюльпанов домой не пустит, у них традиция… Ага, привет жене…
…Ну, здравствуй, Аделаида.
Супруга всхлипнула.
— Ты, это, давай без этого… Ну, и, как говорится, с Восьмым мартом тебя, дважды любимая…
Глава шестнадцатая, апрель 2008
— …Аркаша, ну ты же бывший погранец, два года на заставе! — взвыл Главный Егерь, — Ну чо ты, север определить не можешь?
— Мы там что, — отвечал расстроено медведь Зайончонков, — спортивным ориентированием занимались? Мы Родину охраняли: берёшь бинокль, компас, и тусуешь вдоль контрольной полосы, туда-обратно. Фиг ли там север-юг? Или в засаде сидели по три дня, когда операцию «Трафик-прехват» объявят. Тут даже компас не нужен.
— Трафик? — заинтересовался Главный, — Траву, небось, перехватывали?
— Да что угодно перехватывали, — вздохнул Зайончонков с некоторой долей ностальгии, — что через границу волокут, то и конфискуешь. Раз бабку стопорнули, а у неё в корзинке, под опятами, восемнадцать упаковок экстази. Голимые Нидерланды, с тиснением, не хухры-мухры.
— Иди ты… Ну и?..
— Чо — «ну и»? Бабке корзину на бошку напялили и поджопников надавали, чтоб неповадно. Шестнадцать коробочек сдали по актировке, а две по карманам распихали и пошли в Суземку на дискотеку. До пяти утра гужевали, пока патруль не повязал.
— Не гони, в Суземке по тем временам дискотека в двадцать два ноль-ноль закрывалась.
— Э-э, Ваше Превосходительство… От Нидерландов с тиснением мы под бубен и сопелку из кабинета народных промыслов так рассекали, что мама дорогая. Патруль в потолок стрелял. Правда, холостыми, на испуг…
Помолчали каждый о своём. Дождь полил сильнее.
— Слышь, Зайончонков, — с угрозой в голосе сказал Егерь, — ну ты же медведь! У тебя инстинкты. Ну понюхай ты, где тут север!
— Вашество, — обиделся Аркаша, — харэ подкалывать! Зайончонковы уже лет двести в Б-ске живут, какие, нафиг, инстинкты. Это всё равно, что я Вам скажу: вы же из… э-э… крестьян произошли.
На языке у медведя висело «из обезьян», но он предпочёл нейтральное сравнение.
— Да и фиг ли Вам дался этот север? Что у нас на севере?
— Кажется, на севере должна быть Десна. Если по течению пойти, то куда-нибудь припрёмся.
— А мне кажется на севере — Северный полюс… Шучу, шучу. Да не нужно нам никакого севера, тут где-то Партизанская Поляна недалеко, видите, чо вокруг творится?
Действительно, лес, куда ни глянь, был засран донельзя: бутылки стеклянные и пластиковые, стаканчики, кострища и художественно закинутые на ветки средства контрацепции — всё говорило о близости Поляны, традиционного места народных гуляний.
Самое обидное, что до Партизанки было, как до собственного локтя: близко, да не укусишь. Попадалово… А всё из-за чёртова спиртпромщика с чёртовыми флягами.
Начиналось очень правильно: по администрации объявили военные сборы на неделю. Программа сборов отработана до автоматизма: заезд на Поляну, осмотр музея военной техники под открытым небом, ужин в кафе «Б-ский лес», ночное светомузыкальное представление на тему «Взрыв Голубого моста партизанами отряда комдива Дмитрия Медведева» (ей-Богу, был такой, и даже не родственник!), здоровый сон в палаточном городке, утром стрельбы из всех видов стрелковой техники — и далее по распорядку.
В головном ПАЗике компания образовалась душевная: Его Превосходительство, Зайончонков, нутрия Себастьян — известный в городе энциклопедист, бобр Игнат, зубр Кондратий Опонежко (хоть и давно вышедший из призывного возраста), белка Бэла Кржижановская, Ирэна Пална — секретарь из присутствия, кролик Даниил Коноплёв и ещё сколько-то своего, проверенного народу, плюс росомаха таксист Гаврилыч за рулём. Только собрались отъезжать, как в двери ввалилось новое руководство спиртпрома. Со словами: «На неделю, пожалуй, хватит…», в автобус внесли две алюминиевые фляги чистого, 96%-го продукта. Пассажиры крякнули в предвкушении. Уже на выезде из города ПАЗик перехватил военком и, стуча себя по голове, умолил Самого забрать два ящика стрелкового оружия, которое забыли увезти на БТРе. Причём, под расписку. Если бы Главный знал, что фляги вскроют прямо за постом ГИБДД, он, конечно же, от ящиков отбился бы. Но, вот, проявил легкомыслие, а после поста было уже поздно. На повороте к санаторию «Снежка» весь автобус дружно пел «Шумел сурово б-ский лес». Ровно после куплета «В лесах врагам спасенья нет, Летят советские гранаты, И командир кричит им вслед: Громи! Громи захватчиков ребята!», Егерь и медведь пришли в себя посреди неизвестной тайги, лёжа на деревянном опечатанном ящике. Неподалёку стояла фляга, причём, с совершенно оборванными ручками, то есть, нетранспортабельная.
Ситуация выходила по всем статьям патовая. С одной стороны — лес, и неизвестно какой день недели, неизвестно даже, утро или вечер. С другой стороны — полная фляга, как символ сбывшихся надежд.
Первые то ли два, то ли три дня прошли в некотором угаре плюс в ожидании всенепременной подмоги со стороны. Но нынешним утром организмы обоих заблужденцев дали сбой, отказываясь принимать без закуски ещё хоть каплю.
В апреле, известное дело, в лесу жрать нечего, не считая черемши, но черемша предпочитает места безлюдные. Ко всему прочему, с утра зарядил дождь. Уйти, бросив поклажу на произвол, не предоставлялось возможным, тем более, расписка за ящики лежала в кармане военкома. Тем более, ручки оборваны.
Взломавши печати, в ящике обнаружены были винтовки-трёхлинейки образца 1885 года и автоматы ППШ, все в обильной смазке и с полными магазинами.
— Опупеть, — сказал Егерь.
— Дык, — вторил Аркаша.
В волнении Главный сунул руку за пазуху в поисках сигарет, но обнаружил только зашитую за подкладку телогрейки брошюру «Спутник партизана» за ноябрь 1974 года. На первом же развороте обнаружились правила ориентирования в лесу:
«1. По солнцу Стороны света легче всего определить в солнечную погоду в полдень. Нужно стать спиной к солнцу и тень, которую вы отбрасываете, укажет на Север в Северном полушарии и на Юг в Южном. Если вы не уверены, в каком из полушарий находитесь, можете определить полушарие по звездам».
— Аркаша, мы в каком полушарии?
— Вроде, Евразия…
— Твою мать…
«…2. По часам
Часы нужно положить горизонтально и повернуть так, чтобы часовая стрелка смотрела в сторону солнца. Затем мысленно проводят линию из центра циферблата к цифре 1 на часах. Если теперь провести через угол, образованный этой линией и часовой стрелкой, биссектрису, то биссектриса укажет направление Север-Юг. Юг до полудня будет находиться справа от солнца, а после полудня — слева от него».
Оба вынули мобильники, чтобы посмотреть на часы, но за несколько дней аккумуляторы разрядились совершенно.
— Ты не помнишь, откудова у меня эта книжка?
— Это Себастьян раздавал всем из библиотечки, перед самым отъездом.
— То-то я смотрю, здесь «биссектриса» написано. Я, брат, этого грызуна удавлю, так и знай.
— Если выберемся. Листайте, может чего найдётся полезного, карта какая-нибудь.
— Хренарта. Вот, азбука Морзе есть: «За единицу длительности в телеграфной азбуке принимается длительность точки. Длительность тире равняется длительности трех точек. Код Морзе используется для передачи сигналов в радиосвязи, гидроакустической, световой и звуковой сигнализациях».
— Звуковой! Как по Морзе будет SOS?
— Э-э… э-э… «эс» — три точки, «о» — три тире… Аркаша, ты мыслитель, уважаю.
Точки взял на себя Зайончонков с трёхлинейкой в лапах. Тире, стало быть, достались Егерю с ППШ.
— …! — стрельнула одиночными трёхлинейка.
— — —!!!!!!! — выдал очередь ППШ, — Не-не-не, не считается, четыре тире — это «ша», давай ещё раз.
— …!
— — -!
— …!
— — -!
— …!
— — -!
В этот момент откуда-то из чащи застрочил станковый пулемёт. Сверху посыпались срезанные шальным огнём ветки, оба потеряльца дружно повалились носом в сырой торф.
— Э-эй, — послышался знакомый голос, — э-эй, свои!
Из кустов вышел, шатаясь, ветеран Опонежко, на спине у него сидел энциклопедист в мягком танкистском шлеме, с трудом удерживая слабыми лапами рукоять покоцанного временем пулемёта системы Максима MG-08.
— Кондратий Семёныч! Себастьян Венедиктыч!
Обнявшись на радостях, тут же разъяснили обстановку: остальная компания из ПАЗика дислоцировалась буквально в четырёхстах метрах, в овраге. Бобр Игнат соорудил два шалаша — один для девушек, другой мужской — и вот уже три дня все ждут дальнейших распоряжений. Фляга ещё не кончилась. Продукты на исходе.
— Дальнейших распоряжений? — задумчиво переспросил Главный, — А предыдущие какие были?
— Ну, Вы сказали: выйти, занять круговую оборону, женщин беречь. Аркашу взяли с собой на огневой рубеж, на передовую.
— А ручки у фляги зачем оторвали?
— Так сами же сказали: буду, как глухонемой немецкий снайпер, прикованный к пулемёту. Типа: ни шагу назад!
— А «Patria o muerte» кричал?
— Ну да…
Арбузообразным кулаком Главный резко ударил медведя в скулу.
— Ваше Превосходительство! — заорал Зайончонков, отскочив за дерево, — За что?
— Тебе, Зайончонков, сколько раз сказано: седьмую я пропускаю. Сказано тебе?!
Медведь понуро кивнул.
— Да ладно, — примирительно сказал Опонежко, — нормально посидели. Только хавчик на исходе и Гаврилыч на ПАЗике в первый же день уехал, сказал: мне за это не плотят, чтобы на ваши голые танцы смотреть. А дорогу только он знал.
— Судя по расположению Большой медведицы, — заявил нутрия, поправляя сползающий на нос шлем, — север там. Значит, дорога на Партизанскую Поляну слева.
— А-а?..
— … а Большую Медведицу я видел сегодня ночью, потому что спать в палатке с парнокопытным выше моих сил.
— Что, храплю? — расстроенно спросил зубр.
Энциклопедист многозначительно промолчал.
Разбитая бетонка нашлась буквально через полторы сотни метров, раньше она не обнаружилась лишь потому, что в будние дни на Поляну ездить не принято, не то, что в пятницу-субботу, когда свадьбы прут одна за другой. Тут вдали задудел автомобильный гудок, и стало ясно, что на дворе как минимум пятница.
Медведь с зубром расчетливо выскочили на дорогу в тот момент, когда разворачиваться и ехать просёлками, между сосен, было уже поздно. Себастьян, сидя в кустах, дал очередь из максима перед самым бампером чёрного круизёра. Его Превосходительство вышли, как из кулис, в самый нужный момент, постукивая прикладом по ноге. «Партизаны, партизаны» — закричала свадьба, опуская стёкла, — «Смотри, ништяк какой, особенно этот, с бородой. На Де Ниро похож, только мордастее» Из джипа выпрыгнул свидетель с красной перевязью через плечо, зажав в руке литровую «Зелёную марку».
— В партизанском лагере сухой закон, — отклонил бутыль Егерь, старательно дыша в сторону — Млеко, сало, яйки есть?
Офигевший шафер принёс пакет с бутербродами. Проезжавший кортеж партизаны приветствовали салютом из трёх стволов, невеста махала в окно букетом, оператор лихорадочно снимал, высунувшись из люка.
Через час вся компания сидела в лагере №2, разбирая добычу: в основном попадались конфеты фабрики Коркунова и бутерброды с заветренной красной икрой, обнаружилась также банка ананасов, но не было консервного ножа.
К вечеру в свинцовом небе закружил вертолёт, из которого по верёвочной лестнице неловко спустился военком.
— Уф, — сказал полковник и вытер рукавом провалившиеся от четырёх бессонных ночей глаза, — думал, под трибунал… Оружие не потеряли?
— Патронов немножко того… в рамках военных сборов.
— Да пёс с ними, с патронами. Ногу никому не прострелили?
— Обижаете…
— Первый, первый, я Клён… Я, говорю, Клён! Приём!
В рации грязно выматерились.
— Не ссыте, я их нашёл! Да! Оружие, да! Живы все, не ссыте, говорю, — и, прикрыв динамик ладонью, — водочки нету?
— Водочки нету. Спирту треть фляги.
— Первый! Первый! Его Превосходительство требуют вырыть дзот. Да, настаивают. Я тут проконтролирую на месте, лично, да. До понедельника, а там шлите транспорт. Орлы, просто орлы!
Глава семнадцатая, май 2008
На майские отмечали помолвку секретаря из присутствия Ирэны Палны, но неудачно. Чем такие помолвки, лучше и замуж не ходить.
Ирэна, значит, Пална, в последнее время стала из себя сохнуть. То есть, касательно комплекции и всякого такого, то нормальная комплекция. Но внутри стала сохнуть. Глаз слезится. Походка ищущая. Юбка набок сползёт, а она так и ходит, не замечает. Ей говорят: Ирэна Пална, в отпуск? А она: полноте, я и плавать-то не люблю.
И всем сразу понятно, что дело сердечное.
Тут, значит, Ирка Фердыщенко, дура — не дура, а накачала из Интернета четыре папки женихов, большей частью заграничных, говоря: пока наши надумают, фирмачи уже и женются, и помрут, и в наследство оставят мильён евро. С этими папками прибежала в управу, увела секретаря в «Ла Веранду» якобы обедать, а на самом деле сватать. Ирэна ложечкой в тирамису ковыряется, а Ирка листы мечет по столу:
— Как тебе этот? А этот? Смотри, стоматолог. Знаешь, сколько у них стоматологи получают? А вот, смотри, мерчендайзер. Знаешь, сколько у них мерчендайзеры получают? Ты вообще хоть одного мерчендайзера знаешь?
— Я маркшейдера одного знаю.
— Ой, Ирэночка Пална, не нужны нам ни Марки, ни Шейдеры, нам нужен немец, на худой конец, норвег. Ой, смотри какой смешной, волосатенький!
И как раз волосатенький секретаря заинтересовал: стоит, такой, в бермудах разляпистых, на краю бассейна, пузико над резинкой нависает, по всему телу волос тёмный, но глаза хорошие, с искрою глаза. По профессии биржевой маклер, живёт с родителями, но не потому, что мамин сынок, а так, из немецкой экономии. Звать почему-то Оливер, между своими — Оле.
Ирэна Пална буквально пару минут на фотографии глаз задержала, а Ирка уже по полной зарядила: ссыпала волосатенькому тыщщу фотографий, ещё прошлогодних, с Байкала, расписала подругу во всей красоте, особенно ирэныпалниного знаменитого гуся с антоновскими яблоками. Основной размер маленечко приврала, написала №3, хотя на самом деле №2. Через три часа на «мыло» примчался ответ из Германии: мол, легко разбить сердце одинокому биржевому маклеру, но как его склеить обратно? В общем, с лёгкого Иркиного пинка через неделю секретарь уже была в Гамбурге на смотринах, поражая будущих родственников литературным немецким почти без акцента, а ещё через неделю вся гамбургская родня полным вагоном мчалась в Брянск свататься.
От таких новостей Лесничество кипело, Главный Егерь ходил хмурый, говоря: «Ну? Надо вам эти немцы? А как же делопроизводство в управе?», но Хрустальный зал под помолвку выделил без препон, хоть и с условием:
— Если хоть один сукин сын насчёт иностранцев проговорится Суворовой, я этому сукину сыну уши зажму в дверной проём, а двери закрою на ключ, и открою только после Дня Победы. Это буквально, вы меня все в курсе, если обещал.
Суворову, председателя Торгово-Промышленной Палаты, старались не подпускать к приезжим после того случая, когда болгарские педагоги из города-побратима Конин в процессе грандиозной трёхдневной пати в актовом зале ТПП подписали документ, согласно которому болгарские школьники-побратимы обязуются оказывать шефскую помощь сельхозпредприятию «Совхоз «Страшевичи» путём копки картофеля.
Сваты приезжали калининградским скорым в два часа пополудни, а в двенадцать обнаружилось, что будущая невеста исчезла, и на звонки не отвечает. Фердыщенка, не растерявшись, послала к поезду белку Бэлу Кржижановскую и медведя Зайончонкова с караваем и пакетом каменной соли, а сама бросилась в овраг Верхний Судок. И действительно, Ирэна Пална лежала на самом дне Судка, под дачами товарищества «Дзержинец», рвала свежим маникюром изумрудную майскую траву-звездчатку и била кулаком по склону оврага, говоря одно лишь слово: чмо. Чмо!
Рыдала, естественно.
Недолго думая, Ирка надавала подруге по щекам, выволокла наверх, посадила в такси и на три часа заперла в салоне красоты «Эссе», что на улице Дуки. Пока секретаря обматывали, как мумию, волшебными солями и восстанавливали порушенный маникюр, Фердыщенка неотступно сидела рядом и твердила одно и то же:
— Чмо? Чмо. Так имей же хоть каплю горделивости!
— Гордости, — поправляла Ирэна Пална в распухший нос.
— Гордость — это то, что измеряется в размерах. Вот у тебя 92 — 58 — 93 — это гордость. Остальное — горделивость. Кстати, насчёт гордости. Например, этот вот Оле…
— Не трожь Оле. Он славный. Всё нормально.
— Да?
— Да. Мы в сауну ходили. У немцев сауны общие.
— Ну, и хрена ли ты в Судок бегала? Всё, всё, молчу, только не вой! Опять нос распухнет…
В шесть вечера Ирэна Пална, сияя прозрачной кожей, стояла на балконе номера-люкс гостиницы «Б-ск» и смотрела на реку. Рядом, вдыхая запах уходящего половодья, стоял Оливер в бежевом костюме и галстуком в тон, и волей-неволей косился на белое секретарское плечо. В номере весело перекрикивались будущие родственники.
— Когда началась Perestroyka, — возбужденно говорил Оливер, — у нас принялись писать, что медведи на русских улицах — это миф. В конце концов им поверили! И что же мы видим, как только открывается дверь вагона? Медведя! Дрессированный медведь с белкой на плече, и круглая булка в лапах. Без намордника. Мама даже некоторое время опасалась выйти, тем более непонятно, где дрессировщик.
— А… Это Зайончонков Аркадий Петрович, наш зам. Ты только про намордник ему ничего не говори, ладно?
— Да? А я уже сказал. Но он не обиделся. Мы ехали в машине и пили бренди. Он не обиделся.
— Это не бренди, это коньяк армянский. А не обиделся, потому что по-немецки не понимает.
— Мне кажется, если медведь не говорит на немецком, это нормально.
— Просто ты ещё с Себастьяном не познакомился. Он нутрия, и говорит на пяти языках, и ещё на четырёх понимает.
— Нутрия?
— Да. Такая большая водяная крыса в очках. Тоже без намордника.
— Русский юмор — это целый пласт культуры. Ты научишь меня шутить по-русски?
— Научу, и начнём прямо сейчас. Значит, так: сейчас ты меня будешь выкупать. Это русский обычай. Придут все наши, и станут требовать за меня выкуп. Деньги им не нужны, им нужен процесс, чтобы было весело. Ты должен торговаться изо всех сил, исполнять символические желания и биться до последнего. Твои родственники должны делать вид, что им не очень-то и нужно тебя на мне женить. Имей в виду: вас могут заставить выпить водку из кастрюли. Тебе не обязательно пить всё, отпей и пусти кастрюлю среди своих.
— Мой папа может выпить много водки, у него друг — еврей из Саратова.
В этот момент откуда-то со стороны оврагов раздался протяжный вой. Звук шёл по синусоиде, то затихая, то взбираясь вверх, слов было не разобрать, и только одна фраза повисала в эфире на каждом подъёме:
— Уй, мля, сердынько мое порвалося-а-а…
Ирэна Пална выпрямила спину в глубоком вырезе.
— Это волк? — спросил заинтригованный Оливер.
— Это чмо. Пойдём вниз, сейчас наши приедут.
Биржевой маклер ещё постоял у перил, зачарованный диким напевом.
— Пойдём, Оле ты моё луковое.
— Что значит lukovoye?
— Я сказала: Оле ты моё Лукойе. Пойдём, вон уже ПАЗик подъезжает…
— … Ой, вы, гости, господа, — заорала коза Сидорова, — долго ль ехали сюда? И чего бы это ради вы сегодня при параде?
Толпа немцев, вывалившаяся из дверей гостиницы, замерла, рассматривая разношёрстную толпу встречавших. Особенно выразительно смотрелся в свете закатного солнца седой зубр Кондратий Опонежко, да и Зайончонков был хорош. Постояв немного, жених вынул из внутреннего кармана плотный кошелёк, молча отдал его Егерю, безошибочно определив в нём старшего, и что-то спросил по-немецки.
— Он говорит, — со вздохом перевела секретарь, — что, по его сведениям, где-то здесь должна быть кастрюля водки. Он спрашивает: нельзя ли выпить её сразу?
— Кастрюлю водки всякий дурак может выпить, — сердито отвечал Главный, засовывая бумажник обратно в жениховский пиджак, — а вот как насчёт… э-э, да что с вами говорить, черти нерусские… Аркаша, отдай ему кастрюлю, да поехали, горячее стынет…
В Хрустальном зале, пока рассаживались, переводчица из отдела культуры подробно оговаривала программу вечера, несколько раз подчеркнув, что, если заявится Суворова, она, переводчица из отдела культуры, немедленно покидает мероприятие.
Пустивши кастрюлю по кругу, немецкая делегация немножечко отмякла и, сидя по правую руку, чирикала меж собою приветливо. По левую сидела Ирка-подневестница в голубом широком палантине, Его Превосходительство в качестве посажённого отца, с супругою, за ними Зайончонковы и далее по ранжиру. Чпокнули бутылки шампанского, Сам встал, порычал в микрофон, прочищая голос, и совсем уже было собрался сказать приветственные слова, но тут стеклянные двери распахнулись, сквозь образовавшийся проём прощемился огроменный букет, и уже из-за букета раздался радостный голос:
— А тамада нам не нужна,
А тамадою буду я!
За спиной Суворовой заискивающе маячил енотовидная собака Лёва с фотоаппаратом на шее и что-то блеял насчёт светской хроники для глянцевого журнала «Б-ская Тема».
— Естественно, я как с отченаша должна начать, — объявила председатель, схватив крайний на столе бокал, — поблагодарить жениха за ту первую ласточку, которую они объявили, приехавши жениться! Можно осуждать сегодня, плохо, это или хорошо, но птица весенняя, первая, и я думаю, что это пойдёт на пользу. Если взять анализы предыдущих браков, и сколько есть разводов, то виновата низкая культура и количество людей, которые соблюдают этику, эстетику и правила игры именно в международном браке. Но барьеры есть, и барьеров пока нельзя победить. Я не то, чтобы вас разжижить, но я больше знаю информирована, всё-таки мой статус позволяет: у нас принято постановление о гендерной стратегии. Это о равенстве полов между мужчинами и женщинами. Думаю, это информационное поле со стороны области нужно повышать. Нужно говорить вслух, в тактичной форме. Вы должны знать и задать себе вопрос: в чём успех моего счастья? И в чём успех моей жизни? Успех: в ставить цели и их достигать! Так выпьем же, не вдаваясь в нанотехнологии!
Потрясённая общественность дружно выпила.
— А теперь конкурс! Ну-ка, называйте героев из мультфильмов! Мы сей же час узнаем характер молодых!
И побежала вдоль столов, записывая в блокнот версии. Сделавши круг и, предвкушая фурор, Суворова жестом фокусника выхватила из рукава распечатку с сайта «Всё для весёлой свадьбы»:
— Та-а-ак… смотрим… А невеста-то наша красива, как Буратина!
— Э-э… — соображала на ходу переводчица, — э-э, Пиноккио…
— А добрая, как Колобок!
— Э-э… Gut, wie runde Brötchen, как круглая булочка…
— А хозяйственная, как крокодил Гена!
— …Das wirtschaftliche Krokodil des Gens…
Мама жениха вздёрнула с пола ноги и принялась внимательно заглядывать под скатерть, подозревая там хозяйственного крокодила.
— А весёлая, как Капитошка! Как Капитошка, говорю, весёлая! Переводчица, чо молчишь?
Переводчица молчала, потому что пила из горлышка «Клюквенную для дам», после чего шандарахнула бутылкой об пол и вышла вон.
Образовалась тихая пауза.
— Где-то мент помер, — пояснил на всякий случай Сам.
Тишину нарушила невеста. Выйдя из-за стола, Ирэна Пална упёрла руки в бока, задала каблуками частушечный ритм и задорно спела:
— У нормальных йети
Есть жена и дети.
А у дебильных у йетей
Ни жены нет, ни детей!
После чего тоже выбежала через стеклянные двери.
— Так, — сказали Его Превосходительство Фердыщенке, — ты кашу заварила, ты и расхлёбывай. Вишь, жених-то губами трясёт, ополоумел от русских народных запердулин.
Ирка, вздохнув и как бы даже не удивляясь произошедшему, пересела на место невесты, скинула голубой палантин, скрывавший бесконечно мягкие шёлковые плечи, по-хозяйски поправила жениху бабочку на шее, положила руку на волосатое запястье и сказала утешительно:
— Не грусти, Олежка. Дело не в тебе. Пошли лучше танцевать. Дэнс-дэнс-дэнс, ферштейн?
Оливер, высморкавшись в салфетку и с трудом отводя глаза от декольте, кивнул.
Майские прошли так себе. Слово своё Егерь сдержал не до конца и отпустил Левины уши из дверей уже через два дня, потому что безостановочный енотовидный вой с пятнадцатого этажа Лесничества грозил сорвать праздничную демонстрацию, да и вообще, наводил тоску.
После Дня Победы, числа двенадцатого, Его Превосходительство и Себастьян сидели в управе, пытаясь разобраться в разорённом после исчезновения секретаря делопроизводстве. Вернее, разбирался нутрия, а Сам сидел, положивши голову на руки и раз от разу вспоминал:
— А помнишь, Себастьян Венедиктыч, какой рассол у нас всё время в холодильнике стоял? А я даже не спросил её, где она такой славный рассол берёт…
— Это коза Сидорова приносила, на мочёных яблоках и капусте сорта «Белый закат», с клюквой и водкой, — отвечала Ирэна Пална, входя в кабинет.
Оба подпрыгнули от неожиданности. Ирэна Пална была та и не та, глаза её блестели покойной уверенностию, грудь вздымалась плавно, как морской прибой, а на безымянном пальце правой руки матово поблёскивало простое медное колечко, явно точёное из советского пятака.
— Ваше Превосходительство, не ругайтесь, я ещё дня три на работу не выйду, за свой счёт, ладно?
— Да хоть неделю, — отвечал Егерь, пылая от счастья, — вернулася, Венедиктыч, вернулася!
— Не нужно неделю, мне только мауглей своих в пятнадцатые ясли дооформить, и я уже на месте.
— К-каких мауглей? — насторожился Главный.
— А вот этих, — отвечала секретарь с тихой гордостью, показывая за слюдяным окошком портмоне фотографию трёх одинаковых пацанят, действительно чем-то напоминавших Маугли. На вид каждому было года по три.
— Не понЯл, — не понял Егерь.
— Ах, Ваше Превосходительство, я и сама не слишком вдавалась. Нам ведь, женщинам, главное сами знаете что, — секретарь застенчиво повертела колечко, — а законы физики — нам на них начхать.
— Ещё раз не понЯл.
— Ну, в общем, чудище наше, Мыколай Иваныч, с Неведомого пруда, что в Верхнем Судке то является, то нету его — это лесник из Пермской аномальной зоны. Фамилия наша теперь — Конопелько. Зона аномальная, у них там пространственно-временной континуум нарушается и идёт циклически, по спирали. И пруд этот мотает туда-сюда в пространстве и времени, особенно, если Коленька выпьет. Жалко, никаким расчетам не поддаётся. Еле дождалась, пока коридор в нужное время откроется, и сразу на работу.
И… как там Оливер? Не сильно расстроился?
Себастьян развернул монитор. На рабочем столе лежала фотография Оливера в бежевом костюме и Ирки Фердыщенки в фате и головокружительном платье на фоне гамбургской ратуши. Позади стояла мама жениха, махая в воздухе большим надувным крокодилом.
— Вот, только сегодня пришло. Ирка божится, что перетащит мужа сюда. Тем более, Суворова его в Палату сильно сватает, экспертом первой категории.
— Уф-ф, просто камень с плеч… Ну, я побежала, а то гороно закроется.
Дверь хлопнула.
— Пермская аномальная зона… — начал Себастьян, поправив очки.
— Ша, — сказал Егерь, потягиваясь в кресле, — не колебёт.
— Пространственно-временной континуум…
— Слышь, грызун? Щас будет, как с Лёвой.
Себастьян благоразумно замолчал.
— Ты мне лучше ответь прямо: Пална теперь здесь на постоянке, или так и станет туда-сюда мотыляться?
— Видите ли, это зависит…
— Всё, не надо. Давай, знаешь, ей цветов, что ли, купим? Всё-таки перемены в личной жизни, все дела.
— Лучше позвоните в собес, пусть оформят детские пособия, как за три года.
— Какие, всё-таки, вы, энциклопедисты, научно-прикладные. Ну, позвоню. А ты цветов купи.
Глава семнадцатая, июнь 2008
…И накануне пивного сезона принято было решение: летние кафе «Разгуляй» и «Негорюй» в ЦПКиО «Соловьи» закрыть к эпической матери. Решение приняли на самом верху, несмотря на многочисленные протесты снизу и крики из электората: «А где молодёжи гулять?». С разъяснениями пришлось даже выступать по телевизору, где чуть было не случился скандал, потому что на фразе Главного Егеря «Гулять надобно согласно плану эвакуации поквартально, а лучше работать, как мы в ихнее время пахали…», из-за портьеры выскочил енотовидная собака Лёва и, потрясая кипой пожелтевших от времени бумаг, закричал про тетрадь записей медвытрезвителя Советского района за восемьдесят второй год. Но договорить не успел ввиду упавшего двухкиловаттного софита на спину, после чего камера перешла на крупный план медведя Зайончонкова, чихавшего от пыли. Сюжет имел успех, был даже повторен в прайм-тайм, но конкретно по «Разгуляю» и «Негорюю» так ничего и не прояснилось.
На расширенной планёрке вопрос снова встал ребром, причём из зала требовали прямых ответов: а) какого хрена доколебались именно до шатров в ЦПКиО «Соловьи»; б) где населению культурно отдыхать, учитывая, что в первом русском пивном ресторане «Бухтилов» бокал стоит ну никак не меньше восьмидесяти, а в «Разгуляе» — от силы сорок, не говоря уже про свежий воздух и караоке круглосуточно; в) на какие средства содержать парк?
В президиуме угрюмо молчали, барабаня по столу пальцами.
— Ну, тогда я, с вашего позволения, — вздохнув, вызвался зубр Кондратий Опонежко, — во-первых, конкретно в «Негорюе» отмечали прошлый вторник день ангела Его Превосходительства. И что же? Это просто волна неуважения: как стояла очередь в уборную, так и стояла монолитом, несмотря, что Их Превосходительство представились неоднократно, и мы подтвердили.
— Тю! — закричали из зала, — вот ещё беда! Пошёл в кусты и отлил, что ж теперь сразу закрывать-то?
— Я и пошёл! — вскочил с места Сам, но фразы не докончил, сел.
— Они и пошли, — подтвердил зубр, — но Их же ударили из темноты!
Зал притих, придумывая версии, кто это нашёлся такой смелый.
— Из темноты, ушлёпки, — снова вскочил Егерь, — говорят: что ж ты, типа, гадишь, тут же люди кругом на чернозёме лежат. И под дых, а сами — шмыг — и в овраг. Я, конечно, щеманулся за ними, но там же вокруг кондомы раскиданы, скользко, как танцы на льду. А ещё, пока обратно взбирался, два раза наступил, а это, между прочим, выходные туфли, ручное шитьё, Лондон, триста фунтов. Хоть выкидывай.
— Ну, так надо просто ещё две-три уборные поставить…
— Ага. И гамаки повесить, чтобы молодёжь почки не студила, да?
В зале наступил разброд. Одни говорили, мол, да, сколько можно, гнездо разврата, тем более, караоке до утра, а внизу пойма, и цапли жалуются, что спать совершенно невозможно. Другие отвечали, что, да, гнездо разврата, зато они все в одном месте, а теперь то же самое, но под каждым кустом начнётся, а кругом дети. Пиво, опять же.
В этот момент на трибуну поднялся без спросу специалист по связям с общественностью Терибунов. Этот Терибунов был тёмная лошадка, из какого-то районного издания проникший в комитет и ничем себя особым до сих пор не показавший, кроме как толстыми усами; ещё некоторые говорили, что он армянин, и-де, фамилия его пишется через дефис, как Тер-Иванов, но это вряд ли.
— Друзья, — сказал специалист по связям, — я лично глубоко поддерживаю и обязуюсь решить проблему со своей стороны радикально, а именно — не пить больше вовсе. Даже пива.
Наступила задумчивая тишина.
— Вот. Не пить вовсе. Если не пить, то и проблема отпадёт сама собой. Я лично уже неделю ни капли в рот, вот справка от жены, а вот — опыт на себе.
Терибунов вынул из барсетки трубочку, которую используют работники ГИБДД, и дунул. Стекло осталось незамутнённым.
— Пожалуйста. Есть в зале врачи? Готов сдать анализ крови на анализ.
Тихая пауза затянулась неловко, но никто не решался прервать, ибо не понятно было, чего говорить-то в ответ. В этот самый момент Ирэна Пална, секретарь из присутствия, отодвинула в сторону ноутбук, в котором вела стенограмму, встала и зааплодировала так азартно, что за нею, воленс-ноленс, захлопали и остальные, с задних рядов закричали браво и бис, и пришлось даже звонить в колокольчик.
— Я это делаю не просто из здоровых побуждений, хотя и из-за них тоже, но ещё и ради России, — продолжал выступающий с экспрессией, — потому что, обратите внимание, мы же после выборов так и рванули ввысь: футбол — раз, хоккей — два, Дима Билан на Евровидении — три. А раз масть пошла, то она прёт, как опара на Масленую. И надобно быть готовым, а то вдруг война, а мы пьяные и в зелёных соплях валяемся по Соловьям.
И, неожиданно вскочив на табурет, докладчик закончил выступление скандированием на манер кубинского:
— Пока все мы с Димой,
Мы непобедимы!
Не понявши, которого именно из Дим докладчик провозглашает, зал всё же единогласно подскочил и тоже помахал в воздух лапами. Пора было переходить к конструктивному обсуждению, но в том-то и дело, что по-конструктивному следовало бы объявлять всеобщее движение за трезвость, а это, во-первых, уже было не раз, во-вторых… в общем, трудное решение. Нужен был компромиссный вариант, и он обнаружился в лице бобра Игната, крикнувшего из партера:
— Да ему памятник ставить надо при жизни! И не за то, что бросил, а за то, что решил — и бросил. Много у нас таких примеров перед глазами, чтобы решил-воплотил? Опять же, молодёжи нужны образцы для подражания. Опять же, на заводе «Кремний» заготовили четыре тонны бронзового лома, чтобы напечатать памятных медалей к пятидесятилетию предприятия, но им энергию отключили за неуплату, и не напечатали, а бронза по всему двору валяется. Как раз на статую.
Перспектива вылиться в бронзу Терибунова не на шутку обеспокоила (по примете памятник при жизни — к скорым похоронам), он покраснел, зашевелил усами и отчаянно замотал головой, как бы говоря: есть более достойные. Зато остальным идея пришлась, да и то — памятников давно не ставили, соскучились. Зал загалдел, стал выкрикивать варианты, и, в конце концов, сошлись на решении памятник сделать, а кому — пусть решают массы, главный же критерий — чтоб слово держал, решил-воплотил.
Всю следующую неделю город бурлил. Многие под разными соусами предлагали собственные кандидатуры. Так, ёж Савва Бахметьев категорически настаивал, что он, Бахметьев, достоин памятника как минимум по двум причинам. Во-первых, как-то в юности Савва дал своей будущей нынешней жене Аглае слово, что аглаина мама, а его тёща, будет жить с ними, не смотря на нюансы. И в августе будет ровно двадцать лет их совместной, мать её, жизни, если это можно назвать жизнью. То есть условие «решил-воплотил» соблюдено. А во-вторых, ежи — существа некрупные, на памятник пойдёт от силы четыре килограмма бронзы, а оставшийся ценный металл можно пустить на канделябры.
— Протестую! — возражал на комиссии стилист Пчелинский, — частный случай. Кроме того, это же памятник, к нему молодожёны будут букеты возить. Представьте себе, приезжают, такие, молодожёны с цветами, а тут колючая бронзовая хрень с иголками, а на постаменте написано: «он двадцать лет прожил с тёщей в одной норе!». Где положительный пример? Где социальный посыл? Лично я дал себе слово не жениться, пока не сделаю карьеры — полной карьеры. Вплоть до передачи на MTV.
— Ну и..?
— Ну и не женюсь.
— А вот я однажды, — сказал мечтательно кролик Даниил Коноплёв из отдела статистики, трижды отец-герой, — решил три недели подряд…
— Тпру-у, тпру-у, стоп! — заорала вся комиссия, махая лапами, — этот случай весь город знает. Это, что ли, положительный пример? Это, что ли, социальный посыл? Это, чтоб ты, Коноплев, знал, бессмысленная погоня за рекордами. Вызывай представителей из книги рекордов Гиннеса, и пусть они тебе памятник ставят. Кроме того, ты сам-то, дурья башка, как себе скульптурную композицию представляешь, чисто визуально?
Почесавши в затылке, кролик сел.
— А вот я однажды, — вспомнила невпопад коза Сидорова, вытиравшая на шкафу пыль, — решила соблазнить козла Валентина Рубашкина, диск-жокея из «Фортуны».
Комиссия заинтригованно насторожилась: Рубашкин был стойкий гей.
— Ну-ну-ну?
— Вот тебе и ну. Четыре портвейну извела.
— Ну-ну-ну?
— Не запрягли, не нукайте… Почти удалось. Он говорит: у тебя глаза как у лани. А потом уснул с непривычки, козёл. К портвейну нужно привычку иметь.
Все разочарованно вздохнули, ибо чуяли в неслучившемся и положительный пример, и социальный посыл.
К вечеру, когда комиссия совсем выдохлась, из глубины зала встал седой долгожитель Цимельский, просидевший молча двенадцать часов подряд.
— Смотрю я на вас всех, — сказал долгожитель, — и думаю: вот ведь мудаки! Да разве ж и так не ясно, что в этой стране один только человек как сказал, так и сделал?
Подцепив клюкою задвижку, Цимельский распахнул окно и указал на середину площади Ленина, посреди которой бронзовый Владимир Ильич совал бронзовую руку в карман бронзовых брюк.
— Ладно, ладно, Цимельский, — отвечали старику, — мы твоё мнение уже сорок лет знаем, сядь, покури.
По всему выходило, что отливать из бронзы придётся всё-таки Терибунова, ибо остальное всё получалось мелко и субъективно. В этот момент от милицейской будки на бульваре Гагарина отделилась фигурка человека в зелёном пограничном берете и полосатой матросской майке, и побежала в центр площади, за ней, дудя в свистки, погнались два лося: лейтенант Анциферов и капитан Убобожко. Фигурка в берете бежала боком, сильно вихляясь, но стремительно, и, достигнув памятника, в мгновение ока вскарабкалась сначала на постамент, а потом на плечи вождя революции. Взобраться на гладкую гранитную глыбу лосям было невозможно, скользили копыта, и, пока лейтенант свистел в сторону нарушителя, Убобожко поскакал в УВД за подмогой. Но и нарушитель времени зря не терял: снявши тельник через голову и размахивая им над беретом, он поднял лицо навстречу закатному солнцу и что есть мочи заорал, топорща толстые усы:
— Пока с нами Митя
К нам не подходитя!
Пока у нас Медведев
От… дим всех соседев!
Сколько-то времени комиссия молча рассматривала картину безобразия, но, когда послышалась сирена, окно от шума закрыли и единогласно постановили нового памятника не ставить, а натереть уже существующую скульптуру неоднозначного вождя революции Ульянова-Ленина пастой ГОЯ, предварительно очистивши от помёта птиц…
Двадцать лет спустя
— Значит, так, Агриппина Кузьминишна! Ежели завтре у тебя не будет бейджика, как у Сидоровой, я тебе обещаю: ты человек пожилой и к рукоприкладству не годящий, но в семочки твои приду и сяду лично… э-э… попой! Ты меня ферштейн?
Медведь Зайончонков обернулся к старушке Агриппине Кузьминишне задом и для назидательности пошевелил куцым хвостиком. Старушка машинально прикрыла товар сухонькими ручками и мелко покивала, мол, ферштейн. Коза Сидорова, торгующая рядом солёными огурцами и самодеятельной аджикой в майонезных баночках, сделала на морде прилежное выражение и выпятила шею, на которой и в самом деле висел аккуратный бейдж «Sidoroff Kleopatra, PBOYUL license №…, free economic zone free citi B-sk, 2028».
Как только медвежий зад скрылся за углом ресторана «Б-ский картофель», Кузьминишна плюнула ему вослед с пожеланием пойти в краеведческий музей и сесть лично попой на противотанковую мину.
— А вот и зря, — заступилась коза, — у них завтра симпозиум, четырнадцать делегаций. После обеда едут город смотреть, подойдут к тебе, скажут: «ху из эндьюти тудэй?», а ты что? Будешь стоять, глазами лупать, позориться.
— На всякий «ху из» у нас ответ известный, а если спросят, чем торгую, скажу: «рашн драгз». Пусть не брешут: симпозиум. Приедут сто пятьдесят финнов, нажрутся и будут на площади Партизан летку-еньку до четырёх утра исполнять.
— Это да-а. Хуже финнов только эти… рыжие…
— Ирландцы.
— Вот.
Но в конце концов обе согласились, что нынешний симпозиум по делу — всё-таки пятнадцать лет с тех пор, как зубр Кондратий Опонежко почесал рог о куст Euonymus verrucosa Scop. (бересклета бородавчатого), оказавшегося кустом Euonymus verrucosa b-anika.
История классическая, много раз описанная в учебниках, и сильно мифологизированная. На самом же деле всё было банально до зевоты: в апреле 2013 Опонежко поехал в заповедник «Б-ский лес», где у него, между прочим, прописка по паспорту и в трудовой записано, а то, что он там бывал раз в месяц, чисто пенсию-зарплату получить — так это претензии к руководству заповедника, с которым он, извините, пил каждый раз вплоть до прихода утренней электрички.
Но это ладно, дело прошлое.
Вот, и, значит, пока шёл до конторы — там километра четыре от станции, — почесался рогом о куст бересклета. Ну, отчего полорогие чешутся? Наверное, апрель, рога лезут. И пришел. Пока то-сё, пока бухгалтер пришла, пока бумаги — уже вечер. Сели, как водится, на поляне, костёр запалили, раз, два, три — всем уже хорошо, а у Кондратия Семёныча ни в одном глазу. Он говорит:
— Мужики, что за дрянь пьём? Не берёт!
— Да ладно — «дрянь»! Да ладно — «не берёт»! Ну-ка, скажи: сире-не-ве-нький.
— Сиреневенький.
— Прико-о-ольно. А скажи: с при-под-вы-под-вертом.
— С расприподвыподвертом!
— Действительно, не берёт… Чудно. Это ж буряковая, своя. Ты, наверное, Кондратий Семёныч, скоро того, помрешь… У нас, вон, старик Липатов о прошлом годе тоже говорит: как же достала ваша косорыловка, и ушёл прямо с планёрки. Утром будить — а он холодный.
Разговоры о возрасте Опонежку всегда расстраивали, а тут ещё в таком обидном аспекте, что тоже встал и ушёл. До рассвета прошатался, как молодой, по пуще, оставляя тут и там клочья зимней шерсти, а к утру нечаянно вышел к загону с местными зубрихами…
Когда член Общественного Совета не появился на пятничном заседании комитета по укрупнению, а мобильный его вот уж четвёртые сутки отвечал «… вне зоны доступа», стали звонить в лесничество заповедника. На том конце провода помолчали и ответили:
— А ведь помер наш Кондратий Семёныч! Ей-Богу помер. Прямо как старик Липатов.
Город вздрогнул от горя. Опонежку уважали за рассудительность, а в комитете ценили за опытность и хладнокровие. Бросились строчить некрологи, в зелёном хозяйстве навязали уйму венков с чёрными лентами, сели в три ПАЗика и поехали хоронить. Каково же было изумление, когда на повороте от станции обнаружился в кустах наш зубр, истощённый донельзя, но совершенно живой, даже как бы помолодевший, с несколько безумным взглядом, как бы даже не романтическим.
Опонежку приманили морковкой, посадили в автобус и помчались в областную больничку, где нашли его в великолепном состоянии, включая печень. На вопросы, где чкался почти что неделю, пенсионер не отвечал, а только смотрел куда-то вдаль, в остальном же вёл себя по-прежнему рассудительно и хладнокровно. Об инциденте забыли ровно на девять месяцев, когда из заповедника позвонили в присутствие и заорали в восторге:
— Скажите! Опонежке! Мужик, блин! Завидуем всем коллективом, блин! Это ж надо — девять телят, и все с морды — вылитый Семёныч! Скажите: премия, тринадцатая и турпоездка по Золотому Кольцу — заслужил, бычара!
Шум, хохот поднялся невообразимый, все хлопали новоявленного папашу в плечо, поздравляли, одних букетов шестнадцать штук Опонежко сжевал прямо на банкете, но в целом ничего удивительного не нашли: седина в бороду, с кем не бывает. На этом и успокоились бы со временем, но однажды к Опонежке прямо на комитете подошёл заинтригованный нутрия Себастьян, известный в городе энциклопедист, и с изумлением выковырял из седой бороды вполне себе созревшие плоды Euonymus verrucosa, между прочим ядовитые. Судя по плодоножке, росли они прямо из зубрового подбородка.
Ну, а дальше все знают: в Лесохозяйственной Академии, под гипнозом, Кондратий припомнил вышеупомянутый куст, снарядили экспедицию, собрали образцы растительности по всему заповеднику. Полтора года Себастьян с командой младших научных сотрудников не выходили из лаборатории, а когда вышли, в нутриевых лапах были четыре колбы с вытяжками из стволовых клеток: из стволов бересклета (камбиальный слой), вяза падуболистного (луб), голубой сосны (ядро и сердцевина) и стебля неотианты клобучковой из подсемейства ORGHIDOIDEAE. Инъекция стволовых клеток положительно влияла на все органы вообще, причём объяснялся феномен исключительно теорией малых доз радиации.
В учебниках, конечно, с гордостью сообщают, что растения с вариабельными стволовыми клетками встречаются исключительно на территории Б-ской области (Россия). У соседей, на Украине, язвительно подчёркивают учебники, никакого феномена нету: вот буквально, перешёл границу, прошёл пять метров, и хоть ты все рога о кусты обдери, будет тебе от того одна лысина — и это чистая правда.
Зато учебники стыдливо обходят случай со спецкомандой «Альфа», ворвавшейся в бомбоубежище под телефонной станцией, после того, как наши отказались сливать информацию по стволовым клеткам в лабораторию МГУ. Ворваться-то они ворвались, но когда стали выходить с похищенной документацией, нервы у альфовцев сдали: ну тяжело неподготовленному человеку сойтись рог-в-рог с лосями из спецназа управления по исполнению наказаний. И подготовленному, прямо скажем, тяжело. Забаррикадировавшись изнутри, московские стали наяривать по рации sos, но тут уже Его Превосходительство Главный Егерь не выдержали и лично показали альфовцам в узкую щель кролика Даниила Коноплёва.
— Пацаны, — сказал Сам, крепко держа Даниила за уши и подальше от себя, — пацаны! Это кролик Коноплёв из отдела статистики горадминистрации, трижды отец-герой. Три минуты назад ему вкололи… э-э…
— …наносуспензию из камбиальных клеток стебля женьшеня, его у нас под Суземкой выращивают для нужд спиртзавода, — подсказал, волнуясь за дело всей своей жизни, нутрия Себастьян.
— Да. И вот ему это сейчас вкололи. Три минуты назад. Пацаны, если вы не выйдете, мы Коноплёва в бункер запустим через воздухопровод. И тогда без обид. Если выйдете, оружию оставляем при вам — я сам служил, понимаю.
К щели подошёл подполковник, несколько минут сосредоточенно смотрел на извивающегося кролика в бронежилете: сквозь тёмное стекло защитной каски яростно сверкали налитые кровью глаза альбиноса, уши в прорезях торчали, как стальные рессоры. Подполковник не боялся смерти, но был специалистом своего дела.
— Мы выходим, — сказал он, шевеля в щель усами, — только животных уберите.
Через день в Лесничестве зазвонил белый телефон без номерного диска.
— Ладно, мужики, — сказал в трубке знакомый каждому россиянину голос, — чего вы хотите?
Вот так и стал Б-ск свободным городом в свободной экономической зоне «Б-ская область», городом шести таможенных терминалов, родиной корпорации «Наностволбионика GMBH» и интеллектуальной столицей Восточной Европы.
Ровно в два часа дня в репродукторах на проспекте Ленина засипело, как это бывает при демонстрациях, потом закашляли, трубно высморкались и сказали:
— Дорогие гости! Ай, не надо, как говорится, ай, бросьте. Шучу, шучу. За прошедшие пятнадцать лет сделано немало, сами видите. И сейчас доклад совершит Себастьян Венедиктыч Карху, потому что у него это получается лучше, несмотря на передние резцы. Шучу, говорю!
В течение получаса нутрия рассказывал о достигнутых успехах, в частности о новом проекте в направлении стволов туи восточной с центральной площади колхозной усадьбы села Страшевичи, вытяжка из которых побивает все рекорды в увеличении естественного объёма груди и даже — нутрия поднял коготь — в борьбе с целлюлитом.
— Всех исцЕлит, исцелИт, даже если целлюлит! — подвёл итог Главный под гром аплодисментов, — А теперь товарищ Бэла Кржижановская из комитета по грибам расскажет насчёт социальных моментов.
Белка Кржижановская коротко доложила, что, мол, население области растёт геометрически, причём 24,82% из новорождённых в прошлом году — Homo sapiens, что вселяет надежду. После запуска третьей линии метро «Бежица — Б-ск II», удалось сократить вредные выхлопы, особенно за счёт отсутствия пробок на Городищенской горке. Есть проблемы с постройкой шестнадцатиэтажного общежития в Лесохозяйственной Академии, но это только потому, что ректор настоял на облицовке здания бутовым камнем и технология ещё не отработана.
Белке тоже похлопали.
— Но есть ещё среди области и нерешаемые проблемы! — сказали вдруг Его Превосходительство.
— О, о, сказал-таки, — толкнула старушка Агриппина Кузьминишна козу, — не удержался.
— Удержишься тут, — коза даже сплюнула на асфальт жвачку, — всё из-за козла этого…
— … А всё из-за этого бизона полорогого, который даже на семинар не явился, сославшись, что по семейным обстоятельствам. Никто, конечно, заслуг Опонежки не отрицает, но за то, что он скрыл от общественности побочные эффекты, мы ему уже не раз били, и ещё будем не раз.
В мегафонах зашумело — это общий вздох прошёлся по толпе.
— Это же надо: два года сидел за одним столом с коллективом, ел, пил, и никому слова не сказать, что его не берёт! И только когда все навкалывали себе и бересклета, и сосны, и барбариса — только тогда информировал, что отсутствие алкогольного синдрома. Это здоровый мозг надо иметь в башке? А?! Тринадцать лет «Наностволбионика» бьётся над проблемой, тринадцать лет у общественности ни в одном глазу, включая лёгкие наркотики, а, впрочем, и любые, как оказалось.
Спору нету, криминальная кривая снизилась, рождаемость резко пошла — оно и понятно, женщины наши выглядят с каждым днём, спасибо Себастьяну Венедиктычу, а изменять на трезвую голову — не изменяет организм. Оттого рождаемость в семьях, например, моя снова (раздался звонкий шлепок, приглушённая фраза женским голосом «дебил!», аплодисменты — авт.). Бизнес растёт. Но отдыхать-то когда-нибудь нужно?
Тут заиграл «Шумел сурово Б-ский лес», и колонна демонстрантов двинулась от площади Партизан к дамбе.
— Зато в подъездах не ссут, — утешительно сказала старушка.
— Да по мне, лучше бы ссали. Живёшь, блин, как в пионерском лагере.
— Это как?
— Да так. В предвкушении любви. Пойти, что ли, в «Суши-рум», нигирей нажраться…
…В Овальном зале, сидя на полу, Сам и Зайончонков играли в шашки — сбежали с банкета.
— Вечно рыжие эти, — говорил Главный, — нажрутся, как животные. Пардон.
— Ирландцы.
— Я и говорю.
— …У вас опять щетина зелёная.
— Вот зараза. Это сосна №84, брейся не брейся, а в апреле хвоя прёт по всей роже.
— …А у меня, например, если литра полтора мёда хватануть, начинает голова кружиться.
— Дурак ты, Аркаша. Дело ведь не в голове, дело в сердце.
— А Себастьян говорит: гипофиз заблокирован.
— Ещё раз дурак.
Неслышно вошла секретарь Ирэна Пална, катя на столике чашки с горячим бульоном и пампушками, присела, обтягивая руками короткую юбку, посмотрела партию, подсказала медведю ход, через который тот выскочил в дамки, и уже в дверях несколько раз настойчиво произвела звук «кхм-кхм!», показывая глазами на стену, где с портрета строго смотрел на присутствующих В. В. Путин.
Оба игрока тоже посмотрели.
— А? Что?
— Кхм-кхм.
— Да? А сегодня какое? Аркаша?
— Двадцать восьмое, чётное.
— Тю, блин, я вечно путаю.
Зайончонков тяжеловесно поднялся и, подойдя, перевернул и выровнял раму.
— Всё-таки у Медведева глаза мягше, интеллигентнее, — определила Ирэна Пална по-женски.
— Да? Ну, это вы по-женски рассуждаете. А я никак отчевства его не запомню.
— Анатольич.
— Точно.
Цукер
Мостовщиков +
Запах превосходства
Все дикие животные, за исключением, пожалуй, бегемота, искренне боятся человека. Бегемот, будучи, в сущности, не животным, а результатом соединения тахты с бульдозером, в ходе эволюции каким-то странным образом отстоял свое право презирать людей и произвольно нарушать границу между стихией и материальным миром. Даже профессиональные африканские охотники, как мне рассказывали, избегают напрасных встреч с бегемотом, чтобы не быть растоптанными и поруганными существом с размахом рта, годным для исполнения национальных гимнов экономически процветающих держав.
Остальной животный мир остерегается человека, несмотря на то что часто бывает коварнее и сильнее его. Человека боится крокодил, горизонтальная рептилия, способная напасть на буйвола. Едва почувствовав людей, крокодил старается скрыться, хотя убить его даже из винтовки невероятно сложно. Охотник должен либо попасть ему прямо в мозг размером со спичечный коробок, либо перебить рептилии какие-то жизненно важные позвонки, стреляя крокодилу в улыбку — в то место, где заканчивается довольная пасть животного, отдыхающего под солнцем на речном песке.
Человека боятся волки, одни из самых разумных и хитрых обитателей леса. Человека боится лось, умеющий противостоять даже медведю. Эта ходячая крепость с лопатообразными рогами может ударить противника не только задними копытами, что известно по анекдотам, но и лупит его прямо в лоб передней ногой, выкидывая ее вперед, как пику. Наконец, боится человека и сам медведь, вообще не имеющий в лесу каких-либо врагов. Медведь довольно плохо видит, но прекрасно распознает запахи и звуки. Поняв, что поблизости человек, медведь чаще всего убегает, как провинившийся ребенок, несмотря на то что одного движения лапой ему достаточно, чтобы переломать гражданину хребет, а скрываться от медведя и вовсе бессмысленно: по лесу он движется совершенно бесшумно иногда со скоростью «Жигулей».
Человека облетают птицы, его остерегаются зайцы, рыбы таятся от него в зелени водных струй. Считается, что дело тут в ауре человека, в особенном запахе превосходства, признаке цивилизованного существа, давно покинувшего природу. В этом запахе дикое животное чувствует иную сокрушительную силу, способную менять привычный порядок вещей, вторгаться в сущности, приводить в движение стихии, рождать огонь, подниматься в воздух, проникать в глубь земли. Предполагается, что вместе со своим запахом человек приносит природе сообщение об ином, более совершенном мире, отстоящем от дикого животного на расстояние далеких галактик.
Так считается, и вот уже 13 лет подряд каждую осень я со своими приятелями вожу свой запах превосходства на проверку в дальневосточную тайгу. Долетев до Хабаровска, а иной раз даже и из Хабаровска в Охотск, мы садимся на вертолет и забираемся на таежную реку в какую-нибудь такую глушь, где невозможно встретить ни единого живого человека. Наш запах превосходства оказывается здесь эксклюзивным, как это принято сейчас говорить. В нем, несомненно, присутствует едкая злоба больших городов, опрелость семейного очага и усталость от разговоров с людьми. К этому примешивается еще и запах мелких, но приятных завоеваний цивилизации наподобие тушенки, резиновых сапог, хлеба, фонарей, огненных палок с оптическим прицелом, палатки, надувной лодки, спичек и средства от комаров. Это происходит уже 13 лет подряд, и каждый раз случается примерно одно и то же. Запах превосходства начинает исчезать.
Я думаю, его съедает тишина, в которой растут деревья. Сначала из головы выветриваются лишние слова, потом и образы людей и ситуаций. Их мысленные изображения как бы растворяются в мозгу и поднимаются к небу с дымом костра. Потом грубеют руки, покрываясь порезами от ножа и краснея от холода реки. Отрастают волосы и щетина, желтеют зубы, тело приобретает свежесть лежалого плода. Вдруг ухо начинает различать неведомые звуки — вот треснула ветка, вот из воды выпрыгнула рыба, вот вдалеке вскрикнула птица. Глаза начинают видеть, как утром меняется лес, как зелень его бросает вдруг в краску, как он застывает, готовясь почувствовать снег.
Эти непостижимые превращения продолжаются до того самого момента, когда однажды ночью ты вдруг выходишь из палатки, чтобы освежить организм, и слышишь невидимую реку, различаешь только угли костра и звездное небо, на котором записана твоя судьба, но ее не прочесть из-за холодности звезд. Фонарем ты проводишь окрест, чтобы хотя бы немного разворошить ночь, и вдруг луч упирается в чьи-то глаза. В свете лампочки они вспыхивают, как два ярчайших серебряных выстрела в кромешной тьме. Они рвут ночь и сердце. Они смотрят прямо в тебя из леса. Господи, чьи это глаза? Кто там? Может быть, это ты сам?
Никогда, никогда нельзя с этого момента признаться себе в превосходстве. Цивилизация с этой секунды обращается в прах, весь прогресс — в следствие робости перед природой, в попытку отомстить за ее непостижимость, за силу тяготения, за тайну происхождения жизни. А те глаза из леса, что знают эту тайну, они совсем не боятся тебя. Они просто смотрят с интересом в упор, как два серебряных выстрела во тьме. Смотрят и исчезают в ночи.
Конечно, это длится всего лишь мгновение. 13 лет подряд я езжу в тайгу и 13 лет подряд возвращаюсь. Ибо ногти на моих руках не превратятся в копыта, чтобы копать ими ягель, волосы не защитят от зимы, а тело, даже если и покроется чешуей, в реку его все равно не пустят резиновые сапоги. Так что я возвращаюсь к людям. Я опять приобретаю способность слышать новости по радио, видеть светофоры и чувствовать маленькие прелести цивилизации — котлеты, макароны и водку, этот сплав солнца и льда, отвар покорителей сущности, напиток борцов с естеством.
О главном
Русская народная борьба человека с забором
…Вот утром Бочарова полезет в компьютер, прочтёт эту явку с повинной, обернётся, всплеснёт руками и скажет с изумлением: «Ах ты, жопа!»
А я не жопа. Просто мне не наплевать на логику и справедливость. И при этом приходится писать явку с повинной. Где логика? Где справедливость?
…В общем, я тут в одиночку веду борьбу с забором. Уже несколько месяцев. Все знают этот забор: стоит посреди города, как окоченевшая синяя клизма, сбоку табличка «Проход запрещён» и никакой смысловой нагрузки, потому что 1) впустую перекрывает важную городскую артерию; 2) справа от него пролаз, через который все, само собой, пролазиют; 3) за забором вот уже больше месяца не ведётся никаких работ по причине зимы, отсутствия желания и сил. И вообще, за и перед забором — город Б-ск, страна Россия, остальное знаете с детства. Так на кой ляд он здесь торчит?
Обратите внимание, пока за забором хоть чуть-чуть копошились, я его не трогал: ну не можете вы работать при свидетелях, фиг с вами, интимничайте, скрывайтесь от народного контроля. Но когда они на работу забили, а забор оставили, в магазине «Стройка» мною была куплена фомка, то бишь — гвоздодёр. Бочарова говорит: ты зачем гвоздодёр приобрёл? Я говорю: он мне понравился внешне! Бочарова уже привыкла, что на меня в магазине «Стройка» накатывает, не заподозрила дурного. И зря. Потому что тою же ночью фомкой были аккуратно поддеты два бруска, и цельная до тех пор заборина распахнулась, как гостеприимная ставня: проходите, люди, свободно, не рвите куртки о пролаз, куртки нынче дороги.
Народ немедленно пошёл валом, и, хоть спасибо неведомому мне никто не говорил, и так понятно было, что спасибо. Народная тропа не зарастала неделю, а потом кто-то дезавуировал добрый социальный почин, тщательно стянув пролёты брусками потолще и гвоздями подлиннее. Да ещё и проволокой примотал.
Но тут они оказались недальновидны, ибо на каждую государственную каверзу с закоулочками у нас приготовлен асимметричный ответ с фонариком.
За те несколько минут, которые ушли на борьбу с забором в следующий раз, через пролаз протиснулись: старик со старухой, мать с двумя малолетними детьми и группа представительных мужчин в пальто. Каждый при этом счёл своим долгом громко высказать в темноту всё, что он думает о строителях в частности и о городских властях в целом. Освобождённый от оков пролёт упал на мёрзлую землю с неожиданным грохотом, наводя на мысли об административном наказании в случае поимки и ареста. Впрочем, я уже знал, какие слова брошу в лицо представителям власти:
— Что? На заборе написано «Проход запрещён»? А вот там, в ста метрах к югу, написано «Долой империалистические войны!». И что, кого-нибудь это остановило?!
Шикарная фраза. Сам придумал.
— Смотри-ка, — сказала наивная Бочарова назавтра, шагая по поверженному пролёту, — забор снесла волна народного гнева!
Я смотрел в сторону. В конце концов, если я не народ, то кто тогда народ?
Перед Новым годом они восстановили статус кво. Ладно, положим, на праздники пусть стоит, потому что праздный россиянин расковыряет и мёрзлую землю. Хотя, если приспичит ковырять, он и в пролаз спокойно пролезет, или с других, совершенно открытых сторон пройдёт. Но — ладно, на праздники пусть стоит. Сразу же после каникул — берегитесь.
…Смешные, наивные люди. Зря они сбили пролёты такими толстыми брусками и такими длинными гвоздями. Гвоздодёру мёрзлые доски не поддавались. Пришлось легонько подцепить распорки, удерживающие забор в вертикальном положении. И легонько толкнуть. Все сто двадцать восемь пролётов повалились навзничь, диким грохотом вспарывая сонную благость. О том, чтобы идти освещённым проспектом, не могло быть и речи, я нырнул в темноту и помчался огородами, чувствуя себя Данко: сердце моё горело ярким огнём свершившейся справедливости и тусклым пламенем свершённого административного проступка. Это была радость победы.
…Утром чё-то испортилось. То есть, справедливость и логика были на месте, а радость победы как-то… тово… отсутствовала.
Я Ему говорю:
— А что?!
Молчит, смотрит спокойно, немножечко мимо, немножечко сквозь, как всегда.
Я тогда Ей говорю:
— Нет, ну давайте логически рассуждать: какие функции у этого забора, отгораживающего ничто от никуда? Людям мешать? А как же старики и матеря с детьми? А как же справедливость? Почему обязательно должно быть стыдно? Потому что мне тридцать восемь, а я огородами, огородами? Но это же для конспирации, а не оттого, что в принципе неправильно!
Молчит, смотрит прямо в глаза, улыбается еле-еле, как всегда.
Говорю:
— Да?!
Говорю:
— Ну, это просто нечестно. Вы рассуждаете совершенно как Бочарова. Она бы тоже непременно сказала: «тебе бороться, а кому-то строить на морозе». Как будто летом, в умеренную жару, было бы иначе. Она бы сказала: «Ты прекратишь воевать когда-нибудь, или так и останешься?».
А я бы так и остался. Как Тиль Уленшпигель. Как Робин Гуд. Но Вы же не даёте. Вы же всё время напоминаете, что милосердие превыше справедливости. А как же милосердие к старикам? К матерям с дитями? Где логика?
…Ладно. Я больше так не буду. Не буду, говорю, ломать этот хренов, долбанный, никому не нужный забор. Я даже не буду поливать его водой, чтобы он примёрз к земле, хотя это было бы логично.
Ах, оставьте, честное слово! Лишили человека радости победы, и улыбаются, смотрят спокойно, немножечко мимо, немножечко сквозь и прямо в глаза…
P.S. Ага-а! Ага-га! Его снова сломали, его избили ногами — и я здесь не при чём! Оле-оле-оле-оле, сломали без меня!
Как видно, не одного меня волнует логика и справедливость.
Цукер
Хоть ненадолго
…Ты знаешь, а нормально себя чувствую. Не то, чтобы прямо «эх, хорррошо!», но нормально, безо всяких там. А я уж и подзабыл, что так тоже можно.
Во-первых, работы столько навалилось, что в постель попадаешь в шесть утра, под пенье птах. Ты в курсе, я ж всю дорогу сова, мозги ночью крутятся быстро-быстро, а тут ещё жара эта, днём в студии воздух можно резать, как машинное масло, зато часам к трём за полночь в форточку протискивается сквознячок, и можно не протирать лицо влажной салфеткой каждые полчаса. Включаешь два монитора, в одном «Доктор Хаус», в другом графический редактор, и к утру пятьдесят свежеобработанных фотографий бодро толкаются на жёстком диске. Правильно организованный рабочий процесс — залог успеха.
Во-вторых, буквы как складывались в слова, так и складываются, практически на автомате. Будешь смеяться… впрочем, не будешь, это факт всем известный — если ежедневно соединять буквы в слова, говорить о себе: «… фотограф… и немножечко журналист…», а потом вдруг — раз! — и ни строчки, месяц, два, три… Вот тут-то и начинается ползучий ужас. Мужики поймут, у нас вечно на горизонте призрак Внезапного и Ужасного Бессилия. Женщины… да тоже поймут. Например, всю дорогу была грудь второго размера, и вдруг стала… другого, нехорошего размера. Не угадал? Это не главный девичий кошмар? Ну и ладно, откудова мне знать, чего они реально боятся, просто хотелось объяснить на примере, каков он — страх внезапной профессиональной импотенции.
И вот так всю жизнь опасаешься, что в одиночку тебе двух слов не связать, и вдруг оказывается — связать! Нормально. Не шедевры, но если говорят «к завтрему нужен текст», садишься за монитор, ударяешь пальцем по кнопке, по другой, и понеслось, и понеслось, слово за слово, бодро-весело, с гражданской позицией, с подтекстом, с отсылками в культурное наследие, и нисколечко не стыдно, ибо — ну хорошо же ж ведь.
Итого в плюсах имеется любимая работа, материальное вознаграждение, доктор Хаус и творческий процесс. Если это не простое человеческое счастье, то подите в аптеку, купите себе феназепаму, и не надо завидовать. В минусах… ну, жара. Плюс лёгкое недоумение от написанного собственной рукой. То есть, недоумение присутствует всегда, но раньше было: «это я что ли написал?», а теперь «я, что, именно это и хотел написать?». Чувствуешь разницу? В интонации, да?
Очень странное чувство.
Ведь про правильное пишу. Гражданская позиция. Это важно. Напишешь «Доколе?!!», люди прочтут, встанут, как один… и что-нибудь переменится… в лучшую сторону… Если написать: «Дядя Петя, Вы дурак?», то дядя Петя сможет прочесть… и исправиться… в лучшую сторону…
Какой-то сбой в рассужденьях. Какое-то… сбой какой-то.
Давай сначала. В наличии: доктор Хаус, профпригодность, буквы. Губы тёплые, вокруг глаз лучики мелко-мелко — улыбается мне. Дочка вдруг говорит: я тебя тоже люблю. С улицы тянет костром. Чего не хватает? Вписать в графу «Нужное», печатными буквами, разборчиво.
Ладно. Я знаю, просто время тяну. Ты стоишь за спиной, руки в карманах, качаешься с пятки на носок, посматриваешь из-за плеча в монитор. Торопиться-то некуда. Времени — море.
А помнишь, мы как-то с Бочаровой смотрели комическую передачу? Они там долго смеялись, потом ещё немножко смеялись, потом сказали друг другу: а не спеть ли? И сразу пошли к роялю, к барабанам и гитарам, а гость передачи, довольно-таки бесталанный, к тому же осипший, подошёл к микрофону. Взяли несколько аккордов, Бочарова узнала, хотела расстроиться, что сейчас будет так плохо, но не успела: сипатый, утрируя, произнёс первую фразу, и вдруг запел по-настоящему, и даже ассиметричное лицо его вдруг дало усадку, слова оказались сильнее мышц:
Я прошу, хоть не надолго, Грусть моя, ты покинь меня…
Пошли титры, заставка, монитор погас, а мы так и сидели молча. Потом кто-то из нас сказал: наверное, лучшая песня прошлого века. И другой немедленно согласился. Хорошо, что никого больше не было рядом, а то вдруг этот третий закричал бы: позвольте, а как же «Шизгара»?!, и вышел бы дурацкий спор. Просто в тот момент эта была лучшая, но пусть их будет несколько, лучших, всё равно много не будет. Мы потом полдня пытались понять секрет идеальных песен, и, кажется, вывели общий знаменатель: в них есть гиперссылка на нечто большее.
Берег мой, покажись вдали,
Краешком, тонкой линией,
Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.
Ты знаешь, о чём это на самом деле. Тебе ли не знать. И вот ещё что: тоже так хочу. Нет, я ж понимаю — и Хаус, и тёплые губы, и дочкино «люблю», и даже запах костра — сплошные гиперссылки, куда не кликни, попадёшь в Тебя. Но «Ты снаружи» и «Ты внутри», это, знаешь ли, две большие разницы. И хватит смотреть из-за плеча, не могу же я всю дорогу сидеть с вывернутой на девяносто градусов шеей. Вот Тебе моя рука, вот другая, вот кнопки, кириллица. Пиши, что хочешь, или не пиши вовсе, давай просто так посидим.
Цукер
Незачёт
— … и характер у этой женщины был довольно-таки скверным. Она, видишь ли, никогда и никому не помогала. Но однажды мимо дома проходила старушка-нищенка, очень голодная, и потому настырная. Дай, говорит, пожалуйста, мне хоть какой-нибудь еды. Та, конечно, сразу её послала куда подальше, но нищенка ни в какую не уходит, дай да дай. И такой оказалась упёртой, что тётка эта сердитая в сердцах бросила в неё луковицей, на, мол, и отстань от меня, наконец. Нищая луковицу подобрала, поблагодарила, и пошла своей дорогой.
Вот. Через какое-то время женщина эта померла, пришёл срок. И душа её попала, знаешь, в такое место: что-то вроде горного ущелья, через которое лежит узенький-преузенький мосток, дощечка. И тот, кто по этой дощечке на другую сторону переберется, тот попадёт… в общем, наверное, это был рай. А кто упадёт…
— В ад?
— Боюсь, что да… И стала она по этой дощечке бочком, бочком, мелкими шажочками шагать. И почти дошагала, потому что в целом она неплохим была человеком. Но у самого края всё-таки сорвалась, потому что… ну, сама понимаешь. Сорвалась в пропасть, но успела зацепиться за какой-то камушек, повисла на отвесной стене. Долго бы ей не провисеть, но тут вдруг видит в расщелине махонькую луковку, и начинает эта луковка прямо на глазах расти, выпускает перо, да такое, знаешь, толстенное, как верёвка. Доросло перо до камушка, душа за него ухватилась и наверх выбралась. Всё.
— Это правда было?
— Я, честно сказать, даже и не знаю. Наверное, это притча. Не помню, откуда она в моей голове появилась. Где-то прочёл.
— Это та самая луковка была, которую она бросила?
— Без вариантов.
— Так она же со злостью бросила.
— Бросила со злостью, а всё равно сработало. Главное, она дала милостыню. Соображаешь?
***
— Хто-нибудь, эй?.. Вот дура старая…
— Бабуш, что вам?
— Ой, не убегай… Я же слепая, девяносто два года, совсем слепая, а я в магазин, а тут, чую, лёд, убьюсь сейчас…
— Бабуш, я только дочку до школы доведу, и вернусь…
— Ой, не убегай, убьюсь совсем…
— Блин. Блин! Так, Стефания, видишь, какая оказия… Сама дойдёшь?
— Ага. А ты?
— А что — я? Бабуся слепая совсем. Ща как рухнет на льду, и замертво. Оно тебе надо?
— Не-а.
— И мне… Так, бабуш, я не понял, мы куда идём, в магазин или домой?
— Ой, домой… Вон там, впереди, третий подъезд. Ой, убьюсь сейчас…
— Ну, давайте, по стеночке, по стеночке…
***
— Это ты правильно придумал: в магазин сходить для старушки. Ты, знаешь, что? Возьми у неё номер телефона.
— М-м?
— Да-да, возьми, и ходи каждый день в магазин, всё равно мимо бегаешь. Она же, небось, одна живёт, раз в такую распогодицу на улицу понесло. У неё квартира… Она старенькая…
— Да пошли вы к бесам!
— Всенепременно! Всенепременнейше! Мы, собственно, уже тут и сидим — за левым плечом. Так вот, насчёт квартирки…
— А я говорю: идите туда-то и туда-то! Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое… Девушка, будьте добры: яблоко, апельсин, пакет молока и отрубную… Да приидет царствие твое…
— И, вот ещё что: денег с неё не бери. Старушки такие вещи ценят. Главное, держись просто и искренне, чтобы не решила, что ты какой-то там Раскольников. Да ты послушай, чо тебе говорят-то! Мы те чо говорим: изведи бабусю? Мы тебе говорим: заботься о ней до ста лет! Одна она, тяжко одной-то. А с квартирой — это просто как вариант.
— … И избави нас от лукаво-о-ого-о…
***
— Не, ну какая бабка пугливая, а? Ты же вчера ей русским по белому пообещал: завтра снова зайду… денег, опять же, не взял ни копейки… сорок рубликов… А она дверь не открывает! Ты, знаешь, чего? Соседям позвони, пусть они ей за тебя расскажут.
— Да пошли вы…
— Да мы уже там…
***
— Па, помнишь, ты меня в школу отправил, а сам бабушку повёл?
— Ну.
— Я про это в воскресной школе рассказала.
— Нифига себе.
— Ага. Там, на уроке. Про милосердие было. Руку подняла и рассказала.
— Понятно…
— Учительница сказала: в рай.
— Дулю с маслом. Хрена на лопате.
— Что?
— Я говорю: воротник застегни, в шею надует…
Цукер
Хенде хох
…Всё, сдаюсь. Серьёзно. Хенде хох.
Я не знаю, чего Ты от меня хочешь. То есть, знаю, конечно: чтобы веры было хотя бы с горчичное зерно. Но это программа-максимум. Ещё хочешь, чтобы хотя бы по миллиметру в год двигался в Твою сторону, а не кружил на месте, как осою в зад укушенный пёс. Это программа-минимум. Но что от меня требуется в ближайшие три дня, ну, неделю? Конкретно?
Главное, если бы рекламы для газеты не было бы в принципе, мы бы вздохнули, сказали бы друг другу: видимо, всё, что нужно было написать, уже написано, закрываемся. Но реклама есть, только она каждый день немножечко переносится на завтра. А это значит, что-то не дописано вот в этом уголку газетной страницы, под графою «О главном».
Но я не знаю, что. Кажется, всё, что можно посчитать главным, уже написано.
И про то, как помог слепой старушке, а сам фантазировал, что неплохо было бы, если бы старушка прониклась симпатией и отписала квартиру. И про то, как весь Великий пост одержим одною лишь мыслью о фотоаппарате своей мечты, купленном по интернет-аукциону в далёкой Америке. Последний текст получился бодренький, Бочарова даже засмеялась, прочтя концовку.
Но всё не то. А что — «то»? Хорошо, давай так: я буду писать всё, что смогу вспомнить, а Ты говори «холодно-тепло-теплее-горячо».
Пост. А поста, считай, и нету. Есть какая-то странная вегетарианская диета, а всё остальное незачёт: раздражение, леность, хохмочки, двусмысленные анекдотцы, приятные пустячки и нежнейшего вкуса суп с чечевицей и овощами, съеденный только что, в два часа ночи.
Поступки. Вчера мы купили огромный холодильник, а месяц назад — навороченный пылесос, в Америке ждёт отправки фотоаппарат моей мечты, а ещё мы планируем дом, и всё такое прочее, и Бочарова вдруг сегодня испугалась, что мы увлеклись сиюминутным и неважным. Я, конечно, спорю, аргументируя тем, что и холодильник, и пылесос куплены исключительно из хозяйственных соображений, фотоаппарат нужен, чтобы заработать на дом, а дом нужен, чтобы в старости не околачиваться по съёмным квартирам и не думать о сиюминутном, а думать о вечном. Я ведь не вру сам себе, а?
Мысли. Да, читаю каждый вечер по нескольку глав из Евангелия, но знаешь, что? Нету пронзительного понимания происходящего. То есть, в целом понимание есть, но пронзительного — нету. Это как в детстве, когда смотрели фильм про революционеров или, там, про первые дни войны, и, если хэппи-энда не следовало, всё равно говорили сами себе: ну, ладно, ничего, зато потом случится революция (Победа) и всё станет очень хорошо — мы-то знаем. Так было легче. Вот и сейчас, читая, всё время держишь в голове: Он воскреснет, и всё станет очень хорошо. И только этот кусок из Марка всякий раз выводит из равновесия: «И в девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои, Элои! лама савахфани? что в переводе значит: Боже Мой, Боже Мой! Зачем оставил Ты Меня?». Ты всё знал заранее — если словом «заранее» можно обозначить начало времён — и всё-таки сказал это.
А я, знаешь, шёл давеча по улице — солнце, апрель, коты на лавочке лежат вповалку, возле соседнего подъезда целый прайд этих котов — и вдруг подумал: а хорошо бы, если бы меня не было. Не в смысле: «когда ж я сдохну», а в смысле: «на нет и суда нет». Как-то вдруг показалось, что раствориться в эфире гораздо легче, чем… чем «что»? Например, чем писать этот текст.
Ты прости, пожалуйста, за сумбур, я болен, из носу течёт, в голове каша, три часа ночи, и я не знаю, чего Ты от меня хочешь. Зато знаю, чего хочу от себя: хочу отличать главное от второстепенного.
Цукер
Домой
Пора возвращаться домой.
Я не помню, где он, этот дом, я забыл, как он выглядит, но, попав туда, сразу же буду знать, что это он. Нет, мне не нужна Шамбала, мне нужен просто тот дом, близость которого я чувствовал только рядом с самыми любимыми женщинами, да и то, очень и очень иногда…
Как это объяснить… Я спал на чужих постелях в чужих домах, ел чужую пищу странными приборами. Помню, как поразил меня один народ — из всего, что есть на этом свете: из рыбы, мяса, редьки, хрена, папоротника, кишок, бамбука, огурцов, они неизменно готовят одно и то же блюдо, с одним и тем же вкусом и запахом, в вечной тоске по Божьему блюду, которого однажды довелось отведать их прародителю.
Я прожил в том потерянном доме тысячи незаметных лет, ни разу не задумавшись о том, что могу однажды выбежать во двор, и дальше, дальше, через арку на сонную улицу, где валяются в пыли оживающие к вечеру дохлые собаки. И уже никогда не сумею вернуться назад, как маленький мальчик, которого беспечные родители не заставили выучить наизусть свой адрес.
Я заблудился. Когда-то мне казалось, что если все время идти прямо и прямо, то этот мир обязательно кончится. Он не может не кончиться, потому что он невозможен и нежизнеспособен, населен странными и слишком простыми жителями. Он загроможден миллионами никому не нужных предметов, к каждому из которых приложен огромный список правил, напрочь исключающий случайное его применение ну хоть к какой-нибудь пользе.
А потом оказалось, что идти прямо — это значит ходить по кругу, потому что правая нога длиннее левой. С тех пор я и петляю по этой замусоренной равнине, путая следы, уверяя, что знаю дорогу, и стыдясь признаться в том, что никто за мной, на самом деле, не гонится…
А начиналось всё, конечно же, совсем не так.
Я стоял на желтой улице, похожей на выцветший фотоснимок. Мир застенчиво втиснулся в узкую полоску цветов от бледно-желтого до светло-коричневого. Он еще не затеял нагло буреть или багроветь, в нем еще не было черного и белого. Сейчас, через много-много лет, он опять возвращается туда же. Или мне это только кажется, потому что очень хочется?
Тогда я еще не знал, сколько мне лет, это было несущественно. Я пришел оттуда, где время ничего не значит.
И только когда я сделал первый шаг, с тоскливым скрежетом дернулся чугунный механизм, который отныне будет перекидывать меня с шестеренки на шестеренку в своих липких от древней смазки внутренностях. И только одна надежда — что однажды он вытолкнет меня в счастливое окошко, где под ногами синее небо и синие горы, и синее море, и золотой-золотой песок, и я проору свое «ку-ку» ровно двадцать четыре раза, потому что наступил новый день…
И прыгну вниз, чтобы разбиться вдребезги на мягкой шелковой траве, зная, что это ровно ничего не означает, и после короткого взрыва в голове я снова буду стоять на желтой улице. Я опять забуду всех, кого любил, и только однажды, выйдя покурить, буду долго морщить лоб, не понимая, что такого интересного в этой женщине с нагло-коричневым ртом. И только мутная тоска подскажет, что все опять умрут в конце неизбежной истории.
Бесконечные круги, круги внутри кругов, и правая нога по-прежнему длиннее левой, и нет никакого выхода. Ну давайте попробуем ступать левой ногой длиннее, чем правой. Нет, не получается. То есть, получается, пока помнишь, но нельзя же об этом помнить все время.
Я устал, безнадежно устал тысячу лет назад. Зачем меня опять заставляют ходить по этому кругу? Отпустите меня, пожалуйста. Нет, не отпустят, конечно.
Ласковые феи, шушукаясь, строятся в хихикающие парочки для очередного торжественного приветствия под руководством невозможного на этой жаре Деда Мороза в душной колючей бороде на голое тело. На феях, от фальшивой нежности, запотевают очечки на склерозных шнурках, выдернутых из пинеток младенцев, задушенных в объятиях. И каждая фея держит в лапке кулечек, узелочек, открыточку со стишком или целомудренный конвертик без адреса — «купи себе, что сам захочешь»… Потный Дед Мороз молодецки взваливает на горб густо накрахмаленный в позапрошлом году мешок — сунь руку и вынь то, что на ощупь понравится, всё твоё. Но только одна попытка, хо-хо-хо! (Ах, вот оно — настоящее, тяжелое и литое, как пистолет Макарова… Ну да, конечно же, это мясорубка.). Мы ждали, мы так тебя ждали! Потому что все, кто пришел раньше тебя, уже выстроены в колонны, разбиты невидимым врагом, высосаны и уложены в штабеля. С них уже нечего взять. Утю-тюсеньки, какой холёсенький!
И только злую фею никто не позовет на праздник, да она и сама бы не пришла, потому что лучистые старушки, промокнув голубенькие глазки, разбредутся кивать носом над клубками серой пряжи. А ей еще вести и вести этого мальчика за ручку до тех пор, пока он не научится ходить сам, а потом бить его по лапам до тех пор, пока он не научится их правильно протягивать. И в конце концов, оказаться однажды просто старой старушкой, запыхавшейся на лавочке от его такого понятного желания нестись галопом, чтобы захапать всё, что находится в пределах предполагаемой досягаемости. И тяжко дышать на этой лавочке, наблюдая всё менее восторженно описываемые им круги, чтобы однажды достать из растрескавшегося ридикюля нехитрые причиндалы и торжественно появиться из-за угла с раскладной картонной косой…
Милая, милая старушка. Она всех нас любит. Сколько нас было? Сколько нужно любви на всех? а мы от нее отмахивались, мы не помнили о ней, сидящей на забытой скамеечке в забытом городе. И никто из нас не узнает её на последнем нехитром маскараде.
«Отпустите меня. Отпустите меня. Я хочу домой. Я хочу домой» — повторяю я снова стоя на желтой улице. Ну что вам с меня взять? У меня уже ничего не осталось. Вы опять хотите пропустить меня через эту мясорубку любви и ненависти, плюнуть мне в морду правдой, посмотреть, как я в десятитысячный раз стану корчиться… Не надоело? Я не понимаю, почему вам это еще не надоело. Вы — как злые дети, которые никогда не устают повторять одну и ту же глупую шутку.
Бабушка, ну где ты там? Давай в этот раз сделаем всё покороче. Когда я вернусь, пусть будет шесть часов дня.
Горчев
Одна и та же история
Алексей Иваныч сидит в кресле, отхлёбывает из фляжки по случаю подаренный коньяк и листает только что купленный, в целлофанчике, «Playboy». «Playboy» интересен Алексею Иванычу исключительно с фотографической точки зрения: не обнаружится ли свежих решений по постановке света?
Мне «Playboy» не интересен вовсе: скушный и бесталанный. А чужие решения по постановке света я реализовывать не умею в силу неистребимой консервативности: что сам нарыл, с тем и работаю. Тем более, Рождественский пост, и в сторону журнала лучше бы даже и не смотреть. И не смотрю, а смотрю в монитор — работаю.
Алексей Иваныч не постится, но чужие принципы уважает безукоснительно. Если ему нравится нейтральная фотография отливающего серебром концепткара, он аккуратно прикрывает ладонью всю окружающую плейбоевщину и показывает издалека исключительно концепткар. За чуткость ценю коллегу втройне противу обычного.
Тем не менее, человеческая рука не в состоянии закрыть собою большую часть формата А4, и из-под алексейиванычевых пальцев зазывно выглядывает чьё-то расхристанное декольте. Старательно уворачиваюсь, но получается плохо: глаза сами цепляются за картинку и тянутся вослед всеми своими хрусталиками, сетчатками и зрительными нервами. Очень досадно не контролировать собственные глаза.
— Знаешь, — говорю, следуя за движением какой-то далеколежащей, но важной мысли, — я вот уж целый месяц читаю Ветхий Завет. Добрался-таки на тридцать восьмом году жизни.
— Угу, — внимательно отвечает Алексей Иваныч за моей спиной.
— И вот какую штуку обнаружил: весь Ветхий Завет, тем паче Новый, — это одна и та же история, повторенная сотни раз.
— Угу?
— Да. История такая. Бог говорит: люди! Или там: евреи! Имейте в виду: Я есть! Вот вам доказательства. И даёт такие доказательства, против которых самый чокнутый атеист слова сказать не может: море раздвигается, потомки Авраама проходят, аки посуху, враги тонут. Потом по нарастающей: манна с небес, столп впереди колонны, вода из камня и проч. Всякий раз народ падает на колени, плачет, восклицает «Аллилуийя!», берёт на себя повышенные обязательства и клянётся больше никогда. Проходит каких-нибудь сорок дней, и вот — на тебе: уже слепили золотых тельцов и кричат «вот наш бог!»
Им говорят: не общайтесь вы с другими народами, чтобы не ввели вас в блуд со своими никчёмными Ваалами-Астартами, которых — понимаете?! — нету вообще. Не су-ще-ству-ет. Фикция. А Я — есть. Ещё раз доказать? Вот вам и вот. Опять «аллилуийя!», а через пару десятилетий вся земля обетованная засажена священными дубравами и заставлена капищами. И так до бесконечности.
В переводе на русский примерно так: да, Господи, мы имеем Тебя в виду и всё такое прочее, но, знаешь, вот эти вот, сидоняне с филистимлянами и халдеями, своим божкам молятся и живут не хуже нас. Поэтому, Господи, мы чисто на всякий случай, чтобы жена-моавитянка не обиделась, сделаем ей тут в уголку жертвенничек, ну и сами с краешку… Он терпит-терпит, но потом на престол садится какой-нибудь Манассия — и в храм вносят истукана, царевичей по языческому обычаю проводят через огонь, гадают, вызывают мёртвых и вообще изо всех сил делают вид, что не было никакого «аки посуху», и Завета, и Закона. Ну, и получают по полной программе.
Понимаешь, Алексей Иваныч, о чём толкую?
— М-м?
— Да и сам не знаю, о чём. Наверное, о том, что история продолжается. Мне бы даже головы не поворачивать в сторону этого декольте, и не знать о нём ничего, хотя бы в пост не нарываться на провокацию, а я, вишь ты, только и делаю, что поворачиваю, и всматриваюсь, и нарываюсь. Ровно как эти самые ветхозаветные евреи: да, Господи, всё понимаю, но так сложились обстоятельства, что глаза сами собою пялятся куда попало — а сам-то я верующий…
Мы закрыли студию, и идём через ночной парк почти молча, хотя обычно треплемся на ходу. Алексей Иваныч слушает что-то в наушниках, в моей же голове цепляются друг за дружку обрывки усвоенного за последний месяц:
…всё написанное — чистая правда. То есть, и раньше было понятно, что чистая правда, но как-то подразумевалось: правда иносказательная, с некоторой долей условности, понятная посвящённым. Оказалось — никаких условностей, никаких иносказаний. Как было, так и написали.
…верить очень трудно, с доказательствами или без. Соломон, самый мудрый и одарённый, говоривший с Ним напрямую, без посредников, — и тот по широте душевной пошёл навстречу иноземным жёнам. Последствия пришлось разруливать несколько сотен лет;
…ветхозаветным было труднее. Они всякий раз могли сказать: «Да? Легко Тебе говорить — Тебе, Знающему всё наперёд. А нам со всем нашим грузом за плечами — знаешь, как тяжело?» Сказать и шмыгнуть в сторону.
А теперь Он в ответ: «Мне ли не знать?»
И крыть нечем. И шмыгать некуда.
Стучу по клавиатуре, а в правом углу экрана пульсирует конвертик «мэйл агента», сообщая, что какая-то Соня прислала привет со словами «Мои нежные руки и юное тело…» Вот уж лет десять как плевать мне на всех посторонних сонь, но глаза мои — мои вы глаза! — следят за конвертиком увлечённо.
Что же я Ему говорить-то стану при встрече, а? Повалюсь ниц? Раздеру одежды? Посыплю голову пеплом? Но будет ли там низ и верх, чтобы валиться? И будут ли одежды?
Впрочем, пепла будет достаточно — высыплю его из своей груди, слева.
Цукер
Дочка, мама, ты и я
Случись что, ну, если завтра война там, или ещё какой, не дай Бог, поход, или скажет мне Голос из разверзшихся хлябей, мол, всё, собирайся, завтречка утром тудой, что тогда я вспомню, что тогда заберу с собою, что проявится на той стороне век махонькими чёрными буковками-значками? Говорят же, проносится вся жизнь, как плёнка. Всё же понимают, что «вся жизнь» это не значит, прям вот как в очереди стоял, как утром и вечером зубы чистил, как борщ ел. Нет, тут другое.
…Как года в четыре пошли с мамой на качели, а там в траве что-то блестит на солнце. Очки. Красные, зеркальные. Такие только в кино. И они твои теперь.
…Лет в пять в детском саду остались последние с мальчиком. Всех уже забрали, а мы, как ненужные никому, остались. И воспиталка устала уже, домой хочет. А мы в туалете закрылись, на втором этаже, и давай, кто смелей, ты или я, кто первый прыгнет из окна. А внизу крыша подвала, прыгать-то всего-ничего, но стра-а-а-шно, аж глаза сами жмурятся. И наругают же. Но прыгнули. Оба. За руки. И никто до сих пор не знает. Тайна такая.
…В одиннадцать лет на день рождения родители подарили собаку. На первый Брянск ездили выбирать щенка. Ехали обратно на единице, мама сидела на заднем сиденье и держала его на руках. Потом приехали домой, а он первым делом накакал под телевизором. А потом изодрал мне нотную папку и новые тапки. Мама сильно плакала.
…В тот же год ходила на день рождения к однокласснице. Она говорила, что папа разрешил ей завести змей. Четырёх. Весь вечер сидела, поджав ноги под стулом. Потом дня три еле ходила.
…Лет в двенадцать Дед Мороз принес куклу и конфеты. Упаковка, как таблетки. Всамделешние, вкусные. А через неделю мама такие же конфеты подарила двоюродной сестре. Всё! Нету больше Деда Мороза.
…Лет в пятнадцать — любовь. На всю жизнь. Перед сном примеривала его имя к будущим детским отчествам. А на уроках училась по-новому расписываться, с новой фамилией.
…Тогда же примерно. Договорились с Наташкой пойти в кино. Пошли домой наряжаться. Вышли друг другу навстречу и обомлели. Совершенно одинаковые, только кофты разного цвета. Не сговаривались. Долго хохотали потом в темноте кинотеатра, Сильвестр Сталлоне неодобрительно смотрел с экрана, поигрывая спичкой в углу рта.
…В одиннадцатом классе не выиграли в КВН. А должны были. Засудили. Откровенно и несправедливо. Пили потом всей командой «Монастырскую избу» в сквере у девятой школы. С ведущим и одним из членов жюри. Плакали. Даже пацаны.
…На первом курсе Питер. Осенний, сладкий, забирающийся под трикотажное серое с рюшами пончо, поселившийся где-то под рёбрами, не желающий выбираться наружу. Самый любимый. А будущий муж, ещё пока не знающий, что он будущий муж, попросил привезти гостинца. Камень с Дворцовой площади. Неслись с подругой, задыхаясь, чтоб никто не догнал и не отнял ценное. Тащила сумку на вокзал — джинсы, пять маек, зубная щётка, носки и килограммов пять того камня. До сих пор лежит в цоколе. Напоминает.
…Апрель. Тот же первый курс. ДК БМЗ. Виктюк. «Заводной апельсин». До последнего не собиралась идти. В фойе разговоры со всех сторон про второй состав, не приедет к нам в глушь первый, халтура, небось. Через два с половиной часа этот «второй состав» плавно влился в мою жизнь на долгие годы.
…Восемнадцать лет. Мамин День рождения. Я в 6 утра еду с пересадкой с железнодорожного вокзала, вспоминаю круглосуточные цветочные магазины. В Десне покупаю у заспанной продавщицы розу метра в полтора. Самую долгую в моей жизни. Недели в три.
…Первый курс. Зимний Сочи. Бредём по побережью. Деньги рассчитаны строго, две пачки роллтона и полбанки тушёнки на день. Плюс, если совсем туго, чебурек. Ух, ты! Какая обезьянка! Не успеваю поднять глаза, как обезьянка уже сидит у меня на плече, а на меня наведен полароид. 100 рублей с вас. До сих пор фотография лежит в столе. Самые дорогие сто рублей, пожалуй.
…Питер с будущим мужем. Снова осень. Поздним вечером идем по Дворцовой набережной после Русского музея, после Куинджи. Вдруг замечаем, что луна точь-в-точь как на картине. Пытаемся попросить кого-нибудь сфотографировать. Сбивчиво объясняю первой встречной, обязательно небо и луна, обязательно. Она смотрит испуганно, берёт фотоаппарат и недоумённо: «илУна?». А с виду вполне соотечественница.
…Свадьба. Самый долгий день. Перевыполнен план по поцелуям со всеми подряд лет на пять вперёд. Восемьдесят человек пришли, чтобы тебя поздравить. И ни одного стихотворения из открытки, значит, скорее всего, по-честному. Радостно.
…Италия. День рождения состоявшегося супруга. Гостиница «Санта Барбара» в горах. Вино и самая вкусная в мире колбаса ночью на склоне. Точное попадание. И в мужа, и в страну, и в себя.
…Январь 2006. Раннее утро, я лежу на кушетке, а рядом со мной на экране маленькая чёрная точка, которая живёт без моего ведома четыре недели и уже даже имеет своё, отдельное, сердце. Сочиняю фразу в маршрутке. Только бы не сказать банальное «ты станешь папой», язык себе откушу.
…Лето 2006. Над головами короны, руки связаны длинным шарфом. Согласны? Согласны!
…Сентябрь 2006. Вот в двенадцать часов смотрела «Остаться в живых» и собиралась спать, а утром уже говорят, мол, три пятьсот, 55 сантиметров, девочка.
…Самый тёплый сентябрь за жизнь. Каждое утро приезжает мама. Помогать. Она красивая. И теперь я вижу, как было со мной. Вот так пеленать, вот так держать. Весь этот сентябрь я только кормлю и гуляю. И любуюсь. Всеми. Дочкой, мамой, мужем, собой.
…Потом много смертей. Подряд, не продохнуть. Но о них я буду вспоминать одна, глубоко-глубоко внутри, куда не добраться малому кеглю.
…Сентябрь 2007. Дом. Настоящий. Из четырёх стен, крыши, окон и пока ещё без души. Но уже с распахнутыми навстречу дверьми, готовый беречь твой сон, слушать твои обиды-раскаянья, принимать твоих гостей.
Этого всего должно хватить, чтобы посмеяться и похныкать на пороге, чтобы не с пустыми руками прийти туда, куда положено, чтобы не зря всё. Главное, ничего не забыть. Думаю, там хватит тумбочек, ящичков, корзинок, сундучков для всего этого добра, чтобы не растерялось и лежало всё на своих местах. Чтобы в любой момент взять, вдохнуть запах, вспомнить и положить на место до поры.
Петренко (ж)
Каждому своё
…А Рождество получилось чудное. У кого как, а у нас впервые в жизни. Последние лет пять мы изо всех сил, как в детстве на Новый год, но всё что-то шло не так, и — ни тебе Нового года, ни тебе Рождества. Нету звона внутри, нету света в глазах, а только обгрызенный гусиный остов на столе, и досужий трёп над столом. Шарики фальшивые.
И вдруг пазлы сложились в картинку, льдинки сбежались и образовали слово «вечность», и получилось чудное Рождество. Сначала выпал снег и не растаял. Потом мы решили играть в «тайного Санту», когда жребий выбирает, кому тебе дарить подарок (не дороже, чем за сто рублей!) — и больше никто, и тс-с. Потом в городе запретили продавать нелицензионную пиротехнику, и это было правильно, простите нас, дети. Впрочем, не за что извиняться, мы, дети, в вашем возрасте делали взрывпакеты сами, и селитровую бумагу сами сушили на раскалённом кафеле печки, и наши «ба-бах!!!» были на порядок круче ваших бессмысленно шумных китайских пистонов. А теперь, дети, мы старики и нам хочется тишины, особенно на Рождество.
И тишина легла на город.
Мы сидели над поверженным гусем, осоловелые и нежные, хохотали, угадывая кто кому и что дарит, пили кофе с молоком — о-о, это отдельный кайф после поста — и обнаруживали, что жребий сработал как-то уж слишком осмысленно. Если между другом N и другом V туманилось некоторое недопонимание (в больших компаниях случается, ага), то непременно выходило так, что N нужно было сквозь туман протянуть V руку, зажав в ней милый пустячок. И недопонимание при этом утрачивало густоту. Чуть-чуть. Слегка. Самую малость. Все вдруг выдыхали облегчённо, и шумели, как массовка у портьеры, и праздник вливался в комнату, как морозный воздух в открытый люк разогретого танка.
Ах, нет, ах, да, началось всё гораздо раньше, ещё до Нового года…
…внимание, исполняется лубочный сюжет а-ля рюс, но ничего не поделаешь, что было, то было, как на духу…
…примерно недели за две. Мы с Одним Хорошим Другом (ОХД) ехали на его машине в столицу нашей Родины город-герой Москву, по делам. Ничего не предвещало. Бяк-бяк-бяк, сказала машина, погасила фары и замерла в дурацкой позе, посреди тёмной, ни зги, трассы. Полчаса её нутро ковыряли стальными штуцерами, выяснили, что гавкнулась контактная плата из замка зажигания, плёвая штуковина за двести рублей, но кому отдать эти двести рублей в три часа ночи на тёмном шоссе за Жиздрой? Добрые люди доволокли нас до освещённой заправки, и мы растерянно сидели внутри остывающего металла, крутя зажигание и соображая: сесть ли всем пассажирам на ближайшую встречную попутку и мотать в Брянск за подмогой или дожидаться утра, не разбивая компании, и искать деталь в Жиздре.
— Ой, — вдруг сказал я, — ой. Я же собирался давеча прочесть «в путь шествовати хотящего», да и не прочёл. Ой, как-то нехорошо. Пойду, пожалуй, вычитаю. Всё равно делать нечего.
Операторша АЗС долго тянула шею в окошко, гадая, за каким лядом ходит под фонарями напыженый от холода мужчинко в капюшоне по самый нос, и что он там такого срочного читает из трёпаной книжки — в четыре-то часа за полночь. Но деваться из светового пятна некуда, и я прискакивал туда-сюда, шепча из написанного, и ещё немножко от себя.
Посидели минут двадцать молча, тоскуя.
— Ой, — сказал я, — так, может, крутани ещё разок? Помолясь-то?
И по-старушечьи перекрестил поломку. Бр-р, сказала машина. Брррр-рыммм. Фары вспыхнули.
— Ё-о-о, — ошалело сказал Один Хороший Друг, — то есть, слава Те… йооооо…
И торопливо перекрестил механизм, чтобы уж наверняка.
Сколько-то времени ехали молча, обалдевшие, и только сверлили меня глазами, словно бы подозревая, чего ещё такого загадать, раз пошла волна.
— Извиняюсь шибко, — сказал я, — из-за меня стояли. Ждали, пока прочту. Типа, дал слово — держи.
— А-а, — отвечали все, и отвернулись на дорогу. Замок с тех пор работает без единой заминки. Плату не меняли.
Вот такая история. Я лично знаю пару-тройку человек, которые сию минуту, прочтя предыдущий кусок, валяются по полу от смеха. И пожалуйста. Главное, Один Хороший Друг по полу не валялся, а за полчаса до Рождества пришёл к жене, и сказал задумчиво:
— Знаешь, что?
— Что? — спросила жена, нервно забарабанив пальцами. Был у неё повод барабанить пальцами.
— Я вот тут всю прошлую неделю житья никому не давал, психовал. А минуту назад словно пыльный мешок с головы сдёрнули, и оказалось, что не психовал, а бесился, от слова «бесы». Теперь отпустило. Ты бы простила меня, что ли?
И она немедленно простила, ибо в глубине души считает его лучшим мужем на свете.
Спросите: где связь между двумя этими случаями? Связь простая. Головной мозг у Одного Хорошего Друга всегда требует доказательств, уж такое у него устройство. И когда два раза подряд вдруг, из ниоткуда, возникает нечто нежданное, для него это вполне себе повод к перемене взглядов на мироустройство.
…А Одна наша Хорошая Подруга пошла на всенощную. Ничего бы удивительного, но нужно знать историю отношения между Одной Хорошей Подругой и церковью. Лет пять тому знакомый священник ухватил её за хвост и окрестил, невзирая на неистовое теребленье лапками и угрожающее щёлканье жвалами. Обрадованные успехом батюшки, мы сколько-то раз волокли Одну Хорошую Подругу к причастию, и всегда без успеха: накануне она или лопала кусок сала величиной в ладонь, или отрубала телефон-телеграф-вокзал, или просто падала навзничь, билась головогрудью апстол, поджимала членики и притворялась уснувшей до весны. И вот пошла, одна. У ближайшего же образа, набравшись духу, попросила только одного: ну дай же Ты мне сил причаститься, а? И ей тут же дали.
Просто эта наша Подруга — очень спонтанная. Бывает, звонит, говорит: вы дома? Через час приду. А мы ей: ой, не ври, пожалуйста, ни за что не придёшь! Да как же не приду, если уж из дому вышла и иду? Через час: ах, я тут случайно сижу в Радице-Крыловке, в полуподвальном помещении механического цеха, им штамповку привезли, да не того артикула. Завтра приду. И так восемнадцать раз подряд. А потом — бац! — припрётся в полпервого ночи, попросит четыреста двенадцать рублей в долг до среды, сожрёт все сосиски, и с глаз долой. Очень спонтанная. Но, вишь-ка ты, и на спонтан есть фонтан.
Самое же важное произошло с Другим нашим Хорошим Другом. Ещё месяц назад вышел у нас разговор:
— Ты, — говорю, — ищешь от жизни таких-то и таких-то перемен? Так попроси же. Если они тебе на пользу, дадут, небось.
— Попроси, авось, небось, — отвечает, не отрывая взгляда от компьютера, — работать нужно, а не просить.
На старый Новый год он тоже поехал в первопрестольную поискать кой-какого товару. А через день обнаружил себя в Питере, в Казанском соборе, совершенно вычищенным изнутри.
Лет двадцать тому как раз и думалось, что вера, это когда зайдёшь в храм, отстоишь службу, притихнешь сердцем — и вдруг на тебя как навалится, как накроет с головой, как просветит, как умоет, и вот ты уже верующий человек. Но не случалось, оказалось, вера — это короткие перебежки: шаг вперёд, два назад, тут вот ползком-ползком, там вот бочком-бочком, голову поднимаешь — а ты все на том же углу, и только коленки сбиты в кровь, и ноготь содран по живому, и жилка в глазу лопнула.
А его накрыло. Сразу. Обыкновенно человек проходит три стадии: 1) «Господи, дай мне, пожалуйста, того-то и того-то»; 2) «Господи, только не в ад!»; 3) «Господи, дай сил ничем Тебя не огорчить». Лично я только-только добрался до границы между пунктом 1 и пунктом 2. А Другого Хорошего Друга сразу приземлило в пункт 3. Оказывается, такое всё-таки случается. Но для этого нужно быть погружённым в себя человеком, знающим толк в одиночестве, негаданно попасть в заснеженный и иллюминированный Санкт-Петербург и зайти на утреннюю службу в Казанский. И льдинки получат шанс сложиться в слово «вечность».
Ну, теперь спросите: а ты-то чего выплясываешь? Тебе-то чего вручили в Рождество? Хо! Моему сердцу с детства дороги логические цепочки, и, вот, насыпали полные пригоршни, и буду бегать с ними, как дурачок с лопушком, и хвастать, как будто сам сделал. А как же. Каждому своё.
Цукер
Посредством волшебных пенделей
Два монолога
…А помнишь, а помнишь: лет десять мне было, и я излагал маме как бы сюжет научно-фантастического рассказа? Ну, как бы пересказывал прочитанное, на самом же деле сочинял на ходу. Сюжет такой: болгарский студент… или младший научный сотрудник?.. нырнул на машине времени во времена Христа. Конкретно болгарским студент получился, потому что звали его — внимание! — Христо какойтотамович. Вот. Прибыл, значит, Христо на место, и сразу чего-то не покатило, кто-то за ним погнался, студент, значит, выхватил табельное оружие и провёл операцию по принуждению к миру. Так, в перестрелках и в использовании всяческих девайсов, командировка и прошла. В конце его всё-таки схватили и на кресте распяли. Но он, будучи студентом из XXI века, как только в I веке умер, так тут же оказался в родной лаборатории, где и наполучал от руководства за искажение исторической реальности.
М-да, евангельский сюжет узнать трудно, но уж, будь добр, сделай скидку — сочинял, зная только: был такой Христос, совершавший чудеса, из-за чего все сначала решили, что он бог, а потом распяли. Составлять список чудес пришлось, рассуждая примерно так: 1) если кто-то похож на бога, значит сильный, 2) если кто-то силён, значит, навешал всем по первое число. Тридцать лет назад слово «бог» писалось, естественно, со строчной буквы.
Не знаю, почему именно эта врака так отчётливо запомнилась. В детстве вралось много и с упоением, и теперь уж позабылось почти всё, но эта сидит в мозгу латунным гвоздиком. Боюсь, всё оттого, что за тридцать прошедших лет я не изменился вовсе. То есть, отрастил бакенбарды и изрядный животик, и пишу: Бог, но сама идея наведения порядка при помощи оружия, или хотя бы посредством волшебных пенделей — сама идея за тридцать лет ничуть не выцвела.
Ничуточки.
Вот ведь горе-то какое.
Взрослый дядечка, бакенбарды, пузо, рожа хмурая, сосредоточенная. А под бакенбардами — отрок, шейка тонкая, очки в роговой сиреневой оправе, чтоб она сгорела, картина мира чёткая: этому по шее, этот пшёл вон, этого расстрелять, чтобы не мешал всеобщему щастью.
Только не говори, пожалуйста, что это по гроб жизни. А если по гроб, то пусть в качестве компенсации она всегда будет рядом. Она как-то умеет возвращать в реальность. Поэтому пусть будет рядом, всегда.
Я, между прочим, тоже ей очень даже бываю полезен. В нужную минуту. Да-да-да.
…Если честно, то и врётся ничуть не меньше, чем в десять лет. Только теперь не на публику, а для внутреннего употребления. В сочетании со склонностью к идеальному миропорядку — очень удобно. «Чем больше я поем, тем больше я посплю, чем больше я посплю, тем стану я сильнее. И всех победю, и всех победю».
А молдаванский студент? Не болгарский, а именно молдаванский, которому на днях дядя из Германии оставил наследство в 950 000 000 евро на разных счетах и так, недвижимость по мелочи. И вот я, сорокалетний белорусский фотограф, неделю хожу по городу и без передыху размышляю, куда бы пристроил миллиард без малого евро. Если б был племянником германского дяди.
Не поверишь, половину уже туда-сюда рассовал. Куда — не скажу, не суть, главное, что в результате всем непременно будет хорошо. А кому не будет, тому по шее, пшёл вон и расстрелять. Устал шибко. Как-никак, все нюансы нужно учесть, главное же, раскидать всё максимально быстро, чтобы не успеть стать мультимиллионером внутри себя. Боюсь, не успею.
Более же всего опасаюсь встречи с телепатом; увидит телепат меня в троллейбусе: бакенбарды, пузо, рожа хмурая, сосредоточенная, мысль в глазу бьётся. Он, конечно же, сразу в мозг заглубится, а там — этакая ботва.
А она слушает, поддакивает, а потом и говорит:
— Хватит, пожалуйста. А то домечтаешься со своим миллиардом до худого, и вправду решишь, что ты самалучший на свете избавитель от бед.
И сразу поприотпустило.
Говорю же, она как-то так умеет находить нужные слова. Если бы меня было двое (тьфу-тьфу), например, я-правый и я-левый, то я-правый непременно принялся бы объяснять я-левому, что волшебные пендели и свалившийся на голову миллиард — суть одно и то же: принуждение к миру. На этих словах я-левый сделал бы зверскую рожу и со словами «как же ты меня достал своими детскими сентенциями…», хлопнул бы дверью. И меня разорвало бы пополам.
Но она умеет. И я тоже иногда умею — для неё. Поэтому — forever together, ладно? В конце концов, «там, где двое соберутся…», а дальше Ты тоже знаешь наизусть, да?
Цукер
В моей жизни есть милая падрушка Таня. Я люблю её очень, хотя живёт она теперь сильно далеко. Начну сначала и дойду до неё.
Вот грянул кризис и мне никто не заплатил заработанных денег. Дорогая моя столица… Кредиты висят, у детей пневмония. Какой либексин, лишний пакет молока думаешь купить или не надо. Никогда не открывали помидоры, раньше декабря, а тут, к концу ноября пожрали полподвала. Только рот откроешь в долг спросить, а навстречу звучит: «Нет тыщщи до первого?». Противно даже.
Спросила Таню в 10.30 смсом, а в 16.00 мне уже от неё блицем пришли 7 тысяч рублей. И пояснение: «отдашь, когда сможешь батюшке такому-то из такого-то монастыря». Это было обещанное Танею пожертвование, и мне, получается, было поручено передать туда.
Кризис усилился, и Таня, видя положение, отдала мне своего столичного заказчика с его столичным заказом. Я мигом заработала на отдачу долга и стала ждать перевода денег с тем, чтобы отдать означенному батюшке. Отправить в монастырь я хотела надёжного человека, у которого тот батюшка является духовником. И всё уже Тане распланировала, как она и говорит:
— Нет, Лена, моё условие такое: ты едь к нему лично с этим пожертвованием, перед этим приготовься, попостуй, помолись, покайся ему и причастись у него. Потому что Лена, трудное сейчас время, и я желаю тебе только добра, ты знаешь. Ты в своё время столько для меня сделала, что я хочу отплатить тебе тем же. Я очень за тебя всегда молюсь, навсегда я тебе благодарна и сейчас помогу тебе в главном. Сделай, как я сказала, хорошо?
— Хорошо, — говорю.
А вы бы что сказали, будучи должны семь тыщ в кризис?
А самой как-то нехорошо. Прямо скажем, хреново. По справедливости надо бы, я считала, так: взяла у Тани семь тыщ — отдай Тане семь тыщ. И всё. Но совсем другое дело, когда тебе добра желают. Остро желают отплатить добром за твоё позавчерашнее, но незабываемое добро. И полностью лишают свободы воли, вероисповедания, выбора священника для совершения столь сокровенного действа…
…Давным-давно, когда мы ещё не были жёнами и мамами, Таня жила близко, была юна и связалась с дурной компанией. Любя Таню и страдая за Таню, я поселила её в маленькой своей однушке и стала воспитывать. Я желала ей добра с утра до вечера. Я кричала, рычала, стыдила, гвоздила. Применяла трудотерапию, заставляя мыть полы и печь блины. Контролировала уходы из дому и звонки её порочных товарищей. Проверяла в какой готовности заметки, заданные замредактором — их Таня, если и создавала иногда, то со страшным скрипом. Таня, как я сейчас понимаю, подчинялась вынужденно: территория была моя, еда моя и поговорка моя: «На этой кухне — я редактор!».
И, как редактор, я радовалась, меняя человека к лучшему.
Время от времени меня навещала мама смотреть порядок. Ибо я тоже была юна и — она была права — тоже подвержена соблазнам. Но я прятала свою жертву от мамы.
Вскоре Таня от меня сбежала. И там, на большом удалении, перекосячив ещё несколько лет своей жизни, пришла в православие. И впала вдруг в такую хорошесть, что я-то… выдохнула, а вот вдохнуть до сих пор не могу. Пытаюсь теперь у неё учиться.
Но только не этому… не тому, что надцать лет назад я ей нечаянно преподала, а она ненароком усвоила. Потому что как я теперь, брякнув от растерянности «хорошо», не заплачу процент с долга в указанной Таней валюте? На этой кухне она редактор.
И вот я думаю. Мои дорогие милые люди пенделями, пенделями подпинывают меня к добру, к Тому, в которого я не то что верю, а просто чувствую.
И благодарю. Ведь только Он один, будучи строг и серьёзен, всё же понимает и прощает бесконечно. Даже то, что я никак не войду в Его храм по всем правилам, полным чином, как всамделишняя прихожанка.
Не позволяя лишнего, мягко препятствуя злому, он всё помогает, даёт и отдаёт. И окружает редкими, драгоценными людьми, в числе которых Таня. И бережёт их. Мне этого пока достаточно.
Только вот хотелось бы, чтобы друзья мои уподобились Ему и совсем уж ни по какому поводу не применяли пендели. Но Ему легко быть таким, он же Бог… А им трудно — они же живые.
Воробьёва
Простая история
Предупреждаю сразу: это довольно-таки незатейливая история. Такие истории любят рассказывать друг другу, сидя на лавочке возле подъезда, старушки. Я-то покамест ещё не старушка, и всякие такие случаи из жизни рассказывать… того… не очень-то.
Но эта конкретная история произошла лично с нами. И надобно рассказать. Хоть и неизвестно как.
Буду по порядку.
Однажды, несколько лет тому, случилась вот какая штука: я вдруг потерял всё. То есть, вообще всё. Известное дело, если у человека вдруг, ни с того ни с сего, отнять вообще всё, он начинает крутиться вокруг собственной оси, бить хвостом о противень, шарить руками по карманам и приговаривать: вот ведь… вон оно как… вон оно, значится, что… Печальное зрелище. В конце концов, один малознакомый священник сжалился и присоветовал читать акафист к иконе «Скоропослушница». Сказал: как раз твой случай.
Эта самая «Скоропослушница» висела в одном афонском монастыре над дверью трапезной. Монастырский трапезарь Нил то и дело ходил мимо неё с зажжённою лучиной, и два раза ему говорилось тихонько: «Не копти на Мой лик!». Но он не внял, думал кто-то из братии шуткует. А на третий раз при этих же словах ослеп. Перепуганный, Нил простоял у иконы на коленях всю ночь и к утру прозрел. То есть, услышали трапезаря быстро. Мне и нужно было, чтоб быстро,
Ни одной Скоропослушницы во всём городе не нашлось, но акафист нашёлся, в сборничке под мягкой обложкой на серой бумаге.
И я его прочёл залпом. Наверное, с выражением прочёл, вникая, хотя обыкновенно этот труд для меня непосилен.
Ровно через пять минут зазвонил телефон и сообщил, что как раз самого-то важного я не потерял. Никуда самое важное не делось. Осталось при мне. На этом фоне остальные потери как-то сразу сделались не смертельны. Через сколько-то времени обнаружилось: не было никаких потерь, наоборот, сплошные приобретения. Но это попозже, до него ещё нужно было дожить.
С тех пор акафист, аккуратно распечатанный и сложенный вдвое, лежит на нашей кухонной полке. Так спокойней. Это уже второй экземпляр, первый расползся по сгибам от частого употребления.
А на прошлой неделе Бочарова захворала. Устала, вымоталась и подцепила болезнь не фатальную, но надолго сбивающую с ног. Вплоть до весьма скверных осложнений. Врачи вздыхали, говорили успокоительные речи, прописывали антибиотики и все как один советовали идти к бабкам, мол, их профиль.
Акафист-то я прочёл в первую же бессонную ночь, но как попало; непосильный труд. В голове бесовщина, на сердце мутно, губы шевелятся, душа — нет. Не помогло. Температуру антибиотики согнали, болезнь — нисколько.
Жена выискивала в интернете всё более неприятные перспективы и, тяжко вздыхая, пересказывала мне по телефону. «За что?!» не спрашивала, ибо буквально за день до первого приступа поступила опрометчиво и легкомысленно.
Поход к бабкам как возможный вариант даже не рассматривался.
Только через неделю меня осенило: «…а акафист?!..». «Да», — быстро сказала Бочарова и бросила трубку. Обыкновенно она говорит отрывисто и трубку бросает, когда в обеих руках по работающему телефону, но тут просто помчалась к кухонной полке. Ночью и я вычитал, стараясь не сильно уходить мыслью в сторону.
Через два дня врач сказал озадаченно «Хм-м… неплохо…». Ещё через два удивлённо крякнул и поздравил следующим образом: «м-да… вообще-то без хирургического вмешательства редко обходится…».
Вот и вся история.
Цукер
Ближе к полуночи
Ближе к полуночи я накидываю на плечи старую куртку и шагаю вниз по четырнадцати деревянным ступеням. Дверь открыта; это я, говорю громко из прихожей, возясь с тапками. Не разувайся ты, говорит она, всё равно пол мыть нужно… Выключай, выключай, разрешает, видя как я морщусь и тянусь за пультом, сама уже устала от болтовни этой… Что у вас показывают, не пойму? Сплошные убийства какие-то, у нас в Белоруссии и то лучше. Только дебаты интригуют её не на шутку, и какое-то время мы смотрим, как толстый человек в очках выговаривает оппоненту: белое следует называть белым, и точка! Вот! волнуется она, вот именно же! Па-азвольте, отвечает оппонент средней упитанности, но с усами, я например, считаю, что Волга впадает в Каспийское море! Ну ведь самую суть ухватил, восхищается она, но что-то, видимо, читает на моей физиономии, и таки машет рукой — выключай…
И мы начинаем разговаривать.
Хорошо, если за день образовались какие ни на есть новости, тогда можно успеть заинтриговать её до того, как опустит голову и станет всматриваться в себя.
— Стешка сегодня гуляла с Цукановым. Ага. Он её через интернет на прогулку позвал, ну, там ещё с одной подружкой и с приятелем. Начинается.
— Ишь ты! А кто такой Цуканов?
— Да так, хмырь один, за партой вместе сидят, дерутся всё время. Я посмотрел: ничо такой, кудрявый, пусть гуляют.
И мы долго обсуждаем перспективы.
Ещё лучше, если вспомнить Бродовку, во-первых, это надолго, во-вторых, она станет рассказывать о неведомом мне былом. Последний раз я был в деревне на похоронах бабушки, а потом так и не заставил себя съездить, да перед тем ещё института пять лет, наезжал раз в году. То есть, Бродовка выпала из поля зрения лет двадцать тому, а вот поди ж ты, помню каждую ветлу за забором, и приятелей своих летне-каникулярных помню, главное же — снится. «Отпустить меня не хочет ро-о-одина моя» — цитата. Снится движняк, хлопоты, просыпаешься, все в сепии почему-то, прокручиваешь сон в голове — ба, да это ж опять Бродовка снилась. Поди-ка, и дом не тот, и люди не те, и сюжет совершенно из другого места, но вот перекрёсток двух песчаных дорог — ну вы знаете, одна с кладбища на посёлок, а другая от сельсовета на Янчено — верняк, родная деревня. Если так позволительно сказать человеку, родившемуся в Пятигорске…
…Совсем худо, если она опускает голову и вглядывается в себя, тогда разговор пойдёт по заданному кругу, я знаю его наизусть:
— …Знаешь… А вот N когда-то поступил неправильно…
— Да? А ты его возьми да прости. Серьёзно. N — он ведь неплохой, да?
— Знаешь, я… так сложилось в жизни… если кто-нибудь поступал как N, я просто отходила в сторону, общаться прекращала, и всё…
— А теперь прости, и вся недолга.
— Но я же не желала дурного. Просто отходила в сторону.
— А теперь пришло время прощать. Некуда отходить, кругом стеночка.
Не поднимая головы, она косится по сторонам.
— Что стеночка, то стеночка… Сижу, как в клетке. Приспичило вам строить дом в такой медвежьем углу.
— Это просто зима. Начнётся огород, купим тепличку из поликарбоната, высадишь рассаду, и только подавай, Боже, здоровьичка…
— Ничего тут не вырастет. Нужно срубить вон те две осины. Я читала, осины энергетически очень вредные деревья.
— Вот те на… А у соседа Серёги мама читала, что хвойные для огорода вредные. Руби, говорит, сосны.
— Как сосны?! Сосны пусть растут. Только они тут не пахнут. Помнишь, как в Бродовке сосны пахли?..
…Сейчас ещё ничего. Сейчас можно разговаривать. А полгода назад начинала плакать. Я становился на колени и целовал её руки, она их не отнимала, но не знала, что с этим делать. Раньше мы как-то не целовали друг друга, не было такой заведёнки. Народ в Бродовке на ласку скупой. Когда к бабке Сашуте привозили любимого правнука, она не тетешкала его, а только пасла на Бусловке, как пасут квёлого гусенка, беззлобно поругивая:
— Во ссуль! Обоссався и бегае!
Звучало очень комично, даже моя бабушка смеялась, деликатно прикрывая лицо рукою. Когда бабка Сашута умерла, на могилу повадилась ходить её кошка. Придёт, сядет, как словно бы на колени, и жмурится, дремлет. Кажется, даже мурчит…
…Весь её личный опыт, военное детство, безотцовщину, голодную до обморока юность, болезненную деревенскую застенчивость и даже более-менее сытый застой можно уместить в коротенькую, в полдюжины слов, аксиому: «в жизни не шибко много радости». Моя статистика, напротив, имеет положительный баланс, аксиом нету ни одной, зато есть целых три программы на все случаи жизни: «авось», «небось» и «помолясь». И оттого то и дело ловлю на себе её жалостливый взгляд, мол, подрастёшь — поймёшь…
Но по субботам, когда приезжает с ночёвкой Стеша, она сколько-то времени — недолго, пока не устанет от воплей, прыжков и самоуправства — бывает счастлива. Один раз даже произнесла это вслух. Дело было на день рожденья, про который, как водится, я должен бы забыть, но Бочарова не дала. Стефания взволновалась, кричала «а что мы ей будем покупать?», в конце концов решили ничего не покупать, а нарисовать документальную картину «Папа, бабушка и я отмечаем Рождество», на основе воспоминаний очевидцев. Картина удалась: все персонажи похожи на себя, на столе курица-гриль, пряничный домик и еловые ветви над Спасом, в огромном, на всю стену окне эркера — Вифлеемская звезда. Мы ворвались, почти уже нежданные, на исходе дня, накрыли стол яствами, вручили подарок, и Стешка запрыгала, закружилась волчком: ну скажи, ты счастлива?! Счастлива?! Она задумалась на секунду и ответила, сама себе дивясь: счастлива…
Но только один раз. Гораздо чаще она говорит: не пойму, чего Он от меня хочет?.. зачем я Ему такая, теряющая память, зрение и силы?.. лучше бы…
Слушай, говорю я, а давай Он сам решит, что лучше?.. Тоже мне загадка — зачем? Затем же, зачем и остальные. Чтобы успеть. Больше скажу. Я, конечно, рассчитываю ещё лет на десять… оказалось, мы слишком мало с тобой разговаривали все эти сорок лет… и ты ещё не дорассказала о том, что было… да и Стешке нужно… в общем, лет бы десять по-хорошему… но если там, Наверху, решат, что, мол, сегодня во-о-он та старушка из пятого дома на краю оврага удачно исповедалась и причастилась, и дадут отмашку… я буду спокоен, вот. Смерти нету, а договорить можно и потом, лет через тридцать, если беспамятному, полуслепому и бессильному старичку из пятого дома на краю оврага удастся удавить свои «авось» и «небось», а оставить только «помолясь».
Такая фора, понимаешь? Нелюбый дом с окнами во всю стену и видом на лес, одиночество, осыпающаяся память, Стефания по субботам, я по вечерам — чтобы успеть, понимаешь?
Понимаю, кивает она, и не понимаю. Как можно успеть, если мысли разбегаются?
И у меня, говорю я, а мне ещё только сорок два.
Вся моя вера в голове. Мы же раньше и не думали, спасибо Советской власти…
И у меня сплошная голова, говорю я, хоть и крестился аж на третьем курсе.
А в церкви вообще ничего не понимаю, куда идти, куда стать, когда креститься…
Такая же фигня, говорю я, баран бараном.
И, главное, исповедаться — ну не могу я такое произнести! Ох, если б ты знал…
Ох, если б ты знала, говорю я, сжимая виски руками. Хотя не-не-не, не надо тебе этого знать.
Днями нашёлся мой блокнот за шестой класс. Архивы — наш семейный пунктик; трижды долбаный блокнот обязан был лежать в одной из ста коробок, я их все трижды перетряхнул во время переезда — и не нашёл. Вот и славно, вот и славненько; знать, канул раз и навсегда, уф-ф… И вдруг — лежит, лежит, миленький, прямо на журнальном столике, даже газеткой не прикрывши пожелтевшие окаянные страницы. Ну не было у нас тридцать лет назад ни интернета, ни даже захудалого «Плейбоя», а были только прыщи по всему лбу, и такой либидоз, такой либидоз… Откуда, из каких закромов всплыло это народное творчество, теперь уж и не узнать, но его же ж пролистали, факт. А если и Стешка?..
Добейте меня. Добейте меня. Добейте меня.
И самое главное: блокнотик-то щас сожгу и по ветру развею, а то, что внутри меня нарисовалось за сорок два года — нету таких спичек, и ветра такого нету. Сидят сейчас там, Наверху, сжавши ладонями виски, и глаза б меня не видели…
— Знаешь, — говорю, — я тут слушал лекцию профессора богословия…
— Где слушал?
— В интернете скачал.
— А-а.
Подумала сейчас: никогда мне уже этого не понять.
— … и вот он толковал насчёт посмертного покаяния. Попробуйте, говорит, прочесть самую коротенькую молитву не шевеля ни губами, ни телом.
Мы оба тут же честно пробуем, округлив глаза от напряжения.
— Ну, прочла.
— А язык-то всё равно шевелится, правда?
Смеётся открытию.
— И что?
— А то. Помер человек, тело отвалилось, душа в ужасе, хочет крикнуть «Господи, помилуй!», а крикнуть нечем. И каяться нечем, потому как покаяние есть исправление дел. А какие дела, если тело, вон оно, валяется в прозекторской на железном столе?
Она озадачена.
— И что делать?
— Наверное, разговаривать с Ним всё время, тренироваться, типа. Вот Он у тебя на столе стоит, борщ вари и разговаривай…
— Надо полку купить. Неудобно на столе.
— Да забываю каждый раз, ну… Во-вторых, сказано же: в чём найду, в том и возьму. Я читал, один деревенский поп спал исключительно в белом подряснике, говорил: вот случится нынче второе пришествие, вы, охламоны, будете скакать в трусах и майках, а я же буду сообразно сану… То есть, если всё время быть наготове и сильно не косячить, то можно как-нибудь прилепиться к краешку хитона и чего-нибудь там такое промычать жалостливое… Авось заберут с собою.
— А в-третьих?
— А в-третьих, на земле же ещё остаются те, кому новопреставленный был дорог. Пусть отдуваются, и покаянием, и молитвой…
Впервые за вечер она смотрит не в стол и немножко на меня, а просто — на меня. Задумчиво смотрит: утешаю или дело говорю. Кажется, на несколько мгновений она замечает, что я плоховыбритый дядька сорока двух лет, а не двенадцатилетний мальчик, каким она будет видеть меня всегда.
— Пойду, — говорю я, — работы много.
— Ты ещё работать будешь? Ночью?
Она спрашивает об этом каждый раз. Память её не удерживает малозначительные детали. Мне наплевать, я буду отвечать ещё и ещё.
— Да, — говорю я, — я работаю только по ночам.
Я накидываю на плечи старую куртку и поднимаюсь по четырнадцати ступеням наверх, к себе. Она стоит в дверном проёме, освещая дорогу, и неловко крестит меня в спину.
— Спокойной ночи, мамочка.
— Спокойной ночи.
Цукер
Привет, Царнаев
Джоха́р и Тамерла́н Царна́евы — два брата, ставшие известными в качестве подозреваемых в организации взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года
Википедия
…и отдельное огромное спасибо за художественный фильм «Горько!». Честно. Честно-честно. Ну да, мы тут все околосвадебные работники, и нам как-бе более узнаваемо, чем прочим, и когда в зале мы ползали меж рядов, подвывая от счастья, остальные зрители не до конца разделяли полноты наших чувств. Не суть. И дело даже не в актёрской игре, хотя после «Горько!» таки появилось немножечко надежды, что Станиславский скорее жив, чем «не верю!».
А в том дело, что отхохотавши и вытерев слёзы умиления, мы вышли умытые и примиренные. Тебе там трудно понять, как это бывает, когда живёшь-живёшь, а внутри копится-копится, и однажды утром говоришь себе спросонья:
— Привет, Царнаев.
И подпрыгиваешь на постели:
— Кто Царнаев? Я Царнаев?! В смысле — Царнаев?
Ой… Прости… Что это я леплю… Тебе там как раз и не трудно понять… Ты же мне как раз и говоришь: привет, Царнаев…
…Нет, в целом, конечно, отсыл понятен. Это, типа, про то, что в голове у меня последние сорок лет сплошной малый джихад, да? Читал как-то: большой джихад — это когда берёшь самоё себя за шиворот, и по роже, по роже. А малый — это когда обвешиваешься динамитом, и на марафон. И это у меня сейчас в башке, да?
Да…
Заметь, и не спорю, что есть, то есть. Но можно хотя бы объясниться? Потому что — объективные причины. Можно?
…Взять, например, геев. В последнее время очень много мыслей на геев уходит. Между прочим, либералы-Петренки по жизни к секс-меньшинствам гораздо экспрессивнее относятся, чем я, консерватор и реакционер. Всё им хаханьки. Нам, консерваторам и реакционерам, всего-то и нужно: сохранить статус-кво. Вот как оно сейчас есть, так пусть и остаётся: мы к вам с полным уважением, но и вы, будьте добры, не заставляйте нас корчиться всякий раз, когда очередной ньюсмейкер встаёт вдруг посреди выпуска новостей и делает модный каминг-ап. А не корчиться нету никакой возможности, потому что перед глазами сразу побелевшие губы мамы ньюсмейкера, и трясущаяся рука папы, рвущая крышку с пузырька корвалола. Так что давайте вести себя по-мужски, не зависимо от…
Ну вот, опять. Видишь? Ничего не могу с собой поделать. Больная тема.
Или вот власти. Я, знаешь ли, не то, что либералы-Петренки, я вообще монархист. Но когда вышла очередная Масяня, и в ней оч. смешно про Путина, то прям взял и повесил на стену «вконтакта». Потому что, во-первых, оч. смешно, во-вторых — ну достали же, ну! Казалось бы, совершать движения тупее нету никакой физической возможности, но «подводная лодка легла на дно, и тут снизу постучали». Как будто у них там секретный конкурс. Как будто они там сидят и говорят друг другу:
— О! Придумал! Придумал! А давайте милицанеры будут по улицам бегать и поджопники отвешивать кто в очках, и говорить вежливо: «Честь имею!»
— Га-га-га!
— Не, не, не, я лучше придумал! Давайте без предупреждения все каштаны на бульваре выкорчуем, а сами везде камер понаставим скрытых и будем сымать, как у этих рожи поповытягиваются, а потом в ютьюб выложим!
— О! Да! Да! А давайте ваще весь город уколбасим под ноль, чтоб кто не был здесь лет пять, чтоб он, такой, заехал на улицу Советскую — и просто рехнулся прям, а? И тоже на скрытую камеру, и потом уж всё выложим, одним роликом! Да мильён просмотров, зуб даю!
…Всё! Всё. Тпрууу. Понял. Прости, больная тема…
Хорошо, ну а Пусси?
Вот холера, нажмите кто-нибудь на тормоз…
Тебе всё ж таки, боюсь, не прочувствовать до конца. Ты всё ж таки видишь картинку в целом, снаружи и сверху. А мы тут изнутри, и родня жениха из Туапсе — наша личная родня. Самое удивительное, что и трезвенник я, и употребляющие Петренки как-то умудряемся находить общий язык с Туапсе. И даже друг с другом. Как-то даже… как это?.. любим, да? Какое странное слово, если задуматься.
Вот об этом, собственно, и хотелось бы поговорить. Как так ловко получилось, что всякое гениальное, что бы там ни возьми — кино, книжка, песня опять же — так сразу и про это самое? Тю, какое неловкое слово. Про любовь. Надо бы написать с заглавной, но рука не поднимается, прости. Стесняюсь. Моя кузина в отрочестве сочиняла романтические рассказы, и всегда главной героиней в них была «деушка». Я бесился и кричал: какая, нафиг, «деушка»?! Правильно писать «девушка»! Отстань, отвечала кузина отстранённо, «девушка» — это как-то совсем… совсем как-то… И не могла подобрать слова. Подозреваю, она имела в виду «избито-сопливо-пошло-мелодраматично». Хотя заглавная буква — принципиальный момент. Вспомнить, к примеру, как Охлобыстин давеча перепел попсовую песенку про «я знаю пароль, я вижу орьентир». Пошлость страшная, но Охлобыстин, без слуха, без голоса, вдруг как закартавит: «Миррр, в которрром я живу, не делится на части, пока в нём есть Любовь. Знать, не в снах, а наяву, каким бывает счастье — делить его с Тобой», а потом как заорёт: «я верю только в это — Любовь спасёт миррр!!!». И всё. Сразу гениально. А всего-то: заменил прописную на заглавную.
Петренки сейчас прямо подпрыгнули, небось. Они считают Охлобыстина негодяем. Бе-бе-бе.
Чо-то как-то уклонился я. О чём мы, собственно? А! Художественный фильм «Горько!» Так вот. Мы вышли умытые. И примиренные. С родителями. Друг с другом. С родственниками из Туапсе. С, прощения, прошу, Родиной — с большой буквы, хоть и стесняюсь. С самими собими, наконец. Пусть ненадолго. Пусть — только до маршрутки дойти. Оно того стоило. Оно того всегда стоит, когда вдруг — раз — и ты на несколько мгновений не-Царнаев. По крайней мере, сразу делается понятно, чего Ты от нас добиваешься всю эту мучительную и прекрасную жизнь.
Кстати… можно попросить? А нельзя ли обзываться как-нибудь по-другому, не Царнаевым? Ну, если обязательно террорист, то пусть, например, Иван Помидоров? Он всё-таки холостыми пулял, а в конце тра-та-та-та, та-та — и вправду его расстреляли. Это как-то симпатичнее, жальче как-то. Нельзя? А, ЕЩЁ нельзя? Тогда ладно, тогда пусть. Потерплю. Ничо, без обид.
Блин, да какие обиды, чего я леплю. Вот иду ночью с любимой работы в любимый дом. Слева чёрное поле, днём оно уже зелёное, озимые, все дела. Прямо по курсу перелесок, он всегда разный, от сезона. Чуть выше — небо, тоже чёрное, но в пятнах: вон там — толстый луч города бьёт снизу вверх в осеннее сизое марево, слева, потоньше — посёлок, а за спиной, почти неразличимо — Петренки где-то там сигналят. Справа — мой дом, окна занавешены, но над дверью фонарь, это она зажгла, чтобы виднее было, ну, и вообще. Щас постучу, скажу громко: совы — это не только ценный мех (это пароль такой, долго объяснять). Она откроет…
Так вот, когда иду по дороге, ночью, ветер в ушах, Ты же слышишь, что я Тебе ору? Не думай, что подлизываюсь, это по-честному.
Впрочем, Ты в курсе. Это я так, проверка связи.
Цукер
Письмо дочери
Стефания моя Константиновна! Ты мне давеча прислала чудесный ролик: некий американец сидит в студии, уставленной мониторами, и рассказывает про страшные вещи: про то, как они, американцы, опутали нашу с тобой страну, да и весь прочий мир, сетью заговоров; мало того, и сами-то американцы — особенно президенты! — тоже на коротком поводке у определённой группы людей…
Не боись, папа не решил, что ты вдруг заинтересовалась большой политикой, в четырнадцать-то лет. Папа даже знает источник внезапного интереса к заговорам: несколько серий «Шерлока», просмотренных сильно заполночь, на ноутбуке, чуть ли не под одеялом, чтобы мама не застала врасплох — и мир сразу становится буквально набит коварными, но гениальными мориартями. Но, раз пошла такая волна, можно несколько слов в строку? Папам всё-таки положено.
Для начала огорчу: этот некто, бодро шпарящий по-английски — никакой не американец. Только не спрашивай «чем докажешь?»; десяти лет не пройдёт, как сама научишься слёту отличать фальшивку от настоящего; по крайней мере, плохо сделанную фальшивку. И ролики такие называются — «пропаганда». Не только ролики, впрочем. Пропаганда — вещь коварная. С одной стороны, без неё никак. Захочешь, например, чтобы люди были здоровы — изволь заниматься пропагандой здорового образа жизни. С другой стороны, чуть сфальшивил — и вот уже все, кому ты своим здоровым образом жизни мозг выносил, назло тебе курят, пьют пиво и целыми днями смотрят олимпиаду по телевизору.
Теперь, наверное, спросишь: так что, нету никаких заговоров? Мир плоский и квадратный, как батон?!
Даже не знаю, что и ответить. Пожалуй, отвечу: а фиг его знает. То есть, заговоров, конечно, полно. Американцы стопроцентно устраивают заговоры против нас и всех, кого ни попадя. Наши тоже хороши, в долгу не остаются. Китай, опять же, мудрит чего-нибудь. Да все! Все буквально! Мир кишмя кишит заговорами. Даже детям в детском саду нравятся тайные операции, чего уж от больших мальчиков ждать. Больше того скажу: если вдруг покажется когда-либо, что обнаружила заговор — смело лезь в интернет и ищи доказательства. Найдутся обязательно.
…Прикинь, я вот только что решил для разнообразия стать правильным папой, рассказать историю парочки удавшихся заговоров, обсудить, сделать выводы, то-сё. Полтора часа копался в интернете, писал, стирал, переписывал. И знаешь что? Обнаружил, что становлюсь похож на искусственного американца из ролика. Ну их к бесам, эти тайные операции. Главное же: даже если заговор удался, со временем заговорщикам прилетает так, что мама не горюй. Практически всегда, не явно, так тайно. Это объяснимо: даже у очень умного человека слишком маленькая башка, и мысли в ней коротенькие-коротенькие, как у Буратино. Сидит человек, рассчитывает каждый шаг, свой и противника, прикидывает варианты: «А я тут такой — хоба-на! А он такой — хлобысть!» Ещё и на компьютере всё-всё просчитает. И давай действовать. Но Аннушка-то масло уже пролила! А дальше ты знаешь: хрясь — и пополам, хрясь — и пополам.
…Я читал как-то про одного священника. Он сидел в лагере, с ним сидела куча разного люда, в том числе и непримиримые политические противники. В лагере и так невыносимо, а тут ещё эти со своими разборками вплоть до поножовщины. И однажды его спросили мимоходом: слышь, поп, а ты как думаешь, кто виноват, что в России всё так худо? Священник остановился и, не раздумывая, ответил: известно кто — священники! Он, наверное, очень много об этом размышлял. Спорщики, конечно, рты пооткрывали. «Священники виноваты, потому что последние несколько десятков лет охладели сердцем, и делали свою работу — как простую работу. И всё пошло наперекосяк, народ, не имея перед глазами примера, веру потерял совершенно, а поповские дети все как один кинулись в революцию. И там, Наверху, сказали: ну, как хотите. И отпустили нас в свободное плавание. И вот мы все здесь».
Его чуть не зарезали тут же. Спорщикам было очень обидно, они всю жизнь думали, что рулят судьбами страны и людей, а тут какой-то зачуханный попик мимоходом отнял у них последний повод для гордости, да и смысл жизни тоже спихнул с табуретки. А я с тех пор всё время думаю об этом, уже несколько лет.
Думаю: наверное, он был прав — на тот момент. Но, вот, прошло семьдесят лет, а у нас всё ещё весьма паршиво, факт. Даже ты, конопатый таракан, это чувствуешь в свои четырнадцать лет, и мечтаешь свалить куда подальше, то ли в Австралию, то ли в Голливуд. А я не хочу, чтобы ты валила, я внуков хочу, три или пять, и чтобы ездить с ними на лыжах по заснеженному полю, и печь картошку в печи, а на Рождество ставить на стол волшебный вертеп с крошечными фонариками внутри. Но сказать: это священники виноваты, в том, что у нас с тобою разные представления о прекрасном будущем — это вообще глупость какая-то несусветная. При чём здесь священники?..
…Слушай, а вы в воскресной школе проходили про Содом и Гоморру? Ну, например, проходили. Помнишь, всё, что нужно было этим городам для спасения — чтобы в них жили десять праведников. И всё, десять спасли бы тысячи. Интересно, а сколько нужно на всю страну, на сто сорок миллионов? И, главное, сколько их есть в наличии? Говорят, что в каждой церкви непременно сидит никому не известная старушка, которая, сама того не подозревая, отмаливает весь приход. Ну, тогда — сколько у нас церквей? Блин, что-то подсказывает, что не хватает праведных старушек на сто сорок миллионов…
А я? Какая-то неувязка. Давай по пунктам. Я не хочу, чтобы ты уезжала в свой дурацкий Голливуд, так? Для этого нужно, чтобы в стране не было так паршиво, чтобы она, страна, вообще была на своём месте, так? Единственный реально доступный мне способ повлиять на ситуацию — стать праведником, так? Ничего сложного, между прочим, там всего-то двенадцать пунктов, и никаких особенных проблем в их выполнении; не тяжёлая атлетика, чай…
…Я очень не хочу, чтобы ты уезжала, понимаешь? И мне никогда не стать праведником, понимаешь?..
Хорошо, пойдём другим путём. Четырнадцать лет назад я начал каждый вечер читать одну такую молитовку… она сама как-то внутри сложилась… там сплошное перечисление, чего бы лично мне хотелось для тебя выпросить. За четырнадцать лет столько раз пробормотал её в полудрёме, что, наверное, там, Наверху, уже подпрыгивают, как только видят, что этот опять расстилает постель. Ну, лично я точно подпрыгивал бы, не терплю повторений. И, когда тебе было лет семь, вдруг оказалось, что сбылось каждое слово. Каждое, сечёшь? Прошло ещё семь лет — а оно всё сбывается. У меня от этого иногда волосы на голове шевелятся.
Ладно, четырнадцать лет большой срок, можно считать — было время докричаться. Но мы тут в феврале забабахали огроменную свадебную выставку, в первый раз в жизни, с нуля, и так помирали со страху, что забились каждый вечер, ровно в двадцать два ноль-ноль, читать молитву по соглашению. По соглашению — это когда несколько человек в разных местах одновременно о чём-нибудь просят. Целую неделю мы просили немногого: чтобы никого не обидеть, чтобы принести всем немножечко пользы и чтобы чуток заработать. Ну, ты на выставке волонтёрила, сама всё видела. Наверху сжалились и насыпали — слово в слово.
Это всё к чему. Я очень не хочу, чтобы ты уезжала. Очень хочу внуков, и чтобы непременно пять, и чтобы непременно здесь. Каждый вечер в полудрёме бормочу вечернее правило, плюс так, всякого по мелочи. А за страну не бормочу. Как-то в голову не приходит.
Так что, если зайдёт когда-либо разговор: кто виноват, что наша с тобою страна так неуютна и смурна, смело отвечай: это всё папа виноват. Или не отвечай, всё равно не поверят…
…Наверное, ты всё ж таки свалишь, ваше поколение легко на подъём; делов-то: чемодан-вокзал-Сидней. А я останусь. Это диагноз: «отравлен Родиной, как кокаином», когда от Родины прёт и ломает единомоментно. Наверное, это называется «любовь»? Останусь, по крайней мере до тех пор, пока таких, как твой папа снова не станут отстреливать на улицах, как бешеных собак. По всем признакам, время на исходе. Страна наша сурова и не терпит тех, кто не смотрит строго в дуло, а вертит башкой по сторонам. Думется, уже сейчас какой-нибудь внимательный и вежливый дяденька сидит в полуподвальном помещении, читает это письмо и ставит галочку напротив строчки «Цукер К. Д.» Галочка означает: «не наш человек».
…Но я исправлюсь, чесслово! Я стану молиться за Родину. Чтобы тебе было куда возвращаться.
Твой папа
Don’t panic
Уже началось, да? Началось?
А я ведь всегда знал, что неспроста вот этот мучительный сон — когда ты никому не нужен. То есть, всё в порядке, мир цел, вот они, друзья и близкие, но как-то всем недосуг. И, главное, заказов нет. И бродишь посреди праздника жизни: привет, как дела?!.. а чем, собственно, заняться… Просыпаешься в поту, и в башке — словно отработанное моторное масло слили. Это репетиция была, да? Тренировка? Понимаю. Но только я нифига не готов. И не буду готов никогда.
Сколько себя помню, всегда в кармане было немножко денег. В двенадцать собрал ведро черники, бабушка отвезла на рынок — десятка. По тем временам очень даже. В четырнадцать, летом, два месяца дорожным рабочим, сам попросился. В пятнадцать — месяц на вокзале грузчиком; вообще-то брали с шестнадцати, но я тогда выглядел на восемнадцать. Сто сорок рублей отдал маме, межпозвонковую грыжу оставил себе. А ещё каждое лето собирал ликоподий, двадцать пять рубликов за кило, между прочим! Интересно, собирает сейчас хоть кто-нибудь ликоподий?… Студентом ходил по улицам с «Зенитом» наперевес и снимал детей, за деньги. Прямо подходил к мамашам и на голубом глазу: а давайте я вашего ребёнка сфотографирую? Иная простота лучше воровства; мамаши ажно подпрыгивали от неожиданности. Меньше сороковника в месяц не бывало, плюс стипендия сорок. Норм. Потом…
В общем, много не было никогда, но немножко — по-любому. И когда звонили в марте молодые коллеги с криком: «заказов нету!!!», всегда отвечал: всё буде добре, все поженятся, и всем будет хорошо. И, действительно, всем было хорошо.
Но всегда было подозрение, что это не навсегда. Логика простая, как макарона без дырочки: если Там, Наверху, тебя любят (аксиома), то не дадут сидеть на попе ровно. Ну это как один старенький монах плакал, что на него рукой махнули: оставили без скорбей. А без скорбей как человеку спасаться? Вскорости захворал и возрадовался. Но я же ж не монах! Прошлым летом палец с размаху мачете рубанул — и всё, три дня только и мыслей: завещание оформить, распорядиться, чтобы похороны поскромнее, нечего деньги на пустое…
…Вам смешно, а у нас в деревне был мужик по кличке Пальчик. И дети его были Пальчиковы, и даже внуки. Бабушка рассказывала: пацанёнком ещё, лет четырёх, ушиб себе палец, бежал к мамке по дороге и кричал: пальчик, пальчик! Прошло шестьдесят лет…
…В общем, не монах я. А раз так, то только и остаётся — деньгами. Тем более с этой газетой мы твёрдо усвоили: чуть шаг в сторону — сразу дулю с маслом, а не денег на следующий номер. Бывало, по три раза каждый текст перетряхивали, пока находили косяк. Но сейчас… да нету никаких косяков! Какие в нашем деле косяки? Клиентам не хамлю. Коллег не троллю. Возгордился профессионально? Ха-ха-ха, прошли те времена… Халтурю? Да поздно начинать халтурить на двадцать пятом году профессионального стажа…
И главное, — главное! — по всем признакам, не в работе дело. Не в цене, не в качестве, не в рекламе. К примеру, последний случай. Пишет коллега: у меня завал, возьмёшь заказ? Возьму, говорю, чего не взять… Ладно, пишет, сейчас тебя с клиентом законтачу. И через минуту: вот же, блин! Заказчики отвечают: ой, мы тут уже другого нашли, а вам не сообщили, забыли, простите великодушно!
И так всю зиму. И весну. И у Бочаровой та же ботва. А так не бывает, чисто математически. И это оч. паршиво, ибо значит — Сверху кричат, руками машут, но шо конкретно — не-а, не разбрать. Поймите правильно, скажут профессию менять — расстроюсь сильно, но поменяю. Бочаровой проще, она шьёт, как дышит, а у меня руки не то что из задницы растут, их, рук, щитай, нету вовсе. Ладно, пойду в уличные мимы. Не лучший вариант по нынешним временам? Тогда пойду в боевые уличные мимы, стану бегать между противоборствующими сторонами, кривляться, свистеть в свистульку, путаться в собственных ногах, в общем, всячески способствовать мирному улегу… у-ре-гу-ли-ровыванию. Пройдут годы. Про первого в мире боевого мима снимут фильм «Но был один, который всё свистел». Красиво, блин…
Или подначу дочь, она у меня знатная балалаешница. Выйдем на бульвар Гагарина, дитя будет аккомпанировать, а я возьмусь петь православные частушки:
Что за смех на небесех?
В мене страх во удесех…
Малость неприлично, ну так ведь частушки же. Зато концептуальненько и честно.
…Бред какой-то. Потому как ни про мима, ни про частушки точно не кричат, уж такое бы мы расслышали. Но ни слова. А кричат, и шепчут, и лёгкими подзатыльниками направляют в… а вот не скажу куда. Там ничего неприличного, но незнакомо, непахано и боязно. И — только тсс! — нам туда самим давно хочется, но вот деньги, денежки, бабосы, бабулечки… К непустому карману привыкаешь, знаете ли, и он становится мёртвым якорем, ни тебе вверх, ни даже в бок. Наверное, это было единственно возможное решение: оторвать якорную цепь к хренам. А мы ж ничо, Сверху виднее. На всякий случай сегодня напросился к священнику, изложил, спросил: а мы себя случайно не самообманываем? Тот глянул хитро, с минуту молча крутил баранку (дело было в машине), вздохнул и изложил свои соображения. Совпало почти дословно. Потом долго пили чай с итальянским хрустящим печеньем («Батюш, вот только не ручаюсь, что постное: там даже по-английски не написано…» — «Сейчас гляну… сейчас… не, не разобрать… ай, да какое нынче молоко, название одно… будем считать, что постное…»), перебрасывались мыслями. Короче, благословил.
Всё. Завтра отдаём последний заказ. Совсем последний. И выходим из зоны комфорта. Держите там за нас кулачки.
PS. Печенье всё ж таки оказалось постным, ближе к вечеру разобрали итальянские каракули.
Цукер
Бесит
Ненавижу слово «бесит», оно слишком точно отражает суть состояния, а само состояние мне неприятно.
Бесит, когда люди на больших джипах приезжают на сексодром за оврагом, занимаются там всякими глупостями, а, уехавши, оставляют после себя всё, что угодно, даже банки из-под детского питания — кучами, кучами. И те, кто приезжает на зелёной «буханке», поступают точно так же. И на бежевом рено. Бесит, потому что: 1) мусорка в трёхстах метрах, и ехать мимо неё по-любому; 2) через пару недель опять приедут, самим же неприятно будет, ну! Особенно бесит, когда бьют свои бутылки. И так убирать всё это страшная морока, а тут ещё и мелкое стекляное крошево, поди-ка выбери из травы.
А Бочарова говорит, набивая жёлтый стодвадцатилитровый мусорный пакет:
— Нет, ну давай логически рассуждать. Ты этим постом кого-нибудь в тюрьме посетил? К болящему зашёл? Может, дитё усыновил? Ну и как собираешься спасаться? Спасибо скажи, что Там, Наверху, нас не забывают, хоть такую возможность подкинули. Да тут работы-то на пару часов…
…Ещё бесит чужая музыка, будь то шансон в маршрутке, вьюноши, сосредоточенно слушающие в электричке что-то пубертатное по телефону без наушников или соседи через дорогу, производящие хозработы исключительно под рэпчик из распахнутых дверей автомобиля.
Про шансон Бочарова говорит: «это для смирения», про юных меломанов: «сам такой был», а про соседей: «скажи спасибо, что не радио «Губерния».
Женская логика, да?!
Невыносимо бесит горящая трава по обочинам; ладно бы трава, но ведь все лесополосы выжжены, как будто напали враги и плеснули напалмом. Этих бы поджигателей, нет, не штрафовать, их бы носом возюкать по горячему пеплу, пока!..
— Не смотри в окно, — говорит Бочарова, страдая от выражения моего лица, — пожалуйста, не смотри. На меня смотри. Видишь? Это я.
Ещё она так всякий раз говорит, когда едем мимо пятого микрорайона или вдоль точечной застройки по Фокина. Я, бывает, даже скулю в голос — так бесят и застройщики, изничтожившие мой город, и покупатели квартир в этих гетто, обрекающие собственных детей на жизнь среди машин, асфальта и использованных шприцов в песочнице пластикового детского городка.
— Не смотри, — говорит Бочарова умоляюще, — на меня смотри.
И даже за руку берёт. Я перевожу взгляд на неё, и мы начинаем говорить о том, как всё обустроим, когда мне наконец дадут миллиард долларов. Сначала я рассказываю, как правильно и быстро разорить корыстных застройщиков и вернуть город людям, но Бочаровой эти выкладки не близки, и мы переходим к плану Б, а именно: к совершенно автономному посёлку, в котором будут жить только самые нужные сердцу люди.
…Чую, не будет никакого посёлка. Как только миллиард дойдёт до адресата, Бочарова скажет: вообще-то изначально ты собирался строить хоспис. И теперь что? Потратишь на всякую автономную блажь? Ты себе ещё остров купи…
Впрочем, покамест насчёт миллиарда чо-то тихо. Боюсь, Там, Наверху, сильно подозревают: первое, что этот сделает, получивши миллиард, — создаст спецотряд, чтобы возюкать людей носом по горячему пеплу.
Поэтому завтра мы снова пойдём собирать битое стекло и пластик. Надо же дать шанс Тем, Наверху, когда-нибудь пустить нас туда, где живут только самые нужные сердцу люди.
Цукер
Заповедь №6
В общем, если коротко: я не убил Васю. Убивал, но не убил.
Дело было так. Студия моя находится аккурат под рабоче-крестьянско-студенческой столовой. Это удобно, поработал — поднялся на два пролёта — скушал две рыбки под овощами с сыром, плюс гарнир. И компот. Иногда в столовой проходят мероприятия: поминки, юбилеи, свадьбы. Я недавно был там на поминках очень, очень хорошего человека. Было грустно и светло. В общем, у нас со столовой полный симбиоз и взаимопонимание.
Перед студией у нас со столовой общая территория, маленький тёмный аппендикс, давно не знавший не только ремонта, но и веника. Во время мероприятий, ближе к концу, в него, бывает, вваливаются нетрезвые люди, чтобы покурить или побазарить за жизнь. Они не догадываются, что здесь, за железной дверью, тоже люди. По вентиляционной трубе, толстой жилой соединяющей оба помещения, звук поступает прямо мне в темя, делая невольным слушателем необязательных бесед. Ну и ладно, по вечерам бывает скушно в тишине сидеть за монитором, и я додумываю собеседникам внешность и мимику, но никогда не проверяю: совпало ли? Да и как проверишь? Представьте: курите вы с приятелем в тёмном закутке, трепетесь о том, о сём, вдруг глухая стена разламывается, из неё бьёт поток света, высовывается чья-то рожа, внимательно осматривает присутствующих — и опять темнота. Так и до инфаркта недалеко.
Двадцать, как сейчас помню, первого декабря в столовой играли свадьбу. Часам к восьми в аппендикс ввалились несколько девчонок, захлопнули дверь и задышали быстро-быстро. Ага, невесту спёрли. Пока наверху шумел кипеш, заговорщицы обсуждали сложившееся положение, а я старался представить себе их лица. Голоса были уже сильно тронуты недорогими сигаретами, но довольно-таки ещё нежные, девичьи, но толстый слой обсценной лексики, густо намазанный на тонкую корочку печатных местоимений и глаголов, рисовал однозначную картинку: судя по всему, за дверьми должны были стоять ядрёные девушки с городской окраины. Такие, знаете, с мощными икрами.
Всё бы ничего, подростком я матерился и погуще, но один из голосов (по всем раскладам выходило, что это была невеста) сообщил, что… эээ… как бы это… в общем, ей очень нужно в туалет по-маленькому. И на несколько секунд наступила тревожная тишина. Тут бы мне и шагнуть из света в тьму, но даже представить себе невозможно, что должна бы почувствовать невеста, писающая на пол столовой, в тот момент когда из стены вдруг выходит посторонний мужик и говорит ей, например: а чо за ботва? Кроме того, я двадцать пять лет снимаю свадьбы, в том числе и с городских окраин, и за двадцать пять лет ни одна невеста такого трюка не проделывала, даю слово. Просто по той причине, что все невесты мечтают быть принцессой, а принцессы не писают на пол столовой в двадцати шагах от туалета, априори. Да нееет, почудилось, решил я.
Тревожная тишина прервалась, девчонки снова защебетали, забегали туда-сюда, но тут в двери ломанулись не на шутку и суровый мужской голос сказал: выходите, я чо, зря тут пол-часа все подвалы обшариваю? Это, конечно же, был Василий, и дорисовывать ничего не нужно. Всякий человек, посетивший две-три свадьбы с городской окраины, знает, что на свадьбе обязан быть Василий, иногда даже не один. Как правило, это не очень мощный паренёк в рубашке в облипку, в таких же брюках и востроносых донельзя туфлях, стриженый почти под ноль, но непременно с прямым прореженным чубчиком. Но дело не во внешности, а в том, что в какой-то момент в силу особенностей менталитета Василий попадает в параллельную реальность. Это очень опасная реальность. Явиться на свет она могла бы, если бы сериал «Игры престолов» вступил в интимную связь с сериалом «Зона». В этой реальности похищение невесты лучшими подружками из весёлого конкурса превращается в полный опасностей квест, конечная цель которого — найти и отбить украденную драконом принцессу. Ради спасения девы Василий готов отдать жизнь — и это не метафора. В крайнем случае, он в состоянии приволочь принцессу к суженому за волосы. Но даже принц не в состоянии остановить рыцаря, когда он обнажил меч. И невеста, и её подружки прекрасно знали эти нюансы, и, плюнув с досады, молча пошли сдаваться.
Посидевши сколько-то времени в тишине, я вышел из студии. Худшие ожидания подтвердились, прямо перед дверью расплескалась порядошная лужа. Мне бы матюкнуться, запереть дверь и пойти домой. Но я пошёл на второй этаж. Вот спросите: ты зачем это сделал? Ты хотел, чтобы невеста, подоткнув подол, вымыла пол? Отвечу: да вряд ли. Просто так охренел от увиденного, что на какое-то время перестал соображать. Кроме того, нестерпимо хотелось посмотреть на невесту и сравнить с представленным образом.
Скажу сразу: ваще не угадал. Никаких мощных икр. Хрупкая, тёмные глаза трепетной лани, прямая спина, длинная шея, белоснежное платье колоколом. Настоящая принцесса. Тут бы развернуться и уйти. Но я спросил низким, хорошо поставленным баритоном (такой случается внутри человека, если сильно охренеть):
— Девчонки! А вот кто сейчас там, внизу, невесту прятал?
— Я прятала, а что? — отвечала одна тревожно. Тоже не угадал; худенькая, ладная, платье по щиколотку. Практически трезвая.
— А можно Вас буквально на одну минуточку?
Спустившись на пролёт и сообразив, к чему идёт дело, подружка, пискнув, умчалась обратно. А Вася пошёл до конца.
Теперь спросите: а ты вот зачем вообще с ним стал общаться? Нету ответа. Вместо того, чтобы сказать ему: дружище, у меня было дело конкретно к девчонкам, а ты ступай себе с Богом, я зачем-то указал на улики и даже пояснил, мол, вот тут прятались похитители с невестой, после чего осталась лужа. Мне это неприятно.
В этом месте есть причина сказать слово в защиту рыцаря. Как бы ни была темна реальность, в которой он находился, даже в неё категорически не вписывалась картинка с писающей, как лошадка, принцессой. Ну не бывает так ни в одной из реальностей! И Василий решил, что обвиняют его. Объясниться не было никакой возможности, ибо, услышав такой неслыханный поклёп, рыцарь вполне мог забежать в зал и закричать прямо в микрофон: я тут одного чмыря ухайдокал, потому что он вон в чём принцессу обвинял! А такого завершения свадьбы невозможно пожелать никому.
Состоялся долгий, утомительный разговор, в котором фигурировали оставленная дома заточка, непогашенная условная судимость и прочие атрибуты той части квеста, которые пришли из сериала «Зона». Во время беседы договаривающиеся стороны интенсивно играли в гляделки, любимую игру семиклассников, и оказалось — опять не угадал, чубчик отсутствовал напрочь. В глубине светлых Васиных глаз хорошо просматривались куски разбитого зеркала тролля размером в три-четыре карата.
Надобно сказать, автор данного текста всю юность провёл в маленьком белорусском городке, где каждый пятый житель проживал в параллельной реальности, не выходя даже на покурить; прибавьте к этому шестьсот отснятых свадеб. В результате к сорока четырём годам я стал весьма спокойно относиться к Василиям. Не то, чтобы они были безвредны, говорю же: жизнь за невесту отдать — раз плюнуть, но всё ж таки, соблюдая минимальные меры безопасности, а именно спокойствие, спокойствие и ещё раз спокойствие, всегда можно дождаться момента, когда пыл угаснет сам собой.
— То есть, ты извиняешься? — спросил рыцарь.
— Да не то слово! — подтвердил я.
— Передо мной конкретно извиняешься? — уточнил Василий.
— Именно конкретно перед тобой, ваще капец! — отвечал я тем более искренне, что действительно, не он же надул мне под дверью.
Что-то в моём тоне не до конца удовлетворяло собеседника, но тут прибежал со свадьбы спасительный взрослый гость и увёл рыцаря вдаль под крики «Но он же сам вот извинился, спроси же вот его самого!»
Тут бы и закончить этот никому не нужный рассказ, но через пару дней раздался звонок, и на другом конце незнакомого номера суровый мужской голос произнёс:
— Ну, привет! Узнаёшь меня?
— Нет, — отвечал я безмятежно, убирая ненужную тень под глазом очередной невесты.
И собеседник высказал всё, что накопилось в его израненной душе за те пару дней, что он добывал номер моего телефона. Ни один газетный лист сказанного не потерпит, но в приличном обществе за такие слова как минимум убивают заточкой, несмотря на условную судимость.
— Дружище! — отвечал я, старательно не выпуская из голоса безмятежности, — и Вас с Новым годом! Щастья, здоровья, деток побольше, мама чтоб не болела, и всё такое!
— Ну, и тебя с Новым годом — отвечали на том конце провода, несколько утратив напор.
Я, положивши трубку, занёс номер в чёрный список и немедля принялся убивать Василия. И потратил на это никак не меньше недели, с перерывом на сон. При этом точно чуял: где-то на другом конце города худенький светлоглазый мальчик так же яростно убивает меня. Получалось, всей разницы между нами: у него нет чубчика вовсе, а у меня их штук пять, смотря по погоде.
Дорогие британские учёные! Говорят, вы прошлым годом разработали машинку, которая позволяет видеть сны человека. В связи с этим у меня к вам огромная просьба: пожалуйста, спалите её к едрене-фене! Никому, вы слышите, никому не следует видеть то, что творится в человеческой башке. Например, если спроецировать мои тогдашние мысли на большой экран, можно было бы насладиться закольцованным сериалом, визуально устроенным как самая дешёвая и зубодробительная из частей саги о Риддике, но гораздо страшнее, потому что действие происходит не в отдалённом будущем и не на отдалённой планете, а здесь, в нечерноземной полосе, и сейчас, хренадцатого декабря дветыщщитринадцатого года. В оправдание могу сказать, что не все серии заканчивались гибелью Василия, всё ж таки остатки православия в горящей душе давали о себе знать, и тогда со смиренно-скорбным глазами мученика уходил в вечность автор сериала, но в любом случае моральная победа оставалась за нашими. И это-то и было самым паршивым. Не пробовали побеждать кого-либо неделю подряд? И не пытайтесь, это похоже на перманентный приступ тошноты при пустом желудке.
— Что ты там всё время бормочешь? — спрашивала Бочарова.
— Господи, помилуй, — отвечал я, скрипя зубами.
— Помогает?
Я мотал головой, не разжимая челюстей. Бочарова вздыхала и уходила клеить альбом. Я женат на самой мудрой девушке в мире, факт.
Помиловали ровненько перед Новым годом, даже помню когда и где: возле советской «Линии», в тот самый момент, когда продавец оборачивал капроновым шнуром мохнатую разлапистую сосёнку для мамы, за триста рублей. Война вдруг вышла из груди и из мозга, как словно бы вытащили ржавый ненужный гвоздь из столешницы. И сразу пришли нужные слова. Вот они:
«Добрый человек! Вы несколько дней назад звонили мне и ругали по-чёрному. Не знаю, кто Вы, и чем огорчены, но очень не хочу уходить в Рождество, зная, что кто-то мною так смертельно обижен. Искренне прошу прощения за свои слова или поступки. С Рождеством!»
Послал смс-кой, от греха.
Цукер
Трусливому дай коня
…В этот раз точно не…
…Ну погоди, дай я…
…Ну дай же сказать, ну! Можно? Спасибо. Прошу учесть, что в этот раз точно не мой косяк. Серьёзно. Это Петренка меня настропалила, а так-то я вообще уже месяц был как удав: медленный, мощный и спокойный. Главное, мы с ней, одновременно этот пост в ЖЖ прочитали, там одного френда спросили: а вот вы ещё в марте всю нынешнюю апокалиптику предсказали тютелька в тютельку (ссылка на мартовский пост). Тогда рассказывайте, что будет в следующем году, раз вы такой футуролог. Он и рассказал. Фигово будет, даже и не сомневайтесь, рассказал. Если подвал есть, слушайтесь маму-папу, затоваривайтесь по советскому варианту: крупы, картошка, масла, соль, спички, чо там ещё… И готовьтесь, все и всё вокруг станет жёстче. Сходите в спортзал, пусть тренер поставит вам пару ударов. Пригодится.
Ну, и всё такое. Я, не поверишь, прочитал — и ничего. Даже про постановку ударов. Ничего. Не занервничал. Иммунитет, что ли, какой-никакой образовался, или накипь, там… Короче, повёл себя здраво.
Но Бочарова вечером возьми и скажи: а Петренка сегодня N читала, такой ужас… Я говорю: тоже читал. Ну, ладно, давай купим гречки, что ли. А Петренка из-за бочаровского плеча: а ствол гладкоствольный в дом ты тоже купишь? Какой-такой ствол, говорю? Зачем ствол? А она: так N же считает: не помешает…
То есть, я невнимательно пост прочёл, по диагонали. Организм, наверное, навострился за последний год пропускать самое психическое.
И вот тут меня накрыло, да. Но это чисто из-за Петренки!. Потому что вдруг так ясно представилось: у нас дома железный шкапчик, и в нём двустволка. И если что, я шмаляю с обеих стволов. Того, в кого шмаляю, не представилось. Он покамест виртуальный персонаж. Зато окна… Ты же знаешь, у нас с севера и с юга окна огромные, на два этажа, от цоколя до крыши. Когда мы их планировали, мы планировали внуков растить, а не шмалять с двух стволов. В общем, они же разлетятся от одной дробинки, вдребезги. А если зима? Да пусть даже и лето, один хрен… пардон…
И как-то сразу всё посыпалось… Ладно, завтра поедем, купим большой пластиковый бак, он копейки стоит, набьём бакалеей, закроем от мышей и жучков, пусть стоит. Картошку бы нужно из городского подвала в дом перевезти, но попозжа, если вдруг…
Печка есть!!! Есть печка. Бочарова ещё спрашивала: точно нужна печка? Прям точно-точно? И я всегда отвечал твёрдо: без печки не согласный. Потому что вон что. Надо.
Генератор на пару с Серёгой купили ещё весной, проверили, два дома тянет. Бензин… ну, не цистерну же прикапывать… может, будет всё ж таки бензин… Ха, один знакомый в ГДР служил, в гарнизоне. И когда перестройка началась, они с немцем-приятелем прикопали пару цистерн дизельного, что ли, топлива. Под шумок, когда часть в Россию комплектовали. И, представляешь, года через два туда вернулся, немец оказался честным — вскрыли хованку и потихонечку продали желающим. «Вот так и появился у меня стартовый капитал», всегда заканчивал эту историю знакомый. Круто, да? Но не вариант, факт… Зато дров — целый лес. Всё равно эти осины уже грибом проедены, их так и так валить.
Профессия у меня, конечно, дебильноватая. Ну кому нужен фотограф в век, когда фотографируют все и всем? Да и просто, кому нужен фотограф, если в каждом доме железный шкапчик с гладкоствольным оружием? Но тут, извини, конечно, я уповаю, как сказано: если птиц кормит, неужели о вас не позаботится? Недавно сериал смотрел… дурацкий, конечно, но нужно же что-то смотреть… там, значит, один хрюндель, его Чарли Шин играет, всю жизнь писал музычку для рекламных роликов, и на этом деле жил себе припеваючи. А потом вдруг все стали брать для роликов популярные мелодии, и заказы пропали, как отрезало. И брат этого хрюнделя, лузер и зануда страшный, стал сильно нервничать и кричать: ищи работу, ищи работу! А Чарли Шин только рукой машет и говорит: ой, да ладно, что-нибудь подвернётся, всегда подворачивается… И в конце концов бывший муж его любовницы, продюсер, услышал чарлишиновские детские песенки, такие, знаешь, совершенно идиотские, которые детям нравятся до посинения. И раскрутил, как детского композитора. Сколько-сколько за концерт, спросил брат, сорок тысяч? И чуть себе бошку битой не разбил. Это я всё к тому, что про птиц — моя любимая цитата, и если не уповать, то можно я сразу вызываю такси и в дурку сдаваться? Ты же в курсе, страх — это моё основное чувство, с детства, а когда на тебе три старушки, жена, две девчонки и четыре кошки, сжирающих за день половину кабана… и, да, ещё собака безо всех ног… страх хватает за горло даже сильнее, чем в детстве, когда ночью вдруг проснёшься и подумаешь: а вдруг американцы всё ж таки начнут ядерную войну?
…Войну, война, войною, о войне… Сработала примета, да? С грибами? Три года подряд пёрли как не при памяти, никогда такого не было, все собирали и только шушукались: перед войной так было, перед войной… А в этом как обрезало. Кто-то что-то, говорят, успел ухватить в начале сентября, но не я. Спасибо Никите Михалкову, сухих грибов ещё остался четырёхлитровый жбандель. Бочарова хохочет: как тебе бесогоновские грибочки, горло не корябают? Не корябают, уже третий год не корябают: родственница работала реквизитором на михалковском фильме — ба! Да это же был как раз «Солнечный удар»! Дадада! В Швейцарии снимали как раз, ну! Вот ведь… Нужно было изобразить ярмарку, и чтобы всё по-настоящему, как встарь, скупили для ярмарки все сушёные грибы на московских базарах и увезли в Швейцарию. А потом раздали персоналу. Но, между нами, вышла Никите Сергеичу дуля, а не по-настоящему, ибо встарь грибы сушили целиком, а эти все нашинкованные. Но вкусные, зарраза, врать не стану. Хе-хе, смотрит сейчас, скажем, Путин, новый шедевр мэтра, а грибочки-то у меня, в жбанделе!
…Слушай, а трусость разве грех? Я почему спрашиваю, сейчас поветрие такое, что ли, — запостить мажорную цитату, и чтобы она обязательно заканчивалась как-то этак: «ибо страх — величайший из грехов!» Ты-ды-ды-дым! Брехня же, да? Ты же такого не говорил? Или говорил, а я пропустил мимо ушей? Ты-ды-ды-дым… Бочарова тоже не помнит. Только — уныние смертный грех. А от страха до уныния… Но я же держусь, я же ничо. Вот текст пишу, весёленький такой, бодрячком, бодрячком.
Ты же понимаешь, не неустройство пугает до полусмерти. Ой, ну жили мы двадцать лет огородом, пять талонами. Ну, посадим весной картошку, курей заведём… я на овец намекаю, но Бочарова пока что у виска пальцем крутит. А зря, у нас в Пади травы пропадает, море. Это ладно, это ништо. Я, понимаешь, сильно боюсь, что когда нужно будет шмалять из двустволки, печь топить из последних сил, животных усыпить, чтобы не мучались от голода, ставить монументальный забор вокруг дома или, наоборот, бежать по тёмной улице, ожидая топора в спину — я сильно не уверен, что буду бежать с «Господи, помилуй», а не с «твою же ж, городового иппонского, раскосую мать!»
Блин, в словах запутался… Сейчас, попробую одним предложением… Вот: страшно, что страх будет настолько велик, что перекроет горизонт, и я перестану всматриваться, пытаясь увидеть Тебя, и останусь в полном одиночестве. Помнишь, года четыре мне было, и бабушка повела в амбулаторию, сдавать кровь из пальца, и пообещала купить шоколадку, если дамся в руки палачам в белых халатах. И это было так беспросветно страшно, так беспросветно одиноко, что даже опытные медсёстры через час битвы сказали: бабушка, уводите этого припадошного, он всё равно в руки не дастся. И мы пошли домой, бабушка была не на шутку сердита, а я сказал: ты обещала шоколадку… Она обернулась, чтобы воззвать к совести и логике, посмотрела… и купила «Алёнку». У неё было два класса образования. Не знаю, к чему вспомнилось.
В общем, есть личная просьба. Когда горизонт схлопнется, Ты его, пожалуйста, аккуратно возьми двумя пальцами и сдвинь буквально на миллиметр, да? Буквально чисто намекнуть: там, за, ещё кое-что имеется. И я тогда сразу стану весь, как Чак Норрис и Джеки Чан; нет, как Нео из «Матрицы» — руки вширь и пофиг агенты Смиты. Я бы их в упор не видел, а только вверх, только вверх.
Цукер
В чём правда, брат?
…и, послушай, вот потом? Потом, да? Найдётся время, чтобы рассказать мне, как всё было на самом деле? Вот тут у нас всё, обо что мы головы сломали, размышляя?
Например, эта война. Я, наверное, смешной и нелепый, если смотреть сверху, да? Да нет, не обижаюсь… Действительно, смешно и нелепо: с кем бы ни заговорил про Украину, всегда оказываюсь противоположного мнения. Причём совершенно искренне! Никакого лицемерия, никакой шизофрении, сплошная логика. Аргументов для любой точки зрения — твёрдых, полновесных — море, гигабайты информации, карты, снимки, свидетельства очевидцев… Результат — мозг верит всему сразу, одновременно. Давай, протестируй прямо сейчас, давай.
Версия 1. У нас коллективная паранойя размером 86,64% и имперские замашки. Мы зомби, остальной мир смотрит на нас, как человек, обнаруживший у себя в машине, на скорости 140 км\час, в крайнем левом ряду, бешеную крысу. Ни остановиться, ни вышвырнуть, ни выпрыгнуть самому. Аргументы, доказательства, аналитика? Море.
Версия 2. Нас не любят, потому что не любят, долгая история, так сложилось. Нас боятся. Нас хотят притоптать — просто на всякий случай, для спокойствия. У США имперские замашки. Путин гэбэшник, у него все козыри записаны, он только парирует удар за ударом. И не нужно никакого телевизора, просто погугли и составляй свою личную карту ползучей интервенции.
Версия 3, самая многообещающая. У всех паранойя. Все друг друга боятся. У всех имперские замашки. Спецслужбы — лохи. Никто ничего не понимает, но что-то же нужно делать?! Каждое действие вызывает противодействие, они слиплись в толстый ком, и он катится на нас, наматывая на себя наши жизни. Это даже гуглить не нужно…
Версия 4, самая приятная. У Путина есть духовник. Всё неспроста. Тут гуглить бесполезно, но очень успокаивает.
…И это ещё про масонов не вспомнил! Кажется, в масонов я теперь тоже верю. Серьёзно.
И вот мне сейчас очень важно знать, где здесь правда? Или это не все версии? Или нету никакой такой правды, а есть только ворох векторов, по которым движутся человечьи жизни, и куда больше двиганётся, туда и волочёт нас всех коллективно. Физиономиями об асфальт…
…Духовник (наш, не Путина) давеча говорит: а вот и не шарься по интернету! Можешь? Ну, давай, до Пасхи. Слабо? Да не слабо, чо. Я, например, в фейсбук уже пару месяцев ни-ни, честно. Прочитал интервью с Германом-младшим, он говорит: да притомил уже фейсбук со своими истериками изо всех лагерей… Говорит, на фейсбук больше не ходок, из гуманитарных соображений. Я тут же стал себя анализировать — точняк! Как залезу с утра, так весь день и хожу с проломленным черепом. Нафиг, нафиг. И новости теперь из чего-нить нейтральненького аккуратно выковыриваю, майл.ру какой-нибудь, газета.ру ещё неплохо идёт. И сразу полегчало.
Так что сорок дней без новостей до Пасхи — просто таки на ура. Теперь главное — аккуратно перемещаться в пространстве, избегая включенных телеприёмников. И жену глушить подушкой, когда она с утра ныряет под одеяло и с места в карьер: «А Собчак из страны уехала! Ей знающие люди посоветовали». И прямо можно дышать, да…
…Мне сегодня дочь говорит: подставлять правую щёку — это мерзость и глупость! А как же, говорит, гордость и человеческое достоинство?! Ещё говорит: может, Он зря за нас на крест пошёл? Мы ведь нисколько лучше с тех пор не стали… И вышла из маршрутки, побежала на свою гитару. Ты не расстраивайся сильно, а? Пятнадцать лет, поиски смысла, все дела… Со дня на день, глядишь, возьмёт Кортасара, и в поля, в поля, читать… или кого они там сейчас читают?
Дочь, конечно, вышла, а я-то поехал дальше, скорчившись на сиденье. Даже забыл перекрестить на дорогу.
Знаю, знаю, это мне спецпендель, чтобы не воображал себя Отличным Отцом. Всё теперь не воображаю, благодарствую за урок. Но так и хожу весь вечер скорчившись: бооольно, блин… Хорош папаша, за пятнадцать лет не удосужился объяснить на пальцах, зачем подставлять и за что на крест.
Это всё от привычки, да? Я ведь с такими же убойными вопросами носился, помнишь? Помнишь, как к священнику подкатил со списком укоризн? А он: давайте по порядку. Написано — Бог есть любовь, так? Так. Значит, давайте сами спасаться, а уж некрещёных китайцев Он как-нибудь сам упорядкует, но непременно по любви, даже и не сомневайтесь.
Очень странной тогда эта логика показалась. Теперь — как дышать, не задумываясь. И вдруг здрасьте: гордость и человеческое достоинство. Я же помнил ответ… долго помнил, именно словами… Но за двадцать лет слова вошли внутрь, вросли и стали частью целого. Это как телефон:
— Ух ты! А как это работает?!!!
— Эээ… блин, мы же в школе проходили… там две мембраны такие… слушай, забей, а? Нажимаешь вот тут кнопку, потом вот так вниз, потом ещё раз зелёненькую, потом «алло, это я, Вася». Как-то так.
Пришло время доставать конспекты, да? Ладно, я готов.
…Кума туда же, добивать старика. Я ей:
— Есть у меня надежда, что когда мы оттуда, Сверху, на всё это станем глядеть, нам это будет — ну как сейчас подковёрная борьба в средней группе детского сада №4 г. Минеральные Воды. Только гораздо неважнее.
А она сразу:
— Если оттуда, Сверху, даже война будет казаться нам детским садом — нафига оно вообще все? И есть ли что-то важное, ценное, непоправимое и прочее, прочее? Это же война. А если мы станем оттуда смотреть на братоубийство и хохотать, то на что же, к примеру, мы станем глядеть со слезами? с умилением? Тогда как бы выходит, что Сверху все, что тут — пыль и тлен? Тогда сразу замкнутый круг — раз пыль и тлен, значит все дозволено, все равно ж будем потом сверху хохотать. А я так не согласна. И не читать фейсбук — это паллиативное лекарство, вот!
…Ну и пусть паллиативное. Я лично здесь вечно жить не собираюсь, так что мне сейчас даже цитрамон — паллиативное, чтобы башка не болела, пока не помер. И что там смешного, в этом детском саду, чтобы хохотать? Манная каша с комочками? Тихий час? Мама на работе задерживается? Февральский снег клочьями за тёмным окном и пустая группа? И квинтэссенция: «Марь Иванна, а Васька леееезет!» Что там смешного? Просто мы выросли. Это нужно было пройти. Это ушло.
…Главная же ерунда именно с правдой именно сегодня — такое ощущение, что она никому уже не нужна. Например, выйди завтра человек в прямой эфир, и скажи: это я сбил Боинг, простите меня, люди добрые… Неважно, какой человек. Русский солдат, ополченец-сепаратист, украинский лётчик, полковник ЦРУ. Неважно. Ему ведь поверят только те, кому в данный момент выгодно поверить. А? Оппоненты, те только плечами пожмут: ну и сколько тебе заплатили за эту страшную ложь, иудушка? Или даже плечами шевелить не станут, типа «да, никакого химического оружия в Ираке не обнаружено. И ч-чо?». Или «да, вежливые человечки были нашими спецназовцами. И ч-чо?».
Потому, наверное, в мозгах моих и открыты настежь все ворота. Во-первых, чтобы не закипели. Во-вторых, чтобы не упустить Самонастоящую Правду. Если вдруг выскочит. Автоматический режим безопасности называется.
Прости, совсем запутался. Самонастоящая правда, она же не так пишется по техпаспорту, да?
Моего любимого актёра Стивена Фрая, гей-икону и воинствующего атеиста, как-то спросили:
— А вдруг — ну, вдруг! — Бог есть? Что вы скажете Ему при личной встрече?
— Я скажу ему, — отвечал Фрай, — как тебе не стыдно! Ты сделал Вселенную, в которой невинные дети умирают от рака. Объясни, зачем?!
Веришь? Я догадываюсь, каким взглядом Ты посмотришь на взъерошенного человека со свёрнутым набок носом. Взглядом толстого усталого священника-гуцула, которого я донимал двадцать лет тому назад. А потом, наверное, покажешь что и как устроено в Твоей Вселенной, и это будет именно самонастоящая правда. Её ещё называют истиной.
Кстати, я вспомнил ответ на вопрос Фрая, словами вспомнил! Он такой: Ты не делал Вселенной, в которой дети умирают от рака. В ней вообще никто не должен был умирать, ни дети, ни старики, ни от рака, ни от камнем по башке. Идеальная была конструкция, чего уж там. А потом мы влезли в неё допреж времени своими крепкими, но неумелыми ручками, перепутали провода, выломали предохранители, и как ломанулись… Теперь остаётся только бежать за нами вприпрыжку, отнимать особо большие палки, вытирать особо длинные сопли, раздавать спецпендели во спасение души и ждать, ждать: вот ещё один посмотрел вверх, ура! Все машем ему ручками, сильно-сильно машем. Трогать не рекомендуется, ибо обещали же свободу выбора.
Вот уж Фрай порадовался бы такому нелепому ответу…
Знаешь, что? Ну её, эту правду. Пустое. Лучше — если можно — останови нас всех в очередной раз, а? Очень нужно. Уж больно длинные палки в руках.
Всё, больше не отвлекаю, всё. Побегу зубрить матчасть. Дочка растёт, такие дела.
Цукер
Очко
Предыстория.
Значит, так. Мы живём в посёлке Малое Кузьмино, на самой окраине Советского района города Б-ска. У нас даже в паспортах записано: Советский район, но весь мир уверен, что Малое Кузьмино — это какой-нибудь Фердыщенск-Пржевальский на краю пятого кольца Больших Гребеней. Недавно на сходку жителей приезжал один из действующих мэров Б-ска и прямо так и сказал: нас в городе восемнадцать мэров, и ни один из нас не знал, что в Советском районе есть микрорайон Малое Кузьмино. Ща, говорит, поеду, расскажу пацанам, пусть поржут. Мы даже таксистам говорим не «Проезд Зиновия Гердта, пожалуйста», а «Как фонари закончатся — вообще! — пятьсот метров вперёд и направо. Там лужа, но не бойтесь, ямы нету, просто лужа». На перекрёстке Гердта и Смоленской трассы каждый год гибнет один-два человека, и это совершенно серьёзно. Умирают люди, пытаясь перейти федеральную трассу в полной темноте и без пешеходного перехода, чтобы сесть на маршрутку. Маршрутки, конечно, есть, слава Партии и правительству, но их же ещё нужно поймать.
И тут вдруг приезжает бульдозер и начинает ровнять крайний угловой участок, который вроде как кому-то принадлежит, но не застроен. И семеро человек в спецовках, наблюдающих, как бульдозер жужжит и ползает, роняют нехотя, сквозь зубы: остановка у вас тут будет… не, не знаем… чо-то пустят, нам не говорили… И даже привозят пять камазов крупного щебня, разгребают ковшом.
Всё Малое Кузьмино ходит на цыпочках, чтобы не спугнуть.
Бульдозер уезжает, семеро тоже. Через неделю появляется хозяин территории и, натурально, охреневает: фига се Дедушка Мороз нам щебёночки привёз. Он, быть может, рассчитывал в старости клубнику на шести сотках выращивать, а теперь только ягель выходит. Поскольку узнать, чей был бульдозер, и чья щебёнка — невозможно даже при помощи ФСБ, хозяин натягивает на въезде верёвочку и вешает на неё плакатик, мол, частная собственность, участок номер такой-то, адрес такой-то, звоните по телефону такому-то. Уезжает.
Твою дивизию!, говорит всё Малое Кузьмино.
Приезжают бульдозеристы, читают всемером плакатик, чешут в затылках. Но они же не дураки, чтоб звонить! Тем более, деньги за работу уплочены. Уезжают и наведываются раз в неделю, глянуть, не изменилось ли чего. Ближе к осени плакатик таки срывает ветром. Ф-фух, говорят бульдозеристы, наконец-то! Наверное, хозяин помер. Или подарил участок городу. Или город оттяпал участок через суд. В общем, очевидно же, что всё решилось, раз плакатик исчез. И заливают щебёнку асфальтом. Толстым слоем.
Так-так-так, потирает руки Малое Кузьмино.
Приезжает хозяин. Продавливает в асфальте глубокую ямку, упав в обморок. Бедный человек больше ничего не пишет, но пригоняет наутро своих бульдозеристов и к вечеру получает на руки асфальтовую площадку 15х20, огороженную забором из новенького листового железа.
Етит твою растудыть, говорит всё Малое Кузьмино.
И незачем так орать, говорят семеро бульдозеристов. Нельзя, так нельзя, тем более, деньги за работу уплочены. И разравнивают новую площадку в лесополосе, аккурат вокруг столбиков с надписью «Газ! Строительных работ не проводить!», или что там обыкновенно пишут на столбиках над газовой трубой.
Да пофиг!, кричит всё Малое Кузьмино, оно ещё, может, и не рванёт, а людям в город не уехать по часу!
Привозят ещё пять камазов щебня, кладут ещё толстый слой асфальта, делают остановку, ставят деревянный туалет типа очко.
…ну-ну-ну, шепчет Малое Кузьмино, вытянувши шеи.
Через три дня туалет бесследно исчезает. Спёрли, и как бы не сами семеро бульдозеристов и спёрли. Ну кому, посудите, нынче нужно воровать деревянный туалет? А бульдозеристам — нужно, они его на другой остановке поставят, и снова денежек получат.
…Теперь вы понимаете, почему наш город — банкрот?
Зиму Малое Кузьмино ходит в трауре, а пятого марта к нам официально запускают два маршрута! Одиннадцатый и пятёрку! Уррра!!!
Маршрутчики, что характерно, нам не рады. Оно им надо — плюс три километра, минус магазины и туалет?
В этом месте я говорю Бочаровой: слушай, говорю, Бочарова. Как-то у меня этот Великий пост совсем уж вяло идёт. Скоромное не жру с лёгкостию, привык. Душевной работы ноль. Нищим не помогаю, больных не посещаю, в тюрьму уже год собираюсь накопившиеся журналы отнести — и недосуг. Я, знаешь, говорю, как решил спасаться? Я маршрутчикам туалет сделаю, своими руками. Тем более, они летом нам такой амбрэ устроят — фабрика «Снежка» от зависти схлопнется.
Бочарова посмотрела внимательно, помолчала секунду. Делай, говорит, чо.
*Лирическое отступление. Мой юный друг! Если ты вдруг надумаешь жениться, то лучший тест на верность — подойти со спины и сказать: дорогая, я тут собираюсь построить клозет маршрутчикам, ты не против? Если избранница после этого не бросится звонить ни в ЗАГС, ни маме, ни в скорую психиатрическую — женитесь немедленно.*
Итак, задача:
1. Построить уборную типа эМ и Жо своими руками, в одно лицо;
2. Смиренную рожу не корчить;
3. Кулаком себя в грудь не бить.
Казалось бы — делов-то. Так вот — нет.
Яма от предыдущего скворешника осталась, ибо яму украсть — надо сильно постараться. Всякого послестроительного пиломатериала у нас на заднем дворе — штабель. Пилы-топоры-электроинструмент в наличии. Но это же всё нужно воссоединить, потому как от нашего дома до ямы — ровно полкилометра. Поэтому первым делом был нарушен пункт №1: подошёл к первому попавшемуся маршрутчику и с видом уверенного в собственном здравии человека сообщил, что, вот, нужно привезти несколько дровин для вашей же пользы, тут недалеко. Иная простота лучше воровства, и через десять минут стройматериалы лежали около ямы, а ошарашенный водила энергично хлопал воспалёнными глазами, соображая, как это его угораздило бесплатно помочь совершенно незнакомому идиоту. Сколько-то времени спустя срочно потребовалось придержать вертикально несущий брус, я простецки постучал в окошко подъехавшей газели и, — вот оказия! — нарвался на того же самого малого. В этот раз маршрутчик успел сгруппироваться и только отрицательно помахал растопыренной пятернёй в воздухе: чувак, без меня, без меня…
Полчаса просидел в яме, держа конструкцию левым бедром и приговаривая: а вот не лезь к людЯм, а вот те для смирения. Отпустило, и уж до самого последнего саморезика — сам, сам; и доски на тележке, и даже когда Серёга спросил, не помочь ли, — отказался, радостно размахивая шуруповёртом. Даже очко электролобзиком (первый раз в руки взял!) вырезал сам в куске восемнадцатой водостойкой фанеры, после чего выкрасил водостойкой же синей «Тиккурилой». Не очень, конечно, ровно, но всё равно невыносимо красиво.
Пункты №2 и №3 тоже были нарушены, но, ей-Богу, спровоцировали! Один раз приехал из города, а маршрутчик возьми и спроси: «Это у вас тут туалет, что ли, строят?». «Да это я тут ковыряюсь потихоньку…», отвечал с тихой скромностию, уже к концу фразы твёрдо зная: ой… Другой раз, ближе к завершению, и дверь уже повешена была, кто-то закричал из-за опущенного стекла: «Опаньки! Сегодня обмываем?!», а в ответ получил неприветливое: «Обмывайте, дело хорошее…» Хотя вот тут непонятно, то ли я должен был проставляться, то ли мне предлагалось налить…
Между прочим, время, проведённое рядом с гнездом маршрутчиков, пошло на пользу моему внутреннему пассажиру. Раньше-то он к водителям общественного транспорта относился предвзято, динамики в салонах и манера вождения очень этому делу способствуют. Но оказалось — зря; оказалось, в целом — симпатичнейшая профессия. Небольшой коллектив маршрутчиков по душевному строю ближе всего к небольшому коллективу девочек-пятиклассниц: так же жить не может без музыки и телефонов, так же беспрестанно дружит против кого-то отсутствующего, возмущённо вскрикивая тонкими фальцетами, так же заливисто хохочет при словах «пися», «попа» и производных от них. Теперь, выходя из маршрутки на своём проезде З. Гердта, всегда искренне говорю «спасибо большое».
В общем, несмотря на нарушение всех взятых на себя обязательств, прошу засчитать данное очко мне в плюс. Ибо больше засчитать мне в плюс как-то особенно и нечего, факт.
Цукер
Последнее путешествие
«Дмитрий, здравствуйте. Есть предложение, почти коммерческое. Моей маме 80 лет, она теряет память и всё, о чём она мечтала последние лет пять — съездить ещё раз в Питер, чисто погулять. В прошлый раз она была в нём лет сорок тому. С 8 по 10 сентября я таки гуляю её по Вашему городу. Если Вам интересна такая вот сложная фотографическая задача — снять очень медленную и очень малокоммуникабельную (даже в молодости) старушку, в последний раз гуляющую с сыном по Питеру — давайте попробуем. Количество кадров и потраченное на съёмку время не принципиально, хоть пятнадцать минут, хоть полдня, принципиально ухватить суть происходящего и оставить навсегда. Мне 46, я журналист и фотограф, довольно упитанный и совсем не танцор, но мимически свободный. Мама — сухонькая интеллигентная старушка, вполне себе милая. Место съёмки — на Ваше усмотрение, лишь бы было очевидно, что это Питер».
***
— Мама, мы минут сорок ходим от одного сувенирного ларька к другому. Поверь, у них совершенно одинаковый набор сувениров, с точностью до пол-процента, и ты уже купила себе магнитик со Спасом-на-крови, он тут самый симпатичный.
— Купила? Покажи, какой? Тут такой есть?
— Да, вот он.
— Ну, сейчас, подожди, я ещё что-нибудь хочу выбрать…
— …Сейчас придёт фотограф и поведёт нас куда-нибудь сниматься.
— Слушай, что за фантазия? Не хочу я сниматься в этом ужасном виде.
— Когда мы ехали в поезде, женщина напротив долго на тебя смотрела, а потом тихонько спросила, сколько тебе лет. Я ответил. Она вдруг говорит: какая милая ста… женщина.
— Вот-вот-вот, «старушка»! И прекрати сочинять свои вечные байки.
— Прэлестно. Твой сын взрослый мужик с седыми баками, а ты всё ещё считаешь, что он сочиняет на ходу, как в детском саду, да? Спасибо, чо. Но она сказала «какая милая женщина», хочешь верь, хочешь не верь. И фотограф очень крутой, тебе понравится, увидишь.
— Где ты с ним познакомился?
— В интернете.
— Хм. Ты так и не научил меня пользоваться интернетом, сколько ни прошу.
— Мама…
— Вот тебе и мама…
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, Дмитрий. Вот моя мама, вот я. Мы в вашем распоряжении. Куда идём?
— Неважно. Просто идём. Мне почему-то показалось, что хорошо бы сделать фотографии о том, как двое идут и прислушиваются к городу. В буквальном смысле прислушиваются: к стенам, к каналам, к мостовой. Вы не против такой идеи?
Мама, чуть улыбаясь, качает головой. Фотограф ей нравится. Уфф.
***
— Скажи мне… слышишь? Скажи мне, как я здесь оказалась?
— Где — здесь?
— Здесь. В этом доме. В этом городе.
— Ты приехала сама. Из N. Пять лет тому назад. Мы сейчас в Б-ске.
— Сама? А в N откуда приехала?
— Из M.
— Из N? А сюда из M? Почему мы уехали из N?
— Мы уехали, когда бабушке стало трудно одной… Не плачь, пожалуйста, мамочка. Не нужно плакать.
— Оставь меня в покое. Безумная старуха… Все хохочут, глядя на меня.
— Ты не безумная. Ты теряешь память. Никому и в голову не приходит над человеком, теряющим память. Тем более, вокруг нас только очень добрые люди. Вспомни: когда бабушка потеряла память, кто-нибудь считал её безумной старухой? Ты — считала?
— При чём тут бабушка?! С ней не было такого кошмара, как со мною.
— Именно так и было. Когда я видел её в последний раз, она узнала меня, но не могла вспомнить, сын или внук. И со мной будет то же самое, если доживу. У нас это семейное. Не плачь, прошу тебя.
— Руки на себя наложила бы, если бы греха не боялась…
— Вот уж действительно безумный поступок, убегать от временного кошмара в вечный. Сказали же: в чём найду, в том и возьму. То есть, если в таком вот унынии уйти, именно в таком же унынии и зависнешь там на целую вечность. Охота тебе?
— Что ты сочиняешь? Ты там был? Кто там был? Откуда ты знаешь, что там вообще что-то есть?
— Ну ты, пожалуйста, реши: веришь — не веришь. А то прямо как София Ф.
— Кто?
— А, это… это девчонка одна, из интернета. Долго рассказывать. В общем, есть сайт один, православный… Я иногда пробегаю глазом по диагонали. Третьего дня смотрю: под каждой статьей комментарий от какой-то Софии Ф., и все ругательные, типа, лучше отдайте свои деньги больным детям, а не жирным попАм! В таком всё духе. Прямо заинтересовался, что ж за София такая, кто её так обидел? Полез на страничку — оказалась девочка, тринадцать лет, глазки огромные, шейка тонкая, мировоззрение, написано, «коммунизм», а главное в жизни — «деньги и власть». В общем, переходный возраст. Но почему попов не любит — не написано. А интересно же! Я и поинтересовался, очень вежливо. Но, видимо, не только я, потому что через полчаса она все комментарии удалила, а мне написала: «Докажите мне что „бог“ есть! Не можете?? Вот и молчите!». И вход на свою страницу тут же для всех закрыла.
— И при чём тут я?
— Ты? А, ну София эта за коммунизм — и за деньги и власть. Так и ты, сначала «греха боюсь» — и тут же «да, может, там и нету ничего». Но ей-то тринадцать, а тебе за восемьдесят с гаком, пора определяться.
— Да… за восемьдесят… оказалась на старости лет в аду…
— Ну, если ад — это когда тёплый дом с огромными окнами на осенний лес, соседи-ангелы и сын сидит на полу и держит тебя за руку, то ладно. Только не плачь.
— Но я скоро забуду имя своё…
— Даже если и забудешь, это не надолго. Он сверху, я рядом. Перекантуемся. Не стоит об этом плакать.
— О чём же тогда стоит, если не об этом?
— Не знаю. Полагаю, каждому о своём. Я давеча шёл за грибами в Клюковниках… Там, знаешь, сразу за станцией лес удивительной красоты, огромные сосны, уже подсоченные, редкий подрост — и мусор везде страшный, народ прямо в лес самосвалами вывозит всякую дрянь. За лесом посёлок, за посёлком поле под паром, разнотравье, а за полем молодняк, в нём маслята обещались быть. И вот иду я по грунтовке через поле, небо сверху едва голубое, почти белое, трава иссохшая семечками трещит. И вдруг как заплачу. Навзрыд, знаешь, как в детстве, с подвываньем. Сильно позади два старика ковыляют, ветер от них звук гонит, но я всё равно рот рукавом затыкаю, боюсь, примут за психического. Иду так, рыдаю, а сам соображаю: чего это меня припадок взял? Сначала решил — из-за леса этого убитого, да и из-за страны вообще. Потом думаю: не, что-то ещё наружу рвётся. И вдруг как стал благодарить, туда, Вверх. И за лес, и за страну, и за дом, и за ближний круг, и за тебя. Шагаю, знаешь, и по списку, во весь голос. Добрался до молодняка, очки залитые протёр — и попёр на полусогнутых под соснами шариться. Они там, маслята, взяли моду в траве торчать, до сих пор спина болит…
— Скажи мне… скажи… а из M мы когда уехали?
***
«Дмитрий, простите, я сам люто ненавижу фразу „а когда фоточки будут готовы?“, но вот пишу. Дело в том, что после Питера мама как-то сразу сдала и память её рассыпается, как пепел в камине. Я очень боюсь, что уже скоро не смогу заставить её вспомнить эту поездку. Не могли бы Вы ускорить процесс? Ещё раз простите»
«Фото делаю! Простите за небыстроту — сын родился — неделю назад, все замедлилось — но вот активно уже собираю вашу серию»
Цукер
С четверга на пятницу
…Я взяла Буканову за руку и сказала: пойдём, я покажу тебе — Бог есть. И прыгнула вместе с ней откуда-то… или куда-то… не разобрать. Это был полёт в неизвестность, как у Алисы в кроличью нору. Я летела совершенно без страха, без малейшего колебания; видела испуг и сомнение на лице подруги, и понимала, что наяву тоже всегда сомневаюсь и боюсь неизвестности: по какой дороге идти; что будет, если наплевать на здравый смысл и пойти туда, куда зовёт сердце. Боже мой, думала, Боже мой, какие нелепые страхи — ведь Он есть. Бояться не нужно.
Я попала в какое-то место, о котором не помню ничего, кроме двух золотых линий… нет, скорее это было похоже на две кометы живого, сияющего золота, и я знала, что это Он и Его Мать. И они такой любовью меня окутали… совершенной. Наверное, такую мы ищем всю жизнь. Ищем в детстве, а мама всё время уходит на работу или в магазин и говорит: посиди, я сейчас. Ищем в любви к мужчине или женщине, не находим, спотыкаясь о собственные претензии и чужие привычки, и говорим друг другу: я больше так не могу. Ожидаем от своих детей, но рано или поздно они отлетают шариком перекати-поля, чтобы жить своим… То есть, ищем такой любви, какую здесь, в этой жизни, найти невозможно по объективным причинам. И ещё потому, что счастье, рождённое этой любовью, так огромно, что случись оно наяву — не выдержишь: разорвётся сердце.
И была эта безграничная и безусловная любовь не только ко мне — ко всем. Даже к тем, кто от неё добровольно отказывается или делает вид, что её не существует. И стало совершенно ясно, что, если Он может так любить, то и я должна. Потому что только это имеет значение. Только это — единственный смысл: полная вера в Замысел и Любовь ко всем и несмотря ни на что.
Меня разбудил муж, и я чуть не расплакалась, но потом даже обрадовалась и стала в подробностях пересказывать, а то ведь утром можно ничего и не вспомнить — такое со снами бывает.
На следующий день рассказывала всем о том, что видела, и плакала отчего-то, но с лёгким сердцем. Буканова заглянула в истрёпанную тетрадку дочери и сказала: с четверга на пятницу сны не сбываются.
Сны — может быть. Но сны здесь не при чём. И теперь, как только в моей жизни происходит что-то объективно-ужасное, я вспоминаю сон и стараюсь не бояться. И как только возникает повод обидеться или осудить, вспоминаю сон и стараюсь любить. Несмотря ни на что. Правда, получается ещё не очень…
Бочарова
Мостовщиков +
Семь добрых дел
Конечно, верным способом выбраться из путаницы реальной жизни человеку всегда служило какое-нибудь удивительное желание. И кто-то другой во мне говорит: ищи чудесное в обыденном. И я нашел его именно в Б-ске, на втором этаже краеведческого музея на площади Партизан. Это оказалось чучело кабана из композиции «Кабан, выходящий из леса». Всем в городе известно — это не обычное чучело зверя. Оно исполняет желания людей. Мистический Кабан Желаний отделён от реальности стеклом. По ту сторону мира стоят чахлые искусственные берёзы, растет мрачная рукотворная трава. Из темноты несуществующего леса ведет неприметная тропка, по которой к прозрачной границе между пространств вышел Кабан. Морда его с клыками чуть задрана вверх, бездонные пластмассовые глазки всматриваются в то, что происходит за стеклом. На этой стороне реальности в полу музея устроена сияющая звезда с золотым ободком. Нужно встать в центр этой звезды, загадать желание, произнести его и встретиться глазами с Кабаном. И как только живой и искусственный взгляды пересекутся, всё задуманное осуществится. Я делал это неоднократно и никогда не пожалел о случившемся. Поэтому следующие семь записей в моём дневнике будут посвящены тому, что произошло на этот раз. И да поможет всем нам Кабан. Чучело русских желаний, выходящее из искусственного леса мечты.
Начнём записи о б-ской доброте, имевшей место после встречи глазами с Кабаном Желаний. Первый на очереди — Константин Цукер, свадебный фотограф. Вот что он помнит о случившемся: «Я как раз оказался на улице Станке Димитрова. Это болгарский революционер, псевдоним его был МАРЕК — Марксист, Антифашист, Революционер, Емигрант, Коммунист. Но это не важно. Важно, что я там, на улице, увидел эпилептика в припадке. Молодой, лет 25. Лежит, бьётся, пена изо рта. Подбегает какой-то мужик и давай бить его. Бьёт! Бьёт! По щекам, по голове. Я говорю: да вы что творите! Он говорит: так надо, держи его давай. И я держал, пока он его колотил. Смотрю — эпилептик-то стал в себя приходить. Вызвали скорую. Пока она ехала, он совсем очухался и говорит мне: дай мне денег, 50 рублей на обратную дорогу. И я дал, хотя пьяным, например, никогда не даю. Вот вам и доброе дело: иногда надо и по роже настучать».
Наступает очередь жены свадебного фотографа Цукера Натальи Бочаровой. Вот ее версия произошедшего: «Нам с Цукерочком хорошо говорить о доброте: мы знамениты этим на нескольких сайтах о милосердии. Адреса я не помню, мы туда не ходим. Дело в том, что у нас же живет собачка без ног, в свое время это обсуждал весь город. История какая. Звонит как-то Перепелова, вся в слезах. Говорит: тут собачка у нас в гаражах, она без лапок. Что-то ей там на лапки упало, ей отрезали. Её в гаражах летом кормили как попало, а скоро зима. Пропадёт. Умрёт собачка. А у вас дом свой. Возьмите собачку без ног! Зовут Жуля! Я вообще боюсь собак. Прямо по-настоящему. А тут вроде без ног. Как бы не страшно. И взяли. Хорошая оказалась. Бойкая. Двигается ползком, но охраняет нас. Хорек на участок заполз, она на него шипела. На собак других кричит. Молодец. Так вот. Живет у нас Жуля, радуется. Звонят вдруг из ветеринарной клиники «В…», есть у нас такая. Девочка звонит. Говорит: ооооооооойййй! У вас собачка без лапок! Можно я приеду, привезу ей пинеточки. Ну ладно. Привезла ей пинеточки черные такие, со стразиками. Мы для приличия надели, чтобы она не плакала, потом сняли — неудобно в пинетках собачке без лапок. Звонит потом ещё: давайте в Германию Жулю отправим, ей там протезики сделают, будет скакать, как новенькая. Пока мы думали, в городе началась паника. Все форумы взорвались! Одни пишут: варвары! Отдают животное в Германию на опыты! Сами не могут справиться, лучше бы не брали. Другие: звери! Не хотят животному нормального европейского будущего! Кошмар. Хорошо, мы не ходим на эти форумы. Жулю мы оставили. Пробовали ее зимой в дом с улицы переселить — она не хочет, рвется на свободу. Мы уж давно к ней как к здоровой относимся. Ну, собачка и собачка, привыкли. Ну, валяется, и ладно. А гости приедут: оооой! Собачка без ножек! А куда они у неё делись? Да какая разница! Хорошая ведь собачка, этого достаточно. Правда, очень много какает, хоть не корми».
Еще одна трактовка доброты, имевшей место в Б-ске: «Я Паша Кирилин. Три „и“ и одна „эл“, как говорит моя мама, когда оформляет документы. Она всегда так говорит. Так вот. Еду я и вижу — стоят выпускники, трое их было. Пьяненькие, правда, но с кем не бывает. Думаю — подвезу, сделаю доброе дело. Подвез их, остановился, вдруг они мне сзади бьют по очкам, наседают так и говорят: давай нам 500 рублей. И видеокамеру мы твою заберем, — она у меня на заднем сиденье лежала. Что делать? Я согласился. Двое вышли. Ну как двое — полтора. Половина одного еще в машине оставалась, а машина стояла под горку. Я по газам, он выпал, а третьего я вытолкал по дороге. Приехал к приятелям, весь трясусь. Неприятно это. Да еще по очкам. Близорукие люди меня поймут. Ну, я выпил бокал вина, чтобы успокоиться. Посидел немного и дальше поехал. Останавливают гаишники. Я сразу им всё рассказал, мол, так и так, напали. Они мне говорят: ну-ка дунь-ка в трубочку. Показывает! Давай 2000 рублей. Я отдал, куда деваться. И вот думаю теперь о своей доброте: может, надо было 500 рублей выпускникам-то отдать?»
А вот наступил и черед б-ских птиц, женщин и детей: «Я Анна Петренко, 31 год жизни уже позади. За весь 31 год наверняка я сделала что-нибудь доброе. Но я не помню. Однако, если бы нужно было подытожить, я бы сказала, что все, что я пытаюсь сделать, я пытаюсь вложить в дочь. Дочери семь лет, и вот уже два года мы с ней запоем читаем книги. Я сама их выбираю, и выбираю таким образом, чтобы они вселяли в голову мораль. В результате вселения морали недавно она пришла ко мне и сказала, что мы должны немедленно кормить птиц. У нас есть кормушка, жизнь удалась. И вдруг какой-то внутренний голос сказал мне, что кормить птиц так, как мы кормили их раньше, больше нельзя. Я не могла себе объяснить почему, но уверена была, что нельзя. Залезла в интернет и выяснила, что кормить птиц хлебом и пшеном и правда нельзя. Пишут, что можно исключительно перловкой, овсянкой, а синичек еще и несолёным салом, яблоком и творогом с булочными крошками. И вот только тогда птицам будет хорошо. Я сказала дочери об этом, она взяла овсянку и отнесла птицам в кормушку. Кстати, вот мой муж, он всё всегда делает так, как будто он изувер, злой человек. Но на самом деле он очень добрый. Это ведь он сделал кормушку, с помощью которой мы теперь спасаем птиц от неправильного питания».
Очередь откровенного рассказа о радости взаимного непонимания: «Меня зовут Денис Петренко. Я украшаю своими поступками Землю уже 40 лет. Буквально недавно попросил меня мой приятель Володин отвезти его в Москву и обратно за рулем автомобиля. Личного. Моего. Я говорю: ну поехали, только бензин за твой счет, это примерно тысячи три. Он говорит: ну и нормально. Ну и поехали. По дороге туда останавливаюсь на заправке, говорю: деньги гони, полторы тысячи рублей. Даёт он мне деньги, я заправляюсь. Едем дальше. Приехали в Москву, поделали дела, какие нужно, возвращаемся в Б-ск. Володин заснул, я заправился опять на полторы тысячи, будить его не стал. У дома его растолкал. Он потягивается, говорит: как хорошо доехали! Я ему говорю: дорогой мой, полторы штуки еще гони! Смотрю, он что-то не врубается. Спросонья, думаю, не соображает ничего. Но деньги в конце концов дает. Правда, только тысячу. И говорит такой: ну, мне кажется, хватит. А я думаю: ну, ни фига себе, вообще! Еду и злюсь. А дома залезаю в кошелёк и смотрю: что-то у меня денег слишком много. Судя по всему, он мне утром сразу три тысячи отдал, а не полторы, как я думал. И вот я в ужасе: мама родная! Ему-то чувство такта не позволило со мной спорить, а мне моё позволило его обобрать! Звоню ему и спрашиваю: Володин, ты мне утром сколько денег дал? Он говорит: три тысячи. Так и есть! Представляете, а если бы я не позвонил? Мне, значит, с этой лишней тысячей всю жизнь жить, а Володину — без нее! Кошмар. Вот так один телефонный звонок может спасти сразу двух человек».
А вот и семья Володиных. Теперь они москвичи, но время от времени появляются в родных местах, чтобы рассказать о своем понимании событий: «У нас семья. Семья Володиных. Но я Кудрицкая Дарья. Вот. Я уже три года учусь в институте с абсолютно разными людьми, в том числе с ограничениями. Со слепыми, глухонемыми, с разными людьми, у которых проблемы. И я сейчас для себя, когда прошло уже несколько лет, точно не знаю, что такое доброе дело. В определённый момент ты вдруг просто перестаёшь видеть что-то особенное в том, чтобы, например, помогать. Это становится обычной, нормальной жизнью. В этом нет особенной доброты, но есть тёплое, искреннее отношение, которое тебе понятно, приятно, которое тебе близко, которое не требует слов и объяснений. Наверное, доброта как таковая возникает там, где тебе что-то непонятно или обидно. Вот я недавно шла в метро на „Автозаводской“ в Москве. С таким, знаете, чувством, что я что-то недодаю этому миру. Не потому что я такой офигенный альтруист. А потому что меня иногда что-то переполняет, и мне кажется, что я могла бы больше этим делиться. Так вот. Иду, а там стоит бабка. Вонючая такая. И просила деньги. А я иду, и у меня в кармане нет ничего, кроме 50 копеек. А я, главное, уже руку занесла в карман, и она видит, что я хочу ей подать. Она смотрит на меня, я на нее смотрю. А я вижу эти 50 копеек и понимаю, что подать их мне стыдно. Но куда деваться? И я кладу ей в руку монетку, иду и чувствую, как эти деньги летят мне в спину с соответствующими словами. Ох. Пришла я домой и думаю: ну что плохого я сделала? Был же порыв, хороший. Но вдруг я этим порывом унизила человека? И меня это так мучило. Я даже пошла потом, исповедалась. И меня батюшка выслушал, говорит: „В спину бросила? И мне бросают“. Я успокоилась. Но до сих пор думаю: вот этот момент, момент добрых дел, он очень страшный иногда может быть».
Последняя запись сделана со слов кошки, которой тоже ведь есть что сказать: «Я кошка Ася, мне 12 лет. Я человек, по крайней мере, так обо мне говорят. Я начала общаться с людьми на их языке лет в семь. С тех пор прихожу поболтать, а не чтобы погладили. Я не умерла, хотя умирала три раза. В первый раз упала с балкона, не разбилась. Но кто-то проходил мимо и ударил меня ногой в живот. Поломал ребра, сломал зуб. На улице я до этого не была, поэтому просто сидела и плакала. Хозяева нашли меня, принесли в дом и попросили не умирать. Второй раз я не умерла от страха. Пошла гулять за котом. Опять оказалась не в своем мире. Сидела на газоне, никого не зная. Плакала, боялась. Опять меня нашли. Третий раз — онкология. Дело в том, что родила только в 11 лет. Была идеальной матерью. Но онкология. Вырезали мне матку, загноилось все. Вспоминать страшно, но выжила, почему нет. Мне кажется, это вполне доброе дело. При этом я люблю фотографа Володина. Обычно, чтобы полюбить Володина, надо время, а я сразу сажусь ему на колени. Что ещё надо для жизни?»
Мостовщиков
…На несколько минут в доме стало вдруг тихо. Кудрицкая переволновалась от своего рассказа, зашмыгала носом, и Володин бросился её утешать — как умеет делать только Володин, то есть молча и глядя внутрь себя.
В соседней комнате спит на синем продавленном диване Иванова. Жизнь Ивановой сплошной и беспрестанный подвиг, но мы её не будим расспросами о добром деле. Пусть спит, ей это важнее.
На улице серый ноябрь. В доме тепло. В духовке шкворчит гусь с антоновскими яблоками в нутре. Сейчас мы поставим его на стол и будем заговляться, обсасывая каждую косточку.
Кошка Ася умрёт через несколько дней, но единственный асин отпрыск Опа и внуки Изя и Чоня живут теперь с нами. Была ещё Уша, но её забрали в добрые руки; только через год мы сообразили, что котиков нужно было назвать, как в детском анекдоте: Уся, Руся, Пира и Гами. Но теперь чего уж там, пусть.
Мамы наши живы. Скоро лето.
Цукер
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


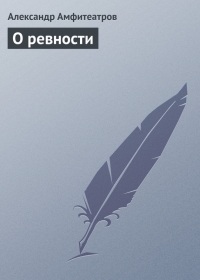


Комментарии к книге «Хроники Б-ска», Кофе понедельника
Всего 0 комментариев