Сергей Катканов Священные камни Европы
Русскому Европа так же драгоценна, как Россия, каждый камень
в ней мил и дорог. Европа так же точно была отечеством нашим,
как и Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни,
эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес,
и даже это нам дороже, чем им самим.
Фёдор ДостоевскийВсё прекрасное, благородное, христианское нам необходимо,
как своё, хотя бы оно было европейское.
Иван КириевскийПредисловие
Ваш покорный слуга не должен был написать эту книгу, во всяком случае, ничто во мне её не предвещало. Всю жизнь я только и делал, что боролся с различными проявлениями западного влияния на Россию. Боролся с либералами–западниками, с внешней политикой США, с бесчисленными заморскими сектами. На войне человек грубеет, а на информационной войне — тем более. Мышление становится чёрно–белым. Увидеть хоть что–нибудь хорошее в тех, кому вы противостоите — это роскошь мирного времени, а на войне противников давят, даже не думая о том, что и в них ведь тоже не всё плохо.
И вдруг, вопреки всему и несмотря ни на что, душа загорелась теми идеалами, которые имеют своим источником Запад. Не тот Запад, который мы знаем, не тот, влиянию которого мы всегда противостояли и будем противостоять до конца. Почти неизвестный нам Старый Запад, дышавший Христом, пусть и на свой манер, вдруг оказался исполненным такой удивительной, по–своему уникальной красоты, от которой и глаз невозможно оторвать.
Теперь я чувствую, что эта староевропейская красота христианства не просто драгоценна для нас, но более того — она часть нашей русской души, совершенно неизведанная, не освоенная нами часть нашего внутреннего мира, причём — совершенно необходимая нам для гармоничного развития русского национального самосознания.
Логика развития моей личности никак не предвещала этой неожиданно вспыхнувшей любви к Старому Христианскому Западу. Это совершенно не было мною спланировано, но ведь у Бога нет случайностей. Тогда я понял, что тут не моя воля, а Божья. Я сделал не то, что я хотел, а то, что хотел Бог. Деус вульт.
Теперь мне приходится вступать в полемику с теми, кого я всегда считал союзниками, да в общем–то и продолжаю считать. Многие православные, привыкшие идейно противостоять влиянию либерального постхристианского Запада, а так же Запада католического и протестантского, постепенно привыкают видеть в Западе источник абсолютного зла. К истории они обращаются лишь за тем, чтобы и там найти подтверждение того, что на Западе всегда и всё было плохо, и ничего хорошего там никогда не было. Это типичный перегиб психологии военного времени, которую я очень хорошо знаю по собственному опыту.
Вот этот–то перегиб я и пытаюсь выровнять, утверждая, что в истории Христианского Запада есть много такого, что не только не вредно для нас и даже не только может быть полезно, но даже и крайне необходимо для выравнивания внутренних перекосов.
Сразу хочу предупредить, что резко отрицательно отношусь к любым проявлениям экуменизма, исповедуя самую ортодоксальную форму православия, то есть православие, как таковое. В этом вопросе у нас есть две крайности. Православные, которые симпатизируют Западу, постепенно начинают сползать в экуменизм, то есть в псевдо–церковный либерализм, а это яд для души. Другие православные, оставаясь на позициях строгой ортодоксии, постепенно начинают испытывать ко всему западному устойчивую антипатию, доходящую до ненависти, а это тоже для души отнюдь не лекарство. Пытаюсь найти третий путь, одновременно избежав как ложного миролюбия экуменизма, так и фанатичной ненависти ко всему чужому.
Вполне осознаю, что искать в истории Христианского Запада нечто духовно полезное — занятие для души небезопасное. Продвигаясь по сильно заражённому ересями духовному пространству, можно подцепить какую–нибудь недоброкачественную идею, прельстившись её ложным блеском. Чтобы находить островки «своего» среди моря «чужого» необходимо особое духовное чутьё, а кто может сказать, что в достаточной мере таковым обладает? Поэтому и не претендую на окончательность суждений, но ведь я не один, я — в Церкви, если что — меня поправят.
Итак, эта книга обращена прежде всего к православным, которые готовы воспринимать духовную реальность сложно, не в чёрно–белом, а в цветном варианте. При этом я с уважением отношусь к тем братьям, которые предпочитают чёрно–белый вариант — без всяких тонкостей и полутонов. Этот вариант гораздо безопаснее. Но он беднее.
Есть два пути. Первый — искать своих среди чужих с риском заразиться чужими идеями. Второй — всех формально чужих считать противниками с риском не рассмотреть и отвергнуть своих. Каждый сам выбирает, какой риск для него предпочтительнее, а моя обязанность — предупредить, на какой именно путь я приглашаю.
Кстати, я не сразу узнал, что, оказывается, развиваю мысли Достоевского, который самозабвенно любил Европу и видел в ней «страну святых чудес», одновременно с этим решительно отвергая всё, что есть в Европе гнилого, духовного опасного. Не мне бы, конечно, развивать мысли Достоевского, но, похоже, охотников не лишка. Вот я и дерзнул.
Ненавидимый прокуратором город
Есть слова, сладкие, как мёд. Есть острые, как перец. Есть пресные, безвкусные. Слово «Иерусалим» — горькое. От века горечь на губах у тех, кто говорит: «Иерусалим». И никакие привкусы не могут заглушить этой горечи.
Горечь вавилонского пленения.
Горечь распятия Христа.
Горечь разрушения второго храма.
Горечь арабского завоевания.
Горечь утраты Святого Града крестоносцами.
Горечь арабо–израильских войн.
В сознании каждого, кто припадает к священным камням этого удивительного города пульсируют трагедии тысячелетий. Иерусалима без боли и слёз никогда не было и никогда не будет. Этот город не может радовать, он для этого не приспособлен. Зачем же мы едем сюда? Затем, чтобы ответить на этот вопрос.
***
Иерусалим — город ускользающий. Утром мы вышли из отеля и пошли в старый город, дважды выбрав не ту дорогу, хотя у нас была карта, а кроме того — моя жена прекрасно ориентируется на местности и ни разу не заблудилась ни в одном незнакомом городе, на что я возлагал особые надежды. Не помогло. Можно было злиться на то, что карта плохая, на то, что улицы какие–то перепутанные, на то, что мы сегодня встали не с той ноги, и я, конечно, злился, прибавляя к перечисленному всё новые и новые причины для дурного настроения. А потом понял — Господь пока не пускает нас к Своему Гробу. Надо менять планы, потому что они не совпадают с Божьей волей.
Мы выбрели на шоссе и со смотровой площади отчётливо увидели Елеонскую гору, Монте Оливети, теперь уже не сомневаясь, что нам надо туда. Монте Оливети — ключ к Иерусалиму. Сам Господь вошёл в город отсюда. И крестоносцы…
***
Перед решающим штурмом они пошли крестным ходом на Елеонскую гору. Безоружные, босые, в слезах, с молитвами, они брели на вершину горы, откуда Господь вознёсся на Небо. Сарацины со стен осыпали их изощрёнными оскорблениями, рыцари креста не обращали на это никакого внимания, они плакали о своих грехах и просили у Бога лишь одного — права послужить Ему. Тогда стены города находились от Монте Оливети на расстоянии полёта стрелы, попасть в человека с такого расстояния затруднительно, но всё–таки возможно. Некоторые пилигримы падали под сарацинскими стрелами, остальные словно не видели этого. Они молились. Сегодня они — смиренные богомольцы. Мечи заговорят завтра. Завтра будет 15 июля.
***
Мы шли к Елеонской горе Кедронской долиной. Здесь так замечательно… Каменные террасы, оливы, небольшие кипарисы, старое кладбище. И лай собак. Жена сказала, что собаки просто с нами здороваются, я отнюдь не был уверен в том, что они такие уж приветливые, но отступать мы сегодня уже не были намерены, впрочем, вполне допуская, что идём в тупик.
Мы не ошиблись на счёт тупика, путь нам преграждали запертые ворота. Однако неподалёку работал мотыгой дружелюбный мужчина — единственный человек, которого мы здесь встретили. Мы объяснились с ним знаками, и он открыл для нас ворота.
В Кедронскую долину экскурсий не водят. А мы здесь были. Это посещение было, как снисходительная улыбка Отца, который смотрит на своих неразумных детей. Кедронская долина — одно из самых милых наших приключений в Иерусалиме. Можно, конечно, спросить, неужели мы приехали сюда за приключениями? А не скажите. И за приключениями — тоже.
***
На вершине Елеонской горы мы поняли, что способность Иерусалима к ускользанию ещё только начинает проявляться. Здесь ни до куда нельзя так просто дойти. Видишь крест на куполе, идёшь по улице, которая ведёт к храму, но улица поворачивает в сторону, крест исчезает из вида, потом ещё пару раз по необходимости сворачиваешь и вскоре уже не знаешь, где ты, а где храм. Так мы искали русский Вознесенский монастырь на вершине. Можно ли заблудиться на таком маленьком пространстве? Здесь можно. Видя нашу растерянность, очередной дружелюбный мужчина показал нам дорогу, даже не спросив у нас, что именно мы ищем. Что здесь можно искать, кроме храма?
***
На следующий день, когда мы предприняли второй прорыв к храму Гроба Господня, началось нечто уже совсем несусветное. Мы прошли до конца Виа Долороса, в конце которой и должен быть храм. Он был здесь, рядом, в этом не было сомнений, только надо куда–то свернуть, но куда? Вариантов — более, чем достаточно. Короче, дойдя почти до самых дверей храма, мы плутали ещё больше часа, прежде, чем вошли в него. Один раз нам «помогли», проходивший мимо мужчина жестом предложил следовать за ним. Он вывел нас к… Яффским воротам. Оказывается, здесь далеко не всегда люди понимают друг друга без слов. Здесь можно хотеть разного. Он полагал, что мы не знаем, как выбраться, а мы не знали, как «забраться».
От Яффских ворот нас в очередной раз сориентировали, на сей раз более успешно. Мы нашли, наконец, очень узкий и совершенно неприметный проход во двор храма. Я опять злился: почему бы здесь не сделать указатель? Потом понял: в Иерусалиме столько всего, что если делать указатели, на каждом углу их будет от земли до крыши. Люди хотят разного.
Особенность храма Гроба Господня в том, что к нему можно подойти только с одного направления, найти которое, не зная местных лабиринтов, далеко не всегда удаётся сразу. Это надо запомнить: к самому главному можно подойти только с одного направления.
Уже дома я в поисках одной фразы пересмотрел «Сталкера». Вот эта фраза: «- Далеко до туда? — Метров двести. Но это по прямой. А здесь не ходят по прямой». Понятно, да? Не по прямой — это неизвестно как. И не каждому повезёт со сталкером. И если вы не способны слышать Бога — у вас проблема. Не в том беда, что убьёте ноги, а в том, что, блуждая, утратите самообладание и тогда, даже достигнув цели, всё равно её не достигните. Цель изменится.
Стругацкие, сверх ожидания, подарили мне ещё одну фразу, которая стала для меня ключём к пониманию Святого Града: «Зона в каждый момент такова, каков ты сам». Иерусалим — так же. Страшное открытие. Если вы увидите перед собой город, переполненный злобой — извольте радоваться — вы смотрите в зеркало.
***
В кувуклию под строгий окрик греческого монаха залетаю пулей, так же пулей через секунды вылетаю обратно, повинуясь очередному окрику. (Эти окрики кажутся здесь естественными, нам так много дают, что имеют право на любую строгость). Учащённое сердцебиение, ошарашенность, некоторая даже раздавленность. Но разве может быть иначе? Всё хорошо. Господи, Ты привёл нас сюда.
В храме Гроба Господня — мистический сумрак. Я очень боялся, что когда окажусь здесь, всё будет не так, как я себе представлял, но всё оказалось именно так. В точности. И я постарался принять это, как особый Божий дар.
Здесь, конечно, туристическая суета и толчея, но толпы людей роятся лишь в отдельных точках огромного храма, а чуть отойдёшь подальше и сразу же становится спокойно. А в крипте святой Елены так и вовсе не было ни одного человека. Сюда не водят туристов. Здесь очень тихо.
***
Святыни описывать нельзя. Это было бы просто непристойно. Я могу сказать несколько слов об улицах старого города, но о величайших святынях Иерусалима я не могу сказать ни одного слова.
Мы были в часовне Вознесения на вершине Елеонской горы. С этого места Господь вознёсся на Небо. Были в Гефсиманском саду, в храме Агонии, на месте «моления о чаше». Здесь невероятные древние сливы. В начале Виа Долороса мы были в храме св. Анны, который построен на месте, где родилась Пресвятая Богородица. Вся Виа Долороса — это цепочка храмов. Были в горнице тайной вечери. Были в храме, построенном на месте Успения Пресвятой Богородицы. Были в храме на месте могилы Пресвятой Богородицы. Мы были на могиле царя Давида. Мы были, были, были. А, может быть, нас там и не было.
Позвольте мне выразить восхищение людям, которые у святынь Иерусалима действительно молились. Мне это не удалось, да и не похоже, что я очень сильно пытался. Дело даже не в туристической суете и толчее, среди которых очень трудно сосредоточиться. Это проблема, но не очень большая. Там всегда можно улучить минуту и найти закуток, где тебя не будут толкать, или даже ты будешь вообще один. Дело в том, что величайших святынь в Иерусалиме — десятки. Ради любой из них стоило преодолеть не одну тысячу километров, а здесь они все сразу. Они мелькают перед глазами, как в калейдоскопе. Восприятие притупляется. Хочется всё увидеть, везде успеть, а для этого надо спешить. «Поставил галочку» и вперёд. Поэтому в храме Гроба Господня мы были три раза. Хотя бы здесь, я надеюсь, мы на самом деле были.
***
Так уж вышло, что главный герой моего романа Андрей Сиверцев побывал в Иерусалиме раньше меня. Конечно, я не стал описывать то, что не видел, лишь попытавшись представить лица людей на улочках старого города. Увидев всё своими глазами, я не испытал желания что–то в романе переделать. Старый город такой и есть, каким он мне снился. Как будто душа вернулась на Родину, куда всегда пыталась перенестись, минуя пространство и время.
Вдоль узкой улочки тянется бесконечный базар. Здесь торгуют всем на свете. Здесь нельзя останавливаться, потому что всегда оказываешься рядом с продавцом чего–нибудь и становишься его жертвой. Это Восток — пёстрый, многословный, зазывающий.
А вот довольно пустынная улочка. Здесь нет торговли, строгие каменные стены, всё как в средневековой Европе. С удовольствием убеждаюсь, что немного знаю латынь, во всяком случае вот эта вывеска мне понятна: «Стража Святой Земли». Как возвышенно это звучит. Это Запад — строгий, сдержанный, молчаливый.
Есть на земле город, где Восток и Запад неотделимы друг от друга, они вместе образуют его неповторимый колорит, при этом каждый сохраняет своё лицо. Если бы такого города не было, разве мы не мечтали бы о нём?
Город кричащий и город молчащий, самый пёстрый и самый монотонный, для всех открытый и совершенно замкнутый. Это Иерусалим.
Больше всего меня поразил армянский квартал. Полное отсутствие торговли, ни одного кафе, даже двери очень редко встречаются в лабиринте узких улочек. Двери, наверное, где–то во внутренних двориках, доступных только для тех, кто здесь живёт. В этом лабиринте мы быстро теряем направление и почти не встречаем людей. Пустынно, словно ночью, хотя стоит белый день. Здесь дышишь замкнутостью и закрытостью. Здесь, видимо, люди просто живут, а работают они в других кварталах. Туристам и паломникам совершенно нечего делать в армянском квартале, поэтому так хорошо, что мы здесь. Когда тебя не ждут, ты видишь то, что есть на самом деле. Этот квартал запомнился, как самый иерусалимский Иерусалим.
Как хотелось бы стать на этих улочках не пришлым, не случайным и не праздным, а своим, органично связанным с незаметной внутренней жизнью старого города. Но это невозможно. Здесь нам всегда будут предлагать сувениры.
***
У Яффских ворот старого города есть удивительный памятник: две конных фигуры — крестоносец и сарацин. Они приветствуют друг друга, как будто радуясь встрече. Это кажется странным, но так и было. Напитав пустыню кровью и по достоинству оценив боевое мужество друг друга, они очень часто проникались взаимным уважением, за которым следовало взаимопонимание. Если угодно, это был диалог двух культур. Современным людям трудно понять, что тогда этот диалог никаким другим и не мог быть — только с коня, в доспехах и с оружием в руках. Если бы не крестовые походы, мусульмане никогда не почувствовали бы даже намёка на уважение к христианам.
Признаться, я был поражён обилием иерусалимских крестов на улицах старого города. Сейчас говорят, что это крест паломника. Пусть так и будет, но я‑то знаю, что это герб христианских королей Иерусалима. Значит, крестоносцы не забыты, и дело их не умерло.
Мы стоим у резиденции госпитальеров. Сегодня здесь какое–то католическое учебное заведение, внутрь туристов не пускают, а там, говорят, сохранились постройки времён крестовых походов. Вот здесь и жили братья иоанниты, заклятые друзья тамплиеров.
В храме Гроба Господня, в крипте святой Елены, стены покрыты ровными рядами крестиков. Это граффити крестоносцев. Рыцарь выреза́л кинжалом крестик, что значило: «Здесь был Гуго». У крестоносцев было достаточно религиозного такта, чтобы не портить стены храма своими именами, а крестов в храме — чем больше, тем лучше.
Каждый такой крестик — это сбывшаяся мечта. Они шли сюда через невероятные лишения и страдания. Их путь был полит кровью, потом и слезами. Никто не был уверен, что дойдёт. И вот — дошли. Сегодня эти ряды крестиков, как шеренги крестоносного воинства. Они — это реальность.
Мы — в Сионской горнице. Откровенно говоря, нет уверенности в том, что тайная вечеря была именно здесь. Но есть уверенность в другом — это храм, построенный крестоносцами в XII веке. Не напрасно трудились Христовы воины. Помяните их на этом месте. Помяните их в базилике св. Анны, которую крестоносцы построили на месте рождения Пресвятой Богородицы. Помяните их на Храмовой горе.
Фасад мечети Аль — Акса построили тамплиеры, когда здесь была их резиденция, а потом мусульмане, возобновив мечеть, фасад оставили, как был, воинов Аллаха ничто не оскорбляло в тамплиерской архитектуре. И сегодня Аль — Акса выглядит скорее, как резиденция, мало напоминая мечеть, купол кажется приделанным, ненужным.
В Иерусалиме так много величайших святынь, что устаёшь поражаться, а фасад резиденции тамплиеров — не более, чем достопримечательность. Но почему–то я смотрел на него с замирающей душой. И ходил взад–вперёд, и опять смотрел, и душа не уставала замирать. Когда мы уже уходили с храмовой горы, мне всё казалось, что надо вернуться и ещё раз посмотреть. Кажется, я и сейчас там, жду, когда промелькнёт белый плащ с красным крестом.
После храмовой горы мы решили выпить кофе и вот в том месте, где соприкасаются все четыре квартала старого города, набрели на небольшую кофейню. Она располагалась в старом помещении — каменные своды не нуждаются в реставрации уже много столетий. Это помещение построено крестоносцами, их стиль я теперь узнаю сразу. Может быть, сюда заходили рыцари, выпить по стаканчику винца. И вот мы сидим здесь и пьём прекрасный кофе с холодной водой…
***
Крестоносцев прокляли все. Даже самые ленивые всё же не поленились плюнуть на их могилы. Для мусульман крестоносцы — извечные враги и антагонисты. Для иудеев они — гои, к этому, кажется, нечего добавить. Католики все изошли на толерантность и охотно осуждают своих предшественников за «кровавые преступления». А православные осуждают крестоносцев потому, что они католики. Хочешь плюнуть в католицизм, так плюнь в крестоносцев — не промахнёшься.
Очень любят говорить о жестокости крестоносцев, не думая о том, что те просто жили в гораздо более жестокие времена. Рыцари креста отнюдь не били рекордов по жестокости, их враги тоже не были ни гуманистами, ни пацифистами.
Говорят, что война никак не может быть способом служения Богу, но рыцари были профессиональными воинами, людьми меча, и ничего кроме меча в дар Христу принести не могли. Они делали, что умели.
Касаемо же «кровавых преступлений» кто бы говорил. Евреи Иисуса Навина ворвались в землю обетованную, уничтожая всё на своём пути, стирая с земли целые народы. Арабы халифа Омара тоже, кажется, прибыли сюда не туристами. Они грабили, жгли, убивали. Иисус Навин и халиф Омар, конечно, вели священную войну, а как только речь заходит о крестоносцах, как тут же говорят, что священных войн не бывает.
Православные тоже почему–то не хотят помнить о том, что крестоносцы появились здесь по призыву о помощи православной Византии, для защиты восточных христиан. Крестоносцы заплатили тысячами жизней за безопасность восточного православия и это лишь затем, чтобы сегодня православные рассуждали о «преступлениях католицизма». Кажется, пора вводить понятие «историческая совесть». Есть ли она у нас?
Ещё говорят, что христианам на Святой Земле жилось очень даже хорошо, пока сюда не вторглись крестоносцы–головорезы. Давайте же вспомним, как выглядело это «хорошо» от халифа Омара до Годфруа Бульонского. Немусульмане (зимми) облагались специальным налогом (харадж). Сначала христианские монахи не были плательщиками хараджа, но вскоре их тоже обложили, причём не стали вносить в налоговые книги, а выжигали имя калёным железом на руке. Монаха без клейма казнили, отрубая сначала руки, затем — голову.
За проповедь христианства убивали. Колокольный звон и крестные ходы были запрещены. Христианам запрещалось иметь оружие, ездить верхом, занимать государственные посты. Зимми превратили в бесправный скот, которому велено радоваться, что его не так уж часто режут. И это был ещё самый ласковый и гуманный вариант взаимоотношений мусульман и христиан.
Ближе к VIII веку гуманизма заметно поубавилось. Омар II (717–720) издал указ о разрушении всех новых церквей, которых не было при Омаре I. При халифе Иезиде II (720–724) в Иерусалиме приняли мученическую кончину 60 христиан. Халиф Абул- Шефех (750–754) избил множество христиан и постановил, чтобы нигде в Иерусалиме не было изображения креста. При халифе Аль — Мансуре (754–775) многие храмы были превращены в конюшни. При очередном посещении Иерусалима Аль — Мансур приказал избивать население города плетьми. В 786 году были полностью вырезаны насельники обители св. Саввы. При халифе Джафаре (847–861) на жилищах христиан было приказано изображать демонов, множество храмов было снесено.
В 909 году разъярённые толпы мусульман разрушили христианские храмы в Ремлине, Аскалоне, Кесарии. Храм Гроба Господня разрушали трижды, последний раз — в 1007 году, тогда было убито множество христиан. Ну а когда власть в Иерусалиме захватили турки–сельджуки, их изуверству по отношению к христинам не было предела. Тогда и прозвучал на Западе призыв к крестовому походу.
Теперь, если хотите, ещё раз плюньте на могилы крестоносцев, которые пришли избавить православных христиан от всего вышеперечисленного. Или вам нравится участь мусульманских рабов, которым запрещено ездить на коне и носить оружие? Может быть, и не зарежут? Ещё чуточку толерантности, и мы узнаем, какова эта участь.
***
Хороший кофе сварил для нас араб в «кофейне крестоносцев». Очень хороший. И холодная вода прекрасна на вкус. Наверное, родниковая. А в душе — гнев. Это очень плохо. Но что же делать? На улицах Иерусалима не испытывают гнева только святые и мёртвые. А мы — не святые. И мы пока ещё живы.
***
Вчера бы 15 июля. День взятия крестоносцами Иерусалима. На литургии в храме я пытался молится: «Упокой, Господи, души воинов Христовых жизнь свою за веру на поле брани положивших». Хорошо ли в православном храме молится об упокоении еретиков–католиков? Есть в этом что–то очень неловкое. И вдруг, слышу, батюшка в алтаре молится о «… воинах, жизнь на поле брани положивших». Неужели Господь иерейскими устами поддержал мою грешную молитву?
***
На улицах Иерусалима все чужие всем. Мусульмане и евреи враждебны друг другу, но они солидарны в своей враждебности к христианам, при этом католики и православные так же друг друга не любят. Религиозных людей на улицах Иерусалима больше, чем в любом другом городе земли, и представители каждой религиозной традиции считают этот город своим, здесь ни одна религия не преобладает явно и безусловно. Это придаёт Иерусалиму особый трагический колорит. Мы бросаем друг на друга тяжёлые взгляды исподлобья. Мы друг другу не рады. И это неустранимо, непреодолимо. Это всегда так будет.
Только безразличные к религии интеллигенты могут пускать розовые слюни по поводу «братства всех религий». Но неверам и полуверам нечего делать на улицах Иерусалима, пусть едут отдыхать в Тель — Авив и Эйлат. А мы–то знаем, что наши религии принципиально непримиримы. Нам остаётся терпимость? Но именно полуверы хотели бы превратить Иерусалим в «дом терпимости». Остаётся взаимное уважение? А не могу я уважать те религии, которые опровергают мою. Если бы я уважал хоть одну из этих религий, я бы в неё перешёл.
Я православный. Для евреев — гой. Для мусульман — зимми. Для католиков — схизматик. И я готов принять на себя все эти презрительные клички. Но теперь уж, господа, не обижайтесь.
***
В нашем отеле на завтрак не подают ничего мясного. Это можно и потерпеть, ведь стол — хороший, но не понятно, почему? Терпеливо дождавшись, когда на ресепшене будет дежурить девушка, говорящая по–русски, мы задаём этот вопрос. Оказывается, кошерные правила не допускают одновременное употребление мясного и молочного. Ласковое бешенство, которое выражается в скверной улыбке, наполняет душу. Ведь мы же гои. Почему нас кормят кошерной едой? Не то чтобы я боялся оскверниться от кошерного стола, но мне не понятно это молчаливое принуждение к соблюдению чужих религиозных норм. Это всё равно как если бы в московском отеле по средам и пятницам все должны были питаться постной пищей. Мы же гостям своих обычаев не навязываем. А здесь? Или пусть лучше сто гоев едят кошерное, чем один еврей осквернится некошерным? Удивительный пример религиозной деликатности.
В пятницу вечером пол седьмого нас выгоняют из бассейна, хотя он работает до девяти. Начался шаббат. Так это что же, мы ещё и шаббат соблюдать должны? Но это, кажется, не гостиница при синагоге. Или весь Израиль при синагоге? Потом думаю: дело, очевидно, не в нас, просто персонал не может работать в шаббат. Не понятно, правда, почему бы на эту смену не поставить арабов или ещё каких–нибудь шабесгоев. Что–то мне не верится, что весь персонал гостиницы до единого человека — ортодоксальные иудеи. И тогда мне стало интересно проверить, работает ли в шаббат в отеле бар? Оказалось, что ещё как работает. Закрыть бар, значит потерять шекели, а выгнать клиентов из бассейна можно, ничего не теряя. Так что шаббат шаббатом, а шекели шекелями. Экое лукавство.
Вступая на территорию еврейского квартала, мы немного побаиваемся — мало ли что сделаем не так и станем невольным поводом к началу религиозной войны. Когда нас останавливает молодой ортодокс в чёрном лапсердаке и шляпе, реагируем сразу же, пытаясь понять, что он от нас хочет, а это нелегко без знания языка. Впрочем оказалось, что этот ортодокс способен склеить по–русски несколько фраз, но он не пытался использовать это умение для диалога. Прежде, чем я успел что–то понять, вся моя семья получила благословение с совершением необходимых ритуальных действий. И тогда он попросил немного шекелей на синагогу. Шекелей мы ему дали совсем мало, наше финансовое положение ему, таким образом, не удалось подорвать, но остался неприятный осадок от того, что он даже не счёл нужным поинтересоваться нашим вероисповеданием.
Минут через десять, проходя мимо дверей синагоги и даже неглядя в сторону этих дверей, мы были вновь остановлены двумя ортодоксами и вторично подвергнуты насильственному благословению. Эти по–русски не говорили, они вообще не говорили. Тормознули, благословили и свободен. Даже шекелей не попросили. Или они–таки заметили, что мы вовсе не млеем от счастья и начинать с нами разговор о скромном пожертвовании бесперспективно?
Для любого верующего человека исполнение ритуальных действий чужой религии — предательство по отношению к своей. Не считаю, что совершил предательство, потому что моя воля в этих действиях не участвовала, и даже характер этих действий не был мне заранее известен. Но то, что делали эти ортодоксы — откровенное религиозное хамство. Вы можете представить себе православного священника, который хватает людей на улице и благословляет всех подряд, даже не интересуясь их вероисповеданием? Конечно, мы сами к ним приехали, но Израиль — не страна синагог, а иначе бы нас здесь и не было. Так что уж позвольте гоям оставаться гоями и мимо входа в синагогу «пройти сторонкой в Божий храм».
Мы на могиле царя Давида. Это святыня общая для христиан, мусульман и евреев. Вот, казалось бы, точка нашего примирения. Но ничуть не бывало. Здесь, как нигде, чувствуется, что мы, мягко говоря, врозь. К камню над могилой царя Давида можно подходить только с покрытой головой. Тем, у кого нет головного убора, предлагают кипы. Смотрю, корейские христиане под предводительством францисканца одевают кипы и припадают к камню. Но я так не могу. Во–первых, кипа — это символ принадлежности к определённой религии, как для нас крест на шее. Как же я с крестом одену кипу? Это уж, воля ваша, что–то совсем несусветное. Во–вторых, мы не приучены припадать к святыне с покрытой головой. И я стою поодаль от могилы Давида, чувствуя себя чужим, хотя вокруг меня христиане. Но это христиане в кипах. Мне даже еврейские ортодоксы понятнее.
Как сложно ходить по Иерусалиму. Как легко здесь пойти на поводу у ложно понятого дружелюбия и отречься от самого себя. Здесь на каждом шагу приходится принимать религиозные решения, прекрасно понимая, что безупречной линии поведения просто не существует. Или надо одеть себе на шею поводок и вручить его кому–нибудь, как те корейцы францисканцу. Но мы вот как–то привыкли без поводка.
Мы чтим царя Давида, но сегодня его могила — это еврейская святыня, и мы уж лучше постоим в сторонке. Так же и к стене плача мы не имеем намерения слишком уж приближаться, хотя, конечно, увидеть её очень хотелось. Надо только помнить, что это стена не нашего плача. Пусть Бог простит тех христиан, которые суют в щели этой стены записочки с желаниями, ибо «не ведают, что творят». А может быть и «ведают», но пытаются «широко мыслить»? Мы же стараемся не впадать ни в фанатизм, ни в экуменизм, и пройти золотой серединой, насколько это возможно.
А это трудно. Евреи–ортодоксы в чёрных лапсердаках вызывают у меня активное неприятие. Я готов уважать их религиозное рвение, но я не вижу на их лицах даже лёгких отблесков света. У них очень тяжёлые взгляды.
Когда мы были в Сионской горнице и наш экскурсовод рассказывал об истории христианства, старый еврей–ортодокс с ненавистью глядя на нас с пяти шагов, что–то дико заорал на иврите. И без переводчика нетрудно было догадаться, чем вызвана его ненависть — тем, что здесь говорят о христианстве. Экскурсовод старался не обращать на него внимания, ортодокс, срываясь на визг, кричал всё громче. Казалось, он в любой момент мог от слов перейти к действиям, его готовность рвать нас зубами не вызывала никакого сомнения. Всем стало не по себе, но экскурсовод, не теряя самообладания, всё же до конца сказал то, что имел сказать. Он давно живёт в Иерусалиме, его трудно удивить такими проявлениями фанатизма. А мы были рады, что дело ограничилось криком.
***
Еврейское кладбище на Масличной горе потрясло меня до глубины души. Это просто какой–то смертный ужас. На наших кладбищах дышит жизнь, они умиротворяют и дарят надежду. Здесь смерть царит полновластно и безраздельно, не оставляя никаких надежд. Ошарашено смотрю на это царство горячего желтоватого камня. Это не выжженная земля. Здесь давно уже нечего выжигать.
Мы поднимаемся вверх по Масличной горе. Я опять смотрю на кладбище. Вот мы уже на смотровой площадке. И я вновь на него смотрю. Оно шокировало меня своим зловещим колоритом, но почему же я не могу оторвать от него взгляд? И вдруг я всей душой понимаю, что эти «отеческие гробы» можно любить до самозабвения, с надрывом, как самое дорогое место на земле. Душу только надо иметь немного другую. Но Бог не велел нам быть одинаковыми.
***
Дамасские ворота — самые красивые в старом городе, самые большие и торжественные. Мы хотим побыть здесь подольше, но это оказывается не так легко. Здесь доминируют мусульмане. Боже мой, сколько от них крика! Как дико и долго они орут друг на друга, выражая недовольство чем–то для нас неведомым. У них тут какие–то свои дела и очень не хотелось бы, чем–то вызвав их неудовольствие, попасть на такой бойкий язычок, так что уж от греха уходим.
Пьём кофе на улице и замечаем, что среди арабов наметилось какое–то брожение. Они как–то все засуетились, частью куда–то побежали, а один молодой арабский торговец время от времени что–то очень резко выкрикивает. Рядом группа израильских военных с автоматами, кажется, они тоже напряжены. Уж не намечаются ли здесь массовые беспорядки? На всякий случай втягиваю голову в плечи.
Потом мы поняли, что пришло время намаза, и они дружно понеслись в мечеть на храмовую гору. А как они потом многотысячной толпой неслись с храмовой горы — это что–то с чем–то. Улица превратилась в один сплошной людской поток, они так спешили, как будто у всех дома остались маленькие дети. В этом потоке пытались выруливать автомобили, зачем–то непрерывно сигналящие. Кажется, ездить на автомобилях по улицам старого города — крайняя степень хамства, потому что улицы не намного шире автомобиля, но порядки здесь устанавливаем не мы. Выскочив из этой арабской круговерти, мы потом долго не можем придти в себя. Стараюсь выразить своё отношение к происходящему максимально корректно и говорю: «К этому народу надо привыкнуть». Или не надо?
Мы идём на храмовую гору. Теперь у нас хорошая карта. Эта улица со всей неотвратимостью должна вывести нас туда, куда надо. Но вот дорогу нам преграждает патруль израильской полиции. Полицейский красноречивыми и вполне понятными жестами объясняет нам, что здесь они нас не пропустят. Останавливаемся в пяти шагах от патруля и обсуждаем, как теперь быть. Второй полицейский, услышав русскую речь, по–русски спрашивает нас:
— Вам куда надо?
— На храмовую гору.
— Вернитесь немного назад, вот там сверните, вход на храмовую гору рядом со стеной плача.
Позднее мы узнали, что шли правильно, а завернули нас вот почему. На храмовую гору ведут пять ворот, но христианам позволено входить на неё только через одни ворота. Не могут же правоверные мусульмане подниматься к мечети Аль — Акса вместе с христианскими собаками. Ну что ж, мы не гордые и даже за честь почтём подвергнуться лёгкой религиозной дискриминации. Мы — зимми, каковых в Иерусалиме третировали столетиями. Мы рады ощутить с ними родство, а в том, чтобы смешиваться с мусульманами сами не видим никакой чести.
Досмотр для проходящих на храмовую гору через «ворота зимми» не менее тщательный, чем в аэропорту. Это, конечно, правильно. Мало ли что мы тут можем взорвать. И доступ на храмовую гору для зимми только до 11 часов. В мечети вход вообще воспрещён. Тоже правильно. Нам, собакам, только дай волю, мы вообще распоясаемся. Когда–то же правоверные должны здесь побыть без нас, так чтобы ничто не оскорбляло их взоры.
Вот только почему–то вход в храм Гроба Господня открыт от восхода до заката для всех желающих, то есть для всех людей, просто потому, что они люди. И мусульман здесь тепло принимают, прекрасно будучи осведомлены, что это мусульмане. И никого не досматривают перед входом, а площадь перед храмом вообще никогда не перекрывается. Христиане почему–то не боятся терактов. Может быть, потому что «боящийся несовершенен в любви»?
А на храмовой горе мы переживаем ощущение подлинного величия. Такое величие всегда духовно, глубинно, органично. Его не создают, оно возникает. Это величие ислама.
***
Францисканцы в Святом Граде везде — в храмах, в отелях, на улицах. Коричневые сутаны, перепоясанные верёвочками, какие раньше доводилось видеть только в кино, здесь прочно вписаны в ландшафты. Они производят двойственное впечатление. С одной стороны, радует такое зримое, подчёркнутое присутствие христиан на Святой Земле, где так внушительно заявляют о себе иудаизм и ислам. Но с другой стороны, мы знаем, что католики здесь отнюдь не играют роль друзей Православной Церкви, а, напротив, постоянно стараются в чём–то её ущемить.
Римский папа даровал ордену святого Франциска титул «стражей Святой Земли», хотя этот орден появился, когда Иерусалим был уже безвозвратно потерян крестоносцами. Когда шла настоящая борьба за святыни, коричневых сутан здесь никто не видел, ну а сейчас они, конечно, сторожат, что могут и как могут. Меня, например, до слёз растрогали осколки стекла, вмурованные в цемент наверху стены, окружающей храм францисканцев. Добрые братья как могли позаботились о том, чтобы воры умылись кровью.
Большинство храмов Иерусалима — католические, так что, если вы склонны избегать любого соприкосновения с католицизмом, в христианские храмы вам почти не придётся заходить. Наш экскурсовод рассказал, как после посещения храма Агонии безутешно рыдала православная женщина: «Нам сказали, что храм — христианский, а там — католики». Осквернилась, бедная. Иерусалим вообще пропитан страхом религиозного осквернения. Мы, конечно, не простираем свою неприязнь к католицизму до того, чтобы и христианами католиков не считать. Мы помним, что Православная Церковь признаёт католические таинства, а это значит, что в их храмах присутствует сам Христос. Мы заходим в католические храмы, молимся, как умеем и крестимся, как православные, стараясь, впрочем, не делать этого слишком демонстративно, чтобы католикам по глазам не било. В Иерусалиме вообще ничего не стоит делать демонстративно.
При этом мы ни на минуту не забываем, что святые каноны запрещают православным молиться вместе с еретиками. Мы решили для себя, что одновременно с ними можем молится, но вместе — никогда. Однажды мы стали свидетелями того, как в кувуклии, на Гробе Господнем, совершалась католическая месса. Мы были тому лишь свидетелями, но не соучастниками, терпеливо ожидая в сторонке, пока они закончат. Тут уж и рядом с ними стоять мы не сочли возможным.
Об отношениях православных и католиков можно говорить до бесконечности, но однажды в Иерусалиме я просто спросил себя: а хотелось бы мне, чтобы из Святого Града вдруг разом исчезли все францисканцы? Есть у меня такая мечта? И я понял отчётливо и однозначно: такой мечты у меня нет, я даже хочу, чтобы францисканцы оставались на Святой Земле.
Католики не только еретики, они ещё западные христиане, то есть католическая церковь, кроме того, что несёт в себе полсотни ересей, ещё хранит культурные традиции западного христианства, в которых нет ничего плохого, которые по–своему даже драгоценны. Это те самые «священные камни Европы», припасть к которым всегда был готов православный Достоевский. Благодаря францисканцам, эти «священные камни» — здесь, в Иерусалиме. Без них Святой Град был бы гораздо беднее.
Нас до глубины души поразил храм Успения Пресвятой Богородицы на горе Сион. Здесь удивительно сочетаются величие, торжественность и трогательное умиление, без которого не может быть богородичного храма. А ведь этого изумительного храма не было бы здесь, если бы не католики, или, во всяком случае, он был бы совершенно другим, а другим ему быть не надо.
***
Нас очень растрогала русская обитель у подножия Елеонской горы. В тишине храма святой равноапостольной Марии Магдалины мы приложились к мощам великомученицы княгини Елизаветы, вспоминая подробности её великой и трагической жизни.
Мы спускались тогда с Елеонской горы, вода у нас была на исходе, но я был уверен, что в русском монастыре нам позволят набрать воды и не ошибся. Удивительная тут вода. Живая. И вообще здесь встречают очень тепло. По–матерински.
В последний день пребывания в Иерусалиме мы захотели ещё раз побывать в русской обители. Каково же было наше разочарование, когда из таблички на запертых воротах мы узнали, что монастырь бывает открыт только два раза в неделю и лишь до обеда. В душе опять всё закипело. На дверях написано: «Русская духовная миссия». А в чём ваша миссия, дорогие сёстры во Христе? В том, чтобы запирать ворота перед людьми? Понятно, что жизненный уклад монастыря плохо сочетается с мирской, а тем более туристической суетой. Но здесь не то место, где может стоять обитель отшельниц, здесь было бы куда уместнее свидетельство об истинах православия, а что вы свидетельствуете запертыми воротами? Ну и так далее.
Да вспомнилось ещё, что русский Троицкий собор, который стоит в центре Иерусалима, тоже открыт лишь до обеда, а потому и в него мы не попали. Больно это всё–таки, когда на чужбине приходишь в русский храм, а его двери перед тобой закрыты.
Потом подумал, что же мы ворчим? В первый наш день, когда мы заплутали по дороге в старый город, Господь вывел нас к русскому монастырю, хотя мы и не думали тогда сюда идти. И монастырь тогда был открыт. И очень нас порадовал. Если бы не это Божье вмешательство, мы бы так сюда и не попали. Чем же мы отблагодарили Господа за милость? Ворчанием о том, что эта милость не была оказана нам дважды? Прости нас, Господи.
***
Угораздило же нас пойти по стенам старого города в полдень, в самое пекло. Северный маршрут по стенам бесконечно длинный, мы бредём уже второй час. Жара под 40. И ни клочка тени. Вода в бутылке стала уже горячей. Вообще–то с маршрута можно сойти на любой из башен. И сразу же нырнуть в тень. И попить чего–нибудь холодненького. Кажется, уже нет никакого смысла проходить маршрут до конца. Есть смысл. Мы проходим маршрут до конца из любви к порядку. Так мы решили, и так мы сделали. Вообще–то такая упёртость наказуема, но Господь милостив.
***
Мы рассекаем Иудейскую пустыню по шоссе на автобусе. Вспоминаю Вяземского:
Природа смотрит дико и несчастно Там на земле как будто казнь лежит, И только небо, скорбям непричастно, Лазурью чудной радостно дарит.Вспоминаю Бунина:
От Галгала до Газы, — сказал проводник, — Край отцов наших беден и дик. Иудея в гробах. Бог раскинул по ней Семя пепельно–серых камней.Вспоминаю Фёдорова:
Над Мёртвым морем — дикий серый прах, Ужасны горы павшей Иудеи, Тропинки вьются в каменных горах, И кажется, что здесь они, как змеи, Повысосали кровь и сок земли И сами сдохли в прахе и пыли.Да, да, да… Мертвенный, безжизненный покой Иудейской пустыни производит впечатление зловещее, ужасающее. Но здесь, в пустыне, так же, как и на кладбище Масличной горы, я чувствовал, с каким самозабвением и надрывом можно любить эти камни.
Представляю, как пустыню пересекает отряд крестоносцев на измождённых конях. Как себя чувствуют парни в стальных рубашках на такой–то жаре? А вот так они себя и чувствуют, что никак иначе они себя чувствовать не хотят. Все они здесь добровольно, любой из них может вернуться на родину, когда пожелает. Но они остаются здесь, паладины «государыни пустыни».
Современный исламский автор Гейдар Джемаль как–то написал: «Израиль — продолжение Иерусалимского королевства крестоносцев». Это неправда, но как хочется, чтобы это было правдой. Устами бы Джемаля, да мёд пить…
Порядки, царящие ныне в Израиле, мне во многом неприятны и не симпатичны. Но вот в пустыне мы видим город. Прекрасные современные дома, построенные из тех самых камней, которых здесь невпроворот. Как будто сама пустыня решила немного структурироваться и породила этот город. Потом мы видим нескончаемые плантации финиковых пальм. Эти пальмы мне ещё в Абхазии надоели, но вот такие плантации приходится видеть впервые. Это же здорово.
И никаких современных домов в пустыне, никаких финиковых садов здесь не было бы, если бы не существовало государства Израиль. Поверьте, это так и есть. Цивилизаторская роль Израиля на этих мёртвых территориях бесспорна.
***
Мы на вершине горы, среди руин крепости Мосада. Жара невыносимая, всё, как в тумане. Экскурсовод рассказывает о героизме защитников Мосады, которые не сдались в рабство римлянам, совершив коллективное самоубийство. Нам надлежит по достоинству оценить подвиг героев, которые резали глотки собственным жёнам и детям. Прошу прощения, но для меня они не герои, а фанатики–изуверы.
Римляне не покушались на душу еврейского народа, не мешали евреям молиться Иегове, не препятствовали богослужениям в храме. Римляне уважали местные обычаи и традиции. И вот теперь нам говорят, что зилоты начли «войну за свободу». Какая там свобода, перестаньте. Зилоты просто страдали абсолютной непереносимостью «чужих». Иудейская война — припадок злобной зилотской ксенофобии, она была развязана ради того, что «чужими» и не пахло на их земле. Только окончательно обезумев от ненависти, горстка кинжальщиков могла начать бросаться на повелителей мира. В результате — храм разрушен, а собственных женщин и детей перерезали сами.
Сверху мы видим прямоугольники римских лагерей. Это лагеря настоящих героев. Римляне совершили невозможное, взяв абсолютно неприступную Мосаду. Римляне мне ближе, потому что они — солдаты порядка.
Впрочем, с таким же чувством я смотрел на израильских военных на улицах Иерусалима. Они не раздражали, на них было приятно смотреть. Это тоже солдаты порядка. А террористы, которые устраивают взрывы на улицах Иерусалима, вы думаете, борются за свободу? Больше свободы, чем они имеют сейчас, в природе не существует. Это всё та же абсолютная непереносимость «чужих». Зилоты вечны.
***
Мы возвращаемся с Мёртвого моря обратно в Иерусалим. С удовольствием слушаю нашего экскурсовода. Мне симпатичен этот человек, наизусть читающий Ахматову и говорящий на таком хорошем русском языке, что могли бы позавидовать многие московские профессора. В Израиле вообще очень приятно встречать русских. И тут я вспоминаю, что он не русский, а еврей. Мысль о том, что мы принадлежим к разным народам вдруг показалась мне до чрезвычайности странной.
Чем мы отличаемся? Мы носим одно и то же имя, он тоже Сергей. Мы говорим на одном языке. Даже если он тут выучил иврит, родным для него так и остался русский. Мы любим одних и тех же поэтов, Анна Андреевна нам обоим не чужая. Неужели нас разделяет кровь? Вот уж не факт. Во мне немало татарской крови, и примешана она, возможно, к угро–финской. Не могу поручиться, что во мне есть хоть капля славянской крови. А он первые 30 лет своей жизни прожил в Душанбе, в его жилах может течь кровь древних персов или хазар. Даже славянской крови в нём может быть больше, чем во мне, а вот крови древних иудеев — вообще ни капли. Неужели еврей из Марокко, наполовину — араб, наполовину — бербер, принадлежит с ним к одному народу, а мы с ним — к разным народам, хотя являемся носителями одной культуры?
Нас разделяет религия? Но он отнюдь не еврейский ортодокс, скорее склонен к религиозному философствованию. Мне это не близко, но таковы же многие мои соплеменники, и на этом основании я никого из них не считал принадлежащим к другому народу.
Так почему же я — русский, а он — еврей? В чём между нами разница? Я понял.
Сергей с большим увлечением доказывал, что царь Ирод — вовсе не изверг, а очень даже хороший правитель. Я тоже понимаю, что убийство младенцев — не единственный поступок, который совершил Ирод за всё своё правление, до этого он мог совершать много достойного уважения, но для меня это не так уж важно. Оправдание Ирода не затрагивает никаких струн в моей душе. Но я с увлечением буду доказывать, что крестоносцы вовсе не были извергами, а ему это вообще–то безразлично. Для него падение Мосады — трагедия, которая отзывается в душе вечной болью. А мне даром. Моя трагедия — падение крестоносного Иерусалима. А для него это не более, чем один факт из тысячи.
Это нечто большее, чем разница в убеждениях, в мировоззрении. У нас в душе разные исторические трагедии. У нас разная боль. И эта разница болевых точек постепенно создаёт разные способы дышать, разную ментальность. Вот так и формируются народы, непохожие один на другой. Значит, мы чужие? Нет, мы разные.
***
В Иерусалиме начинаешь обострённо чувствовать, что случайности — это язык, на котором Бог говорит с нами. В первый свой день мы вошли в Иерусалим через Львиные ворота, выпили по чашечке кофе в небольшой кофейне. В последний день на Святой Земле мы так же ненадолго зашли в эту кофейню и покинули Иерусалим через Львиные ворота. Мы вовсе не имели такого намерения, это получилось чисто случайно. Мы только потом поняли, что таким образом замкнулся круг, и наше посещение Святого Града приобрело черты завершённости. Теперь осталось только вспоминать.
Вспоминаю себя на улицах Иерусалима. В ногах боль, в мозгу туман, в душе раздражение. Здесь очень трудно. Чтобы получить от посещения Святого Града духовную пользу, надо преодолеть эти трудности, а я, похоже, оказался не на высоте. Но память об этом великом посещении ещё может принести свои благие плоды.
Теперь я понял, почему булгаковский Пилат ненавидел Иерусалим. Это город чужих. Его очень трудно любить. А прямолинейный римский воин отнюдь не был склонен к преодолению такого рода заковыристых трудностей. Я же был на улицах Иерусалима каким угодно, но я никогда не был там важным. Может быть, поэтому Господь позволил мне полюбить Иерусалим.
Лабиринт извилистых улочек требует что–то в себе поменять. По ним надо уметь ходить далеко не только в смысле умения ориентироваться. Кажется, я слишком поздно начал понимать, какое свойство души для этого необходимо. Не «терпимость», которая только всех унижает и вас в первую очередь. Не «толерантность», которую справедливо будет считать одним из самых погибельных изобретений современного европейского сознания. Не лукавое «уважение» к религиозным традициям, уважать которые вы по определению не можете. Здесь необходимо рыцарское благородство, в основе которого — умение спокойно и с достоинством дистанцироваться от других, при этом ни одного человека не считая хуже себя. Достаточно ли в нас благородства? Можно было и не спрашивать.
***
Когда мы ехали сюда, я твёрдо знал, что это будет для меня единственное посещение Святого Града. А когда уезжали, вдруг прожгла мысль: неужели я больше никогда не окажусь на этих улочках? Как же так, ведь я только начал учиться по ним ходить, только начало немного получаться. Неужели это никогда больше не пригодится? Пригодится. Теперь я всегда буду бродить по улочкам моих оживших снов. «Аще забуду тебя, Иерусалим, забвенна буди десница моя».
Что значит быть русским?
Часть первая. Народ–хранитель
1. Что значит быть патриотом?
Что значит быть русским сегодня? Этот вопрос некоторое время назад настойчиво задавали на «Радио России». Чаще всего наши соотечественники, пытаясь на него ответить, сначала испытывали растерянность, а потом просто начинали осыпать родной народ всеми мыслимыми и немыслимыми комплиментами. Русские — самые талантливые, самые храбрые, самые терпеливые и так далее до бесконечности. Чем так мучиться, подбирая слова, можно было просто взять перечень всех существующих достоинств и приписать их русским, то есть самим себе.
Что толку в этих самовосхвалениях? Какую истину мы можем таким образом установить? Неужели уверенность в том, что мы самые лучшие, поможет нам жить?
Конечно, люди не виноваты в том, что сумма их ответов наводит на мысль о национальной мании величия. Сейчас всё наше идеологическое пространство сконструировано так, что человек оказывается лишён возможности здраво ответить на вопрос о национальном лице своего народа. С одной стороны, либералы–западники, воинственно требуя политкорректности, настойчиво уверяют нас, что «плохих народов не бывает», то есть никакой народ в принципе не может обладать никакими отрицательными качествами. С другой стороны, противостоящие либералам национал–патриоты готовы растерзать всякого, кто имеет о русском народе некоторые негативные суждения. «Русские круче всех» и точка. А кто думает иначе, тот предатель и безродный космополит.
Получается парадокс. Либералы, преуменьшающие значение национальности и склонные настаивать на «общечеловеческих ценностях» и патриоты, всеми силами нагнетающие вопрос о национальной принадлежности, приводят нас к одному и тому же выводу: о народах, как о покойниках — или хорошо, или никак. И вот в такой–то идеологической атмосфере нам предлагают сформулировать национальную идею. А что мы тут можем сказать кроме того, что мы — хорошие и ругать нас не надо?
Давайте сразу договоримся о следующем. Русский народ — не покойник, а потому говорить о его слабых сторонах и отрицательных качествах можно и должно. Мы не рекламные агенты и никому свой народ не продаём, а потому и не обязаны расхваливать его на сто ладов, старательно скрывая недостатки. Достоинства надо развивать, о недостатках помнить уже хотя бы для того, чтобы не браться за непосильные задачи, а заодно и в качестве лекарства от национальной спеси память о своих слабостях весьма полезна.
Вот говорят: «Это обидно для национального самосознания, не надо об этом говорить». А если бы речь шла о конкретном человеке, что бы мы сказали? «Не надо обижаться на критику, без критики, а особенно самокритики, мы далеко не уедем». Почему мы думаем, что народ многократно обидчивее, чем конкретная личность? С чего мы взяли, что взрослые люди, вполне способные адекватно воспринимать критику и извлекать из неё пользу, если этих людей собрать вместе, в совокупности своей превращаются в обидчивое и легкоранимое дитя, которое надо гладить по головке и вытирать ему сопельки?
Вместе с Петром Чаадаевым мне хотелось бы сказать: «Я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа. Но… я не научился любить свою страну с закрытыми глазами, я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит её, я думаю, что время слепых влюблённостей прошло… Мне чужд, признаться, тот блаженный патриотизм лени, который приспосабливается всё видеть в розовом свете…».
Казалось бы, то о чём говорит Пётр Яковлевич — просто, понятно, вполне бесспорно и несколько даже банально. Но не будем забывать, что за честные и горькие размышления о русском народе Чаадаева объявили сумасшедшим. На размышления Чаадаева общественное мнение ответило не полемикой, а истерикой. Студенты Московского университета заявили, что готовы с оружием в руках вступиться за оскорблённую Чаадаевым Россию. Вот так — с оружием! Не с аргументами, не с доводами, не с опровержениями. Пристрелить подлеца, чтоб другим не повадно было. В конечном итоге поступили гуманнее — прислали не секундантов, а психиатров. Так поступили с одним из умнейших людей России, сердце которого разрывалось от боли за свою Родину, за то лишь, что он посмел обратить внимание на слабые стороны нашего национального бытия.
Во многом Чаадаев ошибался, но он был совершенно прав, утверждая: «Не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе».
Патриотизм — чувство любви к своей Родине, но слепое, нерассуждающее чувство уже не достойно называться любовью, оно скорее напоминает животный инстинкт. Так давайте же сразу договоримся, какую цель мы имеем, отвечая на вопрос: «Что значит быть русским?». Ублажить своё национальное самомнение, доставить удовольствие своим соотечественникам? Или мы хотим быть не столько приятны, сколько полезны своему народу? Тогда нам надо разобраться, как наш народ устроен, к чему он пригоден, а к чему не очень, и, соответственно, как нам жить дальше? Отвечая на вопрос, поставленный таким образом, мы не всегда будем получать удовольствие, придётся принять и переварить несколько горьких истин.
2. Что русские дали миру?
Начать лучше всего с вопроса самого, пожалуй, болезненного, но и самого важного. Не раз мы слышали (от самих себя), что русские — народ талантливый. Так ли это? Вы уже готовы вспомнить череду русских гениев? Но мы немного не об этом. Уточним для начала, что вообще надо понимать под талантливым народом. Академик Игорь Шафаревич делится своим пониманием этого вопроса:
«Талантливость народа в принципе не измеряется талантливостью отдельных его представителей. Когда мы говорим о человеке, то имеем ввиду не идеальную работу какого–либо органа, но ту деятельность, которая свойственна его человеческой индивидуальности… Талантливый народ опознаётся не по количеству его талантливых представителей, но по способности создавать собственные, только этому народу свойственные ценности — плоды народной души, как греческая драма, итальянская живопись, немецкая музыка, русская литература, персидская поэзия… Иногда это продукт творчества нескольких близких народов, например, современная физико–математическая картина мира создана романно–германскими народами».
Принимая такую постановку вопроса, хотел бы внести одно уточнение в термины. Г-н Шафаревич явно ставит знак равенства между понятиями «талантливый» и «творческий», а вот я бы эти понятия разделил. Что значит «творчество», не трудно заключить из происхождения этого слова. Творить, значит создавать нечто новое, такое, чего раньше не было. А вот слово «талант» происходит от названия древней денежной единицы, то есть исконное значение этого слова не объясняет нам, о чём идёт речь в нашем контексте.
Предпочитаю понимать слово «талант» в значении близком к тому, которое оно имеет в известной евангельской притче. Талант — некий дар, сообщающий определённые возможности, способности. Отсюда следует, что некоторые таланты могут быть и не связаны с творчеством. К примеру, человек обладает способностью хорошо приспосабливаться к работе на конвейере. Это своего рода талант, потому что это очень ценная способность, как для самого человека, так и для общества, но это способность нетворческая. Или некий живописец умеет делать идеальные копии работ великих мастеров. В этом нет ни капли творчества, но про такого человека можно сказать, что у него есть свой талант.
Почему так важно разграничить понятия «творческий» и «талантливый»? Это позволит нам понять следующее: не все люди и не все народы обладают способностью к творчеству, но все люди и все народы имеют свои таланты. Исходя из этого немного переформулируем вопрос: обладает ли русский народ творческими способностями? Покажем на примерах, о чём идёт речь.
Древние финикийцы изобрели буквенное письмо, которое позднее заимствовали греки, а от них, к слову сказать, русские и многие другие народы. Это величайшее изобретение — воистину бесценный дар финикийцев всему человечеству. А греки? Они обладали потрясающими философскими способностями, без Сократа, Платона и Аристотеля не было бы всей последующей европейский философии. Уникальные философские способности позднее позволили грекам стать блестящими богословами. Православная догматика выражена и сформулирована гением греков. В области искусства греки были не менее гениальны. Всего последующего европейского искусства просто не существовало бы без греческой трагедии, скульптуры, архитектуры. При этом греки были начисто лишены способностей к государственному строительству. Бесконечной вереницы столетий не хватило грекам на то, чтобы маленькие города–полисы объединились в единое государство. Потом с гор спустились дикие македонские пастухи и мигом объединили всю Грецию.
Римляне никогда не обладали сколько–нибудь заметными способностями в области философии и искусства, в этих областях они не дали миру ничего принципиально нового, так и оставшись подражателями греков. Но государственный гений римлян воистину фантастичен. Маленький городок объединил вокруг себя, по сути — присоединил к себе чуть ли не весь известный тогда мир. Гений Рима — это гений порядка. Самое великое изобретение римлян — это легион. Внутренней организацией и образом действий этой боевой единицы можно восхищаться до бесконечности. Рим всё вокруг себя структурировал, упорядочивал, делал чётким, точным, логичным. Рим подарил Европе право. Римское право и доныне лежит в основе почти всех европейских правовых систем. «Салическая правда» франков по сравнению с римским правом — очень несовершенная юридическая система, и в конечном итоге Европа вернулась к тому, что было подарено ей юридическим гением римлян.
Что касается франков… Вы знаете, что такое любовь? Это возвышенное чувство мужчины к женщине и наоборот… Так вот «любовь придумали французы в XII веке». Не я сказал. Я лишь уточняю, что в XII веке французов ещё не было. «Любовь» в её современном понимании, та самая, которая является одной из основных тем мировой литературы — это изобретение творческого гения франков. Но самый шикарный подарок франков человечеству — рыцарство. И как боевая, и как нравственная система. А готические соборы? В них — душа франков, ставшая душой Европы.
Готы захватили Европу, но, кажется, не знали, что с ней делать. На римских руинах готы не создали ничего принципиально нового, продемонстрировав полную творческую немощь. Следом за ними пришли франки, творческий гений которых создал Европу практически с нуля, почти без опоры на римские достижения.
Арабы создали алгебру. Арабы основали первый в Европе университет. Арабы создали ислам — уникальный религиозно–политический сплав, под очарование которого попали многие народы.
Из современных народов взять хотя бы немцев. Германия — это великая философия — Гегель и Кант. Германия — это великая литература — Гёте и Шиллер. Германия — это великая музыка — Бах и Бетховен. Эти и многие другие имена имеют значение для всей мировой цивилизации. Это то, что «сумрачный германский гений» подарил миру.
Британия. Мировой литературы сегодня не было бы без Шекспира, а русской литературы не было бы без Байрона. Италия — главная вдохновительница всей последующей европейской живописи. Мы не пытаемся сделать этот список исчерпывающим. О чём речь — уже понятно. Теперь вернёмся в этом смысле к России.
Что наша страна подарила мировой культуре? Какие творческие достижения русского народа стали достоянием мировой цивилизации? Приготовьтесь, сейчас будет больно. Во всяком случае, мне было очень больно, когда я это понял. Россия ничего не подарила миру. Нет ничего исконно русского, чем мы обогати бы мировую культуру. Мы ничего не создали с нуля. Русские — народ нетворческий.
Происхождение государственности на Руси — норманнское, то есть германское. Происхождение основной религии — греческое. Всё остальное — западноевропейское, что мы впитывали, начиная с XVII века. Ничего своего. Славянофилы искали это «своё» с фонарями, чем не мало смешили даже не европейцев, а своих же соотечественников. Конечно, можно отыскать на Руси нечто совершенно самобытное, «исконное и посконное», но ни одно из этих чисто русских явлений не заинтересовало ни один народ в мире. У нас никто никогда ничего не заимствовал. Именно это я имею ввиду, когда говорю, что русские ничем не обогатили мировую культуру.
Русский народ породил вереницу гениев. Не столько, сколько любой из основных европейских народов, но это всё же достаточно внушительная вереница. В литературе — Достоевский и Толстой, в науке — Ломоносов и Менделеев, в военном искусстве — Суворов и Ушаков. Это только для примера. Однако, напомню, о чём мудро говорил Шафаревич: «Талантливый народ опознаётся не по количеству его талантливых представителей, но по способности создавать собственные, только этому народу свойственные ценности — плоды народной души». А теперь обратим внимание, когда на Руси начали появляться гении, и вы сами поймёте, что на Руси они ещё и не начали появляться. Первые появились в Российской империи, то есть в XVIII веке и то ближе ко второй половине. Это значит, что за 900 лет своего государственного бытия Русь не дала миру ни одного крупного имени. За почти тысячелетнюю нашу историю мы знаем только имена правителей, кстати, норманнского происхождения. (Ещё имена святых, но об этом чуть позже).
Итак, гении у нас появились только тогда, когда мы начали лихорадочно заимствовать европейские достижения. Блестящий военный гений Суворова целиком и полностью вырос на базе европейской военной науки. Александр Васильевич начальствовал над армией европейского, а не русского образца. Гения Пушкина не было бы без европейской литературы. Если мы представим себе, что Александр Сергеевич не знал ни одного европейского языка и, соответственно, не был знаком с европейской литературой, он не смог бы стать великим поэтом. Гений творит на базе того, что было создано до него. Впитывая достижения своих предшественников, он двигается дальше. А за спиной Пушкина не стояло сколько–нибудь значительной русской литературы, лишь несколько имён, и то в основном его современников. Пушкин создал шедевры, впитав в себя достижения европейской, а не национальной литературы. Так же и все наши гении — не столько национальные, сколько европейские.
Конечно, у нас всё, как всегда, получается со своей национальной русской особинкой, но эту особинку мы добавляем в те формы, в те разработки, которые были созданы до нас. Достоевский и Толстой представляются нам чисто русскими гениями, но не они создали форму крупного романа, хотя, разумеется, много внесли в развитие этой формы, так потому они и известны на Западе, как гении, совершившие прорывы в развитии европейской литературы.
Самый, наверное, характерный пример — балет. «Русский балет» известен всему миру, но балет придумали не русские. Не наш творческий гений создал этот вид искусства. Русский балет — это развитие европейского балета и развитие блестящее, но вряд ли мы имеем право сказать: «Это наше».
Все виды творчества у нас начали по–настоящему развиваться только когда появилось достаточное количество европейски образованных людей, и все наши достижения сделаны на основе западных достижений. Неприятно и даже больно это сознавать, но «лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Мы ещё дойдём до того, какую пользу может принести русским осознание нетворческого характера нашего народа.
Что же касается оскорблённых патриотических чувств… Одного из самых блестящих русских мыслителей — Константина Леонтьева трудно заподозрить в недостатке патриотизма. Так вот Леонтьев писал: «Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости и молодости. Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа ещё не ручательство за будущие богатые плоды… Имея в духе нашем очень мало наклонностей к действительному творчеству, мы всегда носим в сердце какой–нибудь готовый западный идеал».
Давайте уж честно признаем за собой «тысячелетнюю бедность творческого духа» и, скрипнув зубами, согласимся с тем, что русские имеют «мало наклонностей к действительному творчеству». Тогда нам легче будет разобраться с «готовыми западными идеалами».
В другом месте Леонтьев писал: «Насчёт созидания, насчёт творчества… Россия остаётся ещё сфинксом, способна ли она ко всему этому — ещё вопрос и очень горький даже». Ещё бы не горький. Да кто же нам обещал, что на тяжелейшем пути самопознания мы будем питаться исключительно мёдом?
Трудно представить себе слова более горькие, чем те, что вырвались из растерзанного сердца честного русского патриота Петра Чаадаева: «Странное положение народа… участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто неискусным подражанием другим нациям». «Мы ничего не дали миру, ничему не научили его, мы не внесли ни одной идеи в массу идей общечеловеческих… Ни одна полезная мысль не родилась на бесплотной почве нашей родины, ни одна великая истина не вышла из нашей среды». «Присмотритесь хорошенько и вы увидите, что каждый факт нашей истории пришёл извне, каждая новая идея почти всегда заимствована. Но в этом наблюдении нет ничего обидного для национального чувства, если оно верно, его следует принять, вот и всё».
Принять это не так уж просто. К тому же надо сказать, что, хотя в словах Чаадаева есть очень много правды, но это ещё не вся правда о русском народе. Наблюдения Петра Яковлевича для нас — «мёртвая вода», которую по рецептуре необходимо употребить, прежде чем воспользоваться «живой водой». А пока продолжим терзать себе душу.
3. Почему Россия отставала?
Почему же русские сложились, как народ нетворческий? А это, кажется, очень просто. Решительно невозможно изобрести колесо, когда оно уже изобретено. Русские моложе тех народов, в окружении которых сформировались. Когда русский народ обрёл своё национальное бытие, вокруг нас существовало много всего полезного, что оставалось только заимствовать. Если славяне видели, что варяги лучше них умеют наводить порядок, так они и приняли этот варяжский порядок, не имея необходимости ни в каких славянских изобретениях. Если к моменту, когда язычество себя изжило, рядом с нами существовало православие, так не было необходимости придумывать какую–то русскую веру. И Петру I не было ни малейшего смысла совершенствовать стрелецкое войско, если рядом существовали прекрасные образцы европейской военной организации.
Когда–то пытаясь объяснить отставание России от Европы, у нас придумали ссылаться на монголо–татарское иго, дескать, из–за оного ига отстали лет на двести. Объяснение решительно нелепое и к настоящему времени уже многократно опровергнутое. Во–первых, монголо–татарское иго не было для Руси такой уж глобальной катастрофой. Под монголами Русь отнюдь не была лишена возможности динамично развиваться по каким угодно направлениям. Во–вторых, история Европы знала катаклизмы и покруче, однако Франция, к примеру, ни от кого не отстала ни из–за Столетней войны, практически полностью уничтожившей страну, ни из–за чумы, которая выкосила треть населения. В-третьих, от окончания ига до Петра прошло более двухсот лет. Последствия каких угодно катаклизмов так долго не длятся.
Почему–то редко обращают внимание на то, что русский народ просто моложе европейских народов лет на 300. На Западе правление Хлодвига, положившее начало новой европейский цивилизации, по значению сопоставимо с правлением Рюрика у нас. Между тем, Хлодвиг — это V век, а Рюрик — IX. Могучую централизованную державу Карла Великого можно сопоставить с такой же могучей и столь же хорошо централизованной державой Ярослава Мудрого. Карл — VIII–IX век, Ярослав — XI век. Вслед за Карлом у них, так же как и вслед за Ярославом у нас, начался период государственного распада. Всё примерно по одним и тем же законам с отставанием примерно века на три.
Иногда, чтобы потешить русское национальное самолюбие, вспоминают о том, как Ярослав Мудрый сосватал свою дочь Анну за Короля Франции Генриха. Дескать, Ярослав оказал Генриху большую честь, поскольку русский князь был богатейшим правителем огромной державы, а король Франции не всегда был уверен в том, что ему удастся вечером поужинать, он реально контролировал лишь свой крохотный домен — Иль–де–Франс. Так и было, но именно эта история доказывает, что Русь отставала от Европы. Они уже давно миновали фазу первоначального единства, а мы ещё в ней находились.
Кажется, нет ничего неловкого в том, чтобы быть народом молодым. Мало ли кто от кого отставал только потому что позже вышел на историческую арену. Японцы, к примеру, на пару тысяч лет моложе китайцев. И нет ничего ни удивительного, ни обидного для японцев в том, что они позаимствовали у китайцев иероглифы. Дурак только будет себе лоб расшибать над разработкой письменности, если можно взять готовую.
Но с Россией всё сложнее. То, о чём мы сказали, объясняет многое, но далеко не всё. Дело в том, что Россия, начав государственное строительство позже Европы века на три, отстала от неё, например, в развитии художественной культуры столетий на шесть. Русские не были лишены возможности путём активных заимствований сократить разрыв в развитии со старшей сестрой — Европой, но мы не только не сократили этот разрыв, а как будто сознательно увеличили его раза в два. И вот этот факт требует уже совершенно иных объяснений.
Возьмём, к примеру, литературу. На Руси до XVIII века литературы не было вообще. Были, конечно, памятники письменности и даже мастера слова, а вот литературы почему–то не было. Надо ли объяснять, что «Поучение» Владимира Мономаха — не литература. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона — не литература. И переписка Ивана Грозного с Курбским, и писанина протопопа Аввакума — не литература. Литература, например, «Слово о полку Игореве». Но этот «памятник древнерусской литературы» подозрительно единичен и странным образом был обнаружен только в XIX веке, то есть ни по чему не похоже, что он когда–либо являлся частью литературного процесса.
У нас был чудный фольклор, изумительные былины. Про Святогора, Микулу Селяниновича, Илью Муромца, Алёшу Поповича, Добрыню Никитича можно было забабахать шикарный цикл романов не слабее артуровского цикла. Фольклорные сюжеты, произведения народной души, давали для этого интереснейший материал. На Западе ведь где–то так литература и возникала. Из смутных народных преданий, из отрывочных упоминаний в хрониках родились образы короля Артура и рыцарей круглого стола. Цивилизация франков уже в XII веке породила такие литературные памятники, которые и по сей день не утратили своего значения. Достаточно назвать Кретьена де Труа и Вольфрама фон Эшенбаха. Русские почему–то вообще не хотели заниматься литературой.
Академик Дмитрий Лихачёв предложил считать так называемую «Древнерусскую литературу» «Русской литературой XII–XVII веков». Этим проводилась мысль о преемственности, о непрерывном литературном процессе XII–XX веков. Зачем мы так унижаемся, предпринимая жалкие попытки доказать, что «у нас всё было своё». Больше достоинства было бы в том, чтобы со смирением признать — не было у нас литературы до XVIII века. Те образцы древнерусского красноречия, которые скрепя сердце, можно признать за литературу, легко уложатся в один объёмный том. Это то, что мы наработали за 9 веков.
Первые образцы русской литературы, которые начали появляться в XVIII веке, это ученические опыты, тяжеловесные и несовершенные, сегодня уже не имеющие никакой эстетической ценности. И гений Пушкина расцвёл отнюдь не на почве «древнерусской литературы», а на почве литературы европейской. Из «своих» Пушкин мог опираться на Батюшкова, Жуковского, Карамзина, Державина, но это всё его старшие современники, а отнюдь не древние русские авторы.
Великая русская литература появилась лет через сто после начала активного впитывания достижений европейской культуры, и появилась она только благодаря этому впитыванию. А вы когда–нибудь задумывались о том, что вся наша великая литература укладывается в столетний период? Это за тысячу лет государственного бытия.
С изобразительным искусством — та же история. На Руси никогда не было живописи. Надо ли объяснять, что иконопись — не живопись, она имеет совершенно другие задачи и пользуется иными средствами. Живопись робко и несмело начала появляться у нас в XVII веке. При этом на один из первых русских портретов — «парсуну» Скопина — Шуйского без слёз смотреть невозможно. Великая русская живопись появилась только в XIX веке. Понятно, что она опиралась на европейские традиции. Та же история с музыкой и ещё много чем.
И вот теперь представьте себе трагическую растерянность русских интеллектуалов начала XIX века. Они, люди блестяще образованные благодаря знанию европейских языков, хорошо понимают: на Западе — многовековая великая литература, а у нас — первые пробы пера. У нас даже ещё и языка такого нет, на который можно перевести, к примеру, Данте. Вы только вдумайтесь: европейский поэт XIVвека в России XVIII века был вообще непереводим, потому что невозможно изложить «Божественную комедию» языком, извините, Василь Кириллыча Тредьяковского.
В военном деле мы не более, чем ученики Европы, пусть даже и очень способные. У нас полностью отсутствует философия, да и западную мы не хотим осваивать, при этом наше богословие не оригинально и полностью заимствовано у греков. Но самый потрясающий факт заключается в том, что у русских на начало XIX века почти полностью отсутствовала своя историография. Это трудно понять: народ с историей без малого тысячелетней не знал своей истории — одни только отрывочные сведения и смутные предания.
Первые русские исторические труды принадлежат у нас Ломоносову, Татищеву, Щербатову, Болтину. Но, во первых, эти работы появились лишь в XVIII веке. Во–вторых, они фрагментарны и общего представления об истории России не давали. В-третьих, они выходили микроскопическими тиражами и русской читающей публике были почти не знакомы, кроме прочего и потому, что были не очень–то читабельны.
Первым русским историком можно считать Карамзина, а ведь его «История государства Российского» начала выходить лишь с 1818 года. Какое значение это имело для русских, можно судить по словам Пушкина: «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего Отечества, дотоле им неизвестную». Это был эффект разорвавшейся бомбы. А граф Фёдор Толстой воскликнул: «Оказывается, у меня есть Отечество!».
Граф был прав. Если нет истории, то и Отечества нет. А история у нашей страны появилась незадолго до её тысячелетия. Так вот ещё раз предлагаю заглянуть в растерзанную душу честного русского интеллектуала начала XIX века. За что ему было так уж сильно уважать свою страну? Благодаря чему он мог стать патриотом?
И вот гуляет такой русский граф по русской столице — городу с иностранным названием, который построили иностранцы по иностранным образцам. И сам его графский титул — это титул Священной римской империи, к русской аристократии никакого отношения не имеющий. Граф бывал в Европе и хорошо знает, что там великая культура, а у нас — ничего, только то и хорошо, что успели у иностранцев содрать, да и в том пока не преуспели. Вся великая русская культура — впереди, граф в будущее заглянуть не может. А Пушкин пока ещё безобразничает «в садах лицея», совершая несложный выбор между Апулеем и Цицероном, да ещё любит время от времени с гусаром Чаадаевым бутылочку «Мадам Клико» раздавить.
Граф — умный, образованный, честный и добрый, он искренне желает любить свой народ, но как, если даже языком своего народа он владеет слабо, а упрекать его за это нелепо. Если бы он не владел свободно французским, то и образованным не стал бы, потому что, владея только русским языком доступа к серьёзному образованию не получить. И вот вы спросите этого графа: «Что значит быть русским?». Так он же просто вынужден будет вам ответить, что ничего это ровным счетом не значит, и нет у русских иного выхода, кроме как ошалело догонять Европу. То есть никакого русского пути не существует, мы просто недоразвитые европейцы.
Почему же граф не мог сказать, что вовсе мы от Европы не отстали, а просто у нас другой тип цивилизации? Да не было возможности так сказать при честном подходе к вопросу. Другой тип цивилизации это, к примеру, Китай. Дурак бы только поставил китайцам в упрёк их, скажем, техническое отставание от Европы, они просто шли другим путём и на этом китайском пути создали уникальную, совершенно самобытную культуру. Если китайцам было что у Европы позаимствовать, так и Европа многое взяла у них с восхищением. Конфуций, великая поэзия, военные трактаты, фарфор…
А Россия? Европе нечего было у нас взять, мы ничего не могли предложить Европе, могли только брать у неё. И где же тут «другой тип цивилизации»? Где наши самобытные национальные достижения, которые мы могли бы предложить другим народам? По всем признакам, русский мир — это часть европейского мира, только отстающая его часть. Говорят, что Пётр I погнался за Европой, своротив Россию с её национального пути. Да в чём же был–то этот путь?
Так что не торопитесь проклинать русских западников, таких как Чаадаев. Он всего лишь пытался быть честным, а русские нервы не выдержали его откровений. Пётр Яковлевич и другие русские интеллектуалы, подобно ему мыслившие, были правы на 90 %, вот только в оставшихся 10 % была самая главная часть русской правды, которую они не поняли. Не могли понять. Не имели возможности. В чём была их главная трагедия? В их эпоху, для того чтобы стать образованным и вообще культурным человеком, надо было говорить и мыслить по–французски. А чтобы понять русскую самобытность, особенности русского пути, надо было говорить и мыслить по–русски. Правду надо было искать не у Вольтера, а у русского крестьянина, но невозможно же этого требовать от русской интеллектуальной элиты.
Этот трагический разрыв между культурой и правдой был устранён гением Пушкина. Кажется, мы до сих пор не оценили величие его национального подвига. Он оказался способен говорить на одном языке и с Чаадаевым, и с Ариной Родионовной. И он превзошёл Чаадаева интеллектуально. Благодаря своей безграмотной няне. Чуткий Пётр Яковлевич прекрасно это понял. А вот Арину Родионовну вообще не интересовало, о чём баре спорили.
4. Главный русский талант
Пушкин писал: «Россия никогда ничего общего не имела с остальной Европой, история её требует другой мысли, другой формулы».
С гениями трудно. Взять, к примеру, математика Ферма. Сформулировал свою знаменитую теорему и сделал приписку: «Доказательство тривиально». То есть не стоит тратить бумагу и чернила на запись доказательства, которое и так всем понятно. И вот с тех пор вся мировая математическая мысль не может эту теорему доказать, хотя её правота не вызывает сомнений.
Так же и Пушкин. Он трактатов не писал. Высказал мысль, которая по тем временам была открытием, и успокоился. Дескать, доказательство и так понятно. А непонятно ничего до сих пор. В чём же заключается другая формула, которой требует история России? В чём конкретно заключается принципиальное отличие России от Европы?
Помню слова хорошей советской песни о России: «Ты веками непонятна чужеземным мудрецам». Ну а собственным–то мудрецам Россия понятна? Где эти русские мудрецы, которые Россию расшифровали? А они до сих пор о России спорят и ни до чего не могут договориться.
Тютчев вот тоже с большим достоинством развёл руками: «Умом Россию не понять». Эти слова очаровывают, но они совершенно бесполезны и даже вредны. Если мы согласимся с тютчевским приговором, у нашей страны нет будущего. Один современный острослов написал: «Давно пора, ядрёна мать, умом Россию понимать». Ну вот мы и пытаемся, не взирая на скудность наших сил.
Похоже, что разгадку русской самобытности надо искать как раз в связи с нашим фантастическим отставанием от Европы. То, о чём мы говорили выше в достаточной мере это отставание не объясняет, надо искать корневую причину.
Русские как народ позже других европейских народов вышли на историческую арену? Это так. Но почему же не только не сократили, но и увеличили разрыв с Европой? Русские — народ не творческий, и потому не создали своей самобытной культуры. И это так. Но почему не позаимствовали у Европы культуру на несколько столетий раньше? Ведь была возможность. Если кому–то монголо–татарское иго продолжает глаза застить, тогда объясните, почему хотя бы с конца XV века, когда от татар и след простыл, мы не пытались ничего заимствовать у Европы? Там как раз в это время появились блестящие образцы художественного творчества, но русские почему–то остались совершенно равнодушны к великим достижениям европейской культуры, словно не обратив на них внимания.
Возьмём русский XVI век. Россия — огромное и уже неплохо сплочённое государство. Внешнеполитические проблемы русские щёлкают одну за другой, как орехи. Внутриполитических и экономических проблем у России не больше, чем у любого европейского государства. Так почему же вот тогда мы почти ничего у Европы не позаимствовали?
Русские не способны к заимствованиям? Вот уж ровным счётом наоборот. Русские как раз виртуозы заимствований и, кажется, мы это хорошо доказали, начиная с XVIII века. Так почему же не с XV? Почему на 3 столетия позже?
Мне кажется, я понял. Вы никогда не замечали, что русские ко всему относятся очень серьёзно? Нам совершенно чуждо легкомысленное, игривое отношение к проиходящему — мы ничего не делаем «понарошку». Это можно было бы подтвердить великим множеством примеров, но для нас сейчас важен самый главный и самый огромный пример — то, как русские приняли православие.
Если честно, то и самого русского народа тогда ещё не существовало, но этнические элементы, из которых он позднее сформировался, уже были, и некоторые грядущие национальные черты весьма отчётливо прослеживались. Так вот русские приняли православие невероятно серьёзно.
Казалось бы, князь Владимир крестил Русь по причинам чисто политическим. Язычество очевидным образом себя изжило, оно не позволяло ни народ в узде держать, ни решать внешнеполитические проблемы. Очевидно, это были главные причины, побудившие князя сменить веру. Нелепо было бы представлять правителя могучей державы в качестве прекраснодушного искателя истины. Но едва лишь князь принял новую веру и был осведомлён о её основном содержании, как уже готов был даже благом государственным рискнуть, только бы ни в чём не противоречить православию. Помните, как он хотел отменить смертную казнь, сказав: «Греха боюсь». Потому что, если сказано: «не убей», то так это и надо понимать, и жить надо, как веришь, а не так, как это выгоднее и удобнее. Насилу греческие священники убедили ревнующего о вере князя, что государственная смертная казнь — не есть убийство.
А уже сыновья Владимира, Борис и Глеб, стали святыми. Вы можете себе представить, чтобы сыновья принявшего крещение Хлодвига стали святыми? При всём уважении к франкам, первые Меровинги были ох как далеки от святости, столетия потребовались на то, чтобы христианство вошло в их кровь. А у русских — сразу, с полоборота.
Ещё заметьте, что Борис и Глеб совершили, может быть, один из самых тяжёлых подвигов веры. Вы только представьте себе, что значит для прирождённых властителей и профессиональных военных дать себя убить без сопротивления. Но в сердца Бориса и Глеба православие вошло уже так глубоко, они относились к нему настолько серьёзно, что готовы были отдать и жизнь, и воинскую честь, и отцовский трон, только бы самим не убивать, только бы не проливать братскую кровь.
Русский народ удивительно быстро и глубоко впитал православие ещё в самый период своего зарождения, буквально с молоком матери. Русского народа без православия никогда не существовало. Православие стало для русских не просто главной ценностью и больше, чем национальной идеей, ведь ценности и идеи можно менять на другие. Православие стало для русских неотторжимой частью русской души, а душу на другую не поменяешь.
Вы теперь понимаете, почему русские на протяжении столетий упорно не желали заимствовать никакие достижения западной культуры? Нам это было не надо, потому что у нас было православие, которое мы приняли настолько серьёзно, как ни один народ в мире. Православие заменило нам всё.
Почему никогда не существовало и до ныне не появилось русской философии? А зачем она нам, если у нас было богословие? Православное богословие создавало целостную картину мира во всех его проявлениях. После этого у русских не оставалось никаких вопросов, на которые могла бы ответить философия.
Почему у нас не было живописи? Да не видели наши большой ценности в материальном мире, и не хотели морочиться с тем, чтобы его отражать. Ведь мир духовный куда важнее, и вот как раз его–то и научились переносить на плоскость красками с такой ошеломляющей правдивостью, что и доныне душа замирает. Русское создали изумительную иконопись. Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий живописали не плоть, а дух. И неужели после этого нас можно было соблазнить «говядиной Рубенса»? Тьфу…
Почему у нас не было литературы? А русским не было интересно морочиться с историями из жизни людей. Детально расписывать убогие земные дрязги — что может быть скучнее? Вот если в сердце человеческом горит божественная искра — это да, это интересно. Но об этом рассказывают не романы, а жития. Нам не нужна была литература, когда у нас были жития святых.
Агиография заменила русским не только литературу, но и историографию. История Руси — не история князей, а история святых. Историю, которая отражает мелочные и гнусные политические интриги, русские очень долго не хотели писать, а история русской святости была нам хорошо известна, что куда важнее.
Русские до XVIII века не только сами не пытались создавать самобытную светскую литературу, но и западную решительно не хотели заимствовать, потому что видели в ней опасность для православия. И ведь нисколько в этом не ошибались. Разве Рабле и Бокаччо не растлевали бы русский народный дух? Разве образцы западного суемудрия не разрушали бы в наших душах целостную картину мира? И даже великая и, казалось бы, христианская западная живопись разве не воспевала плоть вместо духа, а тут недалеко и до обожествления плоти, то есть до язычества. Русские нисколько не ошибались, считая это всё опасным для духовного состояния народа.
С поразительным и никогда, кажется, не виданным в истории стоицизмом Русь замкнулась в себе и не отвечала на стук только бы ничем не повредить родному и бесценному православию. Ради сохранения православия в чистоте Русь принесла неисчислимые жертвы, отказалась от многого не столь уж и вредного, отреклась от достижений культуры, значительная часть которых в общем–то православию и не противоречила. Но не бывает служения без жертв. Любой человек, определяющий жизненные приоритеты, вынужден отрекаться от чего–то хорошего, но не самого для его главного.
Иногда, конечно, немного обидно. Кому было бы плохо, если бы Нестеров и Васнецов появились у нас не в XIX, а в XVI веке? Они бы тоже на свой манер послужили Церкви, и «манер» у них был вполне православный. Но если бы мы тогда отворили ворота светской культуре, полезла бы прежде всего «говядина Рубенса». То же самое и с литературой, и с философией. Русские отрекались от хорошего, ради наилучшего.
Нужно было время, нужны были века для того, чтобы православие вошло в нашу плоть, для того, чтобы слова «русский» и «православный» стали синонимами. Иван Грозный как–то сказал: «Нам греки — не Евангелие, у нас вера русская». Свершилось. Некогда заимствованная нами вера стала нашей, исконной. Наше национальное самосознание опиралось уже не на греческую, а на русскую православную традицию. С той поры уже ничто не могло разлучить Русь и Православие. И то ещё не сразу пришло время «рубить окно» в Европу. И то мы много потеряли от столкновения с западной культурой, и судорожные попытки создать свою светскую культуру на основе западной, далеко не всегда были на пользу русскому национальному самосознанию. Но мы в общем–то устояли, Россия осталась православной. А вот если бы мы обратились к европейскому опыту на несколько столетий раньше, могли бы вообще потерять своё национальное лицо, превратившись в народ–лакей, единственное историческое предназначение которого — чистить европейские сапоги.
Теперь не трудно ответить на вопрос, в чём главный русский талант. Русские обладают повышенной религиозной чувствительностью. Мы религиозно талантливы. И наше главное преимущество перед народами европейскими в том, что мы гораздо религиознее, чем они. На этом таланте основано и главное историческое предназначение русского народа — быть хранителем православия, как высочайшей духовной ценности, которую в такой глубине и чистоте ни один народ мира не оказался в состоянии сохранить.
Бог дал русским такие огромные территории именно затем, чтобы эти территории были православными. Русская государственная мощь, от которой ещё и доныне не мало осталось, для того только и возникла, чтобы русский народ мог исполнить своё историческое предназначение главного в мире хранителя православия. С Россией по–прежнему вынуждены считаться ведущие страны мира, значит они вынуждены считаться с православием.
Пушкин писал: «Греческое вероисповедание, отличное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер». Конечно, у всех народов вероисповедание в той или иной мере оказало влияние на национальный характер, но наш характер, кажется, целиком вылеплен православием. А это значит, что, лишившись православия, русский народ потеряет своё лицо, и на месте лица у него будет нечто такое, для чего трудно отыскать приличное слово.
Пушкин ещё уточняет: «У греков мы взяли Евангелие и предание, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева».
Это удивительная подробность. Речь, оказывается, вообще не идёт о влиянии одного народа на другой, да мы же и сами знаем, насколько русские не похожи на греков. Нам оказалось близким православие, но сами греки близкими не оказались. У нас всё ровно наоборот. Русские приняли православие из греческих рук, но не от греков, а от Бога. Русские отделили влияние религиозное от влияния национального. Греки, как народ древнейший, не православием созданы, у них и кроме православия много там всего, что русских совершенно не заинтересовало. Бог лепил русских без участия греков и не для подчинения Константинополю, а для подчинения Царству Небесному.
Бердяев, человек не слишком религиозный и, уж во всяком случае, не церковный, но достаточно чуткий, хорошо разглядел эту особенность русских: «Русский народ — религиозный по своему типу и по своей душевной структуре». И далее: «Русский народ по своей вечной идее не любит устройства этого земного града и устремлён к Граду Грядущему, к Новому Иерусалиму, но Новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он с ней связан, и она в него войдёт».
Теперь понятно, в чём была трагическая ошибка наших западников. Они не видели ценности в Православии, не умели по достоинству ценить русскую религиозность и, озираясь вокруг себя, не находили на Руси ничего ценного, ничего достойного внимания. А ведь если исключить Православие, то на Руси, и правда, нет ничего достойного внимания.
Достоевский с возмущением рассказывал о свидании в Баден — Бадене с Тургеневым, который заявил, что главная мысль его романа «Дым» состоит в фразе: «…Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, никакого волнения в человечестве».
Сначала мне трудно было поверить в то, что наш добрейший Иван Сергеевич мог такое сказать. Потом вспомнил его романы, все до единого мною прочитанные, и понял, что он очень даже мог это сказать и даже более того — никак иначе он сказать и не мог. Дело в том, что ни в одном романе Тургенева нет ни одной религиозной идеи. Религия, видимо, совершенно его не интересовала. И давайте тогда с его позиций поставим перед собой тот же вопрос: какой «убыток» случится «в человечестве», если Россия провалится под землю? Если не видеть ценности в православии, то убытка не случится ровным счётом никакого. Кроме повышенной религиозности Россия не содержит в себе ровным счётом ничего такого, об исчезновении чего человечеству стоило бы пожалеть. Если же понимать, что Россия — главный в мире хранитель православия, которое есть высочайшая духовная ценность, тогда всё наоборот: исчезновение России с карты мира обернётся для человечества катастрофическим убытком.
Но может ли вообще существовать какой–то там «религиозный талант»? Мы понимаем, что такое талант технический, или художественный, или военный. А религиозный — это как? Нам кажется, что все народы были когда–то в равной степени религиозны, а потом во всех религиозность начала в равной степени ослабевать. Но это далеко и решительно не так.
Народы в разной степени религиозны. Есть народы вообще безрелигиозные, например, китайцы. Факт поразительный: наидревнейший и самый большой народ в мире вообще не создал никакой религиозной системы. В качестве «китайской религии» иногда называют конфуцианство, но это нелепейшее недоразумение. Конфуцианство — не религия. Это этическая система, это целостное мировоззрение, это образ мысли и чувства, но не религия. Религия — это связь между человеком и Богом (богами), а эту тему Конфуций вообще почти не затрагивает. Он, к слову сказать, вовсе не был атеистом, время от времени он упоминает о «Небе» с большой буквы, имея ввиду высшую силу мироздания, но он никак не регулирует отношения человека и Неба, все его мысли посвящены земле.
Похоже, что конфуцианство назвали религией от растерянности перед тем фактом, что такой великий народ не имеет религии вообще, но это всё же факт, в какую бы растерянность он нас не повергал. И ни одна инонациональная религиозная традиция сколько–нибудь заметным образом в Китае не прижилась. Этот воистину великий народ начисто лишён религиозного таланта.
А возьмите турков. Они приняли ислам от арабов, но стал ли ислам частью их души? Турки с такой поразительной лёгкостью отреклись от ислама, что стало понятно: ислам всегда был для них чем–то внешним, не главным. Он был для них одеждой, но он не вошёл в их кровь.
А кавказские народы, например, чечены? Они приняли ислам очень поверхностно, толком его не знают и отнюдь к этому не стремятся. Они и до сих пор живут не столько по шариату, сколько по адату — родоплеменному кодексу, кажется, смутно осознавая разницу между шариатом и адатом.
А Франция? Это же сердце Европы. Это главный источник великой европейской культуры. И это главный предатель христианства в Европе. Римский папа Иоанн — Павел II, посещая ту или иную страну, всегда выбирал для своего визита некий слоган. Для этой страны он выбрал такой: «Франция, что ты сделала со своим крещением?». Франция предала своё крещение, втоптала его в грязь. Франция фактически отреклась от Христа.
В 1789 году там произошла жуткая богоборческая революция. Богоборцы были у власти во Франции куда как поменьше, чем у нас большевики, уже Наполеон фактически реабилитировал католическую церковь. Было время и все возможности преодолеть последствия этого богоборческого припадка. И припадков больше не было, но вера так стремительно начала выветриваться из души французов, что сейчас там христианства меньше, чем было у нас при большевиках. Французский народ, всесторонне одарённый и очень творческий народ, оказался в конечном итоге религиозно бездарным.
Англичане не уберегли католицизм, скатившись к какому–то аморфному, безликому и почти бессмысленному англиканству. Согласиться с тем, что монарх является главой церкви могут только люди, для которых христианство ничего не значит.
А Лютер, вы думаете, религиозный гений? Разве что гений разрушения. Он не принёс в христианство ни одной творческой идеи. Все его идеи — отрицательнее. Он просто разрушил католицизм, оставив от него «рожки да ножки». Ломать — не строить.
Тем временем Русь твёрдо стояла в вере. За тысячу лет мы не отступили от православия ни на единую черту. Никакие ереси у нас не встретили поддержки и не прижились. Никакими реформами мы не позволили себя соблазнить. Народ–хранитель безупречно соответствовал своему главному историческому предназначению.
Да, это нетворческая задача. Это задача героическая. От русских потребовалось невероятное напряжение всех нравственных и духовных сил, мы проявили готовность и способность пойти на любые страдания, принести любые жертвы, только бы сохранить нашу веру чистой и неповреждённой. Даже богоборческий припадок большевизма не смог убить веру в русской душе, напротив, сообщив православию новый импульс жертвенного героизма. Так проявила себя религиозная одарённость русских.
И что же сегодня? А сегодня мы склонны считать, что религиозность у нас сильно ослабла и вообще принадлежит прошлому. Но сам факт того, как низко мы сегодня ценим религиозный уровень своего народа, говорит о том, что мы поднимаем планку очень высоко и до этой планки, разумеется, не дотягиваем. Мы предъявляем к себе очень высокие религиозные требования и тут же отмечаем, что мы этим требованиям не соответствуем. Так в этом–то наша религиозность и проявляется.
Всё познаётся в сравнении. Протоирей Всеволод Чаплин, размышляя о том, чем Россия отличается от Запада, пишет: «Наша с ними разница в том, что мы борьбу с безбожием выиграли, а они — проиграли». Задумайтесь над этими словами. Мы много в чём проигрываем Западу: в экономике, в социальном обеспечении, в развитии правовой системы, в развитии системы политической. Но мы выигрываем в том, в чём мы по–настоящему сильны — в борьбе с безбожием. Так оценим же, наконец, по достоинству не только наши слабости, но и нашу силу.
Отец Всеволод пишет: «В Антверпене русский православный приход занял центральную часть огромного католического храма, а местная католическая община перешла в маленькую часовню в полуподвале. В брюссельском католическом храме св. Екатерины православным отдали маленький придел, приютившийся у южной стены недалеко от входа. Теперь в центре храма, на мессе, бывает человек 40, а в приделе сотни полторы… Запад, Запад!.. Неужели ты никогда уже не проснёшься?».
Удивительное чувство возникает, когда говорят о православном рассвете и угасании Запада. Мы–то привыкли видеть в Европе образец, которому лет через сто в лучшем случае хотя бы в основном будем соответствовать. И вот оказывается существует такой ракурс, который позволяет увидеть наше бесспорное превосходство над Европой. И в этом нет никакого преувеличения.
В Европе каждый год закрываются всё новые и новые храмы — в них никто не ходит. А в России каждый год открываются всё новые и новые храмы, в ныне действующих на службе — битком. Вот поставили у нас в Вологде на окраине города небольшой деревянный храм прп. Сергия Радонежского. И сразу же на литургии православные чувствуют себя, как шпроты в банке. При этом не похоже, что хоть в одном из храмов Вологды заметно убыло людей. Кажется, если бы рядом с новым храмом поставили ещё один — и он стоял бы переполненным. И если бы ещё пять храмов в Вологде открыть — все были бы востребованы. И так по всей Руси.
Только слепой может не увидеть повышенной религиозности русских. При этом некоторые «зрячие» очень даже могут скептически усмехнуться: вот если бы мы лучше всех умели делать автомобили, а религиозность — какой–то уж очень несовременный талант.
Меня всегда смешит, если религиозность объявляют несовременной, устаревшей. Ведь если Бога нет, то религия — обман, а обман и в средние века никому не мог идти на пользу, с чего бы этому обману быть тогда современным? Если же Бог есть, то в каком смысле религия может устареть? Законы мира — всё те же, и вменяемому человеку не может быть безразлично, что с ним будет поле смерти. Религия существует для того, чтобы в мире ином нам было хорошо. Разве для современных людей это менее актуально? Неужели мы предпочитаем рассекать на крутой тачке, а потом вечно мучиться? Кажется, талант, позволяющий обустроить вечную жизнь, куда более значим, чем все те таланты, которые помогают комфортно устроиться в этой кратковременной жизни. И если кто–то не верит в жизнь вечную, так это его личная беда, а вовсе не требование времени.
Хочется всё–таки и в этой жизни устроиться поудобнее? Так православие и в этом нам поможет. Один наш батюшка как–то рассмеялся: «Какой демографический кризис? У меня на приходе уровень рождаемости — как в исламских странах». Вот ведь чудеса… Уровень рождаемости напрямую зависит от уровня религиозности уже хотя бы потому, что православные не убивают своих детей, то есть не признают абортов. И в целом религиозные люди более консервативны, то есть нацелены на создание многодетных семей. Это же относится к мусульманам.
Теперь смотрите, что происходит в Европе. Резкое падение уровня религиозности привело к резкому падению уровня рождаемости. Естественная убыль населения возмещается искусственно — через миграцию из исламских стран. Ежегодно процент исламского населения в странах Европы увеличивается. Те же французы смотрят на этот процесс безразлично и равнодушно, то есть, как они считают «толерантно и политкорректно». А толерантность и политкорректность — это понятия, порожденные безрелигиозным сознанием, они знаменуют полное равнодушие к религиозным ценностям. Толерантность — это духовный СПИД, то есть подорванный духовный иммунитет. Французов постепенно поглощает инонациональная и инорелигиозная культура, потому что они лишены сопротивляемости, национальный организм не борется.
Понятно, что когда мусульман во Франции станет большинство, про толерантность и политкорректность в этой стране забудут навсегда, потому что мусульмане религиозны, а следовательно эти понятия им совершенно чужды. Мусульмане прекратят разговоры о «мультикультурной Франции», эта страна опять станет монокультурной, то теперь уже исламской. А остатки французского народа будут вкалывать в качестве рабов на исламских предприятиях Франции. Вот к таким последствиям уже в этом веке приведёт Францию и некоторые другие европейские страны утрата христианских ценностей.
То же самое может произойти и с Россией? К нам таджики валом валят? Есть такой момент. И никакие барьеры на пути исламской миграции в Россию не помогут. Этому процессу мы можем противопоставить только увеличение рождаемости. А увеличение рождаемости может обеспечить только религиозность. Если в православных приходах рождаемость — как в исламских странах, значит судьба России зависит от того, сколько у нас будет православных приходов.
Сегодня православие в России динамично развивается. При сохранении этой динамики у русского народа куда как лучшие перспективы на ближайшее будущее, чем у народов европейских. И уровень жизни у свободных русских людей будет куда как повыше, чем у французских рабов на исламских предприятиях.
***
Сегодня поиски «национальной идеи» в России не вызывают ничего, кроме горького смеха. Наши политологи всё хотят предложить что–нибудь посовременнее, то есть полиберальнее, чтобы Европе понравилось. А православие, оно ведь архаично, не правда ли? Давайте согласимся с этим. И тогда добро пожаловать на общеевропейскую помойку. Европа на наших глазах кончает жизнь самоубийством, а мы всё стараемся ей подражать. Только русская религиозная одарённость может сегодня спасти Россию от горькой и трагичной судьбы Европы. Если мы признаем православие высшей ценностью русского народа — у нашего народа есть будущее.
Так что с национальной идеей на самом деле всё очень просто. Архиепископ Серафим (Соболев) писал: «Истинная русская идеология есть не что иное, как православная вера и основанная на ней русская жизнь во всех её областях, начиная с личной и кончая государственной». Вот и всё, господа. Никакой другой национальной идеи у нас никогда не будет. Надо просто посмотреть правде в глаза, даже если она и не всем нравится. Народ, сформированный православием «от и до» ничем, кроме православия, дышать не может. Вам всё же хочется дышать чем–нибудь другим? Нет проблем. Извольте задохнуться.
Понятно, почему нам так трудно принять православие в качестве национальной идеологии. Значительное количество русских людей — атеисты. Православие нас с ними не объединит, а нам хочется «идею для всех». Но это глупость полная, потому что «идеи для всех» не бывает. Государство всегда вынуждено выбирать, на какую группу населения опираться. Вы думаете, либерализм во Франции нравится всем? Ультраправым он, например, совершенно не нравится. Но Франция сделала свой выбор и ультраправые там никогда и ни на каких выборах не победят. А Россия до сих пор пытается выбора избежать. Но выбирать придётся. Между двумя утверждениями: «Бог есть» и «Бога нет» компромисса не существует.
Без православия в существовании России нет никакого смысла. Если наша страна откажется от своего исторического предназначения, зачем она тогда нужна? Если мы хотим выжить, атеисты в нашей стране должны стать той группой населения, взгляды которой государство не поддерживает. Обидно за них, но что же делать? В исламских станах атеисты тоже, очевидно, не очень уютно себя чувствуют, да ничего, живут.
Вообще, русские атеисты представляются мне самыми несчастными людьми на земле, а если они этого не осознают, то это их самая большая беда. Европеец, оставаясь без веры, всё же ещё много что имеет — великую светскую культуру, традиции борьбы за свободу, веками выстраданную демократию и прочую лабуду, но для них–то это не лабуда. Француз–безбожник очень даже может быть патриотом, его человеческому достоинству есть на что опереться. А вот у русского атеиста Родины нет, он просто вынужден презирать Россию. За что с атеистических позиций уважать нашу страну? Русский народ ничем не обогатил мировую культуру, кроме того, что создал на основе культуры европейской. Русские сегодня не более чем ученики в школе европейского либерализма, да и ученики–то неспособные, не приживается у нас либерализм. Азия-с. Русский атеист должен рыдать от одной только мысли, что он принадлежит к такому бессмысленному народу. И ведь прекрасно же они понимают, что никогда Россия не догонит Европу в экономическом отношении. И говорят они горько: «Это страна без будущего». И ведь правы же они совершенно со своих позиций. Нет у России того будущего, которое они считали бы наилучшим.
Русский атеист свою Родину презирает и государство Российское ненавидит, потому что слишком уж тесно оно связано с Православной Церковью. И опираться на атеистов в ходе государственного строительства было бы, мягко говоря, неосмотрительно.
Русский патриотизм может быть только православным, потому что кроме православия русскому патриотическому чувству больше не на что опереться. Так на кого же должно опираться государство Российское?
Часть вторая. Царство и рыцарство
1. Нам внятно всё
Мы ответили на вопрос, что потеряет мир, если Россия провалиться под землю. Но ответили ещё не полностью. В самом деле, если уж Русь сумела так серьёзно отнестись к православию, так основательно его впитать, сделав чужую веру совершенно своей, национальной, то возникает вопрос: а только ли православие мы способны принять и сохранить? Одна ли только вера может находиться в сокровищнице народа–хранителя? Не только.
Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской речи», размышляя о характере гения Пушкина, обратил внимание на одно удивительное качество русского народа. Позволим себе из этой речи две цитаты:
«В европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту–то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим… Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин».
«Мы не враждебно, а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций… Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».
В «Дневнике писателя» Достоевский даёт «Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине» и там говорит:
«Особая, характернейшая и не встречаемая кроме него (Пушкина) нигде и ни у кого черта художественного гения — способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении других наций и перевоплощения почти совершенного». «Способность эта есть всецело способность русская, национальная… Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости…».
Заметьте, Достоевский в этом контексте вообще не говорит о православии, хотя, на наш взгляд, эта «всемирная отзывчивость» русского народа проявилась в первую очередь и прежде всего именно в том, как близко к сердцу русские приняли веру, выраженную другими народами. С этим Фёдор Михайлович вряд ли стал бы спорить, но на сей раз его интересует другой вопрос: имеют ли русские право на заимствования из европейской культуры? Он делает вывод, что русские не просто имеют такое право, но и наделены соответствующей уникальной способностью — перевоплощаться в гении других народов. Дурак бы такой способностью не воспользовался.
Рискну скорректировать некоторые определения Достоевского. Мне кажется, русских уместнее было бы назвать не отзывчивыми, а переимчивыми. Можно легко отозваться на любую чужую идею, причём очень даже искренне, прочувствовано и с полным пониманием, а на завтра уже эту идею позабыть, так что она не оставит в уме никакого следа и не окажет ни малейшего влияния на последующую жизнь. Вот чем может быть «отзывчивость». Иное дело переимчивость. Русский интеллект, встречаясь с чужой идеей, так живо ею интересуется, что сразу норовит её перенять, так что вскоре она нам уже и не чужая, а совершенно своя, национальная даже. Русские невероятно любопытны, им очень интересно посмотреть, как там другие народы изнутри устроены, и нет ли в их устройстве чего–нибудь такого, что и нам сгодиться. Это нечто уже куда большее, чем «отзывчивость», это именно «переимчивость».
Не вполне корректно сформулированной представляется мысль о «перевоплощении в гении других народов». Перевоплощается актёр на сцене. Сегодня он перевоплощается в храбреца, завтра — в мудреца, при этом сам ни храбрецом, ни мудрецом отнюдь не становится и не факт ещё, что он хоть что–нибудь от них заимствует. Для мастеров перевоплощения их роли — не более, чем набор масок, которые могут, конечно, оказывать влияние на лицо, но могут и не оказывать.
Русские же совершенно не лицедеи. Русские — хранители. Мы не изображаем чужое, а делаем его своим, принимаем в свою душу. А в итоге русская душа вмещает в себя полмира. Вот что значит быть русским — быть способным вместить в свою душу, если понадобится, то и весь мир. Значит, если провалится под землю весь мир, а останется одна только Россия, то, может быть, ничего ценного и не пропадёт, потому что всё ценное останется в русской душе.
Автор этих строк имеет робкую надежду на то, что сам Фёдор Михайлович с этими уточнениями согласился бы. Его «Пушкинская речь» была предсмертной, он не успел развить и разработать собственные гениальные прозрения, так что это бремя по необходимости лежит на нас.
Очень важны православные комментарии к этой идее Достоевского. Например, преподобный Иустин Попович писал: «Сила, посредством которой человек соединяется с другим человеком и даже перевоплощается в его дух — это любовь. Она сообщает человеку мощь перевоплощения в человеческие личности».
А ведь — воистину. Чтобы позаимствовать что–то у другого народа, надо его полюбить. Гордые националисты не способны что–либо перенимать у других народов, потому что любят только себя и только свой народ полагают вместилищем всех возможных совершенств. Унизятся ли они до обучения у тех, кого считают ниже себя?
А вот что писал митрополит Антоний (Храповицкий): «Способность истинного духовного объединения со всеми имеет лишь тот, кто смирен сердцем. А так как смирение в России не есть черта личности только, но черта народная, то есть внедряемая в индивидуумы народной культурой, выросшей из православия… то и способность духовного общения имеет весь русский народ. Последняя выразилась в гении Пушкина, умевшего художественно перевоплощаться во все народности».
Отсюда следует удивительный вывод. Одним из своих основных национальных качеств, своей уникальной переимчивостью русский народ обязан именно православию. Наша вера, объявляющая гордыню самым страшным грехом, воспитала в нас смирение, которое позволяет признать превосходство «другого» и смиренно учится у него всему лучшему. А готовность полюбить «другого» неотделима от отождествления себя с ним. Его поражения и достижения становятся вашими, и вы уже становитесь похожи на того, кого любите. Вы принимаете «близко к сердцу» внутреннее содержание «другого», и это содержание отчасти остаётся в вашем сердце, то есть становится частью вашей сути.
Оказывается, в отношениях между народами — всё то же самое. Русский народ — негордый, смиренный, народ умеющий любить, то есть отождествлять себя с теми, кого любит, и потому именно такой переимчивый.
Вспомним Александра Блока:
«Нам внятно всё — и острый галльский ум,
И сумрачный германский гений».
Это о той самой поразительной русской способности проникать в души других народов, видеть их изнутри, перенимать то лучшее, что в них есть. И Блок не просто сказал это, в тех же двух строчках он это и доказал, исключительно точно назвав характерные черты французов и немцев.
И Пётр I — в известном смысле гений смирения, то есть очень русский человек, продукт православного воспитания. Он не побоялся признать превосходство европейской науки, склонив голову, со всем смирением поступил к европейцам в ученики. А в итоге разгромил самую сильную на тот момент армию в Европе — шведскую. А русские моряки били шведов на море. Шведы — моряки прирождённые, с древнейшими традициями, для них море — естественная среда обитания. Русские тогда лишь недавно впервые увидели настоящий корабль. И вот по окончании Северной войны генерал–адмирал Апраксин докладывает Петру: «Шведских военных кораблей на Балтике больше нет». Это же просто непостижимо. Едва построив первые корабли, мы в то же царствование разгромили великую морскую державу. Вот что такое русская переимчивость.
А вскоре уже у нас появился Фёдор Ушаков — гениальный флотоводец и святой Русской Православной Церкви. Нигде в мире больше нет святых адмиралов. Адмиралы бывали и покруче наших, Нельсона не переплюнешь, и великие святые были не только на Руси, а святой адмирал — только у нас. Вот что такое русская уникальность.
Могут сказать, что все народы всегда друг у друга что–то перенимали. Ох, далеко не все и не в равной степени. Есть народы очень гордые, высокомерные. Они исполнены такого чувства превосходства над другими народами, что никогда и ничего у них перенимать не будут, хотя, порою, явно стоило бы. Возьмём, к примеру, англосаксов. Они владели половиной мира, а чему они научились у тех народов, среди которых жили веками? Да ничему. Они только всё других учили. Ведь известно же, что они лучше всех. Очень творческая, очень талантливая нация, но до чего же они безразличны к инонациональным культурам.
Какое благородное высокомерие излучает Редьярд Киплинг в своём знаменитом колониальном манифесте «Бремя белого человека». Дескать, мы всем должны нести достижения цивилизации, всех просвещать и наставлять, ни от кого не ожидая благодарности.
Неси это гордое бремя, Родных сыновей пошли На службу тебе подвластным Народам на край земли, На каторгу ради угрюмых Мятущихся дикарей, Наполовину бесов, Наполовину людей.Какая доброта несказанная к дикарям–полубесам и какое неподражаемое чувство превосходства над всеми остальными народами. Киплинг–то как раз был одним из самых чутких англичан, за «Маугли» ему большое спасибо, но могло ли нашему «белому человеку» придти в голову, что «бремя индусов», то есть их священный долг — вбить британцам ума куда следует? Да, они многому научили индусов, но ничему у них не научились. А в итоге Киплинг разводит руками: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут».
Но Запад и Восток всё же сошли с мест для того, чтобы встретиться в сердце русского человека.
А посмотрите на современных американцев, эту отрыжку англосаксонской цивилизации. Они так трогательно уверены в превосходстве своей политической системы над всеми возможными типами государства, что, взирая с высоты Капитолия на другие страны, задают только один вопрос: много там демократии или мало, то есть достаточно ли эта страна приблизилась к американскому идеалу — самому идеальному идеалу всех времён и народов. Американцы не только не способны что–либо перенимать у других народов, им вообще чужды попытки понять другой народ, и даже более того — они уже не способны понимать, что между народами есть разница, что существуют различные цивилизации в рамках которых уместны различные политические системы.
Так что наша русская переимчивость, это далеко не «само собой», это качество вполне уникальное. И это качество далеко не всегда идёт русским на пользу, порою играя с нами очень злые шутки. Бердяев писал: «Русские были так увлечены Гегелем, Шеллингом, Сен — Симоном, Фурье, Фейрбахом, Марксом, как никто никогда не был увлечён на их родине. Русские не скептики, они догматики, у них всё приобретает религиозный характер. Дарвинизм, который на Западе был биологической гипотезой, у русской интеллигенции приобретает догматический характер, как будто речь шла о спасении для вечной жизни. Материализм был предметом религиозной веры».
А ведь и правда. На Западе никому даже в голову не приходило взять да и построить государство «по Марксу», а из «Капитала» сделать «Библию». У себя на родине марксизм был лишь одной из бесчисленных экономических теорий, только русские догадались провозгласить его «единственно верным учением». А мужики наши — практики, они тут же и за дело взялись. Не извольте сомневаться, Октябрьская революция — явление чисто русское. Стала она у нас возможна благодаря двум нашим основным качествам — редкостной переимчивости и, как ни странно — повышенной религиозности.
Большевики предложили идеал почти религиозный — «светлое будущее». То есть предложили страдать и умирать за «радость не сейчас». Мысль эта совершенно не привлекательна для рационалистического мышления, на неё могло откликнуться только религиозное сознание. Сознание, которому православие всегда предлагало страдать и умирать за «радость не здесь». А рационалистам ведь всё хочется получить «здесь и сейчас». Но это западный рационализм. Наши — другие.
Бердяев прав в том, что у нас даже атеизм принимает религиозные формы. Вспомним хотя бы безбожника Белинского, который однажды возопил: «Помилуйте, господа, мы ещё не обсудили вопроса о существовании Бога, а вы говорите обедать». Вот так, господа. Нашему атеисту надо прежде всего разобраться с Богом, а обед — это когда–нибудь потом, это не главное. У атеиста западного «обед» — это как раз главное и первоочередное. Это мерило всех вещей. А Белинский… Ну наш ведь. Дурак только.
Талант не пропьёшь. Религиозный народ останется религиозным, хотя порой эта религиозность принимает извращённые формы. А вот что касается нашей переимчивости, то её действие ограничено действием нашей религиозности. Тут мы подходим к глобальнейшему для русского сознания вопросу.
2. Что хорошего в Европе?
У русских очень большие проблемы с самоидентификацией, потому что у нас почти не было на неё исторического времени. Основную часть своего исторического бытия, где–то восемь веков, Русь просуществовала чрезвычайно замкнуто, русские ни с кем себя не сравнивали, а значит и не имели потребности в ответе на вопрос: «Что значит быть русским?». Потом, где–то со второй половины XVII века, русские всё чаще поглядывали на Запад и всё реже приходили в восторг от самих себя. Пётр придал этому процессу обвальный, лихорадочный характер. Весь XVIII век мы только и делали, что европеизировались, Европа стала для России мерилом всех вещей. Соответственно, оценки национального бытия сводились к очень нехитрым: «У нас хуже, чем у них» или «У нас лучше, чем у них». Никаких представлений о характере собственной самобытности в таких условиях возникнуть не могло.
Первые попытки ответить на вопрос «кто мы такие?» относятся, наверное, к началу XIX века. Чаадаев разбудил славянофилов, которые взметнули патриотические знамёна, и началась великая битва между оными славянофилами и западниками. Вот это уже был настоящий процесс самоидентификации, слишком, впрочем лихорадочный и в основном с одним единственным вопросом: «Мы — Европа, или мы не Европа?». Вопрос, заметьте, чисто русский. Японцы, многому научившись у китайцев, никогда не спрашивали себя: «Мы — Китай, или мы — не Китай?».
Полвека светлые русские головы разрывались от комплекса неполноценности и мании величия одновременно, и вот где–то в последней трети XIX века у нас начали появляться настоящие национальные мыслители, способные здраво и глубоко, без истерики говорить о своеобразии русской национальности. Достоевский, Леонтьев, Бердяев мыслили уже вне заданных клише, но их идеи не успели получить развития. Не прошло и ста лет с тех пор, как начался процесс русской самоидентификации, как этот процесс был прерван большевиками, которых совершенно не интересовало, что значит быть русским. Вдруг неожиданно появился «советский народ», а русского как бы и не стало вообще.
Не удивительно, что, вынырнув из советской власти, мы погрузились в болото страшной национальной растерянности. Власть теперь целиком и полностью ориентируется на западные либерально–демократические образцы. Политическую систему содрали с Запада настолько «дословно», без малейшей «привязки к местности», что это шокировало бы даже Петра I. Весь понятийный ряд современной российской политики — демократия, права человека, правовое государство, толерантность — исключительно западный.
В обществе появилось некоторое количество патриотов, немногочисленных, но достаточно шумных, чтобы реанимировать старую дискуссию западников и славянофилов, причём эта дискуссия воспроизводится в самых примитивных её образцах, плохо отвечающих требованиям даже начала XIX века.
И вот нас спрашивают: что значит быть русским? Вопрос, на который не успели ответить русские гении, задают прохожим на улице. Мы Достоевскому должны этот вопрос задавать, а не прохожим. И мы должны идти дальше Достоевского, потому что Фёдору Михайловичу в самом кошмарном сне не приснился бы тот дурдом, в котором мы сейчас пребываем.
Итак, самая большая проблема русского национального самосознания — невротическое, местами просто психопатическое отношение к Западу. Наши западники и патриоты в равной степени невротики. Одни бьются головой о брюссельские камни, испрашивая себе пропуск в Европу, то есть в рай земной, другие видят в Западе исключительно источник зла, и ничего больше. Помню, Валерия Новодворская говорила: «Нато — это солнце, к которому, как подсолнухи, тянутся все страны». А недавно встретил высказывание представителя противоположного лагеря, В. В. Архипова: «В древних и средневековых моделях мира понятие Запада связывалось не только с концом или краем света, смертью, но и инфернальным миром — адом».
Надо ли объяснять, что и тот, и другой тип мироощущения истеричен, основан на крайне перевозбуждённом, нездоровом отношении к Западу. Как же нам научиться спокойному и ровному отношению к Западу? Как выработать критерии, которые позволят взвешенно и хладнокровно определять, что у них там хорошо, а что плохо, что мы можем и должны заимствовать, а что должны решительно отвергать?
Ради обретения этого навыка вернёмся к Достоевскому:
«Всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего арийского племени так же дороги, как и сама Россия…».
«Славянофилами или так называемой русской партией сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками, ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу… и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самым духом народным… Так что в конце концов и в итоге, если когда–нибудь будет он подведён, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа её, как и все чисто русские люди, которые искренне любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали её доселе от всех увлечений «русских иноземцев»».
Гениально. Достоевский примирил западников и славянофилов, объявив спор между ними недоразумением и объяснив, что западники — тоже патриоты, потому что их любовь к Европе — проявление чисто русских национальных качеств. И ведь что удивительно: представители обеих партий услышали и одобрили Фёдора Михайловича, тогда как в наше время его вероятнее всего прокляли бы и те, и другие. А тогда западники и славянофилы буквально по очереди рыдали на груди у Фёдора Михайловича. Впрочем, стоило насторожиться, обратив внимание на то, что рыдают они на груди у своего примирителя, а не друг у друга. То есть противоречия между ними отнюдь не исчезли, но сглаживанию этих противоречий было положено воистину блестящее начало.
И вот сегодня наши западники и патриоты терзают друг друга с таким остервенением, как будто Достоевский никогда и не жил на свете.
Заостримся же наконец на одном парадоксальном факте с тем, чтобы понять, что в факте этом нет ничего парадоксального. Достоевский — человек до мозга костей православный, всю свою душу отдавший православию, был вместе с тем самозабвенно влюблён в Европу. При этом на убеждениях Достоевского нет даже налёта либерализма, он исповедовал православие в самой строгой его форме. И никаких прокатолических симпатий Фёдор Михайлович никогда не испытывал, даже напротив, в своей критике католицизма он заметно перегибал палку. А Европу любил до головокружения. Он понимал и чувствовал Европу, может быть, куда лучше, чем современные ему европейцы. В чём тут феномен? К этому вопросу мы ещё вернёмся, а пока хотелось бы привести проевропейские высказывания Достоевского.
Эти высказывания не любят цитировать православные, они как–то не вписываются в схему нашей «борьбы с чужебесием». Ну а русские либералы вообще Достоевского не любят, слишком он на их вкус православный и Европу любит не с того бока. Если же вы не принадлежите к фанатикам одной из этих двух партий, проевропейские мысли Достоевского должны вас очень заинтересовать.
В «Дневнике писателя» находим такие слова: «Ведь это страшная и святая вещь — Европа. О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям–славянофилам, по вашему — ненавистникам Европы, эта самая Европа, эта страна святых чудес — знаете ли вы, как дороги нам эти чудеса и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие её и всё великое и прекрасное, совершенное ими? Знаете ли вы до каких слёз и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны… Никогда вы, господа наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколь мы, мечтатели–славянофилы, по–вашему — исконные враги её».
Достоевский щедро раздаривает свою любовь к Европе персонажам своих романов, например, Версилову, устами которого говорит: «Русский… становится наиболее русским именно тогда, когда он наиболее европеец… Я во Франции — француз, с немцами — немец, с древними греками — грек, и тем самым наиболее русский, тем самым я настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю главную её мысль».
В другом месте у Версилова: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия, каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же точно была отечеством нашим, как и Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес, и даже это нам дороже, чем им самим».
А вот что говорит Иван Карамазов своему брату Алёше: «Я хочу в Европу съездить… и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище… Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, в то же время убеждённый всем сердцем моим, что всё это давно уже кладбище и никак не более».
Достоевский ни разу не сказал, за что именно он так любит Европу, что он в ней ценит, перед чем преклоняется, но слова Ивана Карамазова проливают свет на этот вопрос. «Дорогие покойники» и «надгробные камни» — это всё знаки славного христианского прошлого Европы. Достоевский влюблён в колорит европейского христианства, которое уже в его эпоху принадлежало там прошлому. Не в католицизм и не в папизм влюблён Достоевский, а в христианские ценности и начала, которые у нас с ними общие, но которые в Европе приобрели особенный колорит, и этот колорит, этот дух христианского Запада (и наш, и не наш одновременно) эти «святые чудеса» очаровывают сердце русского православного человека.
Помню, каким открытием было для меня знакомство с историей вселенских соборов. Ведь все до единой ереси, ради опровержения которых эти соборы и собирали, пришли с Востока, из недр эллинской цивилизации. Греки — очень глубокие мыслители, они способны были выражать тончайшие оттенки богословских истин, но порою они становились такими путаниками, впадали в такое горькоплачевное суемудрие, что хоть святых выноси. Латины никогда особой глубиной не отличались, но зато обладали удивительно ясным, прозрачным, последовательным мышлением, и вот эта–то безупречная латинская логика не раз становилась спасительной на вселенских соборах. Во всех без исключения случаях римские легаты вставали на сторону православных и ни разу не поддержали еретиков. Как прекрасны эти римские легаты, решительно и твёрдо встававшие на защиту истин православия.
Тогда я очень глубоко почувствовал, какой трагедией было разделение Западной и Восточной Церквей. Без греческой глубины латинский мозг легко впадает в поверхностный юридизм. Без прозрачной латинской логики греческий мозг склонен впадать в суемудрие. Конечно, православные и без помощи Запада сохранили нашу веру неповреждённой, но только потому и сохранили, что догматических вопросов на соборах уже никогда больше не рассматривали. После великого раскола православные уже не дерзали собирать вселенские соборы. Кажется, почему бы и нет? Если Запад отпал от Православной Церкви, то нет никаких формальных препятствий к тому, чтобы нам и без них проводить вселенские соборы в случае необходимости. А вот не проводили. Мы знаем, что Православная Церковь содержит всю полноту истины, но у нас есть тонкое ощущение того, что без Запада никакой собор не будет по–настоящему вселенским.
Не потому ли именно Русская Церковь оказалась главным в мире хранителем православия, что русским вполне внятны «и острый галльский ум, и сумрачный германский гений» — эти столпы западной цивилизации? Русские вполне способны вместить в себя всё то лучшее, что есть в западной ментальности, их образ мысли, их способ чувствовать. А если способны, значит обязаны. Русское православие должно опираться не только на византизм, но и на православие Хлодвига и Карла Великого, и на те общехристианские ценности, которые Запад не полностью утратил в своём дальнейшем развитии. Католики — еретики, об этом мы никогда не забудем, но «еретик» уже означает «христианин», то есть всё–таки не иноверец.
Вот к чему клонил Достоевский. Вот почему он часами, как заворожённый, простаивал перед Сикстинской Мадонной. Даже в омерзительную эпоху «возрождения» Запад всё ещё был способен давать миру великие образцы не какого–нибудь, а именно христианского искусства, то есть подлинное христианское мироощущение ещё очень долго после раскола на Западе не иссякало.
Митрополит Иоанн (Снычев), ссылаясь на Питирима Сорокина, писал: «На Западе закат такой духовной культуры начался уже в XII веке, когда «появился зародыш нового, совершенно отличного принципа, заключавшегося в том, что… только то, что мы видим, слышим, осязаем, ощущаем и воспринимаем через наши органы чувств — реально имеет смысл»».
Общий пафос этой цитаты — антизападный, дескать, там уже в средние века всё стало настолько плохо, что нам в ту сторону от греха лучше не смотреть. Но если вдуматься, то Сорокин прав, только из его правоты следует, что XII век в Европе — это пик развития духовной христианской культуры. Ведь если тогда начался закат, значит, именно тогда Солнце Христа достигло в Европе зенита. Раскол, который произошёл в XI веке, ещё не успел принести своих гнилых плодов, догматические отступления далеко не сразу привели к духовным отклонениям. Да, в XII веке Европа понемногу «пошла вниз». Но и в XII, да и в XIII веке всё ещё была очень близка к своей христианской вершине. Последствия этого «спуска» явственно обнаружились, пожалуй лишь в XIV веке, то есть Франция Капетингов — это всё ещё «страна святых чудес», и камни Европы той поры это те самые «священные камни», припасть к которым русский православный человек может без всякого чувства неловкости.
Большая беда современных русских патриотов в том, что для них понятия «западный» и «либеральный» стали синонимами. На сегодня это так и есть, но это не всегда было так. Мы помним другой Запад — христианский, и ничто не мешает нам любить тот давно минувший Запад именно за его христианство. Но патриотов наших вполне справедливое отрицание либерализма приводит, к сожалению, к отрицанию всего западного вообще, безо всякого разбора. Запад стал для них неким вместилищем зла в чистом виде, всё западное для них — плохое, просто потому что оно чужое. Тут бы и вспомнить о том, что в России ничего вообще нечужого нет, у нас всё хорошее — заимствованное, включая православие. Но осознание этого для патриотов так болезненно, что они эту мысль стараются не думать, предпочитая завывать: «У нас всё своё хорошее, нам чужого не надо». А вы спросите у них — что такое это «своё»? Ведь не ответят.
Этот вой начали ещё славянофилы. Иван Аксаков писал: «Поступили мы в ученики к Европе и внутренние силы мигом оскудели…». Неужели появление у нас великой русской культуры — признак «оскудения внутренних сил»? Пушкин — это наше «оскудение»? А не было бы Пушкина без опоры на европейскую культуру.
Среди русских патриотов чрезвычайно популярно словечко «чужебесие», запущенное в оборот ещё в XVII веке Юрием Крижаничем, который определил его значение так: «Бешенная любовь к чужим вещам и народам и чрезмерное доверие к чужеземцам». Есть у нас такой перекос. Пушкин ещё писал про одного из таких «чужебесов»: «Ты нежно чужие народы возлюбил и мудро свой возненавидел». Слов нет — отвратительная тенденция. Но почему нас всегда заносит в крайности? Почему в том, что нам отвратительно, мы меняем только знак, заимствуя общую схему? Скажите, каким словом называется вот такая тенденция: «Бешенная ненависть к чужим вещам и народам и чрезмерное недоверие к чужеземцам»? Что это? Ксенофобия. Врождённая болезнь русского патриотизма.
Наш патентованный патриот Юрий Воробьевский как–то позволил себе такую фразу: «Попытка шпилей готики уколоть небо». Ну вот зачем? Готические соборы — величайшее произведение христианского духа. Можно предпочитать другую архитектуру, но что нам даёт эта неумная попытка обвинить строителей готических соборов чуть ли не в антихристских целях — «уколоть небо»?
Мне, например, ближе тонкое замечание православной Татьяны Горичевой: «Христианство растёт из почвы, как дерево, как трава, как Шартрский собор».
Воробьевский часто доходит в своём патриотизме до полной потери рассудка. «Глобализация — очередная попытка принести мир к ногам антихриста. Среди прочих была синархия тамплиеров…». Даже палачи–инквизиторы не додумались обвинить тамплиеров в желании «принести мир к ногам антихриста». Не затрагивая сейчас вопрос по существу, хотел бы лишь напомнить нашему «патриоту» слова Карамзина: «Пепел мёртвых не имеет заступника, кроме нашей совести… Что если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием и враждою?».
Ещё один «профессиональный патриот» Максим Калашников назвал одну из своих книг «Гнев орка». Дескать злокозненный Толкин в своей эпопее под видом орков изобразил русских и вот пусть теперь Запад боится, что русские–орки прогневаются. Когда мне довелось столкнуться с этой книгой Калашникова, я ещё не читал Толкина и, взяв в руки «Властелина колец» исполнился решимости отыскать там все проявления антирусских настроений. Но оказалось, что в этой книге вообще нет ни грамма политики и уж тем более ничего антирусского. Толкин написал свою книгу, имея ввиду воскресить дух древнеевропейского эпоса, причём он явно проповедует христианские ценности. «Властелин колец» — великая книга одного из немногих христианских авторов современной Европы. Это наше. Это те самые «священные камни» и «святые чудеса». Русские православные люди должны бы найти у Толкина куда больше своего, родного, чем современные западные либералы. До чего же надо довести свою болезненную подозрительность, чтобы увидеть во «Властелине колец» нечто антирусское? Но «патриот» мыслит просто: Толкин — писатель западный, а значит чужой, то есть вредоносный, все они там хотят нам зла.
А уж та истерика, которую закатили наши православные патриоты по поводу Гарри Поттера, это вообще нечто эпохальное. Из православной критики бедного Гарри можно составить целую библиотеку, в разы превосходящую по объёму все книги о Поттере. Жаль только никто из этих критиков не написал ничего равноценного романам Роулинг. Чужое оплёвывать мы научились просто мастерски, а создать что–нибудь своё — оказывается кишка тонка.
Основной пафос ниспровергателей Гарри таков: «Надо прежде всего своё знать и любить, надо своё изучать и пропагандировать, а чужое нам не полезно». Тут как всегда возникает вопрос: о чём таком «своём» в очередной раз идёт речь? Ну нет в русской литературе серьёзных, крупных литературных сказок. Так больно и так трудно признать этот факт? Но похоже, что нашим поттероборцам этот факт просто не известен. Пропогандируя «своё», они никогда это самое «своё» изучать не пытались. Им, кажется, даже не понятна разница между фольклором и литературой, иначе бы они не ссылались на «наши сказки».
Что же касается русского фальклора, то приведём суждение диакона Андрея Кураева: «Критики «Гарри Поттера» любят противопоставлять это ненашенское изделие русской народной сказке. Там, мол, очень чётко обозначено, где добро, а где зло. В итоге они заставили меня обратиться к русским народным сказкам. Должен признать, что в жизни я не читал более безнравственной литературы (это не литература — авт.), нежели русские сказки в их действительно народном варианте».
О чём речь? Да собственно о том, что наши «православные патриоты» — плохие христиане. Они всё тщатся обнаружить в чужом глазу соринку, не замечая в собственном бревна. Проповедь зла в романах о Гарри Поттере или некие недоброкачественные, антихристианские идеи можно обнаружить разве что под микроскопом, в вот в русском фольклоре вся гадость лежит на поверхности, но мы не сомневаемся в том, что он — хороший, потому что он свой, а Гарри Поттер — плохой, потому что он — чужой. Вот эта ненависть к чужому и есть как раз антихристианство, которое, увы, рядится в православные одежды.
Об этом ещё Гоголь писал: «Многие у нас уже и теперь, особенно между молодёжью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы, мы лучше вас!». Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну».
Да и Чаадаева не вредно вспомнить: «Никогда не видано было у нас менее смирения, как с той поры, когда стали у нас многоглагольствовать про тот устав христианский, который более всех прочих уставов христианских учит смирению, который весь не что иное, как смирение».
Вот какой следует вывод: ксенофобские псевдоправославные извращения патриотизма порождаемы недостатком смирения, то есть самой сути православия. Если мы будем по–прежнему всё своё хвалить, а всё чужое ругать, это будет означать, что под православными одеждами больше не бьются православные сердца.
Русским тем более нелепо зацикливаться на борьбе с «чужим», если учесть, что главный русский талант — невероятная переимчивость, удивительная чуткость ко всему чужому, редкая способность делать чужое своим. Славянофильство, включая его современные проявления, это обратная сторона нашего комплекса неполноценности перед Европой, и вот от этого–то комплекса нам самое время избавиться. Нам пора прекратить делить явления культуры на чужие и свои, делить их надо на плохие и хорошие. Вот, кажется, банальность, но почему же она не всем понятна?
Нелепо думать, что всё западное — хорошее. Взять, к примеру либерализм. Мерзость однозначная. А почему, при всей русской переимчивости, либерализм в России ну никак не приживается, отторгается русским национальным сознанием? За либеральные, «правые» партии у нас голосуют где–то от одного до трёх процентов избирателей. Дело в том, что либеральная идеология принципиально по всем пунктам противоречит православию. А русский человек может не быть церковным, он может даже не считать себя верующим, но русская ментальность «от и до» сформирована православием, и этого обстоятельства никаким образом до конца света не отменить. Поэтому либерализм нам принципиально чужд, и никогда мы его не позаимствуем искренне и от души. Русский либерал — экзотика, это, как правило, человек с подорванным чувством национальной принадлежности, то есть человек ущербный, чужой среди своего народа. И никогда не будет иначе.
Пока наши профессиональные борцы с «чужебесием» пытаются спорить с реальностью, простой русский человек, отнюдь не теоретик, интуитивно отторгает то, что православию противоречит и легко принимает то, что с православием вполне согласуется. Но мы не протянем на одной только интуиции. Ещё митрополит Антоний (Храповицкий) писал: «Мы хорошие христиане, но мы не философы, а чтобы противопоставить своё чужому, воровски вошедшему в нашу жизнь, нужно не только тепло чувствовать, но и ясно мыслить, и точно выражаться».
Так вот вам вопрос на засыпку. Противоречит ли православию рыцарская идеология, идея русского ордена? Эта идея «воровски вошла в нашу жизнь» или она может быть для нас вполне органична и полезна? Только извольте, отвечая на этот вопрос, «ясно мыслить и точно выражаться».
3. Русский Орден?
Этот вопрос назрел уже вполне. «Рыцарская идея» оказалась чрезвычайно привлекательна для современных русских людей. То здесь, то там возникают всевозможные «русские ордена», то есть рыцарские ордена, а то и тамплиерские, что уж совсем сурово. Не смущайтесь несерьёзностью этих начинаний. Русские юноши бередят рыцарством, и не их вина в том, что никто их пока в этом вопросе основательно не сориентировал. Да ведь и не только юноши, но и солидные дяденьки так оказались очарованы рыцарством, что тут же норовят создать какой–нибудь свой орден.
В России сейчас большой дефицит свежих привлекательных идей, это очевидно и порождает интуитивную тягу к рыцарским идеалам. Обращаясь к опыту средневековой Европы, мы пытаемся найти там что–то своё, родное, высокое и вдохновляющее. Для русского сознания это процесс вполне органичный и естественный, но мы ищем вслепую, на ощупь, совершенно без ориентиров. Не заблудимся ли, не впадем ли ненароком в «чужебесие»?
Вот православный публицист В. Ларионов пишет: «Главной задачей русской орденской структуры современности должно быть трепетное хранение перед лицом апостазии иерархии мистического церковного единства и истинных церковных преданий, молитвенное ожидание предизбранного Богом царя, хранение русскости и заветов опричнины; традиции национальной жизни, выстраивание опоры грядущему трону в виде нового дворянства, верного чести и долгу служения Церкви и Святой Руси».
Ещё В. Ларионов пишет: «В отличие от масонов и отца их дьявола мы не лжём своим рыцарям долга и веры. Наша цель от начала известна всем, и мы не намерены её укрывать… Мы будем до конца сражаться за Святую Русь».
У меня сразу же возникло к г-ну Ларионову больше вопросов, чем в этих цитатах слов. Задам основные из них. Господа, а почему вы решили создать именно Орден? Можно было назвать свою структуру, например, «братство» или «союз». Чем на ваш взгляд отличается от них Орден? Какие признаки делают вашу структуру именно Орденом, а не какой–либо иной формой объединения? Или это просто красивое слово? Сказал «орден» — как кулаком по столу ударил. Весомо, сурово, жёстко. Вообще–то ордена в истории Западной Европы были или монашеские, или военно–монашеские. Вы монахи? Или вы военные? Если нет, то какие основания у вас привязывать себя к орденский традиции? Надо ли объяснять, что каждое слово имеет своё значение, и его нельзя употреблять произвольно, только потому, что оно красивое.
Мне–то как раз очень близка мысль о создании «православных организаций орденского типа», я только против легкомысленного к этому отношения. Мы можем насоздавать потешных «орденов» всем на смех и только дискредитируем «орденскую идею», так и не приступив к вопросу о том, а в чём она, собственно, заключается?
Мы должны последовательно и очень основательно ответить на целый ряд вопросов. Что такое Орден, каковы его типологические признаки? Какие качества и свойства орденских структур делают их создание актуальным для современной России? На опыт каких именно орденов мы готовы опираться? Не являются ли ордена порождением католицизма, то есть свойственных католицизму духовных отклонений? Или ордена были порождены общехристианской доминантой Запада? Иными словами, не противоречит ли создание ордена православию, не является ли «православный орден» «горячим снегом»? Вот главный, корневой вопрос. Готовы ли мы на него ответить?
Не похоже, что мы готовы хотя бы поставить этот вопрос. Например, протоиерей Всеволод Чаплин пишет: «Тот, кто уверен, что несёт людям благо не должен от них прятаться. Вот почему я никогда не понимал тех «православных общественников», которые одно время пытались создавать тайные «рыцарские ордена» по западному образцу». Эта оценка высокообразованного иерарха поразила меня в самое сердце. Православные на его глазах заимствуют католические изобретения, а он единственное только и может сказать, что тайный характер этих структур его настораживает — ни слова по существу вопроса. А если бы эти ордена отнюдь не были тайными, а напротив — явными из явных, что бы он тогда сказал? Похоже, ни отец Всеволод, ни кто–либо из наших иерархов не готов ответить на вопрос, совместимы ли в принципе рыцарство и православие?
Растерянность эта ни сколько не удивительна, но она весьма чревата. Очарование рыцарства захватывает православную молодежь, русская переимчивость приносит свои очередные плоды совершенно независимо от того, что мы на сей счёт думаем. Но если мы не в состоянии дать этому процессу оценку, то не наплодилось бы у нас псевдоправославных сект. Мы тогда, как водится, начнём давить эти секты, и вместе с ними можем передавить духовно здоровые и очень перспективные инициативы.
Чтобы ответить на вопрос, не противоречит ли рыцарство православию, мы должны для начала чётко уяснить, что такое рыцарство? И вот тут мы сталкиваемся с очень большой проблемой.
4. Что такое рыцарство?
В современном фильме про Александра Невского, довольно, впрочем беспомощном, есть один достойный внимания эпизод. Русский князь, переметнувшийся на сторону шведов, очень переживает от того, что рыцари его в упор не видят. Тогда ярл Биргер говорит князю:
— На рыцарей не обижайся. Они из другого теста.
— Из какого–такого другого?
— Это не объяснить.
Вот так, господа. Не объяснить и всё тут. Не только ограниченный ярл, но и лучшие европейские умы, кажется, так и не смогли объяснить, что такое рыцарство. Когда Запад скопил достаточные интеллектуальные силы для выражения сложных идей, «рыцарская идея» уже умерла в душе Запада, Европа смотрела на рыцарство, как на пережиток и уже не имела ни малейшего интереса к тому, чтобы сформулировать, что это такое. А нынешний либеральный Запад до такой степени утратил рыцарское начало, что не только сформулировать, но даже и смутно почувствовать рыцарский дух уже совершенно не в состоянии. Так что выражение того, что есть рыцарство — это теперь наша русская задача. Нам это надо. Возможно до чрезвычайности.
Заинтересовавшись рыцарством и пытаясь выразить, что это такое, ваш покорный слуга написал трилогию «Рыцари былого и грядущего». Короче тысячи страниц не получилось, к тому же по огромному тексту фрагменты, касающиеся «теории рыцарства» оказались разбросаны довольно хаотично. Обобщить бы, но пересказывать самого себя как–то всё же нелепо. Кого эта тема заинтересовала, почитайте мою трилогию. Здесь же хотелось бы заострить внимание лишь на некоторых аспектах этой темы, для того только, чтобы вызвать к ней интерес.
Наши русские мыслители лишь вскользь говорили о рыцарстве. Бердяев, к примеру пишет: «Рыцарство не развивалось на духовной почве православия. В мученичестве Бориса и Глеба нет героизма, преобладает идея жертвы».
Вот уж полная неправда. Во–первых, Бердяев, видимо, не понимает, что жертвенность может быть героической. Во–вторых, он, похоже, просто не знает, что этот жертвенный героизм был в высшей степени присущ рыцарству, достаточно вспомнить поведении многих крестоносцев в плену. В-третьих, не понятно, с чего он взял, что жертвенность является отличительным признаком православия и не свойственна католицизму? Это общехристианская черта, и она вовсе не является различительным признаком западного и восточного христианства. Отнюдь не православие препятствовало у нас появлению рыцарства, а совсем другие причины, о которых мы ещё будем говорить.
Дальше Бердяев делает очень важное замечание: «Общинный, коммунитарный дух славянофилы противополагали западному рыцарству, которое обвинили в нехристианском индивидуализме и гордости».
На чём же строится славянофильская уверенность в том, что любой индивидуализм уже обязательно является нехристианским? Этак мы всех основателей монашества во главе с прп. Антонием Великим, всех вообще отшельников в истории Церкви легко можем обвинить в «нехристианском индивидуализме». А если случается порой «индивидуализм» вполне христианский, то, может быть, это относится и к рыцарству? Что же касается гордости, то бывают такие профессии, которые ей, к сожалению, способствуют, например, профессия управленца. Но ведь не станем же мы обвинять в гордости любого, кто руководит людьми и не станем отрицать необходимость этого рода занятий. А что касается «общинного духа», с которым наши патриоты носятся, как с писанной торбой, то само по себе это русское свойство ещё не есть христианская добродетель. Общинность легко оборачивается стадностью, коллективной безответственностью, стремлением спрятаться за чужую спину, а это уже очень мало напоминает православную соборность.
Удивительное замечание сделал Александр Герцен: «Как рыцарь был первообразом мира феодального, так купец стал первообразом нового мира, господа заменились хозяевами… Под влиянием мещанства всё перемешалось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью».
Тут уж ни с одним словом не поспоришь. Почему в Европе исчезло рыцарство? Да потому что к власти пришли торгаши, барыги. Низменные стремления вытеснили высокий идеал.
Митр. Антоний (Храповицкий) писал, что «европейская языческая культура… была наполовину смягчена в эпоху рыцарей, но эти же рыцари придали ей долговечность, облекли многие предрассудки язычества в форму христианских верований и истолковали самый догмат искупления в форме дуэли».
Самое интересное в этом высказывании как раз признание того, что рыцарство наполовину смягчило язычество, то есть являлось учреждением, противостоящим язычеству. В самом деле, рыцарство — явление чисто христианское, оно — порождение христианства, никогда не существовало нехристианского рыцарства. Что же касается мысли о том, что западное христианство основано на язычестве, то это утверждение перестанет казаться нам таким уж привлекательным, если мы основательно займёмся выявлением языческих черт в православной практике. А странное рассуждение о «рыцарских дуэлях» говорит о том, что владыка Антоний не посвятил изучению рыцарства слишком много времени. Не стоит всё–таки путать рыцарей и мушкетёров.
Константин Леонтьев пишет о «цветущей эпохе рыцарства, феодализма германского, положившего основы чрезмерному уважению лица». И далее, насчёт «высокого и во многих случаях преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю германским феодализмом».
Что и говорить, замечание очень меткое. Рыцарство есть действительно порождение «феодализма германского», то есть порождение той формы мироустройства, которая была создана государственным гением франков. Что же касается свойственного рыцарям «чрезмерного самоуважения», то попробуйте определить, сколько надо человеку самоуважения, чтобы мы не назвали его чрезмерным? Ну, может быть, и было оно у рыцарей чрезмерным, но не заметно ли у русских недостаточного самоуважения? Ведь, кроме гордыни, существует ещё и такое понятие, как человеческое достоинство, которое можно определить, как антоним к понятиям холуйство и раболепство. Склонность к холуйству отнюдь не есть смирение, христианство вовсе не побуждает нас к заискиванию перед ближним. Так не есть ли рыцарское самоуважение — школа человеческого достоинства?
Современный автор Сергей Смирнов в романе «Султан Юсуф и его крестоносцы» даёт удивительное определение рыцарства. (К слову сказать, именно этот роман положил начало моему интересу к рыцарству, так что пользуюсь случаем поклониться г-ну Смирнову). Итак, в этом романе палестинский рыцарь Онфруа Торонский объясняет юному Саладину, что есть рыцарство: «…Скажи мне, славный и благородный воин, есть ли на землях последователей пророка Мухаммада войско, состоящее из одних эмиров? Представь себе целое войско, сотню или тысячу всадников — и все до единого эмиры… Тайна заключается в том, что каждый из наших рыцарей, хоть и служит королю, одновременно — сам себе король, по крайней мере — эмир… Наше войско — это войско эмиров и даже королей… Вы же — будь вы эмиры или даже могущественные визири — все вы в глубинах своих душ чувствуете себя рабами своих господ, как бы храбры вы ни были…».
Это, конечно, не исчерпывающее определение рыцарства, но здесь схвачена суть. Самый нищий рыцарь, не имеющий ничего кроме ржавой кольчуги, зазубренного меча и тощей клячи по достоинству равен королю, потому что и король — тоже рыцарь. Король может послать своих рыцарей на смерть, но он не может никого из них оскорбить хотя бы грубым словом. Рыцарство — это царственное воинство. За «рыцарским индивидуализмом» стоит тот факт, что каждый рыцарь — самостоятельная боевая единица.
Итак, мы привели ряд разрозненных и почти случайных высказываний относительно того, что есть рыцарство. Надеемся, стало заметно, насколько эта тема интересна и насколько она не разработана. Обратите внимание, все до единого высказывания принадлежат русским авторам XIX–XX веков. Перелопатив гору современной европейской литературы, посвящённой рыцарству, мы не нашли ничего достойного цитирования. Европейцы сейчас в лучшем случае — добросовестные хронисты, способные дать нам факты, но окончательно утратившие способность к их осмыслению. Это не случайно. Современный Запад болен либерализмом, а либерализм есть идеология принципиально антирыцарская.
Все современные западные фильмы, посвящённые рыцарству — антирыцарские по самой своей сути, их основная задача — как раз развенчание рыцарства. Например, «Царство Небесное», где главный герой — кузнец, волею судьбы, ставший рыцарем и оказавшийся круче всех благородных рыцарей. Мысль очень простая — любой может стать рыцарем, если он хороший человек. Нет никаких специфических рыцарских идеалов, не надо веками воспитывать военную аристократию в представлениях о чести, нет никакой особой рыцарской психологии, которую надо впитывать с молоком матери. В русском фильме ярл Биргер говорит о сути рыцарства: «Это не объяснить». Из американского фильма следует, что тут и объяснять нечего, никакого рыцарского духа не существует. К слову сказать, главный герой фильма «Царство Небесное» — Балиан Ибелинский был на самом деле не кузнецом, а представителем одного из самых знатных родов палестинской аристократии франков. Но американцам не привыкать проводить свои убогие мысли на основе откровенного вранья.
Таков же фильм «История рыцаря». Слуга выдаёт себя за рыцаря, присвоив родословную, и в итоге оказывается, что он лучше всех настоящих рыцарей. Таков же «Первый рыцарь», где сам Лонселот — голодранец, произвольно облачившийся в рыцарские доспехи.
Они не понимают главного: простолюдин может быть очень хорошим человеком, он может превосходить рыцаря по нравственным качествам, но рыцарем он не станет от того только, что оденется в железо. На воспитание настоящего рыцаря уходят века, требуются поколения предков, каждое из которых вносит что–то своё в развитие этого уникального психотипа. Конечно, в каждом рыцарском роду кто–то был первым, без поколений предков, но он потому таким и стал, что жил среди рыцарей, дышал рыцарским воздухом.
Рыцарство — это особая ментальность, сложившаяся на основе ментальности франков и благодаря особым условиям западного феодализма. Рыцарство — это прежде всего земельная аристократия, связанная между собой тонкими, но прочными нитями оммажей, то есть вассальных присяг. Настоящая аристократия — это всегда земельная аристократия. Рыцари никогда не жили в городах, страной городов была Италия, поэтому там никогда не было рыцарства. Рыцарь жил в замке, который доминировал над земельным наделом, населённым крестьянами. Крестьяне давали рыцарю хлеб, рыцарь давал им военную защиту. В своём замке рыцарь был очень одинок, отсюда пресловутый рыцарский индивидуализм. Но, защищая своих крестьян, рыцарь не мог спрятаться ни за чью спину, на нём лежала огромная личная ответственность, отсюда и представление о собственном достоинстве.
При этом несколько рыцарских наделов складывались в баронию, несколько бароний в графство, несколько графств в королевство. Каждый жил сам по себе, но одновременно являл собой органичную часть общего единства. Это уникальная система самоорганизации свободных людей, когда никто никого не «дёргает по пустякам», но все чем–то обязаны всем.
Теперь нам будет легче ответить на один из самых важных в рамках нашей темы вопросов.
5. Почему на Руси не было рыцарства?
Да потому что рыцарство сформировалось на основе земельной аристократии, а в период формирования русского государства у нас земельной аристократии не было. Киевская, то есть Днепровская Русь — городовая, торговая. Скандинавские саги называют Русь — «Гардарик», то есть «страна городов». Ключевский пишет, что «город — первый устроитель и руководитель её (Руси) исключительного быта, потом встретивший соперника в пришлом князе, но и при нём не потерявший важного значения… Города были созданы успехами внешней торговли Руси. Большинство из них вытянулось длинной цепью по главному торговому пути «из варяг в греки»».
Какова же была природа первоначальной нашей власти, правящей верхушки Руси? Вопрос опять проясняет Ключевский: «Главные торговые города Руси должны были сами взять на себя защиту своей торговли и торговых путей. Они начали вооружаться». «Варяги–скандинавы вошли в состав военно–промышленного класса, который стал складываться в IX веке по большим торговым городам Руси. На Западе дан — пират, у нас преимущественно вооружённый купец».
Итак, Русь была создана торгашами, барыгами, и русский народ сформировался под их определяющим влиянием. У нас не было военной аристократии, лишь торговая олигархия, по необходимости — вооружённая. Не было на Руси мощных замков, каждый из которых контролировал земельный надел. Не было обитавших в замке аристократов, которые защищали своих крестьян. Наши князья обитали в городах и защищали они не людей, а товар. Изначальная русская власть не привязана к земле, она подвижна, как сама торговля. Вот потому–то и не сформировалось у русской власти чувства ответственности за свою землю и людей, которые её возделывали. Где товар, там и родина, а товар постоянно перемещается. А люди что? Люди — наёмники. Убьют этих — наймём других.
Земельная аристократия и торговая олигархия, имея перед собой принципиально различные задачи, соответственно формируют в своей среде принципиально различные идеалы, ценности. У аристократов — верность долгу, ответственность за своих людей, основанная на этом личная честь и готовность пожертвовать собой. У торгашей главная ценность — выгода, отсюда — хитрость, изворотливость, лукавство, склонность к обману. Ведь, как известно, «не обманешь — не продашь». Торгашам совершенно не свойственно чем–то жертвовать ради ближнего, потому что «ближним» для него является кошелёк. Город — порождение торгашей и, кажется, не случайно говорят о том, что первый город на земле построил Каин.
Владимирская Русь это уже Русь удельно–княжеская, но русский князь навсегда оказался привязан к городу, и психологически, и экономически. Невозможно было отменить того факта, что «дружина вместе с князем вышла из среды вооружённого купечества» (Ключевский). Русская власть не хотела привязываться к земле, поэтому у нас так и не возникло феодализма, а возникла некая невиданная на Западе политическая реальность.
Верховная власть в стране была коллективной, она принадлежала всему роду Рюриковичей. Уделы делились по старшинству, исходя из того, какой доход они приносили, конкретные князья владели своими уделами временно. Умирал князь старшего удела — на его место заступал не сын, а князь младшего удела, происходила «передвижка». Понятно, что при таком порядке князь не привязывался к своему уделу, вообще не считал его своим, относился к нему, как к временному кормлению, то есть как временщик.
Ключевский недоумевает: «Можно было раз навсегда поделить общее родовое достояние на постоянные наследственные доли, как было у Меровингов при преемниках Хлодвига. Откуда и как возникла мысль о подвижном порядке владения по очереди старшинства?»
А дело, очевидно, в торговой психологии князей. Это психология «перекати–поля». «Олигарху собраться — только подпоясаться», что нам по своей эпохе хорошо известно. Передвижка вызвана соображениями купеческой выгоды. «Почему я должен сидеть в Чернигове, если сидеть в Киеве выгоднее?» — думал русский князь. Западный аристократ думал иначе: «Я сижу в Тулузе, потому что здесь сидел мой прадед, а Париж — не моя земля». Достаточно вспомнить один из рыцарских девизов французского средневековья: «Герцогом быть не хочу, королём не могу, но я сеньор де Куси». Это сказал земельный аристократ, он так врос в родной Куси, что его оттуда и тараном было не вышибить. Неужели он стал бы думать о том, что владеть соседним уделом — выгоднее? А наши только об этом и думали. «Понятие о князе, как о территориальном владельце, хозяине какой–либо части русской земли, имеющем постоянные связи с владеемой территорией, ещё не заметно» (Ключевский).
Поэтому и не появилось на Руси аристократии, то есть сильных и в равной степени уважаемых родов, а вся власть принадлежала роду Рюриковичей. Чтобы основать свой аристократический род, надо врасти в землю, обособится от других и держаться за свой феод до последнего вздоха. Капетинги, очевидно, тоже не отказались бы видеть во Франции свою семейную собственность, раздавая в «кормление» братьям и детям кусочки общей страны, но герцоги и графы в своих уделах чувствовали себя суверенами, у них были свои семьи, и Капетингам было не рекомендовано слишком сильно высовывать свой нос из королевского домена.
Русские же князья «видели в себе не столько владетелей и правителей Русской земли, сколько наёмных, кормовых охранителей страны» (Ключевский). Наши князья просто «крышевали барыг», делая это, как водится, в добровольно–принудительном порядке.
На Западе барон получал свою землю от графа и за эту землю был обязан графу службой, их отношения определялись вассальной присягой. Это и есть классический феодализм. Русский удельный князь опирался не на подконтрольных ему земледельцев, а на наёмников, на то же самое «перекати–поле». «Бояре и вольные слуги в XIV веке свободно переходили от одного князя к другому, служа в одном уделе могли иметь вотчины в другом, перемена места службы не касалась вотчинных прав» (Ключевский). Барон и граф — звенья иерархии, между ними существовала верность, отсюда и представления о чести. Боярин и князь — партнёры, отношения между ними — деловые, то есть длящиеся пока это выгодно.
«На Западе свободный человек, обеспечивая свою свободу… создавал вокруг себя тесный мир, им руководимый и его поддерживающий… Вольный слуга удельных веков… искал опоры для своей вольности в личном договоре на время, в праве всегда разорвать его и уйти на сторону» (Ключевский).
Проще говоря, европейскую свободу обеспечивали крепкие стены замка, русская свобода строилась на принципе «хрен догонишь». Западный аристократ, врастая в землю, прирастал к людям, учился осознавать себя их защитником. Русский «мастер меча» служил тому, кому выгоднее, если кого и защищал, то за плату. Откуда тут взяться представлениям о чести? Русский правитель был силён постольку, поскольку мог нанять много опытных воинов. Так будет ли правитель относится к такому воину, как к равному, как рыцарь к рыцарю? Очень было бы нелепо. Бояр нельзя, конечно, было сильно обижать, могли и к другому князю переметнуться, ну так просто создали такие условия, когда бежать стало некуда, и тогда уже стали смотреть на служивых, как на холопов, потому что личной чести за ними и никогда не признавали. А служивые и сами никакой чести за собой никогда не числили, потому и в холопов обратились без внутреннего напряжения.
А русские богатыри? Илья Муромец очень похож на странствующего рыцаря. Он держит себя с князем очень независимо, его представления о личном достоинстве не оставляют даже лучшего желать, он видит свою главную задачу в защите земли русской, его легко представить в роли защитника «вдов и сирот». Илья Муромец — самый мощный русский миф, в нём трепещет наша народная душа. И всё–таки Илья — не рыцарь. Наш богатырь не являет собой звено иерархии, он не связан никакими нитями ни с кем, он не привязан к земельному наделу. Рыцарь — суверен, на этом и основано его достоинство. Илья — нет. Это казак, то есть свободный человек на службе, которую в любой момент готов бросить. Он не видит никакой чести в сохранении верности князю.
Проходили столетия, Русь замкнувшись в себе, всё–таки поглядывала время от времени в сторону Запада, во всяком случае, это делали наиболее образованные её представители, к каковым, безусловно, принадлежал Иван Грозный. Опричнину часто сравнивали с рыцарским орденом. Например, современный исследователь АЕ. Мусин пишет: «Сама организация опричного войска с клятвенными обетами, чёрной одеждой из грубой ткани, запретом на общение с земщиной, специальной атрибутикой, ритуалами богослужебного характера часто рассматривалась, как подобие монашеского ордена».
Похоже, Иван Грозный вполне сознательно хотел создать некое подобие военно–монашеского ордена, ведь он был хорошо знаком с устройством Ливонского ордена. И всё–таки рыцарского ордена из опричнины не получилось по одной простой причине — опричники не были рыцарями по самой природе своей, по ментальности. Опричники — царевы холопы, даже о руководителей опричнины царь мог легко вытирать ноги, они не возражали, им даже нравилось. Илья Муромец — человек наделённый личным достоинством, но органично не связанный с князем. Малюта Скуратов — человек органично связанный с государем, но начисто лишённый личного достоинства. Опричнина — хороший пример того, что получается, когда пытаются создать орден, не имея рыцарей.
Опять прошли столетия, и вот в России появилось нечто весьма напоминающее рыцарский орден, хотя на сей раз никто таких сравнений не делал. Это подразделения Белой армии, сплошь состоящее из офицеров, которые замещали там рядовые должности. Офицерские роты — уникальный военно–психологический феномен, какого мировая история не знала ни «до», ни «после». Это и есть то самое «войско из одних эмиров», о котором писал Сергей Смирнов. У Смирнова юный Саладин недоумевает: «Такого войска не может быть… Не бывает эмира без собственного войска, которым он предводительствует. На то он и эмир, чтобы иметь войско, хотя бы малое. Каждая вершина имеет под собой гору и неизбежно отделена от другой вершины значительным расстоянием. Если десять вершин собрать в одно место, то они перестанут быть вершинами и превратятся всего лишь в груду камней».
Рыцарь Онфруа Торонский с удовольствием подхватывает это сравнение: «Теперь представь себе, славный воин, что десять вершин в одночасье срываются вниз. Какова мощь такого падения?».
Поэтому так страшны были атаки офицерских рот. Здесь никого не надо было поднимать в атаку, потому что каждый привык поднимать в атаку других. Здесь невозможно было выбить офицеров — все рядовые были офицерами, и любой из них готов был командовать ротой. Здесь у каждого было представление о личной чести, не позволявшей по огнём сделать ни шагу назад. Как это похоже на тамплиерские атаки! Воистину, идти парадным шагом на пулемёты способны были только тамплиеры.
К началу XX века русское дворянство впитало в себя уже достаточно предсталений о чести и личном достоинстве. Малюту Скуратова Иван Грозный мог приказать хоть на конюшне выпороть. Но даже до последнего подпоручика старший по званию не смел и пальцем коснуться. Подпоручик мог и полковника на дуэль вызвать, потому что они оба — дворяне.
Конечно, Корниловский полк — не Корниловский орден, там до ордена ещё многого не хватало, но уже стало заметно, то между русской и европейской военной элитой нет непроходимой пропасти. Впрочем, в советскую эпоху стало заметно, что родимые пятна торгашества — плебейство и холопство могут оказаться во всю рожу.
Вывод приходится сделать такой: отсутствие на Руси рыцарства было связано с причинами экономическими, политическими, социальными, но нет ни малейших признаков того, что этот пробел обусловлен причинами духовными. Иными словами, рыцарский идеал ни в чём не противоречит православию.
Да, надо признать тот факт, что русский национальный характер сформировался в условиях господства откровенно антирыцарской психологии. Никакие рыцари на Руси не могли появится ни при Владимире Святом, ни при Иване Грозном, ни при Петре Великом. Ментальное наследие наших предков торгашей мы очень отчётливо ощущаем в себе до сей поры. Но разве национальный характер — нечто раз и навсегда данное, не подлежащее никаким изменениям? Разумеется, в одночасье не переломить того, что складывалось веками, но к настоящему времени мы уже четвёртое столетие весьма активно поглощаем плоды европейской культуры. Не только гнилые плоды либерализма, на которые русский организм реагирует рвотой, но и здоровые плоды европейского христианства, многие из которых наш национальный организм очень хорошо усваивает.
Может ли сегодня появиться настоящий русский орден? Не раньше, чем в России появятся рыцари. Для начала же должны появится люди, очень точно знающие, что такое рыцарство, и способные честно ответить на вопрос, насколько их внутренняя душевная организация соответствует рыцарскому психотипу.
Так возможно ли появление русских рыцарей, если учесть, что они не будут иметь опоры в национальной традиции? Да, возможно. Хотя Русь не имела школы классического феодализма, но русские люди вполне способны впитывать ценности им порождённые. Почему мы не может жить согласно тем законам, открыть которые нам помешали исторические условия?
Русский народ по основному своему призванию — народ–хранитель. Хранитель прежде всего православия, но так же и всего того, что православию не противоречит, а может быть и поддерживает его. Запад отрёкся от рыцарских идеалов, втоптав их в грязь. Русские люди могут эти идеалы подобрать, отмыть от либеральной грязи и сделать своими. И тогда русский народ станет последним в мире хранителем рыцарства.
Диакон Андрей Кураев сказал как–то, что русские — староевропейцы, то есть мы нисколько не напоминаем современных европейцев, но весьма похожи на их славных европейских предков. Представьте себе, что родной сын достойного человека отрёкся от отцовских идеалов, а приёмный сын стал ближе родного, потому что продолжил дело его жизни. Русские — приёмные дети Хлодвига и Карла Великого. Теперь это наши предки. Осознание этого факта сделает нас духовно богаче.
Русским патриотам надо бы основательно вдуматься в слова славянофила Ивана Кирееевского: «Всё прекрасное, благородное, христианское нам необходимо, как своё, хотя бы оно было европейское».
6. Зачем России рыцари?
Остаётся, конечно, вопрос — нужны ли России рыцари? Жили же без них. Но всегда ли и во всём ли хорошо мы без них жили? У русских людей есть одна очень глубокая и очень тяжёлая ментальная проблема. Это наше отношение к власти. Русским совершенно чуждо представление об «общественном договоре», то есть о наёмном характере власти. Мы воспринимаем власть, как нечто подавляющее народ, и наша власть охотно подтверждает такое о себе представление. Русская власть на протяжении многих веков постоянно унижала людей, относилась к своему народу, как к чужому, как к некой биомассе, на которой удобно паразитировать. Отсюда две русские тенденции отношения к власти. Первая — анархическая, то есть отрицание любой власти, как заведомо враждебной к человеку, вторая — холуйская, то есть готовность охотно унижаться перед властью, ползать на брюхе даже перед самым маленьким начальником. И власть наша в упор не видит человека, который не ползает перед ней на брюхе. Это очень тяжёлая проблема, уходящая корнями вглубь истории на тысячу лет, когда власть наша формировалась, как не привязанная к земле, не видевшая в людях «своих», и смотревшая на них не как на объект защиты, а как на способ «кормления».
Нездоровое отношение к власти, равно как и нездоровое отношение власти к гражданам, русским людям надо сейчас выравнивать. Вот этому–то и могло бы способствовать развитие в нашем народе рыцарского начала. Рыцарь органично связан с властью, то есть легко признаёт над собой руководство тех, кто выше его на иерархической лестнице. Вместе с тем, рыцарь совершенно чужд холуйскому и раболепному отношению к власти, рыцарь перед начальством никогда не заискивает. Рыцарь уважает власть и требует равного уважения к себе. Рыцарь — не солдат, ему нельзя отдать приказ, противоречащий его представлениям о чести, он такой приказ не выполнит, при этом всегда будет готов пожертвовать жизнью во имя высшей цели.
Развитие в русском народе рыцарского начала поможет нам скорректировать некоторые дефекты национального характера. Конечно, таких людей не может быть много. Рыцарских полков никогда не будет и не надо. Но и несколько настоящих рыцарей могут значительно повлиять на судьбу Отечества.
Так появятся ли настоящие русские рыцари? Да они уже появились, только они и сами об этом пока не знают. Современные русские рыцари — это потеряшки, люди, которые не вписываются в систему, живут против общих правил, не знают на чём утвердить свои правила и в каком направлении развиваться. Русских рыцарей не надо изобретать и придумывать, им только надо помочь с самоопределением, а дальше всё само пойдёт.
7. Второй Царьград
Мне не нравится идея «Москва — третий Рим». В чём она нас убеждает? То, что Москва приняла эстафету центра православной империи от Константинополя — это не вызывает сомнений, и это очень важно для нас. Та мысль, что Русская держава является преемником Византии, отражает величие судьбы русского народа. Это преемство духовное и суть его — в охранении и сохранении Вселенского Православия. Но скажите, при чём тут первый Рим, то есть собственно Рим? У него–то мы что унаследовали и какие из «римских ценностей» намерены сохранять?
Когда–то воздвигнутая гением императора Константина новая столица империи получила название второго Рима. Но это ничего не означало, кроме смещения центра власти на Восток, это был всего лишь факт политический, даже технический, не имевший никакого духовного значения. То, что в Римской империи появился новый центр власти отражает лишь перипетии борьбы за власть, то есть нечто временное, преходящее. Вечных ценностей новый Рим от Рима древнего отнюдь не унаследовал, и в этом смысле никак не является его преемником. Константинополь не принимал от Рима эстафету хранения истины, не принимал веру. К моменту появления на востоке нового политического центра Рим был языческим и в плане религиозном новой столице ничего приличного завещать не мог, а христианизация западной и восточной империй шла одновременно.
Логика инока Филофея, впервые возопившего про «третий Рим» была, видимо, такова: поскольку Москва (Русь) приняла веру от Константинополя, а он есть Рим второй, то Москва, соответственно, третий. Этим умозаключением наш инок доказал, что умеет считать за трёх, но отнюдь не продемонстрировал способности отличать факты политические от фактов духовных. Преемственность Константинополя от Рима — явление политическое. Преемственность Москвы от Константинополя — явление духовное. Цепочки не получается. Чтобы спаять эти три звена, надо увидеть в них факты исключительно политические и тогда почему бы не обрести четвёртый Рим, например, в Вашингтоне? Либо надо увидеть в них факты религиозные, мистические, и тогда получается, что Москва — наследник древнеримского язычества.
История тысячелетнего Рима — это история язычества. Императоров–христиан Рим знал лишь в период упадка. Не они создали славу Рима, они эту славу угробили. И вот теперь попытайтесь объяснить, почему для Москвы так важно вести свою родословную от языческого Рима?
У идеи «Москва — третий Рим» есть одна нехорошая особенность. Она исключает из числа наших духовных предшественников христианский Запад. Как бы получается, что сначала были Октавианы и Траяны, потом — Константины и Юстинианы, а следом за ними — Иваны. Вы заметили, что Карлам здесь места нет? А хорошо ли это? Правильно ли?
Решительно невозможно понять, почему Октавиан Август нам ближе и дороже, чем Карл Великий? Почему Луций Анней Сенека нам роднее, чем Франциск Азиский? Почему Марк Тулий Цицерон нам свой, а Бернар Клервосский — чужой? Карл был православным императором, а мы предпочитаем ему язычника? Франциск и Бернар, конечно, католики, и уж, наверное, не все мысли у них правильные, с этим разбираться надо, но неужели у языческих мыслителей правильных мыслей больше?
Вот такие шокирующие, скандальные даже вопросы перед нами неизбежно возникнут, если мы примем идею «Москва — третий Рим». Почему же славянофилы так охотно подхватили и раскрутили эту не самую умную мысль инока Филофея? Похоже, им как раз нравилось, что из этой цепочки выпадает великая история христианского Запада.
Мне совершенно непонятна мысль Тютчева: «Что такое история Запада, начавшаяся с Карла Великого и завершившаяся у нас на глазах? Это история узурпированной империи». Что узурпировал Карл? Он был с Юстинианом одной веры — православной. Он создал первую на Западе христианскую империю, связанную с христианскими идеалами изначально, генетически, в отличие от древней римской империи, христианизированной, но не успевшей преодолеть свою генетическую связь с язычеством. Наследники Юстиниана не имели ни малейших сил утверждать христианские идеалы на территории Западной Европы. Каким, интересно, законным правителям должен был уступить свою власть Карл, чтобы не быть узурпатором? Нам не нравится, что Карл провозгласил себя императором, когда в Константинополе уже был император? Но вам не кажется, что это опять же вопрос политический, то есть вопрос властных амбиций, а не религиозный, не духовный вопрос, если учесть, что Церковь тогда была единой?
Совершенно непонятна мысль, которую высказывают некоторые современные патриоты — дескать, настоящая империя может быть только одна. А почему не быть двум империям, если один император не в состоянии удержать власть над огромной территорией? Опять же получается, что империя Нерона и Калигулы — настоящая, поскольку единственная, а империя Карла Великого — не настоящая, поскольку вторая. Мысль не только странная и ни на каких разумных доводах не основанная, но и крайне вредная для современного русского сознания.
Откуда же в русских патриотах эта неисстребимая энергия отрицания христианского Запада? Мне кажется — от обиды. Дело в том, что Запад Россию и русских не любит, никогда не любил и никогда не будет любить. Это факт бесспорный, тут даже доказывать нечего.
Ещё Тютчев вполне справедливо писал:
Как перед ней не гнитесь, господа, Вам не снискать признания Европы. В её глазах вы будете всегда Не слуги просвещения, а холопы.Презрительное отношение европейцев к русским крайне болезненно задевает наше национальное самосознание. И мы по–детски обижаемся на Европу: «Да наплевать нам на ваше признание, потому что сами вы дураки, и ничего у вас там хорошего нет, одна только зараза». Если бы Европа млела от любви к России, осыпая русских комплиментами, нам было бы не только легко, но и приятно сказать: «И вы тоже неплохие ребята, и у вас немало хорошего». Но на презрение нам очень хочется ответить презрением, то есть на европейскую глупость мы отвечаем своей русской глупостью, ни чуть не меньшей.
Как же тут быть? Объяснить европейцам, что мы хорошие и у нас тоже немало ценного, чему бы Европа могла поучиться к большой для себя пользе? Достоевский так и думал. Он полагал, что придёт время, когда «европейские братья» «перестанут смотреть на нас столь недоверчиво и высокомерно, как теперь ещё смотрят». И русский народ обязательно «скажет окончательное слово великой всеобщей гармонии».
Тут Фёдор Михайлович проявил большую наивность, столь свойственную порой гениям. Может быть, в его эпоху и можно ещё было предаваться подобным мечтаниям, но в наше время уже окончательно ясно, что никогда русские не скажут такого слова, которому Запад будет внимать с восхищением и благодарностью. Русские сегодня могут сохранить свою народную душу, но «великая гармония» между нами и Европой окончательно стала химерой.
Европейцы всегда будут презирать русских и за реальные, и за вымышленные грехи. Нам не простят ни православной империи, ни большевистской революции. Ни плохих дорог, ни нарушения прав человека. Ни технической отсталости, ни недостатка демократии. Европейцы будут презирать русских даже за то, в чём сами виноваты больше нас. Они будут пьянствовать и презирать нас за пьянство. Они закроют у себя все храмы и будут презирать нас за то, что мы — неправильные христиане. Они уничтожат у себя всякий намёк на образованность и будут презирать нас за отсталую систему образования. К сожалению всё актуальнее становятся слова Тютчева: «Пропаганда католическая и пропаганда революционная, друг другу противоположные, но соединённые в одном общем чувстве ненависти к России». А мы едва ли от счастья не пляшем, когда хотя бы несколько европейцев скажут о русских хотя бы несколько добрых слов.
Больно? Если честно, то очень. Так как же быть? Выход один. Быть хорошими христианами, то есть жить по заповедям Христа. Господь призвал любить врагов, призвал благословлять ненавидящих нас. Это очень трудно, но это совершенно необходимо. Хватит ли у русских духовных сил любить великую христианскую историю Европы, которая нас, русских презирает? Для русских это вопрос выживания, потому что альтернативы такой любви к Европе, не только убоги, но и губительны для нас. Мы либо будем вечно ползать перед Западом на брюхе, по–холуйски стремясь добиться хотя бы некоторого расположения, либо будем истощать свои силы в проклятиях Западу, фанатично отказываясь заимствовать то, что на Западе было прекрасного и возвышенного.
Русские сегодня — самый духовный народ Европы. Только этим мы и сильны, но это надо подтверждать каждым своим словом и вздохом. Если русские патриоты останутся на позициях тотального отрицания всего западного, этим они докажут только свою бездуховность, то есть неспособность благословлять проклинающего и любить ненавидящего.
Может быть, именно русские православные рыцари окажутся способными взять у Запада всё лучшее, что там было и при этом не попасть к Западу в интеллектуальный плен. Наши рыцари откажутся от холуйского подражания Западу, но одновременно и от узколобой ненависти ко всему западному. Очень похоже, что русская православная душа нуждается сегодня в укреплении мужественными идеалами рыцарства, идеалами благородства и великодушия. Рыцарство — это достоинство без гордыни, смирение без раболепства. Всё это и без рыцарства есть в православии, но есть ли это в достаточной мере в наших душах? Может быть, стать настоящим рыцарем, это значит стать настоящим православным? Похоже, что католицизм мешал полному раскрытию рыцарских идеалов. Так не должны ли православные поднять упавшее знамя?
***
В русском народе сегодня можно обнаружить самые лучшие черты европейских народов. В России вы найдёте и «острый галльский ум» и «сумрачный германский гений», и латинскую ясность мышления, и греческую богословскую глубину.
Настоящим русским людям в равной степени дороги великие фигуры как европейской, так и национальной истории. И Хлодвиг, и Рюрик. И Карл Великий, и Ярослав Мудрый. И Ричард Львиное Сердце, и Александр Невский. Где они ещё могут встретиться, кроме русской души?
Лев пустыни (Наполеон и мы)
По поводу Наполеона занимались риторикой.
Его исторической реальности не постигали,
вот почему и упустили его поэзию.
Федор ТютчевКто мы? (Постановка вопроса)
В 1987 году, когда на прилавках магазинов изредка начали появляться достойные внимания книги, мы азартно за ними охотились. И вот нам удалось приобрести монографию А. Манфреда «Наполеон Бонапарт». Кем был для нас тогда Наполеон? Великим и ужасным завоевателем, который напал на Россию, а мы его победили при помощи фельдмаршала Кутузова, партизанской войны и русских морозов. О Наполеоне, как таковом, сведения наши были, мягко говоря, фрагментарны. И вот теперь мы имели о нем целую книгу.
Сказать, что биография Наполеона Бонапарта показалась мне интересной, значит не сказать ни чего. После первой же сотни страниц я пережил самое настоящее потрясение. Стоило мне поделиться с женой переполнявшими меня чувствами, как я тут же был обвинен в эгоизме, она не хотела ждать, когда придет ее очередь для чтения этой книги. Я приходил вечером домой и, пока жена готовила ужин, читал ей вслух несколько страничек из биографии Наполеона.
Тем временем в 9‑м классе, где я преподавал литературу, подошло время изучать «Войну и мир». Я говорю ученикам: «Сегодня у нас по плану биография Льва Толстого, мы отложим ее до времени, когда будем готовиться к экзаменам. Вместо этого я расскажу вам биографию Наполеона. Толстой в своем романе создал карикатурный, искаженный образ Наполеона. Каким был этот человек на самом деле? Вам будет полезно об этом узнать до того, как вы начнете читать «Войну и мир».»
Надо сказать, что этот класс был самым буйным и неуправляемым во всей школе, их ни чем невозможно было заинтересовать, а перекричать их не стоило и пытаться. Но на сей раз все было по–другому. С первых же минут моего рассказа в классе водворилась гробовая тишина. Некоторым совсем уж отвязанным пацанам быстро заткнули рот свои, все слушали, затаив дыхание. Для меня это был своего рода моноспектакль. Вдохновленный великой судьбой, я не просто рассказывал, я потрясал, вовсе даже не желая, да в общем–то и не умея этого делать, имея ввиду лишь поделиться тем, что узнал, но я увидел, как мое внутреннее потрясение передается всему классу. Мне кажется, если бы в конце этого урока я крикнул: «Да здравствует император!», тридцать юных русских глоток хором ответили бы мне: «Да здравствует император!»
Что это было? Уже без малого 30 лет я задаю себе этот вопрос. В чем секрет гипнотического воздействия судьбы императора французов на сознание представителей самых разных народов и очень разных эпох? Ведь мы познакомились вовсе не с книгой фанатичного бонопартиста, который боготворил своего кумира, а с монографией советского историка, которому было вовсе не по чину восхищаться «агрессивным ставленником французской буржуазии». Но он добросовестно пересказывал факты, и эти факты восхищали. Конечно, мы были тогда слишком молоды, но я вот уже третий десяток лет борюсь со своей симпатией к Наполеону, а в моей душе по–прежнему полный Аустерлиц.
В русском национальном сознании все должно быть против Наполеона. Этот человек напал на нашу страну и принес ей неисчислимые бедствия. Наполеоновская солдатня оскверняла храмы, сам он приказал взорвать Кремль. Синод Русской Церкви объявил его «предтечей антихриста». Он — порождение омерзительной французской революции. Ради своей безумной мечты о мировом господстве, он погубил миллионы людей. Как можно относиться с симпатией к такому чудовищу? Но раз за разом хочется сказать: «И все–таки он — великий человек».
Да такой ли уж он великий? Дорого ли стоит это земное величие? Что если он велик лишь в глазах людей с ложными ценностями? Подлинно великими людьми были святые — люди, которые чаще всего вели совсем незаметную жизнь, а ведь трудно представить себе человека, более далекого от святости, чем Наполеон.
И тут перед нами возникает самый главный вопрос: что такое Наполеон перед Лицом Божиим? Земная слава — не более, чем пыль на ветру. Что если Бог, взвесив Наполеона, нашел его весьма легким? Суд Божий нам неизвестен. Божьи приговоры сокрыты от нас, во всяком случае, пока мы на земле. Но тогда, может быть, и не стоит делать горделиво–безответственных заявлений по типу: «Уж Наполеон–то, конечно, горит в аду». Хотя, как знать…
Конечно, мы не можем ручаться за Бога, но Бог не запретил нам стремиться к истине и в меру сил стараться максимально к ней приблизиться. К тому же тут есть вопрос не только о Наполеоне, но и о нас самих. Не только «что он такое?», но и «что мы такое?» Кто мы? Гипнотическое воздействие его личности, его судьбы — психологический феномен, достойный самого пристального внимания, потому что характеризует в первую очередь нас самих. С какой стороны?
Недавно прочитал книгу графа Лас — Каза «Мемориал Святой Елены» и почувствовал то же самое потрясение, какое пережил когда–то очень давно, прочитав монографию Манфреда. Поневоле подумал: «Как можно не любить императора?»
Но что если граф просто сотворил себе кумира и поставил его в своей душе на место Бога? Страшное предположение… И что если моя симпатия к императору опирается на мою греховность? Может быть, то самое худшее, что только есть в моей душе, радостно приветствует то страшное и ужасное, что воплотилось в Наполеоне? Если человек склонен к гордыне, он, конечно, будет восхищаться той гордыней, которая вознеслась до вершины земной власти. Если человек склонен к тщеславию, он конечно испытывает восторг от судьбы человека, который удовлетворил свое тщеславие в неслыханной мере. Что если это про меня? Страшный вопрос… Имею ли я право отмахнуться от этого вопроса?
Библиография работ о Наполеоне насчитывает более двухсот тысяч наименований. Если человеку известна эта цифра, и он все–таки считает, что способен сказать о Наполеоне нечто новое, то можно уже спросить, все ли с ним в порядке? Но я, собственно, решаю очень личную проблему, мне важно разобраться прежде всего со своей собственной душой, а это православному человеку не только не возбраняется, но и предписано. А удастся ли при этом сказать то, что еще ни кто не сказал — судить не берусь.
И с самим–то собой разобраться — еще неизвестно, насколько посильно. А чтобы посмотреть на Наполеона с православной точки зрения, нужна духовная зрелость, на что автор этих строк, конечно, не претендует. Я всего лишь постараюсь быть максимально честным, насколько это для меня возможно. Что может увидеть, глядя на Наполеона, самый обычный русский православный монархист? Такой угол зрения порождает три главных вопроса: отношение Наполеона к России, отношение Наполеона к религии, отношение Наполеона к революции и, соответственно, к монархии. Начнем с самого главного.
«Бог разрешит мне верить…» (Наполеон и религия)
Стендаль писал: «В эпоху, когда родился Наполеон, католические идеи стали уже смешными». Утверждение слишком радикальное, но не лишенное оснований. Мы должны понимать, в какой духовной (или бездуховной) атмосфере вырос Наполеон. Все общественные силы, которые считались передовыми, торопились заявить о своем разрыве с религией. Как в таких условиях могло сформироваться религиозное сознание?
Отец Наполеона, Карло Буонапарте, был отъявленным безбожником, он даже написал несколько антирелигиозных поэм. А вот брат Карло, Люсьен, дядя Наполеона, был архидиаконом Аяччо, одним из ведущих клириков Корсики. Про архидиакона Люсьена говорили, что он был набожным и ортодоксальным священнослужителем. Наполеон часто с уважением и любовью вспоминал о своем дяде, который был для него вторым отцом. Маленький Наполеон, глядя на отца и дядю, мог выбирать из двух типов отношения к религии. Что же он выбрал? Как и всегда — нечто третье.
Наполеон всегда очень много читал, но религиозных книг не читал вовсе — они его не интересовали. Говорят, что в «Истории арабов» Мариньи он пропускал страницы, посвященные религии. И в последние годы жизни, на Святой Елене, чтобы император ни говорил о религии, он ни разу не сослался ни на одну религиозную книгу.
По его признанию, он потерял веру еще мальчиком. Однажды он услышал проповедь о том, что Цезарь и другие язычники находятся в аду. Он не понял, почему величайшие люди античного мира должны гореть в вечном огне? Неужели потому, что они не жили по законам неизвестной им религии? Кстати, мысль, которая так не понравилась юному Наполеону — в богословском отношении, как минимум, спорная. Если бы тогда корсиканскому мальчишке встретился умный и грамотный богослов, может быть, этот мальчишка и не потерял бы веру? Впрочем, надо уточнить: Наполеон ни когда не терял веры в Бога, он потерял веру в Церковь, но к Церкви, не смотря на это, он всегда относился с большим уважением.
Он доказал это, едва только получив возможность действовать самостоятельно — во время первой итальянской кампании. Директория использовала самые оскорбительные формы выражения своего отношения к папе римскому в переписке с ним. Молодой генерал Бонапарт писал папе письма полные уважения и начинал их словами «ваше святейшество». Директория подвергала священников изгнанию и объявляла их вне закона. Бонапарт дал указания своим солдатам, чтобы они, где бы ни встретили изгнанных французских священников, помнили, что они являются французами и их братьями. Уже тогда молодой генерал дал понять всем, что ему отвратительны гонения на Церковь, в этом он шел наперекор той безбожной власти, которой вынужден был служить.
Когда генерал Бонапарт вернулся из Итальянского похода, член Директории Ларевельер пригласил его к себе на обед. Он долго рассуждал о недостатках католицизма и о необходимости создать новую религию, которую он уже почти создал — теофилантропию. Ларевельер хотел обратить молодого генерала в свою веру. Бонапарт ответил, что, когда он шагает по незнакомой тропе, то придерживается правила следовать за теми, кто до него шел по ней. В области религии он полон решимости следовать дорогой, проложенной его отцом и матерью.
Довольно здравое суждение для не слишком религиозного молодого человека. Такой образ мысли может остановить человека на самом краю духовной пропасти. При этом Наполеон предпочел умолчать, что его любимый «папа Карло» был как раз безбожником. Юноша, видимо, полагал, что это не тот факт семейной истории, которым стоит гордиться, и под отцом, очевидно, разумел второго отца — дядю Люсьена.
Отношение Бонапарта к религии в полную меру проявилось во время Египетского похода. Этот поход начался с завоевания острова Мальта, который тогда принадлежал Ордену святого Иоанна Иерусалимского, то есть рыцарям–госпитальерам. Наполеон написал епископу Мальты: «Я не знаю человека, более почтенного и заслуживающего уважения, чем священник, который, проникшись подлинным духом Евангелия, уверен в том, что долг его требует послушания светской власти и поддержания мира, спокойствия и единения среди своей паствы».
В этой витиеватой фразе молодой генерал выразил тот главный принцип отношения к религии, которого всегда придерживался, уже будучи императором: власть гарантирует уважение к Церкви, духовенство должно гарантировать не только полную покорность, но и верную службу власти.
На Мальте Бонапарт приказал закрыть монастыри, оставив лишь по одному для каждого монашеского ордена, которых там было несколько (кроме госпитальеров, например, орден кармелитов). Богатства монастырей были конфискованы.
Спустя 18 лет, на острове святой Елены, император сказал, что он вообще был противником монастырей, как бесполезных заведений, способствовавших деградирующей праздности. Однако, он допускал, что существуют некоторые доводы в их пользу. По мнению императора, золотая середина заключается в том, чтобы относиться к монастырям с терпимостью, обязывая их обитателей быть полезными для общества и позволяя им давать монашеские обеты только на один год.
Как видим, и в конце жизни император демонстрирует полное непонимание того, что такое монашество, то есть за всю его жизнь не нашлось ни одного человека, который объяснил бы ему, что монашеские молитвы способны удержать мир на краю пропасти, по сравнению с чем какая–то заурядная «общественная польза» очень мало значит. Но не будем забывать, что перед его глазами были католические монастыри рубежа XVIII–XIX веков, в которых, вполне возможно, ему не встретилось ни одного настоящего монаха. Трудно ли предположить, что закрытые им на Мальте монастыри и правда были притонами тунеядцев? Если генерал Бонапарт не понимал смысла монашества, то ведь далеко не факт, что его понимали те монахи, которых он разогнал. И если на таком крохотном острове он все–таки оставил не меньше трех монастырей, то, может быть, этого и правда было достаточно?
Итак, Бонапарт отнюдь не демонстрировал ни малейшей ненависти к религии, он демонстрировал ее полное непонимание в сочетании с уважением. В Египте это проявилось в полной мере.
Диктуя воспоминания о Египетском походе, император говорил о своих предшественниках крестоносцах: «В XI и XII веках крестоносцы царствовали в Антиохии, Иерусалиме, Эдессе, Птолемаиде, но они были столь же фанатичны, как и мусульмане. В анналах всемирной истории нельзя найти примера усилия, подобного тому, которое предприняла тогда Европа. Несколько миллионов европейцев нашли смерть на полях Сирии, и все же после нескольких призрачных успехов, крест был низвергнут, мусульмане одержали победу… Нам нужно было либо вернуться на суда, либо… избежать анафем пророка, не допустить зачисления нас в ряды противников ислама, нужно было завоевать доверие муфтиев, улемов, имамов, чтобы они истолковали Коран в пользу армии».
Такая досада берет, когда читаешь эту претенциозную чушь про «главную ошибку крестоносцев». Им, видишь ли, «фанатизм» помешал, иначе все было бы нормально. Император совершенно не понимал, что христианство было душой и единственным высоким смыслом крестовых походов. Они могли спасти свои государства, заявив о любви к Корану и пророку, но это было бы отречением от смысла существования крестоносных государств. Да, христианство сильно мешало успехам крестоносцев, генералу Бонапарту оно совершенно не мешало.
Обращаясь к своим солдатам, он говорил: «Римские легионы любили все религии». В листовках, от его имени расклеенных по Каиру, он утверждал: «Я люблю пророка и Коран». Иногда он усаживался рядом с улемами и старался внушить им доверие обсуждением Корана, приглашая их разъяснить ему наиболее важные места и высказывая большое восхищение пророком. Французская администрация не только не посягнула на владения мечетей, но и добросовестно их охраняла.
Даже то, что вояки Бонапарта были сворой безбожников, пошло им на пользу, о чем он сам вспоминал едва ли не с удовольствием: «Со времен революции французская армия не исполняла обрядов какой–либо религии. Она вовсе не бывала в церквях Италии и не стала чаще бывать в них в Египте. Это обстоятельство было замечено проницательным оком улемов, столь ревностно и тревожно относившихся ко всему, что имело отношение к их культу. Оно оказало на них самое благоприятное влияние. Если французы не были мусульманами, то по крайней мере было доказано, что они и не идолопоклонники».
Бонапарт так эффективно заигрывал с мусульманами, что в конечном итоге глава улемов сказал ему: «Вы хотите пользоваться покровительством пророка Мухаммада, он любит вас… Сделайтесь мусульманами, 100 тысяч египтян и 100 тысяч арабов сомкнутся вокруг вас». Главнокомандующий был удивлен. Его неизменным мнением было, что всякий человек должен умереть, не изменив своей религии. Но… он быстро сообразил, что всякие разговоры и дискуссии по этим вопросам окажут хорошее влияние. Он ответил им: «Есть две большие трудности, препятствующие тому, чтобы я и моя армия сделались мусульманами. Первая — это обрезание, вторая — вино. Мои солдаты приучены к вину с детства…» Так он и продолжал водить улемов за нос.
Такое поведение Бонапарта производит впечатление крайней религиозной беспринципности. Если уж «Париж стоит мессы», то и «Каир стоит намаза». Но это не совсем так. В рамках своих религиозных убеждений, он фактически не позволял себе ни какой беспринципности, ни каких компромиссов. Он верил в Бога, но не видел между различными монотеистическими религиями ни какой принципиальной разницы, соответственно, поклонение Всевышнему в форме ислама не могло вызывать у него ни какой аллергии, и его показное восхищение Кораном даже и компромиссом нельзя назвать.
Его принцип — «Оставайся в вере отцов» — по сути не религиозный, он скорее из сферы бытовых традиций, и нарушение этого принципа в рамках его мировоззрения — не есть религиозное предательство, внешние традиции — та сфера, в которой компромисс допустим. Позднее он говорил: «Смена религии ради частной выгоды является непростительной, но ее можно простить, принимая во внимание колоссальные политические выгоды». Для него это был вопрос из сферы допустимого компромисса. Скажем, если мы едим вилкой и ложкой, нам совершенно ни к чему кушать деревянными палочками, но если это сулит большие перспективы, так пусть уж будут палочки.
Полагаю, ради политической выгоды он ни когда бы не сказал, что Бога нет. Здесь была черта, которую он ни когда не переступал, то есть религиозно беспринципным он как раз не был. Когда Францией правила безбожная Директория, ему очень выгодно было бы изображать из себя безбожника, но он этого ни когда не делал, предпочитал плыть против течения. Бонапартов " экуменизм» производит на нас неприятное впечатление, но все познается в сравнении. Когда среди толпы воинствующих безбожников вдруг появляется «экуменист», он, безусловно, религиозно, духовно возвышается над этой толпой.
Бонапарт был едва ли не самым религиозным человеком в своей армии. Он вспоминал: «Душевный настрой солдат был таким, что для того, чтобы заставить их спокойно выслушивать простое упоминание о религии, я вынужден был говорить весьма легковесно о ней, поставив евреев в один ряд с христианами, а раввина рядом с епископом».
То почтение к пророку Мухаммаду, которое он не раз высказывал в Египте, вовсе не было чистым притворством. Позднее он подверг жесткой критике драму Вольтера «Магомет»: «Вольтер неправильно описал личность и поведение своего героя и пренебрег фактами. Он унизил Магомета, сделав его участником самой низкопробной интриги. Он изобразил великого человека, который изменил лицо мира, как некоего негодяя, заслуживающего виселицы». Для безбожника Вольтера любой религиозный лидер уже мошенник и негодяй. Вольтер низок. Наполеон таким ни когда не был.
Император простодушно гордился тем, что в течение одного года он получал письма из Рима и из Мекки. Папа римский обращался к нему, как к «дорогому сыну», а шериф, потомок Мухаммада, величал его «покровителем священного храма Каабы». Так Наполеон стал фигурой, имеющей значение в мире религий, в котором он совершенно не ориентировался.
Сплетни о том, что в Египте генерал Бонапарт принял ислам, конечно, смехотворны, но его подчиненный генерал Мену, действительно публично принял ислам, что ни сколько не смутило главнокомандующего. Всего за время похода приняли ислам около пятисот французских военных. В Египте они чем–то напоминали Советскую армию в Афганистане. Воспитанные якобинцами и большевиками на безбожии французы и русские вдруг оказались в мире ревностной религиозной веры. Многих из них очаровал не собственно ислам, а вера в Бога, как таковая. Раньше они и не представляли себе, как это прекрасно — верить в Бога. И они принимали ислам.
Но и христианские чувства, давно уже заглохшие в солдатах революционной армии, порою вспыхивали на этой святой земле. Во время похода на Акру, когда армия останавливалась лагерем на развалинах городов, упомянутых в Библии, в палатке генерала Бонапарта каждый вечер читали вслух Священное Писание. Им казалось, что они вдруг очутились внутри Библии, и это чувство было неожиданно радостным. «Армия была охвачена жгучим желанием увидеть поскорей Голгофу, Гроб Господень, плато Соломонова храма, она испытала чувство горечи, получив приказ повернуть», — вспоминал император.
Французские безбожники вдруг узнали, что они — единоверцы христиан, и это им понравилось: «Монахи ордена Отцов Святой Земли привели население Назарета… Радость этих христиан невозможно выразить: после стольких веков угнетения они видели единоверцев. Им доставляло удовольствие вести разговор о Библии, которую они знали лучше, чем французские солдаты. Они читали прокламации главнокомандующего, в которых он называл себя другом мусульман, и приветствовали эту линию поведения, это ни сколько не отразилось на их доверии к Бонапарту. Один старец не мог произнести и трех слов, не сопроводив их цитатой из Священного Писания».
Казалось, вся эта земля была пропитана религиозным духом: «В Сирии было довольно много евреев, их волновали смутные надежды, среди них ходил слух, что Наполеон после взятия Акры отправится в Иерусалим, и что он хочет восстановить храм Соломона. Эта идея льстила им.»
И христиане, и мусульмане, и иудеи видели в генерале Бонапарте возможность осуществления своих религиозных надежд. Он ни кого не хотел разочаровывать.
***
Едва ли не на следующий день после государственного переворота 18 брюмера, захвативший власть генерал Бонапарт сделал отправление католического культа свободным. Он разрешил празднование воскресного дня, многих священников вернул из ссылки, многих выпустил из тюрем. Затем он приступил к переговорам с папой, в результате которых был подписан знаменитый Конкордат, просуществовавший, кстати, более ста лет после Наполеона.
Наполеон признал католицизм «религией огромного большинства французских граждан», но не государственной религией, как это было до революции. Взамен этого папа обязался ни когда не требовать возвращения Церкви земель, конфискованных у нее во время революции. Епископов и архиепископов назначал по своему усмотрению Наполеон, а уже после этого назначенное лицо получало от папы посвящение в сан. Священники, назначаемые епископами, вступали в должность только после утверждения правительством. Надо сказать, что даже статус государственной религии редко давал правительству такие серьезные полномочия в управлении церковными структурами.
Про Конкордат часто говорили, что Наполеон принял его исключительно из политических соображений. Это очень упрощенный и не очень честный взгляд на сей предмет. Разве в действиях Константина Великого и Владимира Святого, которых Церковь называет равноапостольными, не было политической составляющей? И разве в действиях Наполеона не было составляющей чисто религиозной, ни как не зависящей от политической выгоды? Не будем забывать, что Наполеон был человеком, искренне верующим в Бога, атеизм он считал чем–то нездоровым, ненормальным, неправильным. Да, Церковь была для него в первую очередь политическим союзником, той силой, которая обязана помогать ему в управлении государством и не имеет права в этом мешать. Но этот выбор Церкви в качестве союзника был для Наполеона добровольным, отнюдь не навязанным ему ситуацией.
В то время он как–то обронил: «Попы все–таки лучше, чем шарлатаны вроде Калиостро или Канта и всех этих немецких фантазеров». В этой фразе звучит явно пренебрежительное отношение к священству и одновременно — вполне осознанный выбор в его пользу. Кого–то может удивить, что он поставил рядом имена мошенника Калиостро и великого философа Канта, но это отнюдь не случайный смысловой ряд, за ним стоит примерно такая концепция: бесспорно существует мир иной, некая мистическая реальность, с которой человек так или иначе вынужден иметь дело. Нас предлагают ввести в мистическую реальность жулики, вроде Калиостро — они не заслуживают ни чего, кроме презрительной усмешки. Или умники, вроде Канта, которые много мудрят, но ни чего не понимают. Попы — тоже не очень, но лучше них ни кого нет. Выбор Наполеона в пользу Церкви — это выбор человека, который ни чего не понимает в религии, но вместе с тем обладает здоровым религиозным инстинктом.
Позднее он выразил свою мысль еще более отчетливо: «Я рассматривал религию в качестве поддержки разумных принципов и нравственного поведения в теории и на практике. Кроме того, такова уж неугомонная людская натура, что душа человека требует чего–то непостижимого, что предлагает ему религия, и гораздо лучше для него найти это в религии, чем искать это у Калиостро или гадалок и шарлатанов».
А с политической точки зрения этот выбор не только не решал его проблем, но и создавал новые. Заключая союз с Церковью, Наполеон плыл против течения, ему было политически проще не делать этого.
Конкордат был торжественно обнародован 18 апреля 1802 года, в пасхальное воскресение. По этому случаю в Соборе Парижской Богоматери отслужили торжественную мессу. Присутствовали три консула республики, министры, чиновники, иностранные послы. Явка военных была обязательна, за что отвечал Бертье. В храме Бернадот мрачно молчал, Ожеро не скрывал раздражения. Не знаю еще, почему там не было Даву, который всю жизнь оставался отъявленным безбожником. Наверное, он представил справку о болезни.
Итак, заключив союз с Церковью, Бонапарт пошел против значительной части своих маршалов, что для военной диктатуры весьма небезопасно, но он на это пошел. И в целом в обществе сопротивление Конкордату было значительным: атеисты, республиканцы, часть интеллигенции выступали против. Позднее Наполеон вспоминал: «Я взвесил всю важность религии, я был убежден в необходимости восстановить ее и твердо решил сделать это. Вряд ли стоит недооценивать сопротивление, которое я должен был преодолеть, восстанавливая католицизм. За мной более охотно последовали бы в том случае, если бы я поднял флаг протестантизма. Сопротивление заходило настолько далеко, что в Государственном Совете, в котором мне стоило больших трудов добиться принятия Конкордата, несколько членов Совета уступили только потому, что были намерены устраниться. «Пусть! — говорили они друг другу — мы станем протестантами, и это будет нас мало трогать». Общее положение в тот момент было явно в пользу протестантизма. Но помимо моей истинной приверженности к той религии, в которой я был рожден, у меня были весьма важные мотивы, оказавшие решающее влияние на мое решение… С помощью католицизма, я более эффективно добивался своих целей…»
Итак, у Наполеона был еще один выбор — в пользу протестантов, старых добрых гугенотов, которые к тому же в чем–то были близки Наполеону. Стендаль писал: «Наполеон всегда придерживался широчайшей терпимости по отношению к французским протестантам… Безошибочно определив, в чем зло, препятствующее очищению католицизма, он просил папу отменить безбрачие священников, но не встретил сочувствия в римской курии. Как–то он сказал Фоксу: вздумай он настаивать на своем предложении, все с негодованием сочли бы это протестантизмом чистейшей воды».
Итак, он вполне осознанно опасался подозрений в протестантизме, хотя союз с протестантами прошел бы легче и принес бы ему существенные политические дивиденты. Пример Генриха VIII был очень заразителен. И Наполеон, привыкший повелевать, а не договариваться, очевидно, испытывал сильнейший соблазн разом покончить с влиянием Рима. Он преодолел этот соблазн. И не только потому, что Рим отныне помогал ему «добиваться своих целей», но и по причине искренней приверженности к той религии, в которой он был рожден. Похоже, он интуитивно чувствовал, что католицизм ближе к истине, чем протестантизм. Он испытывал к католицизму большую симпатию, и эта симпатия играла порой не меньшую роль, чем соображения политической выгоды.
На Святой Елене он говорил: «В хорошо управляемой стране нужна главенствующая религия и зависимые от государства священники. Церковь должна быть подчинена государству, а не государство Церкви». Это очень далеко от православных представлений о правильных отношениях государства и Церкви. (Впрочем, и православные государи, начиная с Петра I, на практике следовали именно этому наполеоновскому принципу). Но следует ли отсюда, что Церковь была для него лишь инструментом государственной политики и не более того? Нет, не следует.
Он говорил: «Если бы христианская религия могла заменить людям все, как того добиваются ее горячие приверженцы, это явилось бы для них наилучшим подарком Небес». Сколько в этих словах глубочайшего осознания того, что только христианство может сделать человека счастливым. И осознание собственного бессилия дать людям то, что может дать им только христианство. Такие мысли тоже руководили его действиями.
А с Римом его отношения складывались очень не просто. Взять хотя бы тот скандальный факт, когда во время коронации Наполеон вырвал корону из рук папы и сам возложил ее себе на голову. Раньше я понимал это как проявление безумной наполеоновской гордыни: дескать, не Бог дарует мне корону, я сам ее себе дарую. Потом понял, что это всего лишь проявление длящейся еще со средних веков распри между императорами и римскими понтификами. Папы претендовали на роль «создателей императоров», императоры брыкались. Если бы папа возложил корону на голову Наполеона, он мог бы потом сказать императору французов: «Не забывай, от кого ты получил корону». Наполеон своим жестом лишь хотел сказать папе: «Не ты дал мне корону. У тебя нет надо мной власти». То есть, это был жест отнюдь не антихристианский, а антипапский, ежели угодно — антикатолический.
17 мая 1809 года император издал декрет о том, что город Рим и все владения папы отныне присоединятся к французской империи. Папство лишилось всего, чем владело около полутора тысяч лет. Папа был взят под стражу и увезен на юг Франции.
Когда мы говорим об отношениях Наполеона с Церковью, мы, конечно, не забываем о том, что это была Католическая Церковь. То есть, с одной стороны, это была хранительница христианства, лучше которой на Западе уже не было, а с другой стороны — вместилище ересей, одной из которых было как раз преувеличенное представление о значении в Церкви римского понтифика. И когда Наполеон лишил папу его светских владений, это был не антихристианский, а антикатолический жест. Император не смог бы богословски обосновать несостоятельность властных амбиций римских пап, но он интуитивно чувствовал, что тут что–то не так. Проще говоря, ему было противно.
Позднее он вспоминал: «Чего только не предлагал нынешний верховный понтифик, чтобы ему разрешили вернуться в Рим! Отказ от… института епископов не был для него слишком высокой ценой за то, чтобы стать владетельным принцем. Даже сейчас он является другом всех протестантов… Он является врагом только католической Австрии, поскольку ее территория окружает его собственную».
Императора искренне возмущало, до какой степени самому «обер–католику» было наплевать на религию и насколько предпочтительнее была для него чисто земная власть. А сколько таких священников его окружало? Он вспоминал: «Могут ли наши сердца наполниться верой, когда мы слушаем абсурдную речь и видим неправедные поступки тех, кто читает нам проповеди? Я окружен священниками, которые непрестанно повторяют, что их власть находится вне пределов этого мира, и тем не менее они прибирают к своим рукам все, к чему не прикоснутся».
После этого обращенные к нему слова духовенства о том, что он слишком много думает о земном владычестве, звучали для него, мягко говоря, неубедительно.
Император очень не любил любую фальшь. Он вспоминает: «Когда я стал императором… прилагались немалые усилия, чтобы я торжественно отправился по примеру королей Франции в собор Парижской Богоматери для причастия, но я решительно отказался делать это. Я не верил этому обряду в достаточной мере, чтобы извлечь какую–то пользу из него, и тем не менее я слишком уважал его, чтобы пойти на риск и совершить акт профанации».
Вам не кажется, что в этой ситуации император выглядит человеком куда более честным по сравнению с католическим духовенством? Это они должны были сказать ему, что нельзя совершать профанацию таинства, если он не верит, что причастие — Тело и Кровь Христовы, но все было наоборот. Они не спрашивали у него, во что он верит и хотели от него всего лишь демонстрации, выгодной для них. А он не хотел без веры делать то, что выгодно. В его позиции куда больше уважения к таинству, чем в позиции духовенства.
На борту британского корабля «Нортумберленд» император, прощаясь с соратниками, сказал: «Скажите Франции, что я молюсь за нее». Всего лишь красивые слова? Или он действительно молился за возлюбленную Францию? Кто же нам ответит?
***
То, что Наполеон искренне верил в Бога, не вызывает ни какого сомнения. Об этом говорит множество его высказываний на святой Елене.
«Все свидетельствует о существовании Бога, это не может подвергаться сомнению…»
«Я несомненно очень далек от того, чтобы быть атеистом».
«Мы верим в существование Бога, поскольку все вокруг нас свидетельствует о Нем, и наиболее просвещенные умы верят в Бога…»
«Я ни когда не сомневался в существовании Бога, ибо если мой здравый смысл не был способен постигнуть Его, то мой разум и чувства были расположены воспринять Его».
То, что он видел в религии, как таковой, и в христианстве великое благо, так же бесспорно:
«Религиозное чувство настолько утешительно по своей природе, что его следует рассмотреть, как благодеяние свыше. Что было бы с нами здесь, если бы мы были лишены его!..»
«Существует множество таинственных вопросов, которые заставляют нас обращаться к религии, мы со всей страстью бросаемся в ее объятия…»
«Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и я сам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания наших гениальностей? На основе насилия. Один лишь Иисус Христос основал свою империю любовью… На расстоянии тысячи восьмисот лет Иисус Христос предъявляет трудное для выполнения требование, превосходящее все другие требования. Он просит человеческого сердца».
Граф Лас — Каз вспоминает: «Император попросил принести ему Евангелие, он стал читать его нам с самого начала и завершил чтение Нагорной проповедью. Император выразил свое восхищение великой и прекрасной нравственностью проповеди Спасителя».
Император безусловно верил в загробную жизнь, хотя его представления о суде Божием, мягко говоря, нетрадиционны. Когда на борту «Нортумберленда» его посетила мысль о самоубийстве, он сказал Лас — Казу: «Я один из тех, кто полагает, что ужасы другого мира придуманы только для того, чтобы стать противовесом тех соблазнов, которые предлагаются нам здесь. Бог в своей беспредельной доброте не мог допустить существование такого противоречия, особенно в случае поступка подобного рода, и в конце концов, что это такое, как не желание вернуться к Нему немного раньше?»
На Святой Елене он говорил: «Под напором невзгод, словно ниспосланных мне Богом, я ожидал воздаяния в виде счастья в загробной жизни! Какого еще воздаяния я вправе ожидать?.. Я могу предстать перед судом Божиим, я могу без страха ждать Его приговора. Он увидит, что моя совесть не отягощена думами об умышленных и жестоких убийствах, об отравлениях — обычных делах тех, чьи жизни напоминали мою жизнь».
Император сам осознавал недостаточность своей веры. Такую сильную недостаточность, что иногда он называл свою веру неверием.
Лас — Каз вспоминает: «Кто–то из нас решился сказать императору, что он мог бы в конце концов стать религиозным. Император ответил с известной долей убеждения в голосе, что он опасается, что все же им не станет, и что он сожалеет об этом, поскольку религия является большим источником утешения, но его неверие — следствие силы его разума, а не порочности души».
«Сейчас я твердо уверен в том, что, умирая, не призову духовника… Я не могу верить всему тому, чему меня учили. Мой разум, который видит ложь и ханжество, противится этому».
«Я чувствовал необходимость веры, и я действительно верил, но моя вера испытала потрясение, она пошатнулась, когда я стал приобретать знания и начал размышлять. Подобное случилось со мной впервые, когда мне исполнилось 13 лет. Может быть, я опять стану безоговорочно верить. Бог разрешит мне верить! Конечно, я не буду противиться… Это должно быть в моей душе великим и истинным счастьем».
Надо иметь каменное сердце, чтобы усомниться в искренности этих слов. Это настоящий порыв души к Богу, и мы не можем быть твердо уверены в том, что этот порыв закончился неудачей.
***
Император вообще ничего не понимал в богословии. Он даже не понимал, что такое богословие, и зачем оно надо. Он говорил: «Умозаключения теологические стоят куда больше, чем умозаключения философские». Это понятно. Он имеет ввиду, что мысли о Боге гораздо ценнее бесплодных умствований на отвлеченные темы. Но вскоре он вдруг заключает: «Теология для религии, все равно что отрава в еде». А это уже заурядная интеллигентская пошлятина, столь хорошо нам знакомая по нашей эпохе. Дескать, религия — штука хорошая, жаль только богословы ее сильно испортили. Он просто не понимал о чем идет речь. И сам это прекрасно осознавал.
Он вспоминал, например: «Епископ Нанта де Вуази сделал меня настоящим католиком (?) благодаря эффективности своих аргументов, совершенству нравственных норм и своей просвещенной терпимости. Он был духовником Марии — Луизы. В религиозных вопросах он пользовался моим безграничным доверием. В моих спорах с папой римским я заботился о том, чтобы не затрагивать догматические проблемы. В ту минуту, когда епископ Нанта говорил мне: «Будьте внимательны, вот вы опять боретесь с догмой», я немедленно менял тему разговора».
Хорошо, конечно, что император взял себе за правило не комментировать тех вопросов, в которых он ничего не понимал, замечательно, что рядом с ним был хоть один священнослужитель, к которому он испытывал доверие, жаль только, что любезный епископ де Вуази не разъяснил императору самых простых вещей, оставив его в состоянии дремучего религиозного невежества. На Святой Елене император выражал в качестве своих окончательных выводов поразительно инфантильные религиозные представления:
«Все наши религии являются, очевидно, продуктом деятельности человеческого разума. Почему не всегда существовали наша религия? Почему она считает правильной одну себя? Что станет в этом случае со всеми добродетельными людьми, которые ушли из жизни до нашего появления? Почему эти культы поносят друг друга, противоборствуют и стремятся друг друга искоренить? Почему это никогда не прекращалось? Потому что священники всегда и повсюду несли с собой обман и ложь».
На счет священников император, очевидно, погорячился. Он ведь не имел ввиду своего дядюшку архидиакона Люсьена или, например, епископа де Вуази? Хотя надо признать, что католические священники и правда очень часто «несли с собой обман и ложь». А к своим любимым мыслям император еще не раз возвращался:
«Просвещение и история являются главными врагами религии, извращенной человеческим несовершенством. Почему, спрашиваем мы себя, религия Парижа отличается от религии Лондона и от религии Берлина? Почему религия Петербурга так мало имеет общего с религией Константинополя? Почему религия последнего отлична от религий Индии и Китая? Почему религия древнего мира не похожа на религию наших дней? Тогда здравый смысл оказывается в нерешительности и печально восклицает: о, религии, религии! Вы — дети человеческого разума!»
«…Мы не знаем, что думать о доктринах, которые руководят нами, и оказываемся в положении часов, которые идут, ни чего не зная о часовщике, сделавшим их…»
Император формулирует свои убеждения в форме вопросов, но, заметьте, он ни разу не говорит: «Ни один священник не смог ответить мне на эти вопросы» или «Ни в одной книге я не нашел ответов на эти вопросы». То есть он не искал ответов на эти вопросы, он был уверен, что это вопросы без ответов. А с чего вдруг?
Вообще, это вопросы вполне законные, и я считаю, что каждый верующий человек должен постараться найти на них ответы. И эти ответы, конечно, есть! Я тоже ставил перед собой подобные вопросы и нашел ответы, которые меня вполне удовлетворили и мог бы развеять все недоумения императора, если бы у него хватило терпения меня выслушать. Но он ведь ни когда всерьез не интересовался проблемой различия религий. Ему казалось, что тут и так все понятно, то есть тут ни когда и ни кому и ни чего не может быть понятно. Очень наивное и простодушное заблуждение.
Среди наших интеллигентов можно встретить очень много подобных людей. Религией они ни когда всерьез не интересовались, но имеют на сей счет суждения, которые считают неопровержимыми, и которые якобы мешают им придти в Церковь и признать, что истина в православии. На самом деле им мешает их духовная, а порою просто интеллектуальная лень, незаинтересованность в религиозных вопросах, безрелигиозность сознания.
Все это относится и к Наполеону. Он наивно полагал себя вправе судить о различии религий, совершенно не будучи знакомым с этими предметом и не будучи этим предметом заинтересован. Как странно обнаруживать в гении следы этой интеллигентской пошлятины. К слову сказать, если кто–то считает Наполеона врагом православия, то пусть он обратит внимание на следующую фразу: «Почему религия Петербурга так мало имеет общего с религией Константинополя?» Понятно, что человек, задавший такой вопрос, не имел о православии даже малейшего представления.
Однажды Талейран, которому император устроил страшный разнос, вышел из его кабинета и небрежно обронил: «Как жаль, что такой великий человек, так дурно воспитан». Мне легко простить императору недостатки его воспитания, но я могу сказать: «Как жаль, что такой великий человек имел такие заурядные представления о религии».
***
А между тем, у императора были воистину наполеоновские планы в религиозной сфере. Подводя итоги своему правлению, он говорил: «Может мне надо было подражать Генриху VIII, сделавшись единственным первосвященником и религиозным вождем моей империи. Рано или поздно, монархи придут к этому».
На православное сознание такие заявления безусловно производят шокирующее, пугающее впечатление. От них отдает духом антихриста. Но не будем торопиться с выводами. Тут есть может быть попытка подражания древним королям–священникам, например, Мелхиседеку, который сочетал в себе высшую государственную и религиозную власть. Или императору Константину, который осознавал себя главным покровителем Церкви и созвал собор, хотя, если бы Константина разбудить посреди ночи, так он, возможно, и не смог бы четко сформулировать, в чем разница между «ОМОУСИОС» и «ОМИУСИОС».
Да, религиозные планы Наполеона были пугающими, но отчасти в них было что–то может быть и здоровое. Он говорил: «Если бы я вернулся из Москвы с победой, я бы последовательно (что было так желательно мне и так не угодно его святейшеству) добился отделения духовной власти от светской. Добившись этого разделения, я бы возвеличил папу римского… окружив его великолепием и почестями. Мне бы удалось подавить в нем всякое сожаление по поводу потери им светской власти… Париж превратился бы в столицу христианского мира, а папы римские были бы только его президентами. Я бы созывал и распускал ассамблеи христиан, действуя подобно тому, как это делали Константин и Карл Великий».
Православные вряд ли увидят что–либо плохое в замысле лишить римского епископа светской власти. В желании подражать православным императорам тоже нет ни чего порочного. А вот мысль о превращении Парижа в столицу христианского мира, еще раз напоминает нам о том, что император совершенно не учитывал существования Православной Церкви. Он, похоже, просто не догадывался о той духовной пропасти, которая разверзлась между Западом и Востоком.
***
Итак, мы можем сделать следующие выводы. Наполеон искренне верил в Бога, но безусловно не был человеком церковным и не имел о Церкви ни малейшего представления. Различия между религиями он воспринимал, как различия в национальных традициях, которым весьма желательно следовать, но это все же не принципиально. При этом он с большой симпатией и уважением относился к христианству, и ему принадлежит огромная заслуга в прекращении гонений на Католическую Церковь и в сохранении остатков христианства на Западе.
Величайшее бедствие (Наполеон и революция)
Наполеона принято считать порождением Великой Французской революции, даже сыном революции. Да так ли? Если его молодость пришлась на эпоху революционного катаклизма, и если он сделал военную карьеру благодаря этому катаклизму, это еще не доказывает его кровного родства с революцией. Ведь так же точно и многие из нас, выросшие при советской власти, делавшие карьеру по правилам, установленным компартией, очень обиделись бы, если бы их назвали порождениями Великой Октябрьской революции и детьми компартии. Виноваты ли мы в том, что родились в эпоху владычества большевиков? Мы вынуждены были жить в системе координат, утвержденной коммунистами, но это еще не значит, что мы были влюблены в КПСС. А Наполеон?
Он ни когда не любил революционеров. В 1792 году молодой Бонапарт сказал: «Пойдем за этими канальями». Революционных повстанцев он называл «самой гнусной чернью». Якобинцев он ненавидел, а термидорианские спекулянты, казнокрады и взяточники вызывали у него гадливое чувство. Он шел «за этими канальями», потому что у него не было других вариантов, но они всегда были для него чужими, и он был для них чужим.
Захватив власть, он оказался между двух огней: роялистами и якобинцами. Роялистам он был готов многое простить и забыть, он постоянно шел на примирение с ними, из 145 тысяч дворян–эмигрантов, около 141 тысячи получили право въезда во Францию. В мае 1802 года был издан указ, по которому всякий эмигрант, принесший присягу верности новому государственному строю, получал право въезда во Францию. Он вернул родину тем, кого революция сделала изгоями. И с вождями роялистов он постоянно вел переговоры, явно не испытывая по отношению к ним ни какого предубеждения. А вот якобинцев он ненавидел и преследовал их по–настоящему.
Он ни когда не был революционером, но в начале революции (ему было 20 лет!) еще склонен был считать происходящее благом. Граф Лас — Каз писал: «Император сказал нам, что он со всем пылом воспринял начало революции, искренне поверив в ее идеи, но его пыл стал постепенно остывать по мере того, как он проникся более справедливыми и основательными идеями. Его патриотизм не выдержал тяжести политических нелепостей и чудовищных крайностей революционных органов власти. В конце концов его республиканская вера исчезла».
Наполеон так резюмирует свое отношение к революции: «Революция является одним из величайших бедствий, которые могут постигнуть человечество. Она становится наказанием для того поколения, которое было ее движущей силой, и все преимущества, которые она приносит с собой, не могут избавить от нищеты и бедствий, отравляющих жизнь участников революции… Она все уничтожает, и когда она начинается, то приносит нищету и несчастье всем, а счастье — никому».
Император говорил графу Монтолону, что если бы он захотел использовать революционную ненависть против дворян и духовенства, которую застал при своей высадке в 1815 году, то он прибыл бы в Париж в сопровождении двух миллионов крестьян, но он не пожелал предводительствовать «чернью», потому что его «возмущала самая мысль об этом». Хорош «революционер»…
И тем не менее во время «ста дней» он говорил: «Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции». И в декларации союзных монархов в Лайбахе Наполеон был объявлен представителем революции. Абсурдность этого утверждения до крайности возмутила аббата де Прадта, который писал по этому поводу: «Он — представитель революции! Революция разбила цепи союза между Францией и Римом — Наполеон обновил этот союз. Революция разрушила храмы Всемогущего — он восстановил их… Революция осквернила Сен — Дени — Наполеон привел в порядок аббатство и, очистив его, искупил совершенный грех во имя праха усопших королей. Революция ниспровергла трон — он восстановил его и придал ему новый блеск. Революция изгнала из страны аристократию Франции — он открыл для нее ворота Франции и своего дворца… Этот «представитель революции» привез из Рима главу Католической Церкви, чтобы совершить помазание своего чела елеем, который освятил монаршую власть. Этот «представитель революции», объявленный противником монаршей власти, наводнил Германию королями… Этот «представитель революции», обвиненный в пособничестве анархии, подобно новому Юстиниану, воссоздал… те законы, которые являются основами человеческого законодательства… Этот «представитель революции», грубо обвиненный в разрушении всех общественных учреждений, восстановил университеты и общественные школы, украсил империю шедеврами искусства и совершил те потрясающие и изумительные деяния, которые делают честь человеческому гению…»
То что писал аббат — от слова и до слова — правда. И если правда ну хоть в какой–то мере нам интересна, мы не можем игнорировать бесспорные факты. Наполеон по праву заслужил звание великого победителя революции, он положил предел революционному безумию, он спас возлюбленную Францию от революционеров, и этой чести у него ни кто и ни когда не отнимет. Правда, это не пошло Франции на пользу, в течение XIX века там совершилась еще целая череда революций. Видимо, революционное безумие уже было у французов в крови, и гений императора не мог этому воспрепятствовать. Но была ли кровь самого императора совершенно чиста от этой заразы? Не брезговал же он сражаться под революционным триколором. У него не было другого выхода? Но хотел ли он этого выхода?
Мы привели, казалось бы, достаточное количество фактов, подтверждающих «контрреволюционность» Наполеона. Но вот сам он, после покушения на него, сказал: «Эти люди хотели убить революцию в моем лице. Я — это французская революция». Он ни когда и ни чего не говорил «ради красного словца», и это его суждение, не извольте сомневаться — продуманное, концептуальное. Великий победитель революции вдруг объявляет себя персонификацией той самой революции. Мы не можем это проигнорировать. С этим надо разобраться.
И вот тут вспоминаются потрясающие строки великого русского поэта–мыслителя Федора Тютчева:
Сын Революции, ты с матерью ужасной Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе… Не одолел ее твой гений самовластный!.. Бой невозможный, труд напрасный!.. Ты всю ее носил в самом себе.Глубина этой мысли воистину потрясает. Тут — все. И то, что Наполеон был сыном революции по факту. И признание его подвига — он отважно вступил в бой с революцией. И трагическая безнадежность этой борьбы — он так и не перестал быть сыном революции, она была у него в крови.
А что мы хотели? Кажется, уже после казни Робеспьера было сказано: «Революция пожирает своих детей». Но и сама революция бывает пожираема исключительно только своими детьми, потому что больше не кому. А в наше время кто еще мог свергнуть коммунистическую диктатуру, кроме высших коммунистических сановников, которые и сами были насквозь пропитаны коммунистическим ядом? Это и определяет трагичность нашей эпохи. Так же было с Наполеоном. Он обезглавил дракона революции и… приставил ему свою голову. Он делал то, что мог в своей праведной борьбе с распространением революционного яда, но он и сам был отравлен этим ядом.
В своем прозаическом трактате Федор Иванович писал о Наполеоне: «Это кентавр, полуреволюция — полу<монархия>, но нутром своим он тяготел к революции. История его помазания на царство — это символ всей его истории. Он хотел в своем лице миропомазать революцию. Это–то и превратило его в исполненную серьезности пародию…»
Мысль Тютчева — бесспорно глубокая, от такой просто так не отмахнешься. Но кажется тут что–то у Федора Ивановича не так. Деяния Наполеона не воспринимаются, как пародия, тем более «исполненная серьезности» то есть уж совсем смешная. И когда переносишься душой на коронацию императора в Собор Парижской Богоматери не возникает ощущения попытки «миропомазать революцию», а потому от умных слов Тютчева странным образом веет фальшью.
Чтобы понять, в чем тут дело, надо разобраться, что же такое революция, а то мы слишком легко произносим это слово, но знаем ли мы в чем суть понятия, которое за ним скрывается? Что в революции является самым главным, сущностным, смыслообразующим? На этот вопрос нам ответит опять же Тютчев:
«Революция, если рассматривать ее с точки зрения самого существенного, самого элементарного ее принципа — чистейший продукт, последнее слово, высшее выражение того, что вот уже три века принято называть цивилизацией Запада. Это мысль современная со времени разрыва ее с Церковью. Мысль эта такова: человек в конечном счете зависит только от себя самого… Всякая власть исходит от человека, все, провозглашающее себя выше человека — либо иллюзия, либо обман. Словом, апофеоз человеческого «я» в самом буквальном смысле слова… Революция является логическим следствием и окончательным итогом современной цивилизации, которую антихристианский рационализм отвоевал у Римской Церкви… Первая французская революция именно тем и памятна во всемирной истории, что ей так сказать принадлежит почин в деле достижения противохристианской идеей правительственной власти…»
Тютчев прав на сто процентов. Не свобода, не равенство и не братство были целью революции. Главная идея революции — антихристианство. Цель революции — уничтожение Церкви (это, кстати, в полной мере касается и нашей Октябрьской революции). Тютчев вычленяет из хаоса фактов и самых разнообразных идей, сопровождавших революцию, ее главный смыслообразующий принцип. Но каждый метод имеет свои недостатки. Рассматривая, революцию исключительно, как чистый принцип, мы неизбежно проигнорируем революцию, как реальность. Принцип — это голая схема, а реальность бесконечно разнообразна. Исходя из чистого принципа феномен Наполеона не объяснить. Когда он сказал: «Я и есть революция», он ни как не мог иметь ввиду, что он — главный враг Церкви. И уж если Тютчев утверждает, что Наполеон всю революцию «носил в самом себе», так не вражду же на Христа он в себе носил. Это неправда, и эту неправду мы уже достаточно опровергли фактами.
А дело тут вот в чем. Когда идеологи и вожди революции поставили перед собой задачу поднять народ на восстание, они конечно понимали, что за одну только ненависть к Церкви, за возможность убивать попов, народ не пойдет на баррикады. Во Франции было еще достаточно людей религиозных и еще больше людей равнодушных к религии, но вот именно равнодушные и не захотели бы умирать за то, что им по большому счету безразлично. Народ надо было привлечь на сторону революции некоторыми имеющими для него значение обещаниями. Революционеры вынуждены были дать народу то, за что он готов был сражаться и умирать, а в итоге народ получил от революции кое что хорошее. Это хорошее не было в революции сущностным, оно было второстепенным, это был лишь фантик, в который завернули ядовитую конфету, но этот фантик был реально красив.
Помните замечательный фильм «Приключения королевского стрелка Шарпа»? Умный и храбрый британский солдат стал офицером, но в Британской армии офицеры были почти исключительно из дворян, и эти дворяне смотрят на лейтенанта (капитана, майора) Шарпа, как на нечистое животное, как на огородное пугало, которое чудак Веллингтон вздумал обрядить в офицерский мундир. Офицеры не видят в Шарпе настоящего офицера, в офицерской столовой ему не рады.
А теперь вспомните Иоахима Мюрата и Михаила Нея. Мюрат был сыном трактирщика, Ней — сыном мясника. И они прославили не только себя, но и Францию на весь мир. Блеск золота на их маршальских мундирах вполне соответствовал их личной доблести. И для Франции, и для всего мира они были не просто настоящими маршалами, они были великими маршалами. Кто посмел бы попрекнуть Мюрата и Нея их низким происхождением? Древнее дворянство считало за честь служить под их началом. И это дала Франции революция. И Наполеон, говоря: «Я и есть революция», имел ввиду это. У Наполеона Шарп стал был маршалом, и спесивое дворянство склонилось бы перед ним в почтительном поклоне. И в этом смысле Наполеон был «сыном революции». А теперь скажите, что это плохо.
А когда офицеру ударить солдата по лицу, легче, чем чихнуть, это хорошо? А когда храбрецов–солдат забивают на смерть палками, вы готовы этим восхищаться? Но ведь это же было в армии православного русского царя, власть которого основана на безупречном политическом принципе. В революционной, позднее — императорской армии офицер не посмел бы солдата и пальцем тронуть. Солдату вернули его личное человеческое достоинство. И это сделала революция. И в этом смысле Наполеон мог, ни чего не стыдясь, сказать: «Я и есть революция».
До революции католическое духовенство превратилось в самых обычных феодалов. Аббаты и епископы в силу этого своего статуса владели земельными наделами, они были уже не столько духовными лицами, сколько, по–нашему говоря, помещиками. Стать епископом, означало получить в пользование соответствующий феод. Ни кого не удивляли 20-летние епископы, которые богослужений почти не совершали, иногда вообще не бывали в своих епархиях, просто получали с них доходы. Красноречивым примером в этом смысле был Талейран, епископ Отенский — отъявленный безбожник, до революции бывший церковным феодалом. Революция положила этому предел. Наполеон, этот «сын революции», твердо сказал, что возврата к прошлому не будет. Духовенство не превратиться обратно в феодалов, место священнослужителей — у алтарей. Он плохо сделал? Надо было вернуть духовенству земли, отобранные революцией? Как это ни парадоксально, но, защищая завоевания революции, Наполеон выступал, как верный сын Церкви.
Кодекс Наполеона — это тоже завоевание революции. Ни когда при лигитимнейших Бурбонах этот кодекс не мог бы появиться. Его просто не кому было создать, да ни кому бы это и в голову не пришло. Может быть мы на этом основании сделаем вывод, что Кодекс Наполеона — плохой, раз уж жизнь ему дала революция. Очевидно, что в этом кодексе не все бесспорно и не все безупречно, но вот ведь закавыка: в его основе лежит Кодекс Юстиниана — православного (!) императора. Наполеон не случайно считал Кодекс едва ли не высшим достижением своего правления, и в этом смысле его можно считать наследником революции, и это не вызывает ни какого чувства протеста даже у самых убежденных противников революции.
Итак, революция, отвратительная в своей сути, все же дала и Франции, и миру некоторые завоевания, которые можно считать благом даже с духовной точки зрения. Список этих завоеваний можно было бы и продолжить к величайшему сожалению для моей контрреволюционной души. Наполеон был наследником и защитником того, что было в революции второстепенным, но действительно хорошим. И в этом хорошем смысле он носил революцию в себе, и в этом достойном уважения смысле он был ее персонификацией.
Но не носил ли он в себе, не персонифицировал ли он так же и корневое, смыслообразующее зло революции? В некоторой степени, к сожалению, и это так. Он, великий победитель революции, все же навсегда остался заражен ее ядом. Мы убедимся в этом, когда рассмотрим отношение Наполеона к монархии.
Коронованный Вашингтон (Наполеон и монархия)
Тютчев справедливо сказал, что одним из корневых, сущностных убеждений революции является мысль: «Всякая власть исходит от человека». С духовной точки зрения эта мысль — тлетворная и разлагающая, потому что она есть покушение на власть Бога, за этой мыслью — нежелание следовать Божьей воле. И эта мысль — вполне наполеоновская.
Наполеон говорил: «Я мог править только в соответствии с принципом верховенства народа». «Я мог быть только коронованным Вашингтоном». Последнее высказывание императора делает вполне понятной мысль Тютчева о том, что в своем лице Наполеон короновал революцию.
Император, правда, подчеркивает, что он не мог иначе. Да, действительно не мог. У него, как у наследника революции, не было ни какой возможности править иначе, как от имени и по поручению народа. Но он и не хотел править иначе, ему нравилось быть демократическим императором, это вполне соответствовало его убеждениям.
«Я не узурпировал корону, — однажды заявил император в Государственном Совете, — я вытащил ее из болота, народ водрузил ее на мою голову. Так давайте же уважать деяния народа».
Наполеон с удовольствием вспоминал, как однажды он инкогнито затесался в толпу, готовую приветствовать его, как императора, и заговорил с одной старой женщиной: «Моя добрая женщина, раньше у вас был тиран Капет, теперь над вами властвует тиран Наполеон. Что вы выиграли от такой перемены?» Женщина ответила: «Извините меня, господин, но есть большая разница. Этого мы выбрали сами, а того получили случайно».
Разумеется, эти слова пролились бальзамом на душу императора французов, но на монархическое сознание эти слова проливаются отравой. Да, приходится признать, что четвертая династия была не только наследницей республики, она была не более, чем модификацией республики. И в этом смысле наполеоновская монархия была квазимонархией.
Конечно, Наполеон ни сколько не походил на коронованного клоуна, которых и тогда хватало, да и сейчас они не перевелись. Это был мужик–практик, он умел править, и любое заискивание перед толпой было ему чуждо. Он говорил: «Монарх должен служить своему народу с достоинством и не стремиться быть приятным ему… Нет ни чего более опасного для монарха, чем стремиться угождать своим подданным… Основная обязанность монарха безусловно заключается в том, чтобы действовать в соответствии с желаниями народа, но то что говорит народ, едва ли когда соответствует тому, чего именно он хочет, его желания и потребности нельзя узнать из его уст».
За этими словами волевого правителя, лишенного наиболее наивных демократических предрассудков, все же отчетливо просвечивает внутренний демократизм императора, совершенно не понимающего, что такое монархия. Наполеон подчеркивает, что задача монарха — исполнять желания народа, как будто он демократический президент. Между тем, задача монарха — исполнять Божью волю и заботиться о благе народа, а народное благо, духовная польза народа и желания народа действительно не всегда совпадают. Настоящий монарх получает власть от Бога и отвечает за свой народ перед Богом. Это представление о Боге, как об источнике власти монарха, было совершенно чуждо Наполеону. Он полагал, что получил корону от народа и соответственно несет ответственность только перед народом. Его императорское правление было коронованной демократией, и в этом он был наследником революции, на сей раз уже в самом худшем смысле, потому что революция исказила все нормальные, естественные представления о природе власти.
Но стоит ли за это слишком строго судить Наполеона? Посмотрите вокруг себя и вы увидите, как православные бегают на выборы выбирать президента, полагая себя, народ, источником власти. Почитайте книги наших монархистов, иные из которых предлагают всенародно избирать императора. Даже у нас, среди православного народа, бытуют совершенно искаженные представления о природе власти. Даже чада Православной Церкви насквозь пропитаны демократическими предрассудками. Надо ли слишком много ждать от правителя, политические представления которого сформировались посреди революционного безумия? Давайте не будем судить его строже, чем самих себя.
Значит, наполеоновская монархия была не настоящей? Если исходить из чистого принципа, тогда — не настоящей. Но как и всегда в жизни, кроме чистого принципа есть много достойного внимания.
Наполеон вполне сознательно хотел воскресить империю Карла Великого. Карл принял императорскую корону в 800 году. Через тысячу лет, в 1804 году, принимая корону, Наполеон заявил, что, подобно Карлу Великому, он будет императором Запада, и что он принимает наследство не от французских королей, а от Карла Великого.
Не было ли это чрезмерной претензией? Но ему удалось поставить под свою прямую власть или под косвенную вассальную зависимость гораздо больший конгломерат земель, чем те, которыми владел Карл Великий. К 1812 году держава Наполеона была по размерам больше Римской империи, если не считать североафриканских и малоазиатских владений Рима, при этом наполеоновская империя была гораздо богаче и населеннее римской.
Неужели эту реальность можно проигнорировать, отвечая на вопрос, был ли Наполеон настоящим императором? А кем он, по–вашему, был, если по утру у него в приемной веселою гурьбой толпились короли, причем — безупречно лигитимные короли. Для того положения, которое занял Наполеон, ни в одном европейском языке не нашлось бы подходящего слова, кроме одного единственного — император.
Вот только империя Карла Великого именовалась Христианум Империум, на что империя Наполеона безусловно не могла претендовать, и в этом была ее ущербность. Но чистый политический принцип порою вступает в странное противоречие с реальностью, и мы не можем это игнорировать.
Тютчев писал: «Реставрация — последний обломок законного правления во Франции». Для того, кому известна история Наполеона, эти слова звучат почти дико. На смену гениальному правителю, прославившему свою страну, пришли убогие и злобные ничтожества, способные лишь издеваться над своей страной. Но правление гения — незаконно, а правление ничтожеств — законно. Однако, исходя из чистого принципа, Тютчев абсолютно прав. Теоретически монархия Бурбонов была безупречна, а монархия Наполеона была узурпацией, уже хотя бы потому что это была монархия демократическая. Не «корсиканское чудовище» узурпировало власть, ее узурпировал народ Франции, отказавшийся признавать над собой власть Бога.
Но реальность, тем более мистическая реальность, штука неисповедимая и ускользающая. Была ли перед Лицом Божиим законна власть наспех «отреставрированных» Бурбонов? Нетрудно предположить, что эта династия уже утратила Божье благословение, что Бог лишил их, как царя Саула, своей помощи и поддержки. Они–то как раз не сомневались, что именно Бог является источником их власти, то есть мыслили они безупречно, в полном соответствии с теорией Божественного права. Но благословил ли Бог реставрацию? На самом ли деле Людовик XVIII и Карл X были королями Божьей милостью? Не похоже. Напротив, очень похоже, что Бурбоны вернулись к власти вопреки Божьей воле.
А Наполеон? Дело даже не только в том, что его помазание на царство было канонически безупречно, хотя и это стоило бы учитывать. Миропомазание на царство — церковное таинство, при этом Православная Церковь признает действительность таинств, совершаемых в Католической Церкви, то есть во время миропомазания Наполеон получил дары Духа Святого. Оценивая природу наполеоновской монархии, мы безусловно должны это учитывать, но дело не только в этом. Таинство могло быть совершенно внешне безупречно, а Божьего благословения могло и не быть.
Так получил ли Наполеон Божье благословение на царство? Может быть. Не исключено. Это могло быть даже не смотря на то, что сам он не считал источником своей власти Божью волю. Даже не смотря на то, что Франция явно значила для него больше, чем Бог (Прости его, Господи). Но если он искренне любил Францию («Передайте Франции, что я молюсь за нее»), если он день и ночь рвал жилы, чтобы сделать Францию счастливой, при этом он вовсе не был врагом Божиим и старался на свой не слишком изящный манер сделать что–то хорошее для Церкви, Бог мог благословить его на царство. И тогда, может быть, правление Бурбонов перед Лицом Божиим было уже не законным, а его правление — законным и благословенным. Не поручился бы за обратное.
Империум — штука эфирная, неуловимая. Есть ли он, нет ли его, порою очень трудно судить. Вам не кажется, что русскому царю не идет титул «император»? Царь он и есть царь. Что за «император»? Выдумка. Вот читаю у Тютчева: «Только в качестве императора Востока, царь является императором России». Вот почему русские цари так рвались к Цареграду. Они понимали, что только прибив последний и окончательный щит к вратам Цареграда, станут настоящими императорами, то есть императорами Востока. Несколько раз Константинополь чуть было не стал русским, но не срослось. Бог не благословил. И цари наши так и остались царями, а их императорский титул остался нереализованным.
А Наполеон? Он воистину стал императором. В его императорском достоинстве есть нечто от Древнего Рима. Кажется, он был последним древнеримским императором. Наполеона, по сути, провозгласили императором легионы на полях сражений после великих побед.
Первоначально в Древнем Риме слово «император» было почетным титулом полководца. Помните, как кричал Сулла, пытаясь в одиночку остановить бегущие легионы: «Солдаты, отныне на вопрос, где вы предали своего императора, вы должны отвечать: «Под Орхоменом». Так же мог крикнуть Наполеон: «Солдаты, отныне на вопрос, где вы доказали верность своему императору, вы должны отвечать: «Под Аустерлицем»». И легионы кричали в ответ: «Да здравствует император!» Вы думаете, это пустяк, фикция, это ни чего не значит? Такое провозглашение легионов навсегда кладет на чело полководца печать императора. Тут своя неисповедимая мистика власти.
Почему же империя Наполеона не задалась, просуществовав лишь 10 лет? Между прочим, империя Карла Великого просуществовала не дольше, развалившись уже при его сыновьях. Империя, созданная гением, не прочна, потому что гениев для трона не напасешься. Прочны только те империи, которые держатся на великих принципах, а не на личных качествах великого человека. Империя не возможна без духовного фундамента, а таковым после появления Церкви могла быть только Церковь. Но Католическая Церковь, изъеденная ересями, была очень не надежной, гнилой опорой. Церковь — душа империи, но Католическая Церковь душа больная, пусть и остающаяся христианской. И материальное тело наполеоновской империи с такой душой не могло быть жизнеспособным.
Тютчев писал: «Революция убила Карла Великого, Наполеон захотел его повторить… Наполеон — исполненная серьезности пародия на Карла Великого. Не имея сознания собственного права, он всегда играл роль и именно эта примесь чего–то суетного и лишает всякого величия его величие. Его попытка возобновить Карла Великого не только являлась анахронизмом… но была вопиющей бессмыслицей. Ибо она совершалась во имя революции, взявшей на себя миссию стереть последние следы Карла Великого».
В одном Тютчев бесспорно прав: революция убила Карла Великого. Идея империи и идея революции — диаметрально противоположны. Но для Тютчева такие феномены, как «Наполеон» и «революция» — абсолютные синонимы, и отсюда проистекают все его ошибки. Если основная идея революции — антихристианство, то нелепо же в самом деле видеть в Наполеоне главного богоборца эпохи. Наполеон, безусловно, генетически связанный с революцией и отчасти воплощавший в себе некоторые ее стороны, воплощал в себе одновременно и отрицание революции, а это уже роднило его с Карлом Великим, с идеей империи. Внутренняя двойственность, противоречивость Наполеона были причиной несовершенства его империи, и все–таки это была империя, а не «исполненная серьезности пародия».
Когда железные каре императорской гвардии, которым не могло противостоять ни что живое, утюжили Европу вдоль и поперек, ни кому и в голову не приходило, что это всего лишь пародия — ни чего серьезного. Когда он раздавал королевские короны как хотел и кому хотел, ни кто украдкой не хихикал, все тот час признавали лигитимность новых королей. Когда все монархи Европы, принадлежавшие к древним династиям, дружно, чуть ли не хором признали его императорский титул, вряд ли он «не имел сознания своего права». А в поведении всех монархов по отношению к нему тогда бесспорно была «примесь чего–то суетного». Но было ли нечто суетное в том, что от одного движения его мизинца с карты исчезали государства и появлялись новые? В последний раз так «суетился» Карл Великий.
Он «всегда играл роль»? Роль играла прусская королева Луиза, кричавшая: «Для того, чтобы разогнать жалких французов, не нужны сабли, достаточно будет палок», а потом чуть не на коленях умолявшая Наполеона не наказывать Пруссию слишком сурово. Роль «императора священной Римской империи» играл Франц — Иосиф — вот уж воистину классическая пародия. Роль «рыцарей веры» играли жалкие мальтийские рыцари — пародия на древних рыцарей–монахов. Роль «победителя Наполеона» играл царь Александр, не выигравший у Наполеона ни одного сражения.
Наполеон играл роль? Да, это был прекрасный трагический актер. Но он был одновременно и драматургом, и режиссером, и директором театра.
Пусть наполеоновская монархия, не основанная на принципе Божественного права, была лишь полумонархией, но орлы его легионов парили так высоко, от него исходила такая аура власти, что не возникало сомнений — империум у него в руках. Из всех монархов той поры он выглядел в качестве монарха наиболее убедительно. Наполеон реализовал десятикратный максимум того, на что была способна Европа в XIX веке, а ущербность его монархии проистекала скорее из пороков эпохи, чем из его личных качеств.
Император дал удовлетворение естественному монархическому чувству, которое дремало в груди французов, но уже не могло быть удовлетворено жалкими Бурбонами. Когда французы кричали: «Да здравствует император!», из их груди рвалось: «Мы хотим быть подданными великого монарха, мы не склоним головы перед убогим подагриком Луи, который тужится сыграть роль короля». Подлинная монархия — не в теории, она — в душах подданных, и в этом смысле наполеоновская монархия содержала в себе нечто очень подлинное, настоящее, хотя, увы, сильно разбавленное грязными демократическими примесями эпохи.
Мы должны быть благодарны Тютчеву за то, что он, как ни кто другой, умел подняться над хаосом исторических фактов, и обозначал самую суть политических явлений, более того, он вскрывал их мистическую суть, то есть указывал на подлинные духовные причины противоборства различных сил. Ведь чаще всего за мясом не видят скелета, потому что мясо — снаружи, а скелет — внутри. Тютчев, исследуя борьбу чистых принципов, очень четко прочертил основные линии скелета, но не бывает безупречных методов, и вот он начинает игнорировать сам факт существования мяса, то есть невероятное разнообразие исторических фактов. Не потому ли его трактат, обещавший стать блестящим, так и остался в конспекте? Далее надо было наращивать на скелет чистых принципов реальное историческое мясо, а от этого стройность принципов могла сильно поколебаться.
Итак, Тютчев считает, что империя в мире может быть только одна, при этом империи не исчезают, а передаются. Византия передала «империум» России, с тех пор только Россия есть подлинная империя. Отсюда его утверждение: «С появлением России Карл Великий стал уже невозможен». Поэтому «империя на Западе всегда являлась не чем иным, как узурпацией». То есть узурпацией русского монопольного права на создание империи. Теперь понятно, как смешен Наполеон со своими «имперскими амбициями». У него не было права на создание империи просто потому, что это право было у нас, а он так нелепо тужился и пыжился.
Подлинная империя воплощает в себе принцип христианский, а западная квазиимперия, антиимперия соответственно принцип антихристианский: «Отсюда неизбежный конфликт между Россией и Наполеоном… Если история Эрфурта верна, то это был момент величайшего отклонения России от ее пути… Примечательно: личным врагом Наполеона была Англия, а между тем разбит он был в столкновении с Россией, ибо именно она была истинным его противником — борьба между ним и ею была борьбой между законной Империей и Революцией».
Схема, которую начертил Тютчев, на мой взгляд, верна. В принципе и сейчас, в начале XXI века, мы видим, как эта схема реализуется. Но в истории Запада есть явления, которые в эту схему совершенно не вписываются, то есть по отношению к Наполеону Тютчев как раз и ошибался, пытаясь загнать этот сложнейший феномен в прокрустово ложе своей схемы. Федор Иванович предлагает нам поверить, что Наполеон был вождем антихристианских сил, ополчившимся на Россию именно как на оплот христианства, и в силу этого находившийся с ней в непримиримом противоречии. Более того, когда русский царь в Эрфурте подтвердил, что является союзником Наполеона, он фактически свернул Россию с ее пути. Я не готов в это поверить без исследования вопроса. Итак, исследуем вопрос.
Раздразнил наш царь мужика сердитого (Наполеон и Россия)
Войну с Россией Наполеон получил в наследство от революции, он не хотел этой войны, он искал союза с великой северной державой. Мир еще не был заключен, а Наполеон уже дал знать императору Павлу, что желает вернуть России всех русских пленных, оставшихся после разгрома корпуса Корсакова осенью 1799 года. При этом он не требовал даже обмена пленными. Более того, он распорядился, чтобы им сшили за счет французской казны новые мундиры по форме их частей и возвратили оружие. Шесть тысяч русских солдат и офицеров вернулись в Россию обласканными и одетыми с иголочки, как после великой победы. Кажется, история войн не знает примеров такого великодушия. При этом, все что делал Наполеон, он всегда делал очень искренне. Конечно, он сразу же завоевал сердце императора Павла, который столь же искренне заключил с Францией мир.
Наполеон относился к русскому царю очень серьезно и с большим уважением, он подчеркивал, что Павла Петровича отличают благородство и величие души. Такой характеристики со стороны Наполеона не удостоился ни один другой европейский монарх. Нам бы прислушаться к этой оценке Наполеона, а то мы привыкли воспринимать Павла, как придурковатого психопата, пребывающего во власти химер. А Наполеон за неровным характером рассмотрел рыцарскую душу русского царя, и он не ошибся в своей оценке.
Первый консул сказал посланцу Павла: «Ваш государь и я — мы призваны изменить лицо земли». Разумеется за этими словами стояла не только личная симпатия, но и политическая прагматика. Наполеоновская идея военного союза с Россией была основана на двух обстоятельствах. Во–первых, отсутствовали сколько–нибудь серьезные противоречия в интересах между двумя державами, а во–вторых, поялялась возможность грозить совместными усилиями британскому владычеству. 2 января 1801 года Бонапарт сказал: «У Франции может быть только один союзник — это Россия».
Целых десять лет Наполеон придерживался своей концепции союза с Россией, понимая, что она носит не случайный, не ситуационный характер, это не тактический, а стратегический союз. Он видел прочность этого союза и в том, что он вполне соответствовал интересам России. А это так и было.
Один русский дипломат провозгласил концепцию: «Дружи не с соседом, а через соседа». Все правильно. С соседом всегда есть пересекающиеся интересы, из–за этого с ним трудно договориться, тут любой мир, увы, не прочен. Франция же была для России «через соседа», нашим странам было нечего делать, а общих врагов мы имели более, чем достаточно.
Когда в Париж пришла весть, что Павел убит, Бонапарт пришел в ярость. Он кричал: «Англичане промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге». Наполеон воспринял убийство Павла, как личную трагедию. И по поводу англичан он не ошибся. Английский историк Элизабет Сиэрроу, изучив огромное количество неизвестных ранее архивных документов, не оставила сомнений в причастности британских спецслужб к организации заговора. Английские агенты и английские деньги помогли подготовить государственный переворот в России. Британия была и до конца останется главным врагом франко–русского союза, и главным виновником того, что этот союз рухнул.
Но ведь, казалось бы, убили–то не Россию, а всего лишь императора. Значит, Наполеон имел мало надежды на то, что с новым русским императором у него сложатся такие же хорошие отношения, как с его отцом? И в этом он не ошибся. Но он сделал все для того, чтобы союз России и Франции устоял.
Уже 22 ноября 1801 года Бонапарт сказал: «Отныне ни что не нарушит отношений между двумя великими народами, у которых столько причин любить друг друга и нет поводов ко взаимному опасению. Но со стороны нового русского царя Наполеон сразу же почувствовал враждебность.
Современный историк Олег Соколов пишет: «Александр не был англофилом, но, как ни странно, на международной арене он стал вести себя так, как будто его главной мечтой было служить интересам Англии. Понимая, что Франция не только не угрожает России, но и ищет с ней союза, Александр действовал так, будто завтра неизбежно должна была начаться война с французами».
В 1804 году по поводу казни герцога Энгиенского в Петербурге при дворе был объявлен траур. Россия направила Франции ноту протеста. Бонапарт был оскорблен этой нотой, он сказал своему министру иностранных дел: «Объясните им хорошенько, что я не хочу войны, но я ни кого не боюсь».
И Талейран объяснил: «Жалоба, которую Россия предъявляет сегодня, заставляет спросить: если бы, когда Англия замышляла убийство Павла I, удалось бы узнать, что заговорщики находятся в одном лье от границы, неужели не пожелали бы их арестовать?»
И Александр в свою очередь почувствовал себя смертельно оскорбленным. А стоило ли оскорбляться? Вся Европа знала, что Александр, как минимум, был осведомлен о том заговоре, который закончился цареубийством, то есть над юным русским царем с самого его восшествия на престол тяготело проклятие отцеубийства. Даже если предположить, что смерть отца стала для него неожиданностью, бесспорно во всяком случае то, что он не наказал убийц своего отца–государя. И вот с таким–то пятном на душе он вдруг объявляет траур по некому заморскому принцу, до которого России было мало дела, да еще и заявляет протест Франции.
Между тем, герцог Энгиенский не был подло убит, как император Павел, его казнили по приговору суда, пусть и слишком скоропалительного, и не факт, что справедливого, но он был обвинен в заговоре с целью убийства первого лица Франции — достаточное основание для того, чтобы суд был военно–полевым. Это было домашнее дело французов, слишком сложное и запутанное, чтобы совать в него нос за тысячи километров. Наполеоновские солдаты вторглись на четыре километра на территорию маленького германского государства, чтобы арестовать герцога? Какое беззаконие! Все убийцы Павла были рядом с его сыном Александром. Ну вот ему на это и намекнули. Наполеон, ради блага двух стран готовый иметь дела даже с отцеубийцей, очевидно, мог надеяться на то, что этот отцеубийца не будет слать ему оскорбительные ноты.
И вот в сентябре 1804 г. Александр отправил с дипломатической миссией в Лондон Н. Н. Новосильцева, снабдив его инструкциями, в которых писал о желании «освободить Францию от деспотического гнета, под которым она стонет» и «освободить от ига этого тирана угнетенные им страны». Правлению Наполеона дается характеристика: «Отвратительное правительство, которое использует в своих целях то деспотизм, то анархию».
Оценки столь же несправедливые, сколь и абсурдные. Когда это Наполеон «использовал анархию»? Царь просто бессистемно сыплет оскорблениями, которые приходят ему на память. И уж не владельцу миллионов крепостных рабов было обвинять кого бы то ни было в тирании и деспотизме, особенно вступая в союз с Британией, которая распространила свою тиранию на полмира. И что нам было за дело до того, кто там кого в Европе угнетает? Не слишком ли дешево наш царь ценил русскую кровь, влезая в европейские свары?
Результатом миссии Новосильцева стало подписание 30 апреля 1805 года англо–русской конвенции и создание союза против Франции. Граф Ф. В. Ростопчин вполне справедливо сказал тогда: «Россия опять сделается орудием грабительской английской политики, подвергая себя войне бесполезной».
Зачем это надо было русскому царю? Кто–то считает, что царь не смог простить Наполеону обидных слов, которые услышал в ответ на ноту протеста в связи с казнью герцога Энгиенского. Но ведь уже у этой ноты была своя причина, царь начал «заводиться» раньше, чем его обидели. О. Соколов видит причину в личной неприязни Александра к Наполеону. Но вот с чего бы Александру возненавидеть Наполеона гораздо раньше, чем они познакомились? А ведь то как Александр оценивает Наполеоновскую политику говорит уже не просто о неприязни, а о лютой ненависти, к которой Наполеон не дал ни одного повода.
Причина может быть в том, что Александр был очень неуверенным в себе человеком, в силу этого постоянно испытывая потребность в самоутверждении. На фоне Наполеона он чувствовал себя ничтожеством и жаждал войны с Наполеоном просто чтобы избавиться от этого комплекса. Он, как посредственный боксер, ненавидел чемпиона мира и мечтал о победе над ним.
Не говоря уже о том, что все русские государи после Петра I из штанов (а иногда и из юбок) пытались выскочить, доказывая Европе, что и Россия — тоже Европа, и даже играет большую роль в делах Европы, вот какая мы Европа. Александр очень хотел быть значительной фигурой европейского масштаба, поэтому он жаждал войны. В любом случае, им двигали личные субъективные причины, не имевшие ни чего общего с интересами России. Наш царь готов был пролить реки русской крови только для того, чтобы ему понравилось собственное отражение в зеркале.
Один из приближенных Александра В. П. Кочубей справедливо писал: «Россия слишком втягивалась безо всякого повода в дела, которые прямо ее не касались. Ни одно событие не могло произойти в Европе без того, чтобы Россия не обнаружила притязаний принять в нем участие и начинала вести дорогостоящие и бесполезные войны… Русские не извлекали из них для себя ни какой пользы, а только гибли на полях сражений и с отчаянием в душе поставляли все новых и новых рекрутов…»
Ну не обидно ли? Россия могла с холодной загадочной улыбкой северного сфинкса наблюдать за тем, как перемалывают друг друга народы Европы, не очень–то ей дружественные, вместо того, чтобы играть роль сопливого мальчика, который очень боится, что большие парни не возьмут его на войну.
В итоге мы огребли позорное поражение под Аустерлицем. Причем весь позор этого поражения — на совести царя. Ни русский полководец Кутузов, ни русские солдаты не уронили своей славы. Но царь, развязавший эту войну, лез к Кутузову с дурацкими приказами, ему тоже хотелось полководческой славы. Ну вот мы и огребли.
Между тем Наполеон после Аустерлица сказал: «Россия будет со мной, быть может, не сегодня, но через год, через два, через три года. Время стирает все воспоминания, и из всех союзов это будет тот, который мне больше всего подходит».
Император французов имел достаточно великодушия, чтобы не обидеться на бессмысленную мальчишескую агрессивность русского царя. Он был уверен, что царь в конечном итоге будет исходить из интересов России, но царю по–прежнему было наплевать на Россию, он исходил из личных комплексов.
Александр оказывал на Пруссию непрерывное дипломатическое давление, обещая любое содействие, любую поддержку, только бы Пруссия начала войну с Францией. Прусский король Фридрих — Вильгельм III не хотел воевать, войну всеми силами с непонятной целью разжигал именно Александр. Он даже предложил прусскому королю принести клятву на гробе Фридриха Великого в том, что, сражаясь с Наполеоном, они никогда не сложат оружие. Поразительно. Русский царь принес клятву на гробе заклятого врага России. После того, как Наполеон разбил пруссаков под Йеной, Александр написал Фридриху — Вильгельму, пообещав ему 140 тысяч русских солдат. Нет, царю не жаль было русской крови.
В феврале 1807 года русские и французы дрались под Эйлау. Храбрость русских солдат была выше всяких похвал. В какой–то момент казалось, что наши уже почти победили. Железные русские воины упорно проламывались туда, где стоял император французов. Наполеон не сдвинулся с места и, глядя на то, что русские все приближаются, только повторял: «Какая наглость… какая наглость…» В его устах трудно представить себе более шикарный комплимент. Он всегда уважал русских солдат. Гений Наполеона помог свести битву фактически в ничью, хотя французы считают ее своей победой.
Александр, осознав, что его удача повисла на волоске, пустил в ход свою «тяжелую артиллерию». По Наполеону дал залп из всех орудий Святейший Синод, приняв послание к православным христианам.
«Наполеон дерзает против Бога и России… Покажите ему, что он тварь, совестью сожженная и достойная презрения… Не верьте ему, ниспровергайте его злодейства…» К вящему посрамлению Церкви Христовой задумал Наполеон восстановить Синедрион, объявить себя мессией, собрать евреев и вести их на окончательное искоренение всякой христианской веры».
Там еще сообщалось, что Наполеон есть предтеча антихриста, что он в свое время отрекся от христианства, предался Магомету, что войну с Россией он затеял и ведет с целью разрушить Православную Церковь.
Православному человеку горько и больно читать это произведение тупой злобы, где нет ни чего, кроме самой бессмысленной клеветы, а вот врагов Православной Церкви сей документ всегда очень радовал, веселил и забавлял, потому что выставлял православных в самом неприглядном свете. Невозможно поверить, что все православные иерархи, члены Священного Синода, были злобными и бесстыжими идиотами, но таковые там нашлись, и желание угодить царю возобладало. Послание Синода читалось во всех храмах России с амвона.
Вскоре, 14 июня 1807 года русскую армию постиг под Фридландом такой же страшный разгром, как и в 1805 году под Аустерлицем. Между тем Наполеон после Фридланда, так же, как и после Аустерилца, намеренно выпустил разбитую Русскую армию. Если бы он хотел разгромить Россию, то лучшего момента, чем июнь 1807 года невозможно было представить. Но Наполеон хотел мира с Россией. И не просто мира, а прочного союза.
Во время переговоров в Тильзите Наполеон доказал это, обращаясь с русским царем, не как с поверженным противникам, а как с союзником. История сохранила диалог, который состоялся между двумя императорами в первую минуту их встречи.
— Из–за чего мы воюем? — спросил Наполеон.
— Я ненавижу англичан настолько же, насколько вы их ненавидите, и буду вашим помощником во всем, что вы будете делать против них, — ответил Александр.
— В таком случае все может устроиться, и мир будет заключен, — резюмировал Наполеон.
С какой легкостью Александр предал англичан, с которыми так недавно заключил союз, он даже дал заверение в ненависти к ним, чего от него отнюдь не требовалось. Пройдет лишь несколько лет и он опять будет заверять англичан в вечной ненависти к Наполеону. А пока православный русский царь, если верить Святейшему Синоду, лобызался и обнимался с «предтечей антихристовым», без всякой меры расточая перед ним свою любезность.
Бог свидетель, автор этих строк не принадлежит к той российской либеральной тусовке, для которой Россия всегда и во всем неправа, а блистательный и великолепный Запад всегда и во всем прав. Мое сердце ликует при воспоминаниях о русской славе и болит при воспоминаниях о русском позоре. Но здесь надо просто ослепнуть, чтобы не увидеть, насколько Наполеон нравственно превосходил Александра. Насколько искренним было стремление Наполеона к союзу с Россией, и насколько лживы были миролюбивые заверения Александра.
Наполеон подарил разгромленному Александру такой мир, как будто русский царь был победителем. Россия не понесла ни каких территориальных потерь, даже более того, она получила территориальное приобретение — Белостокский округ, отрезанный от Пруссии. Русские войска лишь должны были уйти с Ионических островов, а так же из Молдавии и Валахии, занятых в ходе наступления 1806 года.
После Тильзита Александр написал сестре Екатерине: «Господь нас спас. Вместо жертв мы выходим из борьбы с некоторым даже блеском». Так ведь и было. Но в сердце Александра не было ни капли благодарности Наполеону за его великодушие.
На Святой Елене у Наполеона спросили, когда он был счастлив? Император подумал и ответил: «Наверное, в Тильзите». Да, он был счастлив тогда, потому что был наконец заключен союз с Россией, к которому он так настойчиво стремился столько лет, потому что русский царь оказался таким очаровательным молодым человеком, потому что они не только договорились, но и подружились.
Стендаль писал: «Наполеон покинул Тильзит в полной уверенности, что приобрел дружбу императора Александра. Уверенность в достаточной мере нелепая, но это заблуждение прекрасно, оно столь возвышенного свойства, что посрамляет тех, кто клевещет на императора».
Увы. Наполеон показал себя в Тильзите, как человек возвышенной души. Александр — как человек низменной души.
Наполеон тогда писал жене: «Я только что встречался с императором Александром. Я очень доволен им, это очень красивый и добрый молодой император. У него больше ума, чем принято считать».
Александр тогда же писал сестре: «Бонапарт считает, что я дурачок, ну что ж, смеется тот, кто смеется последним».
Наполеон, посылая Савари в Петербург, говорил: «Я полностью доверяю императору России, не существует ни чего, что могло бы помешать сближению наших народов».
Царь писал матери: «Ни какого подлинного союза с Францией нет и в помине, есть лишь временное полезное примыкание к интересам Наполеона. Борьба с ним не прекратилась, она лишь изменила форму».
Прусскому королю царь говорил еще в Тильзите: «Потерпите. Мы заберем обратно все, что потеряли. Он сломит себе шею».
А Наполеон и на Святой Елене не раз говорил, что они с Александром любили друг друга. Наполеон ни когда не узнал, что писал и говорил Александр у него за спиной. Александр проявлял ту степень лукавства, которая граничит с подлостью, для чего единственным робким оправданием могли бы служить интересы России, но вот как раз российскими интересами царь бесстыдно пренебрегал.
А у Наполеона с годами его стремление к союзу с Россией не только крепло, но и углублялось. Теперь он видел свою империю и российскую, как некое подобие Западной и Восточной Римской империи. В свое время Римская империя разделилась просто потому, что в единых руках невозможно было удержать столь необъятные территории. И Наполеон, видевший себя императором Запада, видел в Александре императора Востока. И гарантию прочности их союза он видел как раз в том, что ни один из них не сможет посягнуть на обе империи сразу — это заведомо ни для кого не посильно. Да, Александру удалось обмануть Наполеона, но вовсе не потому что Наполеон был наивно доверчив. Наполеон просто знал, что предложил Александру нечто очень выгодное для России и был уверен, что царь не будет действовать против своей страны. Он надеялся не на улыбки, а на адекватность Александра. Напрасно.
Александр делал все для того, чтобы расстроить франко–русский союз. В 1810 году Россия включила в проект договора пункт: «Польское королевство ни когда не будет восстановлено». Для Наполеона это был очень болезненный вопрос, поляки были его верными союзниками, ни разу не предавшими его. Но ради дружбы с Россией он был готов пожертвовать и польскими интересами, он лишь предложил более вменяемую формулировку этого пункта: «Его величество император французов обязуется не поддерживать восстановление Польского королевства». Но царь продолжал настаивать на своей формулировке. Наполеон был поражен. Ведь он всего лишь не хотел включать в юридический документ обещание, исполнение которого зависит только от Бога, при этом охотно ручаясь за свои собственные действия. Естественно, Наполеон сделал вывод, что царь просто не хочет договора.
Наполеон попросил у царя в жены его сестру, великую княжну Анну. Для безвестной княжны было великой честью стать императрицей Запада, но царь тут же начал заматывать вопрос, ссылаясь на то, что должен сначала узнать мнение матери, а она еще в раздумьях, потом сказали, что княжна слишком молода и надо подождать. Это был фактический отказ. Ни какими разумными доводами невозможно было объяснить, зачем было вот так, безо всякого смысла оскорблять Наполеона.
И вот царь начинает стягивать войска к западным границам России, продолжая настаивать на прежней формулировке пункта договора: «Польское королевство ни когда не будет восстановлено».
Наполеон наконец вспылил, с гневом высказав русскому послу все, что он думал: «Чего добивается Россия подобными речами? Войны что ли?.. Разве не она собрала все плоды от нашего союза? Разве Финляндия — предмет столь долгих вожделений и столь упорной борьбы, о приобретении хотя бы части которой не смела даже мечтать Екатерина II, не сделалась русской губернией на всем своем обширном протяжении? Разве без нашего союза Валахия и Молдавия остались бы за Россией? А мне что дал союз?.. Я не хочу восстанавливать Польшу… Но я не хочу обесчестить себя заявлением, что Польское королевство ни когда не будет восстановлено, не хочу уподобляться Божеству и делаться смешным…»
Наполеон говорил сущую правду. Благодаря франко–русскому союзу Россия приобрела Финляндию, Валахию и Молдавию и гарантии от восстановления королевства Польского. Ради России Наполеон пренебрег интересами других своих союзников — поляков и турок, то есть пошел на значительные уступки. Ни когда за всю свою историю Россия не имела союза более для нее выгодного. И это в ответ на то, что Наполеон дважды разгромил русские войска, а Россия не выиграла у Наполеона ни одного сражения. Но русский царь не шел ни на какие уступки императору французов. Александр вел себя с Наполеоном, как с побежденным. Пренебрегая этим союзом, Александр предавал Россию.
И все же Наполеон продолжал держать курс на сохранение франко–русского союза. В октябре 1810 года он сказал русскому дипломату полковнику Чернышеву: «По своему географическому положению Россия рождена, чтобы быть другом Франции. Если она останется таковым и впредь, ее наградой будет расширение ее владений…»
Царь тем временем уже готовился напасть на Наполеона. В ноябре 1810 года он писал в секретной инструкции: «Известно, что французских войск более 60 тысяч не имеется в Германии и Голландии. Будучи внезапно атакованными можно надеяться, что успех будет совершенен». Смысл этих корявых слов вполне прозрачен. В конце 1810 года Александр безусловно планировал войну, которую намерен был начать вторжением в герцогство Варшавское. При этом он наивно полагал, что поляки тут же перейдут на сторону русских. Это поляки–то, всегда ненавидевшие русских, а сейчас к тому же влюбленные в Наполеона. В «мазурке Домбровского», ставшей позднее национальным гимном Польши, есть слова «Научил нас Бонапарте, как с врагами биться». С такой–то музыкой поворачивать штыки против императора французов? Вот уж где царь проявил полное непонимание реальности.
Александр мечтал дальше: «Более, чем возможно, что за примером, который подадут поляки, последуют немцы, и тогда против нас останется только 60 тысяч французов. А если Австрия за выгоды, которые мы ей предложим, так же вступит в борьбу против Франции, мы получим еще 200 тысяч солдат, чтобы сражаться против Наполеона». Царь писал, что сможет со своими войсками «достичь Одера без единого выстрела».
Практически все силы Российской империи, кроме минимума войск против турок и персов, были собраны на западной границе России. Боевые части отзывались с войны (!) против турок и направлялись к герцогству Варшавскому. Это не могло быть реакцией на угрозу со стороны Наполеона, сколько–нибудь значительные силы которого находились более, чем в тысяче километров от русской границы.
Русский генерал Бенигсен в то время писал: «Власть Наполеона ни когда менее не была опасна для России, как в то время, в которое он ведет несчастную войну в Гишпании». Действительно, война в Испании связывала 300 тысяч наполеоновских солдат, ему тогда было совсем не до России, на которую он к тому же и ни когда не собирался нападать.
2 апреля 1811 года Наполеон писал королю Вюртемберта: «Я надеюсь и я верю… что Россия не начнет войну. Однако… она создала 15 новых полков, дивизии из Финляндии и Сибири идут к границам великого герцогства, наконец, дивизии из ее Молдавской армии так же находятся на марше. Все это не слова, а дела, которые показывают намерения правительства. Зачем забирать дивизии с юга, где они так нужны России в войне против турок?..»
Итак, мы имеем множество прямых доказательств того, что Александр планировал наступательную войну против Наполеона. Но зачем? У такой войны не было ни цели, ни смысла. Вот и Наполеон в разговоре с Коленкуром недоумевал: «Александр честолюбив, в его желании войны есть какой–то тайный мотив… Я уверяю вас, это не Польша…»
Наполеон был тертым калачом, он повидал на своем веку достаточно полных идиотов и законченных подлецов. Но он все–таки не мог поверить в то, что Александр последовательно действует в ущерб собственным интересам. Он предполагал некую скрытую цель Александра. А ее по–видимому не было. Ни какой внятной политической цели Александр не имел. Царю было совершенно наплевать на интересы России, что в наполеоновской голове ни как не могло уложиться. Царь решал личные психологические проблемы, он боролся со своими комплексами, пытался преодолеть свою душевную ущербность и ради этого ему не жалко было погубить сотни тысяч русских людей.
А Наполеон продолжал недоумевать, 15 августа 1811 года он сказал князю Куракину, что неудачи русской армии в войне с турками проистекают «из–за вашего правительства, которое забрало те войска, которые были крайне необходимы, которое увело пять дивизий с берегов Дуная на берега Днепра. И зачем? Чтобы вооружаться против меня, против своего союзника, который ни когда не хотел воевать с вами и сейчас не хочет…»
Впрочем, тогда Наполеон уже и сам готовился к войне, но он ее по–прежнему не хотел. Он говорил Меттерниху: «Если бы кто–нибудь мог избавить меня от этой войны, я был бы ему очень благодарен».
Вдруг оказалось, что обласканный Наполеоном полковник Чернышев, к которому французские офицеры относились, как к другу, на самом деле — шпион, передававший в Петербург секретные сведения. За это можно было бы и вздернуть, но император лично принял разоблаченного шпиона и очень по–человечески его напутствовал: «Признаюсь, еще 2 года назад я не верил, что между Францией и Россией может произойти разрыв… Я полагал, что спокойствие Европы гарантировано нашими взаимными с Александром чувствами. Мои остались неизменными, и вы можете передать ему, что если судьбе будет угодно, чтобы два самых могущественных государства на земле сражались из–за пустяков, я буду воевать по–рыцарски, без всякой ненависти и злобы…» Окажись я на месте полковника Чернышева, мне захотелось бы провалиться под землю, услышав эти слова.
В 1811 году Александр писал: «Я решил не начинать войну с Францией, пока не буду уверен в содействии поляков». То есть от планов наступательной войны царь решил отказаться, во всяком случае — пока. А Наполеон тогда уже безусловно вынашивал планы наступательной войны против России. Олег Соколов пишет: «Своей непримиримой враждой Александр перевернул концепцию наполеоновской политики. Вместо стремления согласовать усилия двух великих государств, которые в союзе и дружбе могли бы управлять Европой, Наполеон пришел к концепции новой великой Римской империи, по отношению к которой Россия была чужаком, и к тому же небезопасным».
Примерно так. Но хотел бы уточнить. Наполеон понимал, что всей римской империей из одного центра править невозможно, и он, как император Запада, готов был разделить власть с императором Востока. Но когда он понял, что последний просто водит его за нос, Наполеон видимо подумал: «А может все–таки?» Может все–таки взять всю империю под себя одного, раз уж с восточным партнером ни о чем невозможно договориться? Тогда Наполеон сказал: «Если я добьюсь успеха в России, я буду владыкой мира». Он убедил себя в том, что это возможно.
Ближе к началу войны между Францией и Россией было всего два противоречия. Вопрос о строгости соблюдения континентальной блокады (Россия продолжала принимать в своих портах суда под флагом нейтральных государств, которые на деле обслуживали британцев). И вопрос о судьбе Польши. Вот это Наполеон и называл «пустяками». И этого действительно маловато для глобального столкновения двух империй. Не лежат ли в основе этого столкновения скрытые глобальные причины?
Олег Соколов пишет: «Горячие сторонники Наполеона утверждают почти то же самое, что и особо рьяные русские патриоты, а именно: Наполеон с самого начала только и мечтал, что начать войну с Россией. Только первые заявляют, что делал он это для защиты европейской цивилизации от русских варваров, а вторые, что он собирался покорить русский народ, обратить его в другую веру, навязать ему чуждые институты. Последнюю из указанных точек зрения можно найти чуть ли не в каждой второй популярной книге о войне 1812 года, изданной в России».
Г-н Соколов очень точно заметил — истина ни кого не интересует. Злобным западным врагам России совершенно наплевать на то, как все было в действительности. Восторженным русским патриотам действительность так же не интересна. Обе стороны подгоняют факты под свою концепцию, а все что в нее не вписывается — игнорируют.
Ваш покорный слуга в этом споре отнюдь не «над схваткой». Я разделяю одну из этих концепций. Я прекрасно вижу, что Западная цивилизация (и католическая, и либеральная) столетиями враждовала против России, как против мира чуждых ей православных ценностей. И сейчас, когда я это пишу, в 2015 году, идет очередная фаза противостояния Запада и России. Сейчас уже маски сорваны, и мы видим, что это противостояние Антихриста и Христа.
Но! Противостояние Наполеона и России не вписывается в эту схему. Для того, что увидеть в Наполеоне убежденного врага России и предтечу антихриста, нам пришлось бы проигнорировать такое огромное количество фактов, что мы вынуждены были бы балансировать на грани полного идиотизма и крайнего бесстыдства.
Стендаль писал: «Мысль о войне с Россией, осуществленная императором, была популярна во Франции с того времени, как Людовик XV по своему безволию допустил раздел Польши… Всем монархам нужна была успешная война с Россией, чтобы отнять у нее возможность вторгнуться в среднюю Европу. Разве не было естественным воспользоваться в этих целях моментом, когда Францией правил великий полководец?..»
Так Стендаль интерпретировал волю своего императора. Нет сомнения в том, что на Западе так думали многие «просвещенные» люди. Но так ли думал Наполеон? Нет ни единого тому подтверждения. Что это за манера, приписывать правителям собственные мысли?
Тютчев писал: «Его (Наполеона) противоречивые чувства по отношению к России, влечение и отвращение. Ему хотелось разделить с ней империю, но сделать этого он не смог бы. Империя — принцип. Она неделима».
Опять же, нет ни единого подтверждения тому, что Наполеон когда–либо испытывал отвращение к России. Он действительно хотел разделить империю с Россией, но Александр не захотел. В чем тут виноват император французов?
Мы привыкли представлять себе это дело так, что агрессивный завоеватель вторгся на территорию нашей миролюбивой родины. А давайте вспомним, кто дал толчок к этой войне.
В 1812 году царь предъявил Наполеону ультиматум и потребовал у него вывести войска из Пруссии, как предварительное и не подлежащее обсуждению условие начала переговоров. Наполеон сказал послу Куракину: «Вы хотите заставить меня очистить Пруссию. Это невозможно. Это требование — оскорбление…» Царь прекрасно понимал, что у него нет оснований говорить с Наполеоном на языке ультиматумов, как с побежденной стороной. Уже и слепые увидели, что царь просто ищет повод для войны.
Наполеон так вспоминал об этом на Св. Елене: «Русские войска выдвигались к границам герцогства Варшавского, и в Париже русский посол вручил нам дерзкую ноту, представлявшую собой ультиматум. Русский посол пригрозил, что покинет Париж через восемь дней в случае невыполнения требований. Я расценил эту ноту, как официальное объявление войны. Я уже давно отвык от того, чтобы ко мне обращались подобным образом, и я не позволял кому–либо грозно меня предупреждать… Я двинулся в поход, но когда я достиг границы, я, которому Россия объявила войну отзывом из Парижа своего посла, по–прежнему считал своим долгом направить посла к Александру в Вильну. Мой посол не был принят, и война началась».
Конечно, Наполеон на тот момент уже был готов к войне, но царь как будто боялся, что Наполеон передумает, он решил для надежности еще раз оскорбить его и отозвал посла из Парижа. То есть царь фактически снял с Наполеона моральную ответственность за начало этой войны и взял ее на себя. Но едва наполеоновские войска перешли Неман, как царь объявил в приказе по войскам: «На зачинающего — Бог». Если это не крайняя степень бесстыдства, тогда что?
В чем же видел Наполеон цель этой войны? Нам кажется все просто: он же был завоевателем, вот и решил нас завоевать. На самом деле это невероятно сложный вопрос, а сам Наполеон высказывался на сей счет крайне противоречиво.
После дела Наполеон вспоминал: «Я ошибся, но не в цели, не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения…» Но едва ли не тогда же он сказал: «Эта роковая война с Россией, которая случилась из–за недоразумения». После русского похода императора бросало то в жар, то в холод. То он говорил, что не ошибся в политической уместности этой войны, то утверждал, что она случилась из–за недоразумения.
Еще 13 мая 1811 года он говорил: «Я не хочу воевать с Россией. Это было бы преступлением, потому что не имело бы цели, а я, слава Богу, не потерял еще головы и еще не сумасшедший… Неужели могут подумать, что я пожертвую быть может 200 тысячами французов только для того, чтобы восстановить Польшу?» Не извольте сомневаться, когда он это говорил, он действительно так думал.
Но 22 июня 1812 года он подписал свой приказ по армии: «Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву… Рок влечет за собой Россию: ее судьбы должны совершиться… Мир, который мы заключим, … положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».
Кажется, он не замечает, как с Польши вдруг перескакивает на Англию, а потом и вовсе на дела Европы. Похоже, он и сам себе не мог объяснить, в чем главная цель этой войны, он даже в приказе не смог это внятно выразить. И это он, которому была присуща гениальная ясность мышления. Маршал Дарю сказал Наполеону прямо в глаза, что ни кто во Французской армии не понимает, зачем ведется эта война. Император оказался не в состоянии это объяснить. В том числе и самому себе.
В другой раз он сказал: «В конце концов между нами и Россией есть единственный вопрос, который важен. Это вопрос о нейтральных и об английской торговле». Единственный? А зачем он тогда назвал эту войну «второй польской»?
Наполеон вполне осознавал, что война с Россией будет сложнее, чем все его предыдущие войны вместе взятые. Он предпринял беспрецедентные приготовления, собрав армию, какой еще ни когда не собирал — 420 тысяч человек. (Потом он еще получил подкреплениями 150 тысяч человек) Грандиозные приготовления можно совершить только ради грандиозной цели. И вот он сам себе раз за разом пытается объяснить, что же это за цель у него такая, и сам себя ни в чем не может убедить. Все его цели слишком мелки, они не оправдывают масштабов предприятия.
Тут наши конспирологи, наверное, встрепенутся: ну вот видите, значит у него была тайная мистическая цель. Но те, кто имеет о Наполеоне хотя бы малейшее представление, знают, насколько он был далек от какой бы то ни было мистики. Ему приписывают слова о том, что он хотел поразить Россию в ее мистическое сердце — Москву. Это чушь уже хотя бы потому, что Наполеон совершенно не собирался в Москву. Он говорил: «Я начну кампанию переходом через Неман, а завершу ее в Смоленске и Минске. Именно там я и остановлюсь».
Наполеон, как гениальный полководец, ни когда не составлял заранее подробных планов кампаний. Ни чего аналогичного плану «Барбаросса» у него не было. Но по всем его приказам, письмам, распоряжениям очевидно, что он видел целью кампании короткий стремительный удар по русским войскам, сосредоточенным на границе, их разгром и заключение выгодного мира. В письме маршалу Даву он писал, что кампания, очевидно, продлится около 20 дней. Какая тут Москва?
Наполеон оказался в Москве просто потому, что русские отступали на Москву. Если бы они отступали на Петербург, он оказался бы в Петербурге. Он всего лишь преследовал отступающую армию, чтобы дать наконец генеральное сражение и после победы тут же заключить мир. Если бы наши дали ему генеральное сражение под Смоленском, он закончил бы войну в Смоленске. У него вообще не было замысла покорения и какого–то преобразования России.
Так зачем же он начал войну с Россией на самом деле? Оценивая причины возникновения войн у нас обычно оперируют геополитическими, экономическими, идеологическими категориями и недооценивают категорий психологических. Как Александр 10 лет добивался этой войны по причинам чисто психологическим, так и у Наполеона причина, по которой он начал эту войну, коренится в его душе, а не вне ее.
Ни к одному монарху в Европе Наполеон не относился так хорошо, как к Александру. Уже на Святой Елене он говорил: «Что касается императора России, то по своим качествам он бесконечно превосходит других европейских монархов: он обладает острым умом, тактом, большими знаниями… Если я умру здесь, то он станет моим настоящим наследником в Европе». И еще: «Александр обладал большим природным изяществом, по элегантности своих манер он был равен самым изысканным завсегдатаям парижских салонов… мы не имели секретов друг от друга и испытывали взаимное удовольствие от общения… Расположение Александра ко мне было искренним… Он мне нравился и я любил его».
Вот так… Наполеон не просто уважал, он любил Александра. Между тем, Александр годами выжимал из этой дружбы все, ни чего не давая взамен. Он постоянно предавал Наполеона, он постоянно его оскорблял. Александр так самоутверждался. Наполеон самоутверждался по–другому — он приводил в движение армии.
В конечном итоге Наполеон правильно оценил Александра: «Он сумеет обворожить вас, но ему не следует доверять: он неискренен, как типичный византиец… Он хитер, лжив и своего добьется».
Одному Богу известно, насколько болезненно Наполеон переживал лживость и лукавство того человека, которого искренне любил. Конечно, он тут же выключал эмоции и включал прагматизм. И этот прагматизм диктовал ему: если он видит себя императором Запада — ни один человек в Европе не смеет так обращаться с ним. Если сегодня его, как болонку, дергают за хвост, завтра уже ни кто не увидит в нем льва. И этот наполеоновский прагматизм был очень сильно окрашен глубокой личной обидой.
Жаждавший войны Александр все рассчитал правильно. Наполеон легко мог простить то, что русские несколько лет воевали против него. Он мог простить то, что в последней войне с Австрией русские лишь изображали из себя союзников. Он мог простить свое неудачное сватовство к русской княжне. Даже на военные приготовления Александра он мог до времени закрывать глаза. Но оскорбительного ультиматума, требующего (!) у него вывести войска из Пруссии, он уже не мог простить ни при каких обстоятельствах. Полагаю, в этот момент Наполеон подумал про Александра в переводе на русский примерно следующее: «Давно по морде не получал?»
Когда Александр получил по морде под Фридландом, в Тильзите с ним было очень легко договариваться. Но уже в Эрфурте с Александром было договариваться очень трудно, а дальше стало невозможно. Александр завел отношения России и Франции в тупик. Из этого тупика их могла вывести, по мнению Наполеона, только победоносная война. В очередной раз получив по морде, Александр опять станет покладистым союзником. Вот и все.
Можно сказать, что в этой войне Наполеон видел способ спасти франко–русские отношения, вывести их из тупика. Не случайно уже после перехода Немана, он постоянно подчеркивал: «Война, которую я веду против России, есть война политическая, я веду ее без враждебного чувства». Это было правдой. Он ни когда не испытывал враждебных чувств ни к Александру, ни к России. Молниеносный разгром Русской армии всего лишь должен был сделать легкими политические переговоры с Россией.
Наполеон часто озвучивал свои очень сырые мысли, но он ни когда не принимал решений заранее, отсюда столько противоречий в его высказываниях. В начале войны он еще не знал, какое решение примет после ее победоносного завершения. Может быть, он сметет власть Александра и станет единоличным повелителем всей Римской Империи, включая Восточную. Может быть, Александр станет его верным вассалом, то есть их союз сохранится, но он уже не будет равноправным. А может быть они, как и прежде, будут друзьями, которые правят миром вдвоем. По всему похоже, что последний вариант Наполеон считал предпочтительным, но он не хотел решать это заранее. Он знал, что только после победы у него появятся варианты.
Так в чем была причина войны? Историк Евгений Тарле приводит слова, которые говорили простые русские люди в первые месяцы наполеоновского вторжения: «Раздразнил наш царь мужика сердитого». Точнее не скажешь. Наполеона, «мужика сердитого», не надо было дразнить.
Мы не можем простить Наполеону неисчислимые бедствия, которые он принес нашей стране. Мы не можем простить ему осквернение храмов и приказа о взрыве Кремля. Но эти бедствия навлек на Россию царь, а с обвинениями в адрес французов надо еще разобраться.
Наполеон ни когда не враждовал против Православной Церкви. Он сам это настойчиво подчеркивал, приказав широко распространить среди русских ту мысль, что он не преследует православной веры. Он спрашивал у своих: «Что говорят попы о прибытии французов? Известно ли им, что Наполеон не сделает войны вере, но только своим неприятелям? Известно ли, что император строго приказал почитать церкви, монастыри, архимандритов и попов?»
Но ведь церкви все–таки грабили? Да какая же воюющая армия не грабит? Автор «Истории Православной Церкви в XIX веке» сохраняет объективность: «Храмы Божии и монастыри сделались добычей пожара или подверглись поруганию. Многие из них были обращены в казармы, конюшни, бойни. Драгоценные священные вещи переливались в слитки, расхищались оклады икон, священные облачения. Обыкновенно такое варварство объясняют тем, что французы были без религии. Однако, опыт показывает, что и при всякой войне варварские инстинкты проявляются с особенною силой и победители не щадят чужой религии и чужого домашнего очага».
То есть нам не следует списывать ужасы войны на сознательное стремление к осквернению святынь. И делалось все это не по приказу императора, а вопреки его распоряжению. Есть масса свидетельств того, что грабили в основном немцы, служившие в наполеоновской армии, французы грабили редко, императорская гвардия не грабила вообще. Чем ближе было к императору, тем больше было благородства и меньше бесчинств. Жители Москвы позднее вспоминали: «Французы — настоящие, добрые, ведь их и по мундиру, и по разговору узнаешь. Зато уж немчура ни куда не годилась».
Много говорили о том, что французы превращали храмы в конюшни. Один французский офицер вспоминал: «Да, мы действительно держали лошадей в храмах, но ведь мы и сами там жили. Порою нам просто не где больше было ночевать и держать лошадей».
У меня нет стремления во что бы то ни стало оправдать императора французов. Я лишь считаю, что каждый человек, тем более враг, тем более поверженный враг, имеет право на честную оценку его действий. Впрочем, именно честность вынуждает меня признать, что приказу Наполеона о взрыве Кремля нет ни каких оправданий. Это была низость и бессмыслица. Когда–то по–другому поводу император говорил: «Я не делаю ни чего бессмысленного». Вот бы ему вспомнить эти слова, когда он приказал взорвать Кремль. Он уже отступал, его приказ не был продиктован военной необходимостью. Это была мелочная и низменная месть за свою неудачу. Должно быть, он отдал этот приказ в припадке отчаяния, но это не оправдание. В тот момент (именно в тот конкретный момент!) Наполеон был против Бога, а Бог против Наполеона. Поэтому Кремль устоял.
Признать низость врага легко. Тяжелее признать низость собственного царя.
Евгений Тарле пишет о том, что царь пришел к смертному одру Кутузова и сказал:
— Прости меня, Михаил Илларионович.
— Я прощаю, государь, но Россия вам этого ни когда не простит.
Умирающий русский полководец фактически прямо назвал главным виновником этой войны царя.
***
Будем честными до конца. На Святой Елене у Наполеона вдруг начинают появляться довольно враждебные (и довольно пространные) высказывания о России, каковых раньше не наблюдалась:
«Условия, которые налицо в России, могут стать причиной катастрофы и наиболее вероятно, что именно оттуда следует ее ждать. Эта страна может заполонить всю Европу кочующими племенами севера, лучше других подготовленными к нашествию. Они будут ждать его с большим нетерпением, тем более, что есть пример успехов их соотечественников, которые недавно посетили нас, и этот пример воспламеняет их воображение и возбуждает алчность».
Особенно мне понравилось про «кочующие племена севера». Это он про чукчей или про якутов? Я испытал чувство глубокого удовлетворения, представив, как оленьи упряжки рассекают по проспектам европейских столиц. Вообще–то Наполеон знал Россию. Но не в деталях.
Он раз за разом возвращается к этим своим мыслям: «Только я один мог остановить Александра с его татарской ордой. Кризис в Европе, связанный с его именем, велик и будет оказывать длительное влияние на положение в Европе, особенно на судьбу Константинополя. Александр обращался ко мне с просьбой о передаче Константинополя России, долго уговаривал меня об этом, но я постоянно пропускал мимо ушей его просьбу. Было необходимо, чтобы Османская империя, какой бы она ни была жалкой, постоянно оставалась между нами. Она была тем самым болотом, которое мешало Александру обойти мой правый фланг».
Зачем он вдруг начинает нагнетать тему «русской угрозы», чем раньше не увлекался? А вот зачем. Он говорил: «Я стану нужен, чтобы сдержать натиск русских, ибо менее, чем через 10 лет, вся Европа может быть опустошена казаками… Именно до этого могут довести государственные мужи, свергнувшие меня с престола».
Оказавшись на Святой Елене, Наполеон постоянно думал о том, чтобы вернуться. Но он не умел себя обманывать, он не способен был тешить себя беспочвенными иллюзиями, он понимал, что в современном политическом раскладе ему нет места. Да, император очень хорошо понимал, что в Европе он ни кому не нужен. И вот его хладнокровный мозг начинает моделировать те обстоятельства, при которых Европа ни как не сможет без него обойтись. И он находит эти обстоятельства — русская угроза.
Он с удовольствием развивает эту мысль: «Россию, расположенную под северным полюсом, поддерживает вечный ледяной бастион, который в случае необходимости сделает ее неприступной. Россию можно атаковать только в течение трех–четырех месяцев в году, в то время, как в ее распоряжении круглый год, целых 12 месяцев, чтобы напасть на нас. Ее враги сталкиваются с суровым и холодным климатом, обещающим одни лишения, и с бесплодной почвой, в то время как ее войска, хлынувшие на нас, пользуются плодородием и изобилием наших южных районов.
К этим географическим обстоятельствам можно добавить преимущество России в виде огромного населения, храброго, закаленного, преданного своему монарху и послушного… Кто не содрогнется при мысли о подобной массе людей, неприступной с флангов и с тыла, безнаказанно обрушивающейся на нас? В случае ее торжества, она сметает все на своем пути. В случае поражения отступает под прикрытие холода, и она обладает всеми благоприятными условиями для того, чтобы вновь низвергнуться на нас при первой возможности».
Вчитайтесь в эти строки беспристрастно, и вы поймете, что имеете дело с очень точным, глубоким, объективным анализом ситуации. Что тут не правда? Тут все правда. Наши, конечно, могут возразить, что Россия — страна исключительно миролюбивая и ни каких агрессивных замыслов ни когда не вынашивала. Но не забывайте, что Наполеон говорил это всего через пару лет после того, как веселые казаки разгуливали по столице Франции, да все покрикивали на парижских трактирщиков: «Бистро… бистро…» Тогда Европа имела очень реальные основания сомневаться в миролюбии русских.
Заграничный поход русской арии 1813–1814 годов вовсе не был вызван необходимостью «окончательного разгрома врага». Великая армия Наполеона сгинула в России целиком, из 570 тысяч домой вернулись лишь 30 тысяч. Даже преследование наполеоновской армии до границы и то не было вызвано военной необходимостью, армии уже не было, деморализованные толпы наполеоновских вояк и сами более всего желали покинуть Россию навсегда. Любая мысль о том, что «врага надо было добить, иначе он мог вернуться» — чистейший абсурд. Где, интересно, Наполеон еще раз мог взять полмиллиона солдат? Исходя из интересов России, мы вполне могли закончить войну в Варшаве. Идти до Парижа и погибать под Парижем с точки зрения завершения оборонительной войны не имело ни малейшего смысла. После Варшавы русская армия вела уже войну исключительно агрессивную, причем ни как не связанную с геополитическими, национальными интересами России. Русские интересы не простирались дальше Польши, дальше мы уже обслуживали британские интересы.
Принципиальная разница в позициях Александра и Кутузова была в том, что Кутузов думал исключительно об изгнании захватчиков, а царь о том, чтобы уничтожить Наполеона, в чем не было ни какого русского интереса.
Итак, благодаря Александру, Россия показала, что она не прочь повеселиться на просторах Европы даже и без большого для себя смысла. Наполеон что, не должен был это заметить? При этом в словах Наполеона нет ни капли ненависти к России или того «отвращения», о котором говорит Тютчев. Наполеон скорее восхищается Россией, в подтексте его анализа звучит: «Вот это страна!» А то, что он видит в этой потрясающей стране угрозу… Так ли уж это удивительно?
Наши ошибки в оценках часто проистекают из того, что мы не можем или не хотим посмотреть на ситуацию с «той» стороны. Но все же попытайтесь глянуть на Россию с берегов Сены, глазами парижанина. Вы увидите нечто огромное, непонятное, пугающее. Если вам не станет страшно, так это будет признаком крайнего легкомыслия.
Тогда же Наполеон говорил про Россию: «Судьба этой части света целиком зависит от компетенции и качеств одного единственного человека. Если появится храбрый, импульсивный и умный император России, одним словом «царь с бородой», то Европа станет его собственной вотчиной».
Вам не кажется, что в этом метком определении — «царь с бородой» — звучит восхищение? Наполеон уверен, что у сильного русского царя хватит возможностей превратить Европу в свою вотчину. А если возможности у него будут, так кто бы на его месте отказался?
Своими мыслями император неизбежно возвращался к русскому походу: «Не является ли Россия сказочным Антеем, победить которого можно было, только оторвав от земли? Но где же найти Геракла для такого подвига? Одна Франция могла бы подумать о совершении такого подвига, но следует признать, что наша попытка сделать это оказалась неудачной».
А вот это уже слова обиженного ребенка. Европа запихала его на голую скалу посреди океана, а ведь он, между прочим, ради блага всей Европы, предпринял попытку совершить подвиг, достойный Геракла. Какая же она неблагодарная, эта Европа. Император, в течение всей своей карьеры добивавшийся союза с Россией настойчиво и целеустремленно, говоривший, что война с Россией началась из–за пустяков, вдруг заявляет, что это он, оказывается, пытался своей грудью прикрыть всю европейскую цивилизацию.
Разумеется, при Наполеоне было предостаточно людей, считавших Россию врагом всего живого. Разумеется, эти люди пытались влиять на Наполеона. Но все действия императора французов последовательно доказывают, что мысли этих антирусских деятелей ни когда не были его мыслями. Он слушал этих людей, он мог иногда использовать их демагогию в своих целях, но он ни когда не был одним из них.
Итак, мы со всей неизбежностью приходим к выводу, что Наполеон ни когда не был врагом России, ни когда не желал ее тотального разгрома или порабощения и был совершенно чужд мысли перекроить Россию на западный манер.
***
Поручик Радожицкий в своих воспоминаниях писал: «Один нестроевой офицер, как человек грамотный, занимающийся чтением Священного Писания, более всех ужасался Наполеона. Он стал проповедовать нам, что этот антихрист собрал великие нечистые силы около Варшавы не для чего иного, как именно для того, чтобы разгромить матушку Россию, что при помощи Сатаны Вельзевула, невидимо ему содействовавшего, враг непременно полонит Москву, искоренит весь русский народ, а затем вскоре последует светопреставление и страшный суд. Мы смеялись над такими нелепостями, он называл нас безбожниками, не шутя был убежден в своем пророчестве, причем ссылался на девятую главу Апокалипсиса, где именно сказано про Наполеона. Когда командировали его по делам службы в Москву, он на пути всем и каждому предсказывал об антихристе Наполеоне».
Человек, о котором рассказывал поручик, типичный кликуша. Это человек вполне благонамеренный, но экзальтированный. Его эмоциональная перевозбужденность чужда истинному православию. Кликуша более всего на свете желает послужить Церкви, но он больше, чем кто–либо позорит Церковь и отвращает людей от православия.
Мне, как русскому патриоту и сыну Церкви бывает очень больно смотреть на то, как русские православные люди превращаются в кликуш. И, собственно, весь смысл того, о чем я пишу, постараться найти противоядие от кликушества.
Три судьбы (От Наполеона к православию)
Хочу рассказать вам, как трое наполеоновских вояк, ни как не связанных друг с другом, благодаря участию в русском походе, пришли к православию. Рядовой, офицер и генерал. Их истории ровным счетом ни чего не доказывают. Но они поражают. Значит, все–таки было в этих храбрецах, верой и правдой служивших своему императору, нечто такое, за что Господь открыл им истину и привел к православию. Может быть, сама атмосфера наполеоновского воинства формировала в людях такие качества, благодаря которым они оказались чуткими к зову Истины? Наверное, это был бы слишком смелый вывод. Ведь это всего лишь три судьбы из полумиллиона вояк «великой армии». И хотя таких случаев наверняка было гораздо больше, но они в любом случае были единичны, а потому и ни чего не доказывают. Но нам будет полезно перестать воспринимать наполеоновскую армию, как безликую однородную массу. Там ведь служили конкретные люди с реальными судьбами и порою очень хорошими душами. И Бог любил этих людей, и даровал им надежду на спасение.
Еще один момент достойный внимания: я нашел эти истории в трех различных православных книгах. Иногда мне кажется, что современные русские православные люди хотели бы испытывать симпатию к наполеоновским храбрецам, но не могут себе этого позволить. Как можно симпатизировать солдатам безбожной армии, которую возглавлял сам предтеча антихристов? Но едва нам доведется узнать, что кто–то из этих людей искренне потянулся к православию, как мы тут же охотно признаем в них романтических героев. У нас праздник. Мы с удовольствием рассказываем такие истории, они нас очень радуют. Представьте себе, что офицер СС принял православие. Узнав об этом, мы выразили бы формальное удовлетворение, но так чтобы душа запела от этого известия… Вряд ли. А если офицер наполеоновской гвардии? Чувства будут другие. Давайте же попытаемся осмыслить те чувства, которые мы при этом испытываем.
***
Сергей Марнов в своей книге «Три лепты» рассказывает такое семейное предание.
Жан — Филипп Приэр де ля Марн был простолюдином, бедняком. Иначе не пошел бы, имея 12 лет от роду, в 1793 году, в армию барабанщиком. За 20 лет он под пулями прошагал полмира. Воевал в Италии, Австрии, Пруссии, Испании, России. Во время русского похода был вольтижером «Молодой гвардии» Наполеона.
При отступлении из Москвы Жан — Филипп взял в плен русского офицера с важными бумагами, за что император лично вручил ему орден Почетного легиона. «Приэр с Марны? Помню. Дело при Асперне…» — обронил император. И присвоил своему гвардейцу чин унтер–офицера.
Под селом Красным русские кирасиры атаковали пехотное каре «Молодой гвардии». Приэр взял в плен одного кирасира, но получилось так, что французы тем временем отступили, и Жан — Филипп, оказавшись в глубоком русском тылу, понял, что теперь уже он в плену у юного корнета Мансурова. Корнет до отвала накормил изголодавшегося француза из обильных запасов, которые были в его седельных сумках, а потом предложил вместо лагеря военнопленных отправиться к нему в имение — в гости.
Так Жан — Филипп остался в России, превратившись в Ивана Филипповича Приэра, управляющего помещика Мансурова. Однажды он познакомился с молодой русской помещицей, вдовой офицера, которая спросила у него:
— Почему после заключения мира вы не вернулись во Францию? В России лучше?
— Нет, не лучше. Здесь людьми торгуют. Но… здесь Бог.
— А во Франции Его нет?
— Есть, конечно. Некоторые в Него верят, к мессе ходят. Но у нас Бог нужен лишь для того, чтобы построить хорошую жизнь здесь, на земле. Отсюда и вольнодумство: если не получается с Богом, можно попробовать и без Него. Не получается без Бога — опять станем к мессе ходить. Это… анализ. А Богу это не нравится.
— А разве в России люди не хотят хорошо жить?
— Хотят. Но главное для них — Царство Небесное. Спрашиваю мужика, почему он помогает брату- пьянице, детей его кормит, и слышу: «Хочу в Царство Небесное».
Во Франции такой поступок возможен, но невозможен такой ответ. Для русских Царство Небесное близко и реально, как губернский город. Француз, немец, англичанин по самой своей природе не способны так думать.
А война? Вы хоть поняли, что это было? Вы же не могли победить. Лучшие солдаты мира под командой лучшего полководца всех времен и народов пришли к вам в несметном количестве и погибли — все!
Император первый понял, Кто против него, поэтому и ушел из Москвы. А приказы? Взорвать Кремль… Зачем?! Мы прошли с ним полмира — ни где и ни когда он так не поступал. А я скажу зачем: он на Бога обиделся.
Приэр поехал к старцу, а тот ему и говорит: «Ко мне, убогому, Ванечка приехал, вот радость–то… Душа твоя, Ванечка, чистая, как родничок, не замути ее! Крови на тебе нет, и не думай, за ту кровь другие ответят… Вот за хвост ослиный каяться надо…»
Удивительно, не правда ли? Наполеоновский гвардеец 20 лет по всей Европе на полях сражений убивал людей, а старец сказал ему, что крови на нем нет. А мы кто такие, чтобы судить этих людей строже старца? Что же касается ослиного хвоста, Ванечка — Жан сразу понял, о чем сказал ему прозорливый старец. Он рассказал своей спутнице:
«В 1793 году безумие охватило нас всех. Приехал к нам в городок грозный комиссар Конвента проводить «дехристианизацию» — избавлять свободных граждан от религиозного дурмана. Про Церковь говорили, повторяя слова Вольтера: «Раздавить гадину». Меня комиссар выбрал за голос, я мальчишкой неплохо пел. Ослика нарядили в епископскую мантию, между ушей прикрепили ему митру, а к хвосту привязали Библию. Посадили меня на того ослика, велели петь, а в песне были такие слова: «Передушим всех попов их собственными кишками…»
У кого из нас, выросших в эпоху государственного богоборчества, нет на совести чего–нибудь подобного? Мы, конечно, каялись. Вот и он покаялся.
Жан — Филипп Приэр де ля Марн, унтер–офицер первого вольтитерского полка «Молодой гвардии» Наполеона выплатил свой долг России в самом буквальном смысле. Он сосчитал: в пределы России вторглись 420 тыс. солдат «Великой армии», материальный ущерб от вторжения составил 1 млрд. 58 млн. 300 тыс. рублей. Разделив одну цифру на другую, он определил размер личного долга и выплатил его в 1821 году. В год смерти Наполеона.
***
Василий Костерин в книге «Не опали меня, купина» рассказывает о судьбе наполеоновского офицера Марка — Матье Ронсара. Марк — Матье прошел Александрию, Каир, Вену, Берлин, Варшаву. Во время русского похода он находился в составе 20-тысячного авангарда Мюрата, который занял Кремль.
Он вспоминает о том, что православные храмы чаще превращали в стойла не французы, а поляки. При этом Наполеон приказал кавалеристам очистить храмы и вернуть их оставшемуся духовенству. Помнил он и историю с Кремлем: «Император приказал взорвать Кремль, а уцелевшие здания сжечь. Маршал Мортье выполнил приказ императора, но, к счастью, не совсем удачно из–за сильного дождя. Иначе это варварское и бесполезное с любой точки зрения деяние легло бы темным пятном на блестящую биографию императора французов. Все же взрыв в Кремле был такой силы, что император услышал его в Фоминском, а это более десяти лье от Москвы».
Запомнил Ронсар и некоторые особенности русской религиозности: «Началась не простая война, а священная. Их попы внушали народу, что Наполеон есть антихрист, а мы — легионы дьявола и духи ада, прикосновение к которым несет вечную погибель. Крестьяне даже не мыли, а выбрасывали посуду, из которой мы ели у них на отдыхе, опасаясь оскверниться».
Кстати, не уверен, что высокомерный фанатизм делал большую честь нашим мужикам.
Разумеется, солдаты грабили, как и все солдаты всех времен и народов. Не удержался и Марк — Матье: «Это был небольшой храм, который находился в переулке Неопалимов. Там я и взял икону «Неопалимая купина». Другие срывали с образов золотые и серебрянные оклады, но я взял икону целиком. С тех пор ношу в сердце взгляд карих глаз — приветливых и строгих… Однажды при отступлении икона спасла мне жизнь. Как–то я забрел в лес и на меня внезапно выскочил крестьянин. Он замахнулся на меня вилами, я инстинктивно распахнул шинель. Крестьянин увидел у меня на груди икону и попытался остановить удар, но по инерции все же довольно сильно ткнул вилами в образ. Он отбросил вилы, сделал пару шагов в мою сторону, упал на колени и стал целовать оклад. Я побежал, мужик встал с колен, глядя мне вслед, и скрылся в лесу».
Но самое удивительное произошло с Ронсаром во время переправы через Березину 29 ноября: «Прижав икону к животу, ринулся я по мосту в неуправляемой толпе. В воде оказалось несколько маркитанток, одна из них протягивала мне младенца. Я схватил ребенка, женщина скрылась под водой. Тут пушечное ядро угодило в мост передо мной, и он загорелся. Я отвязал икону, положил ее на воду вверх окладом, пристроил на ней ребенка и бросился вперед к заветному берегу, вцепившись в икону. Я начал бормотать: «Слава Тебе, Боже», потому что икона плавно и быстро понесла меня к противоположному берегу. Возле самого берега русская пуля попала мне в левое плечо. Выполз на ледяной берег, засунул младенца за пазуху вместо иконы и под свист пуль стал целовать изображение Святой Девы. Я был уверен, что Она — наша спасительница. Младенец оказался полугодовалой девочкой. Позднее мы с женой удочерили ее, назвали Мари и назначили день рождения — дату переправы через Березину».
С большими приключениями Ронсару удалось добраться до своей парижской квартиры. «Я поставил икону на комод, где у жены стояло распятие и статуэтка Мадонны… В боевых походах я мало чувствовал присутствие Бога, хотя был уверен, что несколько раз какая–то высшая сила спасла меня. Сейчас я иногда подходил к комоду и стоял перед иконой. Я не молился, я вглядывался в нее. От иконы веяло таким благодатным теплом, что свое состояние я мог бы назвать бессловесной молитвой».
Семья Ронсара тогда страшно бедствовала, и вот он решил продать оклад — позолоченное серебро с крупными драгоценными камнями. Только с этого времени ему стало очень плохо. «Внутри меня стал полыхать огонь». «Неопалимая купина» начала его опалять. Он решил выкупить оклад, но антиквар заломил тройную цену. С огромным трудом Марк — Матье смог накопить необходимую сумму. Он понял, что должен лично вернуть икону в Россию, и с еще большим трудом стал копить деньги на поездку.
«Спустя 15 лет я опять ходил по Москве». Русские люди очень доброжелательно встретили бывшего наполеоновского офицера, помогали ему, чем могли. Ронсар заказал две копии возвращенного им образа, одну копию оставив в России, как дар покаяния. На копиях он попросил дописать фигуру кающегося грешника, как на иконе «Нечаянная радость». Вторую копию он взял с собой в Париж.
«В Париже я ни когда не забывал ежевечерне читать перед иконой Неопалимой Купины молитву на церковнославянском языке».
***
Принц Евгений Богарнэ — куда более известная фигура. Удивительная фигура. Сын Жозефины от первого брака, то есть пасынок Наполеона, он был обласкан императором сверх всякой меры, стал вице–королем Италии и командующим корпусом. Это одна из самых блистательных фигур в ближайшем окружении Наполеона. Одновременно с этим Евгений (вообще–то Эжен) — представитель древнейшего аристократического рода Франции, принц крови, то есть родственник королей.
Принца Евгения любили все. Его имя постоянно мелькает в истории наполеоновского правления, но ни одного плохого слова о нем мне ни у кого не удалось найти. И у заклятых врагов Наполеона всегда почему–то было очень неплохое отношение к Евгению Богарнэ. После падения Наполеона союзники рассматривали вариант передачи трона ему. На него ни у кого не было аллергии. Если бы они решились сделать Евгения королем, может быть вся дальнейшая история Европы пошла бы по иному пути. У православных тем более есть все основания с уважением относиться к пасынку Наполеона, чему способствовала такая история.
В Можайске генерал Богарнэ с 20-тысячным корпусом отделился от основной армии и двинулся к Звенигороду. Под стенами Савво — Старожевского монастыря его корпус принял бой, который длился 6 часов. Русские отступили, французы вошли в монастырь. Принц занял несколько комнат в царских покоях, солдаты рассеялись по обители и набросились на очередную добычу.
И вот ночью во сне Евгению явился старец в черной одежде с седой бородой и сказал: «Не вели войску своему расхищать монастырь и особенно уносить что–либо из церкви. Если ты исполнишь мою просьбу, то Бог тебя помилует, и ты возвратишься в свое отечество целым и невредимым».
Наутро принц Евгений пришел в храм и узнал на иконе старца, явившегося ему во сне. Это был преподобный Савва Сторожевский, основатель монастыря. Принц тот час приказал остановить грабеж монастыря, вернуть все, что уже было отнято и вывел войска из обители, оставив только штаб и адъютантов. Одну из икон преподобного Саввы принц попросил ему подарить, и она сопровождала его в походе. В отличие от других французских полководцев, Богарнэ ни разу не был ранен в сражениях и невредимым вернулся на родину.
Есть предание, что прп. Савва предсказал принцу Евгению: «Твои потомки вернутся в Россию». И вот в 1839 году в Россию приехал сын Евгения — Максимилиан, герцог Лихтенбергский. Максимилиан был обласкан царем, вместе с царской семьей он посетил Савво — Сторожевский монастырь, где поклонился мощам преподобного. Вскоре он сделал предложение дочери Николая I, великой княжне Марии Николаевне, и принял православие. Максимилиан получил от царя титул князя Романовского и вместе с женой поселился на Невском проспекте.
Есть предание, что сам принц Евгений перед кончиной так же принял православие. Об этом рассказала мать Елизавета (в миру — герцогиня Лихтенбергская), насельница православного монастыря Бюсси–ан–От недалеко от Парижа. Мать Елизавета, представительница рода Богарнэ, приезжала в Россию в 1995 году, когда ей было уже 80 лет.
Сегодня почти все потомки рода Богарнэ носят русские имена, исповедуют православие и считают прп. Савву Сторожевского своим покровителем. Когда в роду Богарнэ создается новая семья, она получает в качестве благословения копию иконы преподобного, некогда подаренной принцу Евгению монастырем.
***
Еще раз скажу — эти истории ровным счетом ни чего не доказывают. Мы просто видим, что Бог любил этих наполеоновских солдат, оказывая им удивительные милости. Но ведь мы и без этого знаем, что Бог одинаково любит всех людей. Конечно, знаем. Но не будет лишним нам об этом еще раз вспомнить.
Первый солдат Европы (Наполеон и война)
Уже в ХХ веке подсчитали, что общее число французов, убитых и пропавших без вести в сражениях и походах за время правления Наполеона равно одному миллиону с лишним. Величие Наполеона стоило Франции миллиона загубленных жизней. А сколько еще погибло в наполеоновских войнах немцев, англичан, испанцев, итальянцев, русских? По совокупности, очевидно, уж побольше миллиона. Этот военный гений дал 60 сражений и каждый раз на поле боя оставались десятки тысяч растерзанных тел, и каждый раз госпиталя наполнялись страшными воплями раненых, испытывавших нечеловеческие муки. А он смотрел на мир с коня — великий и славный завоеватель. И оставшиеся в живых прославляли его миллионами голосов. А он 15 лет нес Европе смерть и страдания. Он разрушитель миллионов человеческих судеб.
Мы не можем ему это простить. Он — захватчик, агрессор. Ради своей безумной мечты о мировом владычестве, он погубил огромное количество людей. Что он делал в Италии, Египте, Австрии, Пруссии, Португалии, Испании, России? Кто его туда приглашал? Риторические вопросы. Хорошо, давайте тогда ответим на ряд других вопросов.
Наполеон сражался в северной Италии с австрийцами. А что собственно делали австрийцы в Италии? Ломбардия это что — германская земля? А может быть, венгры или чехи, попавшие под пяту австрийцев — это германские народы? Даже когда Франц — Иосиф по настоятельной просьбе Наполеона перестал именовать себя императором Священной Римской империи, он остался императором Австрии. А ведь это государство начинало свою судьбу всего лишь, как «восточная марка», и ее правитель не мог претендовать более, чем на титул маркграфа. И вдруг мы видим даже не королевство, а целую империю. Откуда же она взялась? Это плод беспощадной кровавой агрессии, длившейся много веков и погубившей бесчисленное множество жизней.
А Пруссия? Это же вообще не германская земля. Германцы завоевали ее огнем и мечом, частично истребив, частично поработив племя пруссов. Говорят, что Берлин — это когда–то была славянская деревенька.
А что делали англичане в Индии, Америке, Африке, Австралии? Индейцев в Америке истребили почти полностью, жителей большого острова Тасмания под Австралией истребили всех до единого, восстания индусов топили в морях крови. Кстати, что делали англичане в Англии, то есть вообще–то в Британии? Они там что, коренной народ? Или все–таки англосаксы пришли на эту землю, как безжалостные агрессоры и захватчики, истребляя коренное население — бриттов. Говорят, что Наполеон стремился к мировому владычеству. А ни кто не заметил, что Британия уже обладала мировым владычеством? «Над Британской империей ни когда не заходит солнце». И как же британцы этого достигли? Дарили всем цветы?
А свободолюбивые испанцы, храбро восставшие против наполеоновской тирании, перед этим захватили всю Южную, Центральную и часть Северной Америки, проявляя при этом такую неслыханную жестокость, что даже по меркам дикарей это было уже через край.
Но русские, конечно, исключительно миролюбивый народ? Вопрос о том, хотят ли русские войны — чисто риторический. На нас всегда все нападали, а мы только оборонялись. Само собой. Но скажите, что делали русские моряки под началом адмирала Ушакова на острове Корфу? За что они там убивали и погибали? За Россию? Но Средиземное море вроде ни когда не было русским озером? А за что убивали и погибали русские солдаты под началом Суворова в северной Италии? Совершив героический переход через Альпы, русские, может быть, защищали свое Отечество? В тысячах километров от Отечества, когда на Россию ни кто и не думал нападать.
А убивая и погибая на германских полях Аустерлица, Эйлау, Фридланда русские тоже, может быть, Родину защищали? А два века почти непрерывных войн с Турцией? Турция ведь не нападала на Россию, и Россия выступала по отношению к ней, как агрессор, отбирая у османов все новые и новые земли. Правда и сама–то Турция возникла в результате безжалостной и кровавой агрессии. Но вот турецкого нашествия на Россию — не припомню. А русским нравилось прикладывать турков мордой о камни. Так и правильно.
А когда Россия в войне со шведами захватила Финляндию? Так не викингов же жалеть. А когда Пруссия и Россия разорвали на части Польшу, ликвидировав польскую государственность, это не было актом агрессии и захватом чужих земель? Правда перед этим значительные фрагменты Пруссии и России входили в состав Речи Посполитой. Трудно представить себе более агрессивный народ, чем поляки.
И вот на таком–то фоне называть Наполеона агрессором? Все до единого государства, с которыми воевал Наполеон, были агрессорами, а многие и возникли в результате агрессии. Все государства вели войны, в которых губили бесчисленное множество людей. Почему же Наполеон объявлен безжалостным завоевателем, ради своих неуёмных амбиций погубившим миллионы людей? От остальных он отличался только тем, что у него это лучше других получалось, а остальным было сильно завидно, и его называли корсиканским чудовищем. Да что же такого чудовищного в нем было, чего не было в любом монархе той эпохи?
Дело совсем не в том, что чужие грехи каким–то образом оправдывают Наполеона. Дело в принципиальном подходе к вопросу. Народам всех стран до сих пор забивают голову слащавой демагогией о том, что их страна исключительно миролюбива, а ей всегда и все угрожают. У всех стран есть министерства обороны, ни у одной нет министерства нападения. Откуда же тогда берутся войны?
Правда в том, что миролюбивое государство не может существовать в принципе. Миролюбивые народы существуют (чукчи, эскимосы), но они не могут создать государства. Древняя восточная поговорка: «Иль шах убивает, иль сам он убит» справедлива для всей мировой истории. Не бывает государств миролюбивых и агрессивных, бывают государства слабые и сильные. Поврежденная грехом человеческая природа такова, что любая сила всегда берет ровно столько, сколько может взять. Выхода нет. Если ты не оторвешь кусок у соседа, сосед оторвет кусок у тебя. Такова реальность. И если человек не готов считаться с этой реальностью, он не может быть правителем. Обвинять Наполеона в агрессивности, все равно что возлагать на него персональную ответственность за грехопадение Адама и Евы.
Апологеты Наполеона пытаются доказать, что все войны, которые вел их возлюбленный император, были оборонительными. Нам это, конечно, кажется абсурдом. Но это не чистый абсурд, это лишь некорректно выраженная мысль, и эта некорректность проистекает из ложной терминологии. Бессмысленно делить войны на наступательные и оборонительные. Любую войну в известном смысле можно назвать оборонительной, потому что любая война направлена на устранение угрозы, а сосед — это угроза по определению. Мы обвиняем Наполеона в том, что он всю жизнь воевал. А давайте задумаемся, мог ли он не воевать? Была ли у него такая возможность? Он мог избежать войны только одним способом — полностью предав все национальные интересы Франции.
Парадокс заключается в том, что Наполеон не начинал «наполеоновские войны». Война досталась ему в наследство от революции. Когда весь мир против твоей страны, что тебе остается, кроме как воевать? Абсурдно упрекать Наполеона в том, что его действия приводили к массовой гибели людей. Умри он во младенчестве, война в Европе тогда полыхала бы точно так же. Поэтому, если мы хотим обвинить Наполеона, «компромат» надо искать, отвечая на вопросы: как он воевал и во имя чего он воевал. Начнем с первого.
***
Советский историк Евгений Тарле писал, что Наполеон умел виртуозно изображать любовь к солдатам, но на самом деле он их презирал, не считал за людей и за глаза называл «пушечным мясом». Это само собой. Обласкавший товарища Тарле товарищ Сталин — вот настоящий человеколюбец, а Наполеон конечно же человеконенавистник.
В Яффе генерал Бонапарт пошел в чумной госпиталь, он пожимал больным руки, помог поднять и перенести тело умершего солдата. Бонапарт пробыл в госпитале полтора часа и говорил со многими солдатами. Все уже, конечно, поняли, что циничный Бонапарт занимался дешевой саморекламой, играл на публику, изображая заботу о солдатах, которых на самом деле презирал. Но мы хоть понимаем, что Наполеон ради этого «пиара» смертельно рисковал, он поставил на кон свою жизнь, братаясь с больными чумой. Многие ли способны на такую саморекламу? А если сказать, что Бонапарт отдал последнюю дань уважения своим боевым товарищем, это прозвучит не очень правдоподобно? Мы вечно приписываем собственную низость другим людям, даже когда они совершают то, на что мы ни когда не осмелились бы.
После Аустерлица он усыновил всех сирот солдат, погибших в сражении. И это не было простой формальностью, он обеспечивал усыновленных всем необходимым и заботился о них, как отец. Вот еще один пример циничной саморекламы, когда император изображал любовь к тем, кого на самом деле презирал. Но почему–то ни один монарх и полководец за всю историю не проявил такой заботы о сиротах павших солдат, и Наполеона ни кто не упрекнул бы, если бы он этого не сделал. А если таким образом попытаться реконструировать ход мысли императора: «Аустрелиц подарил всей Франции радость, но наша радость куплена слезами сирот павших солдат. Я постараюсь, насколько это в моих силах, осушить эти слезы». Это, наверное, слишком благородно, чтобы быть правдой. Мы верим только в низость, мы не настолько наивны, чтобы верить в благородство.
Он действительно называл солдат «пушечным мясом». Да потому что они им и были! Но ведь и он вместе со своими солдатами тоже был пушечным мясом. Когда какой–нибудь Франц — Иосиф или Фридрих — Вильгельм говорил: «Война», он после этого шел охотиться на зайцев, или играть в гольф, или любезничать с дамами. Когда Наполеон говорил: «Война», он шел под пули. Когда на Аркольском мосту Бонапарт схватил знамя и впереди своих солдат бросился под шквальный огонь, вряд ли это было хорошо спланированной пиар–акцией. Став императором, Наполеон уже, конечно, не ходил в штыковую, но он всегда был со своими солдатами там, где свистели пули и пушечные ядра. Много раз он был ранен, хотя от тяжелых ранений Бог его хранил. А пуля, попавшая в ногу, могла с таким же успехом попасть и в грудь.
Любил ли он солдат? Да ведь солдаты не девочки, чтобы их любить. Он сам был солдатом, он ни когда не переставал им быть. И он заботился о своих братьях по оружию. Однажды он сказал: «Чего можно ожидать от людей обесчещенных? Как может быть чуток к чести тот, кого в присутствии товарищей подвергают телесным наказаниям? Вместо плети я управлял при помощи чести… После битвы я собирал солдат и офицеров и спрашивал их о наиболее отличившихся». Он награждал чинами тех из отличившихся, которые умели читать и писать, а неграмотных приказывал усиленно по пять часов в день учить грамоте, после чего производил их в унтер–офицерский, а затем в офицерский чин. За серьезные провинности Наполеон расстреливал беспощадно, но он гораздо больше полагался на награды, чем на наказания. А награждать — и деньгами, и чинами, и орденами он умел с совершенно неслыханной щедростью. И это факт.
Уже после Ватерлоо, беседуя с английским полковником Уилксом император выразил удивление по поводу того, что в стране, соблюдающей равенство прав, солдаты редко становятся офицерами. Уилкс признал, что английских солдат не готовят для того, чтобы они становились офицерами. Он сказал, что англичане в свою очередь удивлены большой разницей между английской и французской армиями, поскольку в последней каждый солдат проявляет врожденные качества офицера. «Это обстоятельство, — пояснил император, — является одним из главных результатов системы воинской повинности, она сделала французскую армию самой конструктивной и организованной из тех, которые когда–либо существовали». Еще один факт.
Любил ли он солдат? Что за слюни? Он всего лишь делал солдат маршалами, а маршалов — герцогами и королями. Опять факт.
Вильсон, английский комиссар при русской армии, писал о французских солдатах, взятых в плен после Москвы: «Они ни какими искушениями, ни какими угрозами, ни какими лишениями не могли быть доведены до того, чтобы упрекнуть своего императора, как причину их бедствий и страданий. Они говорили все о «превратностях войны», о «неизбежных трудностях», о «судьбе», но не о вине Наполеона».
Неужели французские солдаты стали жертвами грамотно спланированного пиара? А, может быть, их отношение к императору просто было сформировано теми фактами, которые мы перечислили? Наполеон погубил на полях сражение миллион французов, а те, кто случайно остался жив, кричали: «Да здравствует император!» Это что, по–вашему, бараны? Это львы. Это не мы, а они по вине императора тысячу раз были на волосок от гибели, это они похоронили тысячи убитых товарищей. И они не находили в чем упрекнуть императора. Так уж и не нам тогда его упрекать.
***
На св. Елене император говорил: «Моим главным принципом было то, что во время войны, как и в политике, каждый дурной поступок, даже если он законен, может быть осуществлен только в случае абсолютной необходимости. Все, что осуществляется вне этого — преступно».
Именно в этом смысле император не раз говорил, что не совершил ни одного преступления. И, действительно, его бесчисленные ненавистники, если не опускались до откровенной клеветы, так и не смогли привести ни одного примера преступных действий Наполеона. На войне он всегда был великодушен к поверженному противнику, часто выпускал уже разбитые им армии с поля боя, не преследуя, не пытаясь разгромить их окончательно, избавляя от бессмысленных жертв. К мирному населению он всегда старался быть максимально гуманным, по его приказу не было совершено ни чего такого, что мы сейчас называем военными преступлениями. Конечно, если мирное население бралось за оружие, он поступал по законам военного времени, а какие тут были варианты?
Наполеон действительно вел войну по–рыцарски, благородно, без ненависти. Ни к одному из своих противников он ни когда не относился с ненавистью, ни кого и ни когда он не пытался стереть в порошок и окончательно уничтожить. В каждой своей победе он видел путь к миру, и за столом переговоров он ни когда не пытался унизить поверженного противника, как это сделали, например, по отношению к Германии в Версале в 1918 году. Если вспомнить поэтапно всю историю наполеоновских войн, можно убедиться, что у него ни когда не было врагов, только противники, в которых он видел потенциальных союзников.
Австрия трижды, нарушая мир, нападала на Наполеона. Каждый раз после победы он, конечно, наказывал Австрию, но никогда не пытался ее уничтожить. А ведь в его силах было собрать всех Габсбургов в одном подвале, раздробить Австрию на полдюжины государств и поставить во главе их полдюжины своих капралов. И вся Европа восхищалась бы мудростью его решения. Но он был великодушен. И ни кто этого не оценил.
***
Наполеон обладал поразительным, уникальным талантом полководца. А ведь таланты даются, как известно, от Бога. Если Бог дал человеку художественный талант, значит Он хочет, чтобы этот человек стал художником. Если технический талант, то, по Божье воле, он должен делать машины. Если же Бог дал человеку талант полководца, значит Бог видит его во главе армии. Деус вульт!
Нам это кажется диким и странным. Ни кто не рожден для войны, все рождены для мира. Война — страшное извращение естественного порядка вещей, это самое ужасное, что только может произойти с людьми. Это так, однако напомню: страшное извращение естественного порядка вещей произошло в момент грехопадения Адама и Евы. Войны на земле неизбежны, они не прекратятся до второго пришествия. Реальность отличается от наших благих пожеланий. Поэтому некоторых людей Бог создает для войны, выдавая им, как оружие, соответствующие таланты. А таланты нельзя закапывать в землю. Это грех.
Не знаю, какой помещик получился бы из Александра Васильевича Суворова, но что–то мне шепчет, что не очень хороший. Севооборот — это была не его стихия. Душа Суворова пела только под бой барабанов. Шеренги, штыки, залпы — он дышал и жил только этим. И еще — молитвой. Он ведь был глубоко православным человеком.
В одном советском фильме старый военный сказал молодому слова, ставшие позднее крылатыми: «Есть такая профессия — Родину защищать». Ой да полно. Военная профессия заключается в том, чтобы убивать людей по приказу. Военный профессионал — это тот, кто умеет эффективно убивать. Полководец должен сделать так, чтобы погибло как можно больше солдат противника и как можно меньше своих солдат. Этим умением профессия исчерпывается полностью и ни в чем ином она не состоит. Суворов воевал всю жизнь, но ни одного дня в своей жизни он не защищал Родину. Александр Васильевич ни когда не воевал с противником, который напал на Россию. Он просто был военным — очень хорошим военным.
Я не случайно вспомнил про Суворова. Нашему национальному герою мы многое простим, мы обязательно найдем способ как–нибудь мудро оправдать все его действия. Наполеону мы не простим и десятой доли того, все его действия истолковывая, как проявления злобной порочности. Как он смел губить людей на полях сражений? Вот Суворов — это большой молодец. Но Наполеону, так же как и Суворову, не было суждено в этой жизни заниматься разведением тюльпанов. Он воевал потому что был рожден для войны. Он следовал Божьему предназначению.
Перед первым отречением в Фонтенбло Наполеон сказал своим маршалам: «Вы хотите покоя? Вы получите покой. Но, увы! Пусть будет Богу угодно, чтобы я ошибался в своих предчувствиях, но мы не были поколением, созданным для покоя. Мир, которого вы желаете, скосит на ваших пуховых постелях больше людей из вашей среды, чем скосила бы война на бивуаках».
***
И тут мы подходим к самому важному вопросу. Во имя чего воевал Наполеон? Во имя какой высокой цели? Если Бог дал человеку талант полководца, это еще не значит, что такой военный гений может теперь развлекаться направо и налево, двигая армии, куда ему вздумается и сталкивая их с кем попало, лишь бы одержать красивую победу. Талант, данный человеку для благих деяний, этот человек может использовать для деяний злых. Может быть, так оно с Наполеоном и произошло? Может быть, он воевал только для удовлетворения своего безумного тщеславия?
Иногда можно вести войну. Иногда нужно вести войну. Иногда совершенно необходимо вести войну отнюдь не оборонительную, а наступательную. Но должна быть высокая цель. Если угодно — духовная цель. Надо быть уверенным, что люди погибнут не напрасно. Главный критерий — после войны мир должен стать лучше, чем был до войны.
Некоторые войны всегда поражали меня своей бесстыжей бессмыслицей. Например, «война алой и белой розы». Какое дело было англичанам до цвета розы на гербе у их монарха? Во имя чего Йорки и Ланкастеры губили в сражениях тысячи соотечественников? Лишь во имя того, чтобы разместить собственную задницу на уютном королевском троне. А Минамото и Тайра? Может быть, те или другие хотели осчастливить японцев лучшей жизнью в случае победы? Нет, они просто не считали подданных за людей, они готовы были вырезать половину населения своей страны лишь для удовлетворения личных властных амбиций. А во имя чего сражался Чингисхан? Очень хотелось быть большим, не хотелось быть маленьким.
Я понимаю, из–за чего сражались в Америке Север и Юг. Я понимаю, из–за чего сражались в России белые и красные. Я понимаю, во имя чего сегодня воюют Киев и Донецк. Во имя высшего блага своих граждан, которое каждая сторона, увы, понимает по–своему. Но люди сражались и гибли не ради личных амбиций своих правителей, а ради тех ценностей, за которые они готовы были отдать жизнь.
Ради чего сражался Наполеон? В чем была его высшая цель? Какие ценности несли наполеоновские храбрецы на остриях своих штыков? Если Бог воздвиг Наполеона для войны, то какой именно войны Бог хотел от Наполеона? Ту ли войну вел Наполеон, или совсем другую? И как он сам это понимал?
У Наполеона всегда было обостренное ощущение собственного предназначения, он вполне осознавал, что Бог воздвиг его для некой великой цели. Он говорил: «В конце концов человек должен выполнить своей предназначение — это моя главная догма». Но он совершенно не понимал, в чем именно заключается это предназначение и честно в этом признался: «Вопросы о том, кто я, откуда и куда иду выше моего понимания. Меня можно сравнить с часами, которые существуют, не осознавая своего существования». Иногда он начинал гадать на эту тему: «Я хотел быть инструментом Провидения, которое исправляет жалких представителей рода человеческого, порой используя жестокие средства, непостижимые для человеческого понимания». Полагаю, он и сам осознавал недостаточность таких рассуждений.
Но, может быть, он все–таки интуитивно, неосознанно работал на ту цель, которую Бог перед ним поставил? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, в чем была эта цель, чего хотел Бог от Наполеона? За Бога, конечно, не скажешь, но у меня есть в этой связи некоторые соображения.
Континент и Океан
Все мы знаем, чем стали для современного мира Соединенные Штаты Америки. Это главный оплот антихристианских сил во всем мире, главная их база. Основная задача, которую ставит перед собой это государство — распространение и утверждение антихристианской идеологии во всем мире. Меньше всего это понимают, очевидно граждане США, да и правители этой страны далеко не всегда понимают, что глубинный, корневой смысл политики их страны — борьба с христианством. А настоящие правители Штатов, которые ставят эту цель вполне осознанно, ни когда в этом не признаются, они не скажут ни слова против Христа и против Церкви. И все–таки их главная цель очевидна для любого здравомыслящего христианина.
Так вот такие государства, самую сущность которых составляла вражда на Бога Истинного, были в мире во все эпохи. Разумеется, демоны, извечные враги рода человеческого, всегда пытались воздействовать на все страны мира, то есть на каждого отдельного человека независимо от его национальности и страны проживания. Всегда и везде у демонов были определенные успехи. За всю историю человечества вы не найдете такой цивилизации, такой страны, государственная политика которой была бы совершенно свободна от демонического влияния. И все–таки всегда была такая цивилизация, такая страна, где бесам удавалось достигнуть максимальных успехов, почти полностью подчиняя себе государственную политику. В такой стране они не просто влияли на поступки жителей и правителей, здесь они формировали ценностные ориентации. Здесь не просто совершали плохие поступки. Здесь плохое объявляли хорошим.
Итак, в каждую эпоху есть страна, где Сатана имеет свою главную базу, действуя с территории которой, он пытается подчинить этой стране все остальные страны и тем самым утвердить свою полную власть над всем миром. В каждую эпоху есть свое государство — архидемон.
Архидемона эпохи не так легко распознать. Раньше все страны были языческие, а мы любое язычество уже воспринимаем, как отвержение Бога Истинного. На самом деле языческие системы очень сильно отличаются друг от друга по степени своей духовной недоброкачественности. Иные в своих ценностных ориентациях очень много сохранили от древнего истинного Богопочитания, а иные уже полностью отвергли его, оказавшись под тотальным контролем бесов.
Демоном древнего мира была Финикия и в первую очередь финикийская колония на африканском берегу — Карфаген. Об этом очень ярко пишет Честертон:
«Своей жизнью он (Карфаген) был обязан энергии и экспансии Тира и Сидона — крупнейших коммерческих городов. И как во всех колониальных центрах, в нем царил дух коммерческой наглости… Глубоко практичные, отнюдь не поэтичные люди любили полагаться на страх и отвращение… Им казалось, что темные силы свое дело сделают… В психологии пунических народов эта странная пессимистическая практичность разрослась до невероятных размеров. В Новом городе, который римляне называли Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество называлось Молохом, по–видимому оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала… Почитателей Молоха ни как нельзя назвать примитивными. Они жили в развитом, зрелом обществе… И Молох не был мифом, во всяком случае, он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь.
…Такие денежные аристократы, как правило, не допускают к власти великого человека… Карфаген подтачивал дух, очень сильный в преуспевающих торговых странах. Это — холодный здравый смысл и проницательная практичность дельцов… деловые, широкие, реалистичные взгляды… Карфаген пал, потому что дельцы до безумия безразличны к истинному гению… Они слишком практичны, чтобы быть хорошими, более того, они не настолько глупы, чтобы верить в какой–то там Дух, и отрицают то, что любой солдат назовет духом армии. Им кажется, что деньги будут сражаться, когда люди уже не могут. Именно это случилось с пуническими дельцами. Их религия была религией отчаяния, даже когда дела их шли великолепно.
Карфаген пал, как ни кто еще не падал со времен Сатаны. И те, кто раскопали эту землю через много веков, нашли крохотные скелетики, целые сотни — священные останки худшей из религий… Европа наплодила немало собственных бед… но самое худшее в ней было все–таки лучше того, от чего они спаслись… Коммерческие олигархии типа Карфагена застывают осклабившимися мумиями, и ни когда нельзя сказать, молоды они или бесконечно стары. Карфаген, к счастью, умер, самое страшное нападение бесов на людей было отбито… Содом и Гоморра лучше, человечнее Тира и Сидона. Когда мы вспоминаем бесов, пожирающих детей, мы понимаем, что даже греческий разврат лучше пунического сатанизма».
Что же представлял из себя победитель Карфагена — языческий Рим? Честертон пишет:
«Нас поражает в римских культах их теплый, домашний характер… Принято возмущаться назойливостью поговорки: «Карфаген должен быть разрушен». Но мы забываем, что Рим был разрушен. И первый луч святости упал на него, потому что Рим восстал из мертвых… Мы должны благодарить тех, кто сохранил в язычестве человечность… Рим воплощал героизм, ближе всего во всем язычестве подходящий к рыцарству. Он защищал домашних богов и человеческое достоинство против чудовищ Африки…»
Итак, Рим, отнюдь не служивший Единому Богу, все–таки ему служил, потому что был к Нему гораздо ближе, хотя и не догадывался об этом. Понимание этого для нас очень важно, мы должны научиться находить почти своих среди чужих. Иные люди думают, что Бог им неведом, но они все же служат Ему, опираясь на здоровое нравственное чувство, которое имеет своим источником Бога, и таких людей всегда стоит поддержать.
Но мистическую суть Карфагена разрушить невозможно, преемник всегда найдется. Архидемоном средневековья стала Венеция. Копаясь в истории средневековья, я был поражен тем количеством страшного духовного зла, которое исходило от этого города–государства. Хотя в христианскую эпоху найти главную базу демонов еще сложнее, чем в языческую, вроде бы все вокруг прославляют Христа, при этом зла хватает во всех странах. Тут надо разбираться, какие силы движут государством на самом деле, какие ценности исповедуют государственные элиты и что они несут миру в реальности, а то ведь декларации у всех одинаковые.
Венеция стала подлинным духовным (точнее — антидуховным) наследником Карфагена, настоящей базой мирового зла, главным врагом христианства. Венеция стоит за одним из самых отвратительных деяний христианского Запада за всю историю средневековья — захватом крестоносцами Константинополя. Дож Венеции Дандоло обвел вокруг пальца простодушных вождей франков, как детей, вынудив их делать то, чего они делать совершенно не собирались. И в падении Византийской империи Венеция сыграла зловещую, определенную роль, о чем в другом месте стоило бы поговорить отдельно. Не одну сотню лет все государственные усилия Венеции были направлены против духовного центра православия — Цареграда.
Архидемоном нового времени стала Британия. Это был уже третий Карфаген в мировой истории. Доказательствами того, что Британская империя стала в свое время главной базой антихристианских сил можно бы наполнить целую книгу. Британия весь мир заполонила идеями принципиально чуждыми христианству и разрушительными для Церкви. Достаточно вспомнить, что Британия стала родиной самого отвратительного вида протестантизма, когда монарх, то есть мирянин, провозгласил себя главой Церкви. По сравнению с этим даже папство выглядит относительно респектабельно. Даже в Германии протестантизм все же расколол страну, то есть полстраны не поддались безумию Лютера. А британские лорды дружно кивнули. На всю страну нашелся лишь один стряпчий, Томас Мор, сказавший «нет». Точнее, не сказавший «да». Но и за это ему отрубили голову.
Вы думаете, почему именно Честертон создал такую яркую и убедительную картину сатанинско–коммерческой цивилизации Карфагена? Да потому что он писал ее фактически с натуры. Он открыто об этом говорил: «Люди, которых мы встречаем на приемах за чайным столом — тайные почитатели Молоха и Ваала. Именно эти умные практичные люди видят мир так, как видел его Карфаген». Духовно чуткий англичанин, сознательно отвергший мерзость англиканства, очень хорошо понимал, в каком государстве он живет.
Преемником Британии стали США. Великий православный мыслитель Константин Леонтьев увидел суть этого государства еще до того, как Штаты стали мировой империей. Он писал: «Соединенные Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде на новой почве в девственной земле».
Итак, мы видим, что через всю мировую историю тянется цепочка государств–архидемонов. Финикия — Венеция — Британия — США. Полная цепочка была бы, возможно, длиннее и безусловно сложнее, изобилуя самыми причудливыми ответвлениями, но это уже была бы тема для отдельной работы.
Уже когда все звенья этой цепочки четко встали в сознании на свои места, я вдруг заметил поразительные черты сходства между перечисленными государствами. Все это великие морские державы, распространявшие свою морскую экспансию докуда только могли дотянуться. Даже финикийцы уже плавали вокруг Африки, а средиземноморье контролировали безраздельно. И все эти державы — торговые. Конечно, любая страна торгует, и ни одна страна не может обойтись без торговцев, и в самой по себе профессии торговца нет ровным счетом ни чего плохого. Но во всех этих странах власть (!) принадлежала торговцам. Все до единого государства–архидемоны — это торговые олигархии. В США власть скорее принадлежит финансистам, но финансисты — худшая из всех категорий торговцев — это торговцы воздухом.
И вот тут мы приходим к пониманию истины совершенно для нас неудобоваримой и дискомфортной. Там где власть принадлежит торговцам, скрытый сатанизм развивается бешенными темпами, постепенно становясь скрытым только от слепых. Там, где власть принадлежит военным — уверенно утверждаются консервативные, традиционные добродетели, берущие начало в Божьих заповедях.
На первый взгляд это кажется совершенно не понятно. Ведь война — это самое ужасное, что может произойти между людьми, а мирная торговля — это прекрасно и замечательно. Это не очень понятно и на второй взгляд. Но это факт. Государства, где доминирует торговая олигархия, почему–то всегда оказываются на службе у сатаны, хотя бы их правители увешались крестами от макушки до пят. А государства, где доминирует военная элита, почему–то всегда стоят на страже добродетелей в основе своей христианских. И почему–то всегда владыки морей служат Тьме, а сухопутные державы во всяком случае пытаются служить Свету.
В области мистической геополитики «Океан» — слуга Тьмы, а «Континент» служит Свету, делая это как правило довольно кривовато, но Континент противостоит таким лютым архидемонам, что все претензии к Континенту стоило бы до поры отложить.
Где–то с конца ХХ века в России распространилась концепция извечного противостояния США и Германии, определяемых соответственно, как «Океан» и «Континент». При этом автором ее называют немецкого геополитика Гаусхофера, одно время имевшего заметное влияние на Гитлера. На самом деле авторство концепции глобального конфликта Океана и Континента принадлежит американскому адмиралу Мэхену. При этом, развивая ее, Мэхен подчеркивал, что оплотом континентальной мощи является Россия. Германия же включалась им в Океан. Он утверждал: «Морские державы должны создавать противовес этой мощи…, оказывая на Россию давление с флангов». Вопрос о Германии оставим без рассмотрения. «Ходить бывает склизко по камушкам иным». А вот США — это действительно Океан, и Россия это действительно Континент.
Западные создатели концепции Континента и Океана интуитивно набрели на некоторые фрагменты истины, совершенно не осознав ее глубинную, мистическую суть. Мы берем у них только термины, наполняя их куда более значимым для истории человечества содержанием. Океан — слуга Тьмы. Континент — это воины Света. Их противостояние отражает извечную борьбу Сатаны против Бога.
За появлением и крушением мировых империй всегда в глубине стоит мистическая, религиозная суть. Не экономическая, не примитивно понимаемая политическая, а именно мистическая. Не борьба за власть и за богатство созидает и разрушает империи. В глобальных мировых процессах одни силы всегда обслуживают Дьявола, даже если они думают, что всего лишь набивают кошельки, а другие силы — творят Божью волю, даже если они об этом и не догадываются.
Теперь мы готовы ответить на вопрос о том, с какой целью Всевышний даровал Наполеону полководческий талант, какой войны Он от него хотел. Бог воздвиг гений Наполеона для сокрушения архидемона эпохи — Британии. Наполеон — это Континент, Британия — Океан.
Не то даже печально, что Наполеон провалил эту задачу. Куда печальнее то, что он ее так и не осознал. Британия была для него тактическим противником, он внутренне хотел с ней дружбы, не понимая, что с демонами не дружат, ни какие союзы с ними ни кому не принесут ни чего, кроме зла. Он не понял, что сокрушение Британии и есть его предназначение, что именно этого и хочет от него Часовщик, который завел его, как часы.
Иногда Наполеон интуитивно очень близко подходил к пониманию того, что ему предначертано. В 1806 году он, например, писал: «Поведение Англии достойно первых веков варварства, это государство использует свое могущество во вред всем». Отсюда уже не далеко до понимания того, что ни какой мир с Англией невозможен.
На протяжении всего своего правления последовательно и целенаправленно добиваясь союза с Россией, он интуитивно стремился к тому, что есть благо, к тому, что хочет Бог. Он видел в России естественного союзника, не осознавая, что она для него нечто куда большее — союзник мистический. Объединение империи Наполеона и Российской империи стало бы объединением всех сил Континента против извечного, древнего, мистического врага — Океана. Британия была не просто сверхагрессивным государством, которое самыми бесчеловечными методами добивалось мирового владычества. Британия была врагом всего живого, врагом Божьего мира. Наполеон этого не понимал, хотя его гениальная интуиция часто заставляла его делать то, что надо.
Царь Александр не понимал вообще ни чего и гениальной интуицией отнюдь не обладал, он руководствовался подростковыми обидами и совсем уж детским стремлением к самоутверждению. Начиная с убийства императора Павла и заканчивая походом русской армии 1813 — 1814 годов, Россия вольно или невольно, но очень последовательно обслуживала британские интересы. Православное царство обслуживало скрытых служителей Сатаны. Третий Рим обслуживал Третий Карфаген. Не там наши иерархи увидели «предтечу антихриста». Ошиблись. Настоящими предтечами антихриста были правители Британии.
И вот эти–то предтечи антихриста, слуги Тьмы, в отличие от остальных сторон конфликта, все очень хорошо понимали. Отсюда тотальная, совершенно непримиримая вражда Британии к Наполеону, с политической точки зрения даже странная. Британия не шла с Наполеоном ни на какие компромиссы, отвергая любые, даже самые выгодные предложения о сотрудничестве. Британские прагматики очевидным образом жертвовали собственной выгодой, только бы стереть Наполеона в порошок, добиться его тотального разгрома, так чтобы и духа его не осталось. Британия не была готова ни на какой политический союз с Наполеоном. В чем же секрет этой непримиримости?
Слуги Тьмы органически не выносят Свет даже в самых умеренных дозах. Даже от такого сильно замутненного, слабо пульсирующего Света, который олицетворял собой Наполеон, британских служителей Тьмы так страшно ломало и корежило, что они готовы были пойти на все, лишь бы уничтожить этот источник Света.
Если бы Наполеон действительно был предтечей антихриста, британцы с огромной радостью тот час предложили бы ему союз против России. И тогда страшно представить, что могло бы быть. Но, заслужив вполне обоснованную непримиримую вражду служителей Тьмы, император все пробивался к своим, к служителям Света. И свои его не признали.
Новое рыцарство (Континент Наполеона)
На св. Елене император говорил: «Хорошо известно, что я не стремился подчинять обстоятельства моим идеям, я наоборот позволял обстоятельствам вести меня, а кто может заранее рассчитать результат случайных обстоятельств или непредвиденных событий?»
Итак, ни какая идея не руководила Наполеоном. Идеи у него не было. Проще говоря, он сам не знал, чего хотел, поэтому и высказывался на эту тему крайне противоречиво. Но природа гения Наполеона — солнечная. Порою, он, просто следуя своей природе, не вполне осознанно делал в точности то, что диктовал бы основательно и детально продуманный православный взгляд на вещи.
Наполеона часто понимают, как носителя «новых идей», то есть идей по своей сути революционных. Он, дескать, отвергал «старый порядок», олицетворяемый Бурбонами. Но Бурбоны на самом деле олицетворяли не старый порядок, а гниль и разложение, и Наполеон отвергал это «старое» не ради «нового», а ради «древнего». Об этом очень тонко пишет Олег Соколов:
«Сознательно или бессознательно, император стремился возвысить элиту духа и самопожертвования — новое рыцарство в полном смысле этого слова. Государство Наполеона не было страной, где господствовали биржевые дельцы и спекулянты, напротив, это был мир, где доминировала элита меча. Именно она определяла вкусы, нравы и ценности общества. В этом смысле государство Наполеона, не смотря на его развитую экономику и передовую науку, было государством еще более старого порядка, чем дореволюционная Франция. В своих моральных ценностях по ряду параметров оно ближе к идеалам суровых рыцарей средневековья, чем придворных кавалеров XVIII века».
Итак, Наполеон был консерватором в самом что ни на есть христианском смысле этого слова. В том смысле, который существовал еще до Христа, потому что всегда были люди, которые отстаивали примат духа брюхом, и тем служили Богу, даже если не знали Его. «Элита меча» всегда духовнее торгашей. И торгаши ей этого ни когда не прощают.
Соколов продолжает: «В воинском, рыцарском духе император искал моральный стержень общества. Он решительно отвергал буржуазный социум, где ценность человека определяется только количеством денег на его банковском счете. «Нельзя, чтобы знатность происходила из богатства. Кто такой богач? Скупщик национальных имуществ, спекулянт, короче — вор. Как же основывать на богатстве знатность?» — говорил император.»
А ведь любой православный правитель, желая возродить страну на прочном фундаменте духовных ценностей, должен будет мыслить и поступать в точности так же.
Современный русский автор Андрей Иванов пишет: «Наполеон создал новое рыцарство в то время как век рыцарства давно миновал». Отсюда как бы следует, что Наполеон делал нечто неактуальное, не соответствующее духу времени, что он «отстал от жизни». Конечно, в эпоху, когда торгаши стремительно прибирали к рукам власть над всем миром, рыцарские идеалы не выглядели современными. Но рыцарские идеалы в чистом виде не могут быть неактуальны, потому что они — порождение Света. Бессмысленно говорить о том, насколько они соответствуют «духу времени», потому что они вообще не из времени, а из вечности. В любую эпоху, даже при Антихристе, элиту духа необходимо возрождать, не жалея ни каких сил и вообще не думая о том, насколько реален успех.
Историк сталинской эпохи Евгений Тарле, вооруженный «единственно верной» теорией классовой борьбы, казалось бы со всей неизбежностью должен был увидеть в Наполеоне «ставленника крупной буржуазии». Но у Тарле все же хватило научной честности сделать это с очень существенными оговорками: «Наполеон, правя фактически именно так, как требовали интересы крупной буржуазии, а то же время ни чуть ее не уважал, называя плутократию «наихудшей из всех аристократий» и склонен был повторять свой афоризм: «Богатство в настоящее время — это плод воровства и грабежа». Наполеон рассматривал буржуазию исключительно лишь как казначея и своего подчиненного, который не смеет иметь свою собственную волю».
Итак, торгаши, финансисты, толстосумы, существование которых неизбежно, а может быть и полезно, по мнению Наполеона в здоровом обществе должны находиться в положении строго подчиненном, и не должны иметь ни грамма власти. Естественно, Британия, где власть принадлежала торгашам, увидела в такой постановке вопроса угрозу своему существованию.
Тарле с удовольствием пересказывает такой случай. В 1806 году Наполеон узнал, что миллионер Уврар и фирма «Объединенные негоцианты» причинили убыток казне. Он вызвал их во дворец и просто сказал, что приказывает вернуть награбленное. Уврар попробовал прельстить Наполеона предложением новых «интересных для казны комбинаций». Но Наполеон сказал, что наиболее интересной для казны комбинаций он считает немедленное заключение Уврара и его товарищей в Венсенский замок и отдачи их под уголовный суд. «Объединенные негоцианты» в ближайшее время отдали казне 87 млн. франков золотом, не настаивая ни на каких бухгалтерских и юридических уточнениях.
Вам не захотелось ненадолго воскресить Наполеона? Он бы тут некоторые наши проблемы решил быстрее, чем мы успели бы до ста сосчитать.
К банкирам и финансистам император испытывал органическую неприязнь. Его концепция была такова: во–первых — сельское хозяйство, во–вторых — промышленность, развитие фабрик, и наконец — торговля — умелое использование результатов двух первых сфер. Он перевернул схему, лишив торгашей власти, поставив их с первого места на третье. Он созидал естественную, органичную экономику и боролся с извращенной, противоестественной экономической моделью, когда торговля и финансы, нечто по определению служебное, производное от реального сектора экономики, встают на первое место и начинают всем заправлять. Эта извращенная экономическая модель тогда под предводительством Британии активно утверждалась в мире, а в наше время она уже окончательно победила. Наполеон этому последовательно противостоял. Сколько раз я находил его концепцию в работах современных православных экономистов. И эти же самые люди до сих пор видят в Наполеоне чужого.
Итак, Наполеон не понимал своего предназначения, не ставил перед собой сознательно той задачи, которую, по–видимому, ставил перед ним Бог, и в этом сказался опять же недостаток его религиозности. Но он, просто следуя своей природе, которой было присуще здоровое нравственное чувство, часто и во многом делал именно то, в чем более всего нуждался тогда мир. Император был рыцарем Света, который сражался с силами Тьмы, которые прятались за личиной циничных торгашей.
На троне вечный был работник (Наполеон и благо общества)
Пушкин писал о Петре I: «То мореплаватель, то плотник, на троне вечный был работник». У Наполеона, конечно, не было времени на то, чтобы махать топориком на верфях, но он не в меньшей степени был «вечным работником» на троне. Он говорил про себя: «Работа — это моя стихия. Я был рожден и воспитан для работы. Я определил для себя границы, за пределами которых у меня не оставалось сил даже идти пешком». То, что он ежедневно делал, не смогли бы сделать вместо него даже несколько очень работоспособных человек. Тарле восхищается: «Он умел как–то вопреки поговорке разом видеть и лес, и деревья, и даже сучья и листья на деревьях».
Стендаль писал: «Изумительная быстрота, с которой он путешествовал, способность противостоять любому утомлению являлись частью его таинственного обаяния. Все, вплоть до последнего форейтора, чувствовали, что в этом человеке была какая–то нечеловеческая сила».
О людях, с которыми император работал, он всегда заботился, хорошо им платил, но уж и выжимал из людей все, что только было можно, даже чуть больше. Сам работая непрерывно почти круглые сутки за вычетом нескольких часов для сна, 15 минут на обед и меньше 15 минут на завтрак, Наполеон не считал нужным проявлять к другим больше снисходительности, чем к самому себе. Чиновники империи корчились под железной пятой этого «тирана» и… любили его до самозабвения, стараясь превзойти самих себя, только бы оправдать доверие великого человека. Император видел это и весело усмехался: «Министр моего правительства через четыре года работы уже не должен быть в состоянии самостоятельно помочиться». Тиран, что с него возьмешь.
Граф Лас Каз писал про своего возлюбленного тирана: «Ни когда в течение любого периода нашей истории почести не распределялись так справедливо, ни когда заслуги человека не определялись и не вознаграждались, не взирая на его происхождение и на его положение в обществе, ни когда государственные деньги не расходовались с такой пользой, ни когда различные виды искусства и науки так не поощрялись, ни когда слава страны не достигала таких вершин».
А вам не хотелось бы пожить под властью такого тирана? Обращаю этот вопрос к православным консерваторам. Ответ либералов мне известен.
Наполеон, кстати, полностью растоптал свободу прессы. Ему некогда было возиться с идиотами. Идиотам он просто затыкал рты — походя, несколькими окриками, брошенными через плечо.
Можно без ложного пафоса и без малейшего преувеличения сказать, что Наполеон поставил свой гений на службу людям. Когда он уже был на св. Елене, в Европе начали дебатировать вопрос о том, где спрятаны сокровища Наполеона (прямо, как по поводу тамплиеров). Император, узнав об этом из английских газет, ответил:
«Вы хотите узнать о сокровищах Наполеона? Это правда, что они безмерны, но все они открыты для обозрения. Вот они: замечательные гавани Антверпена и Флиссингена, способные принять самые крупные эскадры и защитить их зимой от морского льда, гидравлические сооружения в Дюнкерке, Гавре и Ницце, огромная гавань Шербура, морские сооружения в Венеции, прекрасные дороги из Антверпена в Амстердам, из Майнца в Мец, из Бордо в Байону. Перевалы Симплона, Мон — Сени, Мон Женевра и Ла Корниша, которые открывают дорогу через Альпы в четырех различных направлениях и превосходят в мастерстве исполнения все сооружения древних римлян. Далее: дороги из Пиринеев в Альпы, из Пармы в Специю, из Саванны в Пьемонт. Мосты Йены, Аустерлица, Севра, Тура, Роаны, Лиона, Турина, Бордо, Руана… Канал, соединяющий Рейн с Роной, рекой Ду и таким образом соединяющий Северное море со Средиземным, канал, соединяющий реку Шелда с рекой Сома и таким образом связывающий Париж с Амстердамом… Осушение болот Бургундии, Котантена, Рошфора. Восстановление церквей, разрушенных во время революции, строительство новых церквей. Сооружение многочисленных работных домов для искоренения нищенства. Сооружение государственных зернохранилищ, банков, водоснабжение Парижа… Восстановление фабрик Лиона, строительство многих сотен фабрик по производству хлопчатобумажных тканей, давших работу нескольким миллионам рук, накопление капитала для строительства фабрик по производству сахара из свеклы, которые бы предоставляли сахар по той же цене, что и сахар Вест — Индии. Замена краски индиго краской из вайды, которая бы наконец сравнялась по своему качеству с индиго и не превысила бы цену последней. Несколько миллионов, накопленных для поощрения сельского хозяйства, разведение во Франции породы мериносов и т. д. Вот сокровища в сотни миллионов, которые будут сохранены на века! Вот памятники, которые опровергнут клевету… Все это было достигнуто, несмотря на участие Франции в беспрерывных войнах, не прибегая к каким–либо займам, в то время, как национальный долг с каждым годом все уменьшался, а налоги на сумму почти 50 млн. франков были отменены…»
Мы еще подсократили этот «отчет о проделанной работе», а то от географических названий уже в глазах рябить начинало. А ведь тут Наполеон лишь привел примеры своей созидательной деятельности. Исчерпывающий перечень того, что он сделал для Франции и Европы, составил бы пухлый том, но еще о некоторых вещах необходимо вспомнить.
При Наполеоне было положено начало той системе образования, которая существует почти без изменений вплоть до нашего времени.
Уже после Маренго Наполеон издал постановление об образовании комиссии для выработки проекта гражданского кодекса, который получил впоследствии название «Кодекса Наполеона». Его действие было подтверждено декретом 1852 года, он и до сих пор не отменен. Император говорил: «Один мой кодекс благодаря своей простоте, более полезен для Франции, чем вся масса законов, предшествовавших ему. Мои школы и моя система образования готовят поколения, которых пока еще не было. Во время моего правления количество преступлений быстро уменьшалось, в то время как в Англии оно увеличивалось в угрожающей степени».
Последнее утверждение наглядно подтверждают цифры. В 1801 году во Франции были приговорены к смертной казни 26 человек из миллиона жителей, а в 1811 году — 9 человек из миллиона. В Англии в 1801 году приговорено к смерти 212 человек из каждого миллиона жителей, а в 1811 году — 376 человек из миллиона. Вот против кого и за что он сражался.
Кстати, в основе Кодекса Наполеона лежит римское право, кодифицированное Юстинианом. Наполеон создал свой Кодекс на основе законодательства православного (!) императора.
Евгений Тарле писал: «При всем их безумии, Бурбоны скоро убедились, что абсолютно невозможно ломать учреждения, основанные Наполеоном, и все эти учреждения остались в неприкосновенности: и префекты в провинции, и организация министерств, и полиция, и основы финансового обложения, и Кодекс Наполеона, и суд — словом, решительно все, созданное Наполеоном, и даже орден Почетного Легиона остался, и весь уклад бюрократического аппарата, и устройство армии, и устройство университетов, и высшей и средней школы, и конкордат с папой…»
***
Откровенно говоря, я не считаю все эти впечатляющие успехи Наполеона в обустройстве земного бытия тем главным, что мы можем и должны хотеть от правителя. Исходя из православных представлений, правитель должен быть в первую очередь озабочен созданием максимально удобных условий для опасения души. Итак, все перечисленное нами — не главное. Хотя в наше время все это считают не только главным, но и единственным, чего ждут от правителя. Но ведь мы — не из нашего времени.
И все же… Вот что тут надо учитывать с православной точки зрения. Созидательное начало в человеке, тем более — в правителе, всегда — от Бога. Творец хочет, чтобы и мы были творцами. Бог, ставящий перед человеком задачу уподобления Ему, радуется, когда мы уподобляемся Ему в том числе и в созидательном творчестве. И созидание, не только внутреннее, но и внешнее, направленное на то, чтобы жизнь людей стала удобнее, легче, красивее — всегда угодно Богу. И если правитель не спит ночей, работая сутками для того, чтобы появились новые гавани и мосты, новые заводы и фабрики, чтобы суды были справедливыми, а чиновники честными, чтобы налоги были разумными, а преступников в стране было как можно меньше, разве нет в этом духовной составляющей? Ведь такой правитель всего себя отдает на службу людям. И разве не захотим мы в том числе и всего этого от самого что ни на есть православного царя?
Демоническое, сатанинское начало всегда деструктивно, разрушительно, оно не может быть созидательным. «Предтеча антихриста» ни чего бы не созидал, не улучшал и не совершенствовал, он вообще не думал бы о том, что бы людям жилось лучше. По мере того, как человек уподобляется сатане, творческое начало оставляет его, он уже ни чего не может создать, он стремится лишь производить впечатление мнимыми успехами, которые лопаются, как мыльные пузыри. А то, что создано Наполеоном, дожило до наших дней. Трудно представить себе успехи более устойчивые. Кем же он был? Слугой Господа. Очень несовершенным слугой. Как и все мы.
Душа императора (Наполеон и гордыня)
На св. Елене Наполеон пророчествовал: «Будут проводить исследования, действительно ли я стремился к мировому господству. Будут подробно обсуждать вопросы, являлась ли абсолютная власть и деспотические поступки результатом моего характера или моих политических расчетов, были ли они обусловлены моей склонностью к ним, или влиянием обстоятельств. Вел ли я войны, в которых постоянно участвовал, в силу моей склонности к ним или вопреки моей воле, возбуждалось ли мое ненасытное властолюбие, которое так часто и так резко осуждали, стремлением к господству и к славе, или моей любовью к порядку и заботой о всеобщем благополучии, ибо это мое властолюбие будет заслуживать того, чтобы его рассматривали со всех сторон».
Император не ошибся в том, что эти вопросы по отношению к его личности чрезвычайно актуальны. И вот, спустя 200 лет, эти вопросы интересуют, например, меня, и понятно, что не только меня. Почему же он, продиктовав эти вопросы Лас Казу, даже не попытался на них ответить? Наверное, просто махнул рукой: «История рассудит».
Да, в другом месте он говорил: «История будет ко мне более справедливой, она оценит меня, как бескорыстного человека, способного к самопожертвованию».
Гении бывают так наивны. Нет судьи более пристрастного и нечестного, чем история. Среди современников, судивших о Наполеоне вкривь и вкось, было все же не мало людей, которые искренне им восхищались, ведь его очень многие знали лично. Тот же граф Лас Каз, проведший с императором на св. Елене полтора года, писал: «Кто был более популярным и более любимым? О ком еще когда–либо так горячо и глубоко сожалели?» А современные французы, ни когда не маршировавшие под императорскими орлами, ни когда не видевшие его улыбки и не слышавшие его слов?
Недавно во Франции провели опрос общественного мнения, желая выяснить, кого французы включили бы в число десяти самых великих французов. В эту десятку попала Эдит Пиаф, но не попал Наполеон. Вот суд истории. Милую певичку французы поставили выше гения императора. Их кумир теперь «воробушек», а не орел.
Что же говорить про другие народы? Наполеон воевал со всеми, и для всех народов он остался врагом, которого удалось победить. История всех народов прославляет только себя, любимых, и, чтобы вознести до небес собственное величие, врагов демонизируют, наделяя их всеми мыслимыми и немыслимыми пороками. Если Наполеон был хорош, тогда зачем же храбрые англичане, немцы, испанцы, русские с ним сражались? А если они с ним все–таки сражались, значит от был плох. Вот и весь «суд истории». Правда ни кого не интересует. Народы Европы создали удобный для себя образ Наполеона и успокоились.
А вопрос остается. Что было главным побудительным мотивом действий императора? Дать самому себе власть над миром, или дать миру лучшее правление, чем было до него? Он всего лишь обслуживал свою безумную гордыню, или он все–таки в первую очередь заботился о благе людей? Ответа нет, потому что его нет ни когда. Мы вообще горазды объяснять чужие поступки. Человек и сам не знает, почему он так поступил, а мы всегда это знаем. Человеку, который нам неприятен, мы всегда припишем самые дурные мотивы. Если же это близкий человек, а еще лучше, если это я сам, в точности такой же поступок будет объяснен самыми возвышенными побуждениями.
На самом деле мотивы любых поступков всегда многослойны. Даже самое простое действие самого примитивного человека почти ни когда не возможно объяснить, как следствие одной причины. Едва копнешь и тут же убедишься, что у человека было полдюжины причудливо перемешанных причин для того, чтобы так поступить. Редкий человек сам себе в состоянии ответить на вопрос «Почему я это делал?» А ответ на вопрос «Почему это делал Наполеон?» кажется нам легче легкого. По всему заметно, что Наполеон и сам не до конца отдавал себе отчет в побудительных мотивах своей деятельности, поэтому и высказывался на сей счет так противоречиво.
В 1811 году император сказал: «Через три года я буду господином всего света».
Прошло три года, и в 1814 году он опять откровенно признался: «Я хотел дать Франции власть над всем светом».
Бури отшумели, и вот в 1816 году он подводит итоги: «Я хотел править всемирной империей, а кто в моем положении не хотел бы этого? Весь мир приглашал меня править им».
Тому, кто всю деятельность Наполеона понимает, как производную от его безумной гордыни, приведенных цитат вполне достаточно, можно и не продолжать. Но ведь на самом деле все сложнее.
В 1813 году он сказал одному европейскому дипломату: «Ваши государи, рожденные на троне, не могут понять чувств, которые меня воодушевляют. Они возвращаются побежденными в свои столицы, и для них это все равно. А я солдат, мне нужны честь, слава, я не могу показаться униженным перед своим народом. Мне нужно оставаться великим, славным, возбуждающим восхищение!»
А ведь это не самооправдание. Это очень адекватный анализ объективной реальности. Стремление к славе здесь выглядит не как самоцель, не как личная страсть, а как инструмент управления, без которого в его ситуации было не обойтись.
Больше всего мне нравится Наполеон во время ста дней. Он оказался способен к публичному покаянию, проявив подлинное благородство души. Он заявил на всю Францию, что «действительно слишком любил величие и завоевания», но теперь он уже поведет другую политику. Он сказал, что в прошлом «ему нужно извинить искушение сделать Францию владычицей над всеми народами». Многие ли монархи за всю историю были способны к публичному покаянию перед народом? «Король не ошибается». Таков принцип. А император ошибался.
Хотя, конечно, его покаяние всегда несет в себе элементы самооправдания, как, впрочем, и у любого из нас. Он говорил: «Будут ли меня обвинять в том, что я был честолюбив? Несомненно, надо признать, что я обладал этим качеством, причем не в малой степени, но… мое честолюбие было направлено на создание Империи разума и служение этой Империи ради полного претворения в жизнь и использования всех физических и умственных способностей человека».
Вот он опять то ли признает свои недостатки, то ли сам себя возвеличивает… Но разве бесконечно длинный перечень того, что он сделал для блага людей не дает ему права на эти слова? К любому доброму поступку любого человека всегда и неизбежно примешивается тщеславие, хотя у разных людей — в разных дозах, но ни кто не свободен от этого полностью. Только одни тешат свое тщеславие поплевывая на людей, а то и вовсе вытирая о них ноги, а другие всю жизнь стремятся сделать для людей что–то доброе и при этом не могут избежать некоторого самолюбования. Господа, это не одно и то же.
Нет, император отнюдь не был таким гордецом, которому наплевать на всех, кроме самого себя, и он имел полное право сказать: «Если бы я думал только о себе и о том, чтобы сохранить свою власть, как об этом без конца говорится, если бы я действительно имел ввиду достижение любой другой цели, кроме правления здравого смысла… Вместо этого я посвятил себя распространению знания…»
И вот век за веком его называют «корсиканским чудовищем». Но вы прочитайте пару–тройку биографий Наполеона и постарайтесь сами себе честно ответить на вопрос: а что такого чудовищного он совершил, чего не совершали современные ему монархи Европы? Он был куда великодушнее, чем они, и куда гуманнее. Почему же он — чудовище, а не они?
Император с полным правом говорил: «Несмотря на все попытки очернить мою репутацию и представить в ложном свете мою личность, знающим меня людям известно, что преступление чуждо моему естеству. В течение всего моего правления не найдется ни одного случая, связанного с решением человеческой судьбы, о котором я не мог бы говорить перед судебным трибуналом не только без ущерба для собственной репутации, но даже и с определенной выгодой для нее».
Это правда. Но трибунала не было. История строится на кривотолках.
И вот граф Лас Каз пишет: «Император объединил в себе все то, что составляет личность, полную достоинств в глазах Бога и человека, отрицать это означало бы отрицать свет солнца». Ловлю себя на том, что мне приятны эти слова, но я понимаю, что это, мягко говоря, преувеличение. Лас Каз — благороднейший человек. Его книга «Мемориал св. Елены» — это не только замечательный памятник императору, это еще и памятник благородству автора, который всему миру показал, что такое настоящий древний аристократ. Но в какой–то момент он утратил способность к критическому осмыслению личности горячо любимого императора. Он уже просто не в состоянии был видеть «пятна» на своем солнце.
Но вот Стендаль, один из самых умных и тонких апологетов Наполеона, пишет: «Жизнь этого человека — гимн величию души». И я согласен со Стендалем уже хотя бы потому, что он всегда оставался скептиком, не имея склонности впадать в неумеренные восторги.
Стендаль кроме прочего писал о Наполеоне: «Он впал в ту ошибку, что чрезмерно восхищался своими успехами… Он упивался отравой лести. Он утвердился в мысли, что для него не существует непосильных предприятий. Он уже не мог переносить противоречия, вскоре малейшее возражение стало им восприниматься, как дерзость, и к тому же еще как глупость… Тринадцать с половиной лет непрерывных успехов привели Александра Великого почти к безумию. Удача, длившаяся ровно столько же времени, вызвала такое же безумие у Наполеона».
Стендаль любил императора, и это дает ему право на столь горькое суждение. Хотя тут Стендаль несколько перегибает в другую сторону. К примеру, Арман де Коленкур накануне русского похода яростно спорил с Наполеоном, доказывая, что этого похода ни в коем случае нельзя допустить. Император недовольно пробурчал: «Ты стал русским», на что Коленкур смертельно оскорбился, и не думал скрывать, что оскорблен, а император просто обнял Коленкура. И этот строптивый придворный отнюдь не впал в немилость, до конца оставаясь одним из самых приближенных к императору людей. То есть с императором всегда можно было спорить, он всегда уважал достоинство людей, державших себя с достоинством. Но много ли было вокруг императора таких людей, как Коленкур?
В основном, Стендаль, увы, прав. На пике могущества душа Наполеона уже была заражена той степенью гордыни, которая граничит с безумием. Все источники это подтверждают.
Слава… Слава… Слава… Это слово непрерывно сопровождает Наполеона с Тулона до св. Елены. Достаточно ли хорошо мы понимает, какая это страшная штука — слава? В этом мире много духовно опасных вещей, например, власть или богатство, но их все же можно использовать не только во вред, но и на пользу своей душе. Есть, однако, такое зло, которое ни при каких обстоятельствах не может быть обращено во благо. Это слава. Самые великие святые бежали от славы, как от чумы, понимая, что не смогут противостоять ее тлетворному влиянию. Даже гиганты духа и то понимали, что слава нанесет невосполнимый вред их душе. Как героин невозможно использовать в медицинских целях, так и славу на благо не обратить. На самом высоком уровне духовного развития, максимум того, что возможно — минимизировать вред от нее, но это все равно будет вред. При этом слава — обязательный и неизбежный спутник любого великого воина, даже более того, слава — его главный трофей.
Для Наполеона и его солдат слава была главной мотивацией, главной движущей силой. Кроме славы их было просто нечем замотивировать. Это ж были не крестоносцы, для лучших из которых приближение души к Богу было главной целью крестового похода. А если духовной цели нет, остается лишь душевная — стяжание славы. Иначе ни чего не работало.
Наполеон, давший больше сражений, чем Цезарь, Александр и Ганнибал вместе взятые и явно превзошедший любого из них в полководческом искусстве, обрел неслыханную, оглушительную, ослепительную славу. Какой же страшный вред своей душе он причинил! Стяжав такую славу, и святой в лучшем случае перестал бы быть святым. А ведь Наполеон в духовном плане был очень обычным человеком, да на беду еще и гением, а это группа риска.
Но что же ему было делать? Бог возложил на императора гигантскую всемирную задачу. Пусть император оказался не на высоте своего предназначения, но даже если бы он осознал его со всей возможной глубиной, даже если бы он следовал Божьим предначертаниям с максимальной безупречностью, он и в этом случае стяжал бы всемирную славу, может быть даже еще большую. Значит, он пил отраву славы по Божьей воле? Страшно, правда?
Война калечит душу, власть калечит душу, богатство калечит душу, и тем не менее от одних Бог хочет, чтобы они воевали, от других — чтобы правили, от третьих — чтобы были богаты. На некоторых людей Бог возлагает духовно опасные задачи. Так неужели же Он не даст противоядие тем, кто по Его воле вынужден себя отравлять?
Душа императора подверглась таким страшным искушениям, каким, кажется, ни кто не был подвергнут. Как могут рассуждать о его душе те, кто и тысячной доли этих искушений на себе не испытал? Может быть при его уровне духовно разрушительных воздействий, он еще довольно неплохо сохранил свою душу?
Подлинное величие души и безумная гордыня несовместимы. Император, конечно, был гордецом. Но не преувеличиваем ли мы уровень его гордыни? Степень наркомании легко определяется тогда, когда наркоман остается без наркотиков. А ведь на св. Елене император держал себя довольно достойно. Иногда, конечно, капризничал, иногда впадал в мрачную подавленность, но в целом, я полагаю, он достойно выдержал это испытание — самое страшное из тех, что достались на его долю. Здесь он совершенно не производил впечатления «тирана в темнице». Мы видим благородного человека, который бережно, чутко, внимательно обращался со своими спутниками. Законченный гордец видит только себя, чувствует только свою боль. Он не был таким. Он действительно был способен на самопожертвование. Разве же это признак гордости?
Иногда кажется, что в душе императора причудливо переплетаются мощные потоки света и зоны глубокой тьмы. Что же преобладало, доминировало, побеждало? Да неужели же нам об этом судить?
Властитель наших дум (Русские поэты о Наполеоне) Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою Отселе, в думы погружен, Глядел на грозный пламень он.Очень люблю эти строки Пушкина. Они пробуждают в душе чувство национального достоинства, прекрасное чувство принадлежности к великому народу. Почему же в другом стихотворении Пушкин назвал «нетерпеливого героя» властителем наших дум?
Это была эпоха романтизма, а Наполеон — образцовый романтический герой. Обычно в книгах, особенно у романтиков, герои куда крупнее, интереснее, чем в жизни, но биография Наполеона такова, что самая увлекательная книга самого гениального романтика покажется скучной по сравнению с ней. Еще бы императору не быть властителем дум романтиков.
Однако, что такое романтизм? Мы иногда думаем, что романтизм далек от правды жизни, в отличие от реализма, который эту правду отражает. Отнюдь нет. Романтизм тоже отражает правду, только иного плана бытия. Романтизм дает нам образы героев, жизнь которых полна приключений, романтизм живописует великие чувства и страшные трагедии. Все, что блистательно, великолепно и грандиозно находит отражение в романтизме. И все это очень даже реальный мир, просто это еще далеко не весь мир.
Могу понять Пушкина, который «романтизму отдал честь», а потом решил заглянуть в душу станционного смотрителя. Могу понять Гоголя, который сначала показал нам Вия, а потом всю свою большую душу вложил в отражение маленькой души Акакия Акакиевича. Пушкин и Гоголь как бы сказали нам: «Господа, душа маленького человека — это ведь тоже очень интересно и это важно до чрезвычайности, не поленитесь, загляните вместе с нами в эту бесхитростную душу».
Все это так, но ведь годы–то идут. Достоевский сказал: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели»». Да в том–то и дело, что мы из гоголевской «Шинели» все ни как не выйдем. Прошло столетие, идет другое, а мы все у «Шинели» швы изучаем. Воротничок, пуговки — все это нам известно уже в таких деталях, что стало малость скучновато. И вот мир оказался на пороге возвращения романтизма. Мы все–таки вылезаем понемногу из побитой молью «шинели» и облачаемся в рыцарские доспехи. Грандиозный успех Толкина — лишь первый звоночек. Подождите, то ли еще будет.
И романтические авторы во второй половине XIX века казавшиеся устаревшими, сегодня заблистали свежими красками. И романтические образы истории, такие, как Наполеон, вдруг начинают обретать несколько даже пугающую актуальность.
Как сейчас читается «Воздушный корабль» Лермонтова! Некий мистический корабль без матросов и капитана несется на всех парусах к святой Елене.
На острове том есть могила А в ней император зарыт.Император встает из гроба и вступает на борт воздушного корабля:
Несется он к Франции милой Где славу оставил и трон, Оставил наследника сына И старую гвардию он Император зовет своих… Но спят усачи гренадеры В равнине, где Эльба шумит Под снегом холодной России Под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат, Иные погибли в бою, Иные ему изменили И продали шпагу свою.На призыв к величию никто не откликается. Воздушный корабль «в обратный пускается путь». Чье сердце не содрогнется от этой мистической картины ненужности гения в мире, который впал в ничтожество. И это написал русский боевой офицер. Офицер наполеоновской гвардии не написал бы лучше. Сердце гениального русского поэта так чутко откликнулось на трагедию императора французов, как будто Наполеон — русский национальный герой. А может так и есть? Ну повздорили мы с ним, ну набили ему морду так, что прочухаться не смог. Россия не унизила себя перед «нетерпеливым героем». Так теперь–то нам с ним какие счеты сводить?
Разве любому русскому, кто хоть немного знает и любит великую историю Франции, не больно сейчас смотреть на ничтожную Францию Саркази и Оланда? Лермонтов испытывал эту боль еще тогда. Во Франции решили перенести со св. Елены останки императора. Париж ликовал. Казалось, «воздушный корабль» все–таки прибыл в порт назначения. Но Михаил Юрьевич хорошо чувствовал, что это жалкий фарс. Лилипуты возятся с костями великана, не будучи в состоянии даже понять, к чьим костям они прикасаются. И вот Лермонтов пишет одно из самых поразительных своих стихотворений — «Последнее новоселье».
Негодованию и чувству дав свободу, Поняв тщеславие их праздничных забот, Мне хочется сказать великому народу: Ты жалкий и пустой народ. Ты жалок потому, что вера, слава, гений Все, все великое, священное земли С насмешкой глупою ребяческих сомнений Тобой растоптано в пыли.Лермонтов был очень сложным человеком, и не каждое его слово я готов воспринимать, как истину, но иногда меня поражает его пророческий дар. Тут он как будто говорит о глубинных причинах современного конфликта России и Европы. Европа предала сама себя — вот в чем причина. Предав, пожалуй, последнего своего героя, Европа навсегда отреклась от своей великой судьбы:
Среди последних битв, отчаянных усилий, В испуге не поняв позора своего, Как женщина ему вы изменили, И как рабы вы предали его.Мне кажется, это одно из самых патриотичных стихотворений Лермонтова. Наш великий поэт показал, каким благородным может быть русское сердце, как чутко оно к проявлениям подлинного величия, насколько чуждо ему мелочное сведение счетов и насколько это сердце всемирно. Все великое в мире оно воспринимает как свое, близкое, родное.
А ведь, родись Михаил Юрьевич пораньше, и рубил бы он французов, не зная жалости. Так как рубил их другой замечательный русский поэт Денис Давыдов. Из Давыдова хочу привести несколько прозаических отрывков, но вы, конечно, сразу почувствуете, что это настоящие стихи.
Вот как он вспоминает тильзитскую встречу Наполеона и Александра: «Все глаза обратились и устремились к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Македонского и Юлия Цезаря, коих он так много превосходит разнообразием дарований и славою покорения народов просвещенных и образовательных».
Давыдову было что ответить на упреки в недостатке патриотизма: «Меня нельзя упрекнуть, чтобы я кому–либо уступил во вражде к посягателю на независимость и честь моей родины… Солдат, я и с оружием в руках не переставал отдавать справедливость первому солдату веков и мира, я был обворожен храбростью, в какую бы она одежду не облекалась, в каких бы краях она не проявлялась…»
Почему же и мы сегодня не можем смотреть на Наполеона так же, как и храбрый русский офицер, сражавшийся с Наполеоном?
В наполеоновской гвардии, в этом невероятном человеческом феномене, Давыдов увидел нечто почти мистическое, непостижимое для человеческого ума: «Наконец подошла старая гвардия… Неприятель, увидев шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько не пытались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы. Я ни когда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля… Все наши азиатские атаки не оказывали ни какого действия против сомкнутого европейского строя… Колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством… Гвардия Наполеона прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль перед рыбачьими лодками».
Лермонтов и Давыдов — рыцарские натуры, они видели мир глазами благородных и великодушных воинов. И это очень важно для нас, только настоящий рыцарь может оценить подлинное величие. А вот Тютчев — человек иного склада. Он — мудрец. Один из самых замечательных русских мудрецов. И это тоже очень для нас важно. А ведь Тютчев видит Наполеона совершенно по–другому:
Два демона ему служили Две силы чудно в нем слились В его главе орлы парили В его груди змии вились Но освящающая сила Непостижимая уму Души его не озарила И не приблизилась к нему Он был земной, не Божий пламень, Он гордо плыл — презритель волн Но о подводный Веры камень В щепы разбился утлый челн.Перед Тютчевым я, откровенно говоря, робею. Громкое имя оппонента ни когда не удерживало меня от полемики, и с Федором Ивановичем я спорил, но вот читаю его стихи и понимаю, что он мыслил на том уровне, который мне пока не доступен. Я не могу согласиться с тем, что в груди Наполеона «змии вились», я не согласен с тем, что в императоре совсем не было «Божьего пламени», но и опровергнуть это я не могу с убедительностью, достаточной хотя бы для меня самого.
Есть у Тютчева еще одно стихотворение — «Неман»:
Победно шли его полки Знамена весело шумели На солнце искрились штыки Мосты под пушками гремели И с высоты, как некий бог, Казалось, он парил над ними И двигал всем, и все стерег Очами чудными своими.Как чутко улавливал Тютчев поэзию Наполеона, как глубоко он ее пережил. Не сомневаюсь, что он, как живого, видел перед собой этого славного героя с «очами чудными». Но потрясающий взгляд императора, побуждающий людей без страха идти на смерть, не очаровал русского мудреца. Он продолжает:
Лишь одного он не видал… Не видел он, воитель дивный, Что там, на стороне противной, Стоял Другой — стоял и ждал…Кто бы спорил с тем, что Наполеона победил Другой. Но был ли император всегда и во всем против Другого? Бог остановил мальчонку, когда тот зарвался, но Другой — еще не значит Чужой.
Лев пустыни (Что в итоге?)
Имя «Наполеон» переводится, как «лев пустыни». Редкое имя. После императора так уже не могли назвать ни одного ребенка, но почему–то и до него это имя в истории не встречается. Словно имя «Наполеон» было припасено лишь для него одного.
Иногда кажется, что этот «лев» все свои великие деяния совершил действительно в «пустыне». Он всегда был в гуще толпы, но он ни когда и ни с кем не составлял единого целого. Не было ни одной хотя бы самой маленькой группы, к которой бы он принадлежал. Как чужд он был всем современным ему монархам. И тем, которые были до него. И тем, которые пришли потом. А он не хотел этого. Он хотел быть органичной частью семьи монархов. А они ошалело смотрели на него и… кивали. Он был очень искренним, открытым, прямодушным, но его души так ни кто и не увидел.
Что же удалось увидеть мне? Ну хотя бы в собственной душе? Как хотите, но теперь я считаю, что мое восхищение императором не входит в противоречие с моей православной верой. Может быть, я ошибаюсь? Сохраняется ли вероятность того, что меня, как человека грешного, просто завораживает в Наполеоне торжествующая греховность? Боюсь, что такая вероятность сохраняется. Меня успокаивает только одно: лучше ошибиться, оправдывая человека, чем ошибиться, обвиняя его. Если я не все понял, и даже если не уловил главного, во всяком случае могу повторить слова Лермонтова, сказанные им, впрочем, по другому поводу:
Не мне судить, виновен ты иль нет. Ты светом осужден? Но что такое свет? Толпа людей, то злых, то благосклонных Собрание похвал не заслуженных И столько же насмешливых клевет.Песни меча и молитвы
Меч должен быть, как молитва, и молитва должна иметь силу меча.
Иван ИльинЧерез тернии к рыцарству
Эпоха жаждет героического эпоса. Когда этот факт со всей неумолимой определённостью возникает перед нами, мы вдруг понимаем, что ничего не знаем о своей эпохе. Ведь мы живем во времена тотальной власти торгашей, которые теперь уже не только регулярно опустошают наши кошельки — они опустошают наши души, и весьма успешно. Всё, что нельзя купить или продать, теперь уже кажется химерой, иллюзией. Если слово «честь» ещё и присутствует в нашем сознании, то лишь с пометкой «архаизм». Люди не хотят верить ни в какие высокие идеалы, потому что их ведь на хлеб не намажешь. Из того, что несъедобно людей интересует разве что шоу — веселенькое, пустенькое, не напрягающее.
Вожди человечества уже празднуют победу брюха над духом, и нет ни каких сомнений в том, что для них это праздник. Те, кто пытается им противостоять в наше время выглядят, как потерпевшие кораблекрушение моряки, которые из последних сил цепляются за обломки корабля посреди безбрежного океана бездуховности.
И вдруг мы понимаем, что наши современники более всего на свете хотят слышать героические сказания о великих подвигах бесстрашных воинов. И этот запрос носит массовый характер совершенно вопреки эпохе или вопреки нашим представлениям о ней.
***
Потрясающий успех Джона Толкина на наших глазах становится всё более потрясающим. Десятилетие за десятилетием популярность Толкина только возрастает. А ведь Толкин рассказывает нам о героях, которые жертвуют собой ради блага других людей. Романы Толкина — яркая проповедь христианских идеалов. Как–то все это не очень актуально? А вот поди ж ты…
Герои Толкина — великие воины — блистательны. Но среди них нет рыцарей. Это даже немного странно. По логике у Толкина должны быть рыцари. А их нет. Объяснение, наверное, в том, что, создавая свой мир, Толкин взял за основу ту эпоху, когда рыцарства ещё не было, он отталкивался от древнегерманского эпоса. Нелепо упрекать за это великого христианского художника. Один человек не может сделать всё. Значит, кто–то должен был пойти дальше.
И вот Джордж Лукас создает великую рыцарскую сагу — «Звездные войны». Опять ошеломительный успех. Не извольте сомневаться — эпопея Лукаса обязана своим успехом именно тому, что это рыцарская эпопея. Хотя эти рыцари оторваны от родной и привычной почвы средневековья, они носятся где–то в межзвездных пространствах, но они наделены реальными чертами настоящих рыцарей. Особенно Куай Гон. Это рыцарь, будьте уверены.
Но беда Лукаса в том, что он попутал полюса. Для него, как для классического американца, любая борьба между добром и злом — это обязательно борьба между демократией и диктатурой. А поскольку рыцари джедаи — блистательны и великолепны, то они, по Лукасу, разумеется, на стороне демократии. Вот тут–то у него и ошибка. На галактической почве рыцари вполне–таки выглядят, как у себя дома, а вот на демократической почве — как седло на корове. Главный принцип рыцарства — аристократический — решительно чужд демократии. Демократия уничтожила рыцарство именно потому, что уничтожила аристократический принцип, и ни в какую межзвездную эпоху демократия не может возродить рыцарство, которое по самой своей сути чуждо демократии.
Бедный Лукас предпринял титаническую художественную попытку скрестить две реальности, каждая из которых ему нравится — демократию и рыцарство. Но результат строится на принципиальном неустранимом противоречии и ни какими художественными средствами невозможно сделать эту гибридную реальность внутренне достоверной.
Вполне демократический герой — разве что мастер Йода — большой любитель корнелиста, то есть по–нашему говоря — наркоман. Остроумный Гоблин в своём переводе называет Йоду — Чебуран Виссарионович (- А Чебуран Виссарионович велел мне концентрироваться на добром. — Так ты и концентрируйся на добром, а мочи, кого скажут.)
Парадокс Лукаса в том, что он и любит рыцарство, и даже в значительной степени его понимает, чувствует, но одновременно ненавидит всеми силами своей демократической души — вспомните Дарта Вейдера. Причем, его ненависть к рыцарству выглядит куда более достоверно. Разгадка этого парадокса станет очевидной, когда мы вспомним религиозно–философскую концепцию Лукаса, которая исходит из существования светлой и темной стороны силы. Это типичный дуализм, то есть мировоззрение принципиально антихристианское. А суть рыцарства в полной мере дано понять и почувствовать только христианину.
Мир, в котором не хочется жить
Наконец свершилось. Том за томом, сезон за сезоном перед нами проходят целые вереницы рыцарей. Их образы выписаны человеком, который хорошо знает средневековье. К тому же Джордж Мартин — большой художник. И редкостная шельма.
Мартин знает средневековье даже лучше, чем может показаться на первый взгляд. Например, завязка романа — два вассала восстают против «безумного короля» — очень точно воспроизводит завязку войны Алой и Белой Розы, с той лишь разницей, что в реальности безумный король был просто слабоумным, а безумные зверства были на совести его жены- королевы. Но, создавая свой собственный мир, Мартин ни когда не ограничивается примитивным перетасовыванием исторических фактов, он их переплавляет с изяществом истинного художника, и конечный его продукт — совершенно самобытный сплав, который одновременно с этими выглядит реальнее, чем сама реальность.
К примеру, мир религий, созданных Мартином, ошеломляет тонким чувством и глубоким пониманием религиозных систем, известных средневековью. Ни одна из этих религий не имеет точного буквального соответствия историческим религиям. Нельзя, например, ткнуть пальцем и сказать: «Вот это — христианство». А между тем, черты исторического христианства (разумеется, преломленные через сознание Мартина) мы находим и в религии семерых, и в религии огненного бога, хотя лишь отдельные черты. А религия утонувшего бога кажется куда более скандинавской, чем религия Одина. Кажется, если бы историческим викингам предложили выбрать между этими богами, они выбрали бы утонувшего бога, он мог показаться им ментально ближе. Не надо и объяснять, что от чардрев веет друидами, но религия богорощ — это куда тоньше и элегантнее, чем те обрывки сведений, которые мы имеем об историческом друидизме.
И так у него во всем. Одна только Стена — образ потрясающий воображение. Её никогда не было. Но она на самом деле была. Где–то в потаенных глубинах староевропейской души. И Мартин извлек её оттуда с изяществом истинного художника и мудреца.
Что же в итоге? А в итоге эпопея Мартина несет в себе убийственный, растлевающий душу заряд духовной лжи, даже клеветы — омерзительной и ничтожной. И эта ничтожность тем более убийственна, что выражена с большой художественной силой.
Многие и не раз уже говорили о том, что единственный во всей эпопее «рыцарь без страха и упрека» — это Эддард Старк. Потому он и погибает так быстро, что просто не может существовать в этом мире негодяев. Это не совсем так. Если вы начнете загибать пальца, то вдруг неожиданно обнаружится, что «хороших» людей в мире Мартина не меньше, чем «плохих». Лживая мерзость этого мира вовсе не в том, что он населен мерзавцами, а в том, что это от начала и до конца — клевета на рыцарство.
Рисуя образ Неда, Мартин, похоже, и правда хотел показать нам идеального рыцаря, но получилось очень фальшиво, недостоверно. Его тупая, бессмысленная прямолинейность делает его нежизнеспособным и вызывает не восхищение, а презрительную усмешку. И тут возникает вопрос: а как это лорд Старк мог долго и успешно управляться со своими очень непростыми вассалами, такими, например, как Болтоны? Это внутреннее противоречие между успешностью и беспомощностью разрушает образ, делает его фальшивым, не настоящим. Поэтому не стоит говорить, что Нед Старк там единственный настоящий рыцарь, там нет настоящих рыцарей, потому что Нед — «нелеп и глуп, как вошь на блюде».
Кстати, там ведь есть ещё одна попытка показать «настоящего рыцаря». Это Бриена Тарт. Но Бриена — аномалия, она вызывает не столько уважение, сколько сочувствие, смешанное с усмешкой. Мужиковатая баба, при всем уважении к её прекрасным душевным качествам, это то, чего не должно быть. Похоже, Мартин развивает традицию Сервантеса, показывая нам, что любой, кто пытается следовать рыцарскому кодексу чести, уже смешон, тот кто слово «честь» принимает всерьёз — уже больной на всю голову.
«Настоящие рыцари» для Мартина — это братья Клиганы, очень, кстати, не похожие друг на друга, но оба они — нравственные уроды. Ну бывают ещё «рыцари цветов» — предмет воздыхания девочек–подростков. Но «рыцарь цветов» на самом деле — гомосек, так что девочки вздыхают зря. Возникает ощущение, что Мартин задался целью нагадить в душу всем без исключения «категориям граждан» ни кого не оставив без внимания. Хотя, конечно, Мартин ставит перед собой другую задачу: «показать жизнь, как она есть».
Правда — это ведь всегда мерзость, не так ли? Только ни чего не понимающие в жизни чудаки в розовых очках могут думать, что в жизни есть что–то возвышенное, что надо стремиться к каким–то идеалам, а умные люди прекрасно понимают, что этот мир — стопроцентное дерьмо. Всё чистое — вымысел, всё грязное — правда. «Сказать правду» — значит сказать гадость. Этот тип мировосприятия в наше время превратился уже в стереотип общественного сознания, а Мартин всего лишь — зеркало банальности.
Откуда взялось это мировосприятие? Оно начало развиваться по мере оскудения религиозного сознания. Если человек изгоняет Бога из своей души, он уже становится не способен видеть в жизни ни чего возвышенного и чистого, только низменное и грязное. Такова на самом деле правда обезбоженной души, но такой человек, конечно, думает, что это не его субъективное мировосприятие, а вполне объективная правда. И если такой человек — художник, он начинает транслировать свою собственную обезбоженность на создаваемые им картины. Вот вам и Мартин.
Казалось бы, в мире Мартина великое множество религий, при чем автор тонко в них разбирается и очень интересно расписывает. Но! Обратите внимание! Ни для одного рыцаря, ни для одного лорда, ни для одного короля у Мартина религия не имеет ни какого значения. Ни кто из них не служит высоким религиозным истинам, ни кто не воодушевлен религиозной идеей, они лишь исполняют обряды.
Знаете, почему Эддард Старк — отнюдь не образ идеального рыцаря? Религия для него ни чего не значит. Он поклоняется чардревам, но для него это лишь дань национальной традиции, то есть нечто формальное, ни как ни на что его не воодушевляющее. А между тем, не бывает рыцаря без веры, от попытки такого изобразить веет нестерпимой фальшью.
Но Мартин, прекрасно вроде бы зная, что такое религия, совершенно не представляет, что такое религиозный человек, то есть изобразить рыцаря он не способен, даже если бы и хотел. Вот он делает такую попытку: рыцарь Лансель Ланистер «ударился в религию». И что мы видим? Фанатика с лицом обезображенным ненавистью. Иного типа религиозности Мартин просто не в состоянии себе представить, он уверен, что иного вообще не бывает. Для таких, как Мартин, человек, воодушевленный религиозной идеей, это разве что Савонаролла, то есть Его Воробейшество, а между тем Савонаролла — это как раз дикое и ужасное искажение религиозного сознания. Но для Мартина сама по себе религия — это уже искажение человеческого сознания. Каких же рыцарей мы от него хотели?
Главный секрет успеха эпопеи Мартина как раз в том, что она разворачивается на бескрайних просторах средневековья, и это в общем–то даже не фэнтези, а скорее гиперреализм. А души многих наших современников сейчас как раз тянутся к средневековью, и Мартин утоляет эту жажду, но он отравил предложенный напиток. Мартин как бы говорит нам: «Вы хотите рыцарей? Вот вам, пожалуйста, рыцари. Только не выдуманные, а настоящие». А «настоящие» в его понимании означает — омерзительные.
Не замечали, что у «мудрецов века сего» из всех эпох максимальное отвращение вызывает именно средневековье? Они с удовольствием называют средневековье «темными веками», хотя в исторической науке так называют только раннее средневековье и лишь потому, что об этом периоде мало информации. Но «мудрецам» нравится всё средневековье уподоблять «власти тьмы» и причина тут очень простая. Из всех эпох средневековье максимально религиозно, наиболее пронизано христианскими идеалами. Вот этого–то средневековью и не могут простить, вот потому–то главные персонажи средневековья — рыцари подвергаются такому массированному очернению. Такие, как Мартин, ни когда не простят рыцарству того, что это было христианское воинство.
Мартин вообще не теоретик, а художник, но и с теорией у него всё в порядке, он говорит: «Толкиен, к примеру, придерживается средневековой философии: если король добр, то его земля будет процветать. Но загляните в учебник истории и вы увидите, что всё не так просто. Толкиен утверждает, что Арагорн, став королем, правил мудро и добродетельно. Но Толкиен не задает важных вопросов. Какова, я спрашиваю, была при Арагорне система сбора податей? Как он организовал воинскую повинность? И что насчет орков?»
Это хорошо знакомая концепция, основанная на понимании человека, как экономического животного, когда вся человеческая деятельность понимается, как производная от экономических процессов. Для «экономистов» вопросы налогообложения гораздо важнее того, что происходит в душе человека, потому что от налогов зависит многое, а от души — ни чего, точнее, то что происходит в душе тоже определяется налогами и другими экономическими категориями. А вера — иллюзия, самообман. Поэтому Мартину кажется дикой мысль о том, что между содержанием души монарха и благополучием подданных существует мистическая связь.
Джордж Мартин — это большой художник с низменной душой. Дело не в том, что братья Клиганы не реалистичны. Очень даже реалистичны. В настоящем средневековье таких рыцарей было сколько угодно. Дело в том, что у Мартина все рыцари такие, о том, что могли быть другие, по–настоящему благородные рыцари, он и мысли не допускает. А вот это уже клевета на рыцарство. Низкие люди всегда уверены, что все люди — низкие, что других просто не бывает. Правдивый, объемный, реалистичный мир рыцарства из–под пера такого художника появиться не может.
Ложь Анджея Сапковского
Анджей Сапковский — ещё один большой художник современной Европы. Его «ведьмак» Геральт чрезвычайно обаятелен, харизматичен. Это уже нечто большее, чем просто художественный образ. Геральт уходит в пространство мифа и начинает жить своей самостоятельной жизнью. А миф — не вымысел, это отражение реальных и актуальных сторон человеческой души.
Но кто такой Геральт? Мутант с измененным генотипом, уже не вполне человек. А чем занимается? Решает проблемы за деньги и тем живет. Воистину — герой нашего времени.
В братстве «ведьмаков», к которому принадлежит Геральт, есть некоторые черты странствующих рыцарей, но это принципиально не рыцари. Они борются с чудищами, но им запрещено вмешиваться в дела людей. Они приходят, берут заказ, валят чудище, получают деньги и уходят. Их благородная миссия — это бизнес. В сознании современного европейца нет ни чего реального там, где не звенит золото. Они уверены, что всегда и везде так было, что ни когда и ни где не могло быть иначе. Такие люди ненавидят рыцарство, сам по себе рыцарский идеал им отвратителен, и они готовы всю свою жизнь истратить на то, чтобы доказать: этот идеал не имеет ни какого отношения к реальности.
Сапковский так же, как и Мартин, заморочен средневековьем, их мысли постоянно крутятся вокруг этой эпохи, как язык вокруг больного зуба. Но главное их стремление — максимально наглядно и убедительно показать — ключевые персонажи средневековья — рыцари — это свора отъявленных негодяев. Сапковский приглашает нас в средние века, и мы с радостью принимаем это приглашение, потому что любим рыцарство, но вдруг оказывается, что наш проводник его ненавидит. Мы всё равно с ним путешествуем, потому что нам нравятся «донжоны и драконы», а нам тем временем отравляют душу ядом тотального безверия, потому что именно за этим нас сюда и пригласили.
Рыцарский орден в романах Сапковского — это сборище редкостных мерзавцев. В образы рыцарей пан Анджей, теперь уже напрямую, безо всяких метафор вложил всю свою ненависть, презрение и отвращение к рыцарству.
Итак, ни один из серьезных художников современного Запада, проявляющих интерес к средневековью, оказался не способен ответить на общественный запрос в большой красивой рыцарской эпопее. Казалось бы, тут надо развивать некогда прервавшуюся традицию европейского рыцарского романа, но в том и дело, что к рыцарскому роману европейские художники ещё со времен Сервантеса относятся с нескрываемым презрением.
***
Анджей Сапковский решил поговорить об этом отдельно в своём небольшом опусе «Мир короля Артура». Здесь он возвещает о том, как бесконечно далек от жизни «идеализированный образ благочестивого рыцаря без страха и упрека, несшего ковчежец с мощами на груди и Бога в сердце, рыцаря, который перед боем молился, а после боя, лежа крестом, всю ночь проводит в часовне, с уважением относится к поверженному противнику, не поднимает руки на безоружного, не обидит ни женщины, ни ребенка». Сапковский уверенно утверждает: «В реальной жизни таких рыцарей ни когда не было». Настоящие рыцари были «тупыми и невежественными мясниками», «самыми что ни на есть обычными бандитами, убийцами».
Пан Анджей сокрушается: «Возникали романы о рыцарях, к которым притесняемые дамы слезно обращались за помощью и помощь эту получали, хотя в действительности при виде приближающихся рыцарей все население, а дамы в первую очередь, в панике убегало в леса…»
Печальная картина… Откуда же тогда взялись эти столь далекие от жизни романы? По мнению Сапковского всё очень просто, цикл романов о благородных рыцарях был написан «по заказу Бернара Клервосского». То что средневековый аббат блестяще выполнил функцию министра пропаганды — вот это уже вполне реалистично. Сапковский разъясняет, что это была «фронтальная атака Церкви, рассчитанная на аннексию по сути и до конца светской, а в истоках даже языческой легенды, на использование её в качестве собственного орудия воздействия».
Теперь все ясно. Сначала попы придумали Бога, потом придумали рыцарей, которые в Него верят, и приказали написать о них романы. Осталось лишь одно маленькое противоречие, которое пан Анджей снимает с элегантной легкостью. В жизни ведь тоже иногда встречались рыцари, которые вели себя «по–рыцарски». Откуда же они взялись, если «рыцарское поведение» на самом деле — литературная выдумка? «Отвечаю: они забредали из рыцарского романа… Исторически подтвержденные, чрезвычайно немногочисленные примеры действительно рыцарского поведения восходят к тем временам, когда легенда об Артуре и его верных товарищах из Камелота была уже широко популярна и знакома. Немногочисленные «хорошие рыцари» просто старались подражать своим литературным образцам…»
Пан Анджей уверенно резюмирует: «Миф… творил совершенно фиктивный идеал. Идеал рыцаря, которого ни когда не было».
В наше время идиоты освоили один безотказный способ казаться умными. Надо просто говорить, что все возвышенные идеалы — это сказки, в них верят лишь далекие от реальности наивные простачки, а на самом деле в жизни всё и всегда основано лишь на шкурной выгоде. Если так говорит даже клинический идиот, он уже выглядит почти мудрецом, потому что «кое–что понимает в этой жизни».
Сапковский, конечно, не идиот, во всяком случае — не клинический, но то, что он пишет о рыцарях — это тотальная глупость. Тут срабатывает один удивительный закон: как только безбожник, пусть даже не глупый, начинает рассуждать о христианстве, он тут же провозглашает такую чушь, какой в иной ситуации постеснялся бы и олигофрен.
Если бы ключевое утверждение Сапковского: «В романах действовали рыцари, которых ни когда не было в жизни» было правдой, рыцарские романы являли бы собой потрясающее исключение из всей мировой литературы. А с чего бы? Литература — это всегда отражение жизни, она всегда вырастает на почве реальности, потому что больше ей просто не на чем вырастать. Разумеется, литература по своему переплавляет реальность, перевоссоздает её, иногда — идеализирует, иногда сгущает краски, иногда показывает нам словно под микроскопом то, чего невооруженным глазом и не разглядеть. Но такова и функция литературы. При этом ни в одном романе не может быть ни чего такого, чего совершенно нет в жизни. Даже абсолютно бездарный текст и то отражает некоторые черты реальности. Если же речь идет о книгах востребованных спустя восемь столетий(!) после своего создания, можно не сомневаться — в них рассказывается не только о чем–то в высшей степени реальном, но даже и более того — о вечно актуальном.
Итак, утверждение Сапковского, что рыцарские романы отражают фиктивный идеал и рассказывают нам о рыцарях, которых ни когда не было — абсолютно фантастично, такого даже теоретически не может быть.
Авторы первых романов артуровского цикла Кретьен де Труа и Вольфрам фон Эшенбах сами были рыцарями и свои стихотворные тексты они устно исполняли перед такими же, как и они рыцарями. Эти романы писали профессионалы в расчете на профессиональную аудиторию. К тому же в ту эпоху любой роман воспринимался, как повествование о реальных событиях. А теперь представьте себе, что в зале, где собрались две дюжины «тупых мясников», один из этих «мясников» (которому его «тупость» странным образом не помешала написать красивые стихи) вдруг начинает распевать про каких–то выдуманных рыцарей, которых ни когда не было и быть не могло. Вы представляете себе военную среду? Тогда вы уже слышите, как с мест несется: «Ты че какую херню городишь!?» Такого фантазера забросали бы обглоданными костями и больше уже ни когда не приглашали бы. Даже на охоту не приглашали бы, не то что дурацкие стишки читать, от которых блевать хочется.
Представьте себе, как офицер, воевавший в Афганистане, написал бы роман, в котором рассказывает, как советские офицеры в перерывах между боями увлеченно обсуждают речи Брежнева и приходят к выводу, что у Леонида Ильича каждая мысль гениальна. С таким «романистом» ни один «афганец» и рюмки водки не выпил бы. Или офицер, который прошел первую чеченскую, в своём романе написал бы, как они с друзьями дали клятву отдать свои жизни за великого Ельцина. Такому романисту боевые офицеры просто били бы морду, да ведь такого романиста и представить себе невозможно.
А между тем, рыцарские романы пользовались в рыцарской среде большой популярностью, иначе они просто не могли бы сохраниться до наших дней. Их бы не пели, не записывали, они бы просто забылись, как нечто ни кому не нужное. Причем, иной аудитории кроме рыцарской у этих текстов не было вообще. В монастырях, знаете ли, литературных вечеров не устраивали, и перед крестьянами тоже ни кто не выступал со стихами.
Значит всё–таки «тупые мясники» находили в этих романах что–то своё, родное, до боли знакомое и берущее за душу. Представьте себе рыцаря, который слушает о приключениях Персеваля. Конечно, в жизни он таких ни когда не встречал и сам он не такой. Но он постоянно улавливает в этом образе отдельные хорошо ему знакомые черточки известных ему рыцарей, да ведь и в нем самом есть что–то от Персеваля, ну пусть чуть–чуть, но и это его радует. Он хорошо знает своих братьев по оружию. Один так храбр, что бывало в одиночку бросался на целый отряд, другой ни разу в жизни не обидел ни одну женщину, у третьего была такая любовь, что всё графство пришло в изумление, четвертый религиозен, как монах, и молится, кажется, чаще, чем сражается. Рыцарь находит в Персевале лучшие черты тех, кого лично знает, только собранные в одном образе. У Персеваля столько достоинств, сколько в жизни в одном рыцаре не встретишь, ну так ведь на то и литература.
Конечно, романы льстили рыцарству, но это, как хороший портрет — совсем без лести не обойтись (Ну есть у этого человека безобразная бородавка на щеке, так, может быть, мы эту щеку немного в тень заведем, ракурс поищем) Но портрет может понравиться персонажу только в том случае, если в основном будет похож. Изображенный должен себя узнать, иначе портрет его не обрадует. Изобрази урода писаным красавцем, так он тебе ещё и в морду даст. Так же и рыцарство, коллективным портретом которого были романы, если бы совершенно не узнавало себя в этом портрете, не слушало бы романов — жанр исчез бы, едва родившись, а он просуществовал столетия.
Нам почему–то нравится потешаться над идеалами. Вот, к примеру, коммунисты создали в литературе образ этакого «несгибаемого большевика», а на самом деле это были злобные твари, тупые садисты, которые хотели только грабить, потому что не хотели работать. Или воры, придумавшие какой–то «воровской закон» и даже «воровскую честь», а на самом деле им и в голову не приходило свой собственный закон соблюдать, и ни чего в них не было, кроме жестокости и жадности. Или монахи со своим нестяжанием и целомудрием, которые копят деньги и имеют любовниц. Или самураи, которые носятся со своим «бусидо», а на самом деле цепляются за жизнь, предают своих господ. И под каждое такое «на самом деле» мы готовы привести тысячи примеров, как, например, Сапковский с ехидным сладострастием приводит примеры отвратительного поведения рыцарства, думая, что «открыл глаза» своим читателям.
На самом деле это взгляд убогий, примитивный, основанный на полном непонимании жизни. Правда в том, что корпорация вырабатывает свой корпоративный идеал, корпоративную этику, корпоративные ценности. Это всегда плод коллективного сознания, выраженный теми, кто умеет выражать. А потом значительная часть представителей этой корпорации даже не пытается следовать этому идеалу, потому что идеалу следовать всегда невыгодно, а в любой группе найдется достаточно людей, которые думают только о собственной выгоде. Другие будут пытаться этому идеалу следовать, но не очень успешно, «косяча» на каждом шагу, потому что любой идеал всегда ставит очень высокую планку. И лишь очень немногим удастся воплотить корпоративный идеал процентов эдак на 90. Не более, потому что даже золото ни когда не бывает сотой пробы. А потом убогие скептики тычут пальцем и ехидно хихикают: «Вот, смотрите, они сами своим идеалам не соответствуют, их идеалы — фуфло, выдумка, фикция». Трудно представить себе большую глупость.
Если некие люди, которые поклялись следовать некому кодексу, всё же ему не следуют, это ещё не значит, что этого кодекса не существует, и что ему не следует ни кто. О горах судят по вершинам, и у каждой горы есть своя вершина. Были и большевики, которые шли на муки и на смерть «ради счастья всего человечества». Были и воры в законе, которые, оставаясь нищими, контролировали многомиллионный общак. Были и самураи, ни секунды не думая, умиравшие за своего господина. Были, есть и будут монахи, неукоснительно соблюдающие свои обеты. И рыцари, почти такие же, как в романах, всегда были в жизни.
Разумеется, их было очень мало, потому что людей, воплотивших идеал, всегда очень мало. Так же как среди христиан очень мало святых, хотя святость задана каждому христианину в качестве идеальной модели поведения. Но если в жизни очень мало святых, это ещё не значит, что ни христиан, ни христианства не существует. И если «рыцари без страха и упрека» встречались далеко не в каждом замке, так это ещё не значит, что рыцарский идеал фиктивен. Если разобрать реальных рыцарей на детали и сложить их в коробку, вы всегда найдете в этой коробке все необходимые детали для того, чтобы собрать идеального рыцаря. То из чего идеальный рыцарь состоит, всегда есть в жизни, только оно сильно разбросано, а рыцарские романы всего лишь собирают разбросанное.
На самом деле «фиктивного идеала» даже теоретически не может существовать. Идеал всегда вырастает из жизни, а это значит, что в жизни всегда есть его носители. Не может быть так, чтобы одна корпорация вывела в пробирке некий искусственный идеал и навязала его другой корпорации в качестве нормы поведения. Поэтому утверждение Сапковского, что Церковь выдумала искусственный «кодекс чести» и навязала его рыцарству, чтобы подчинить себе эту вооруженную силу — по сути бредово. Обезбоженное сознание, рассуждая о Церкви, всегда сползает в бред.
Главная ошибка здесь в том, что Церковь воспринимается как внешняя сила по отношению к обществу. Для подобных «мудрецов» Церковь — это сумма попов. На самом деле Церковь — это сумма христиан. А рыцари были христианами. Часть из них была плохими христианами, часть — так себе, а часть — хорошими. И вот эти рыцари, которые были хорошими христианами, выносили в своей душе рыцарский идеал, а те из них, которые обладали художественным талантом, возвестили об этом идеале всему миру. Так и родились рыцарские романы. Это произведение рыцарской души. И это действительно выражение христианского идеала, но извне им ни кто этот идеал не навязывал, это просто было бы невозможно. Не попы воздействовали на рыцарей, а Христос. Но тот, кто не верит во Христа, не может понять, что на самом деле происходило. Отсюда духовное убожество выводов такого талантливого художника, как Анджей Сапковский.
Сублимированная реальность
Не представляете, как часто приходилось встречать в книгах это глупое утверждение, произносимое в умным видом: «Таких рыцарей, каких мы видим в романах, в жизни ни когда не было». Даже люди, которые любят рыцарство, как будто извиняются перед этими «разоблачителями» за свою любовь.
Например, Вадим Татаринов пишет: «Из глубины веков нами унаследовано уважение к рыцарскому кодексу поведения и преклонение перед духом истинного рыцарства. Эту ситуацию не в силах изменить ни какие исторические труды… рисующие средневековую жизнь… как грубое и жестокое существование, основанное на праве силы… и постоянном пренебрежении элементарными нравственными нормами… Истинный рыцарь — это мечта, даже объект веры, а против таких оппонентов бессильны любые факты и рациональные доводы…»
Понимаю, что это было написано из самых добрых побуждений, но в основе такого подхода лежит всё та же клевета на рыцарство, которая стала уже стереотипом общественного сознания. Дескать, мы понимаем, конечно, что средневековая жизнь была груба, жестока и безнравственна, но мы готовы быть глупцами, на которых не действуют ни какие факты и рациональные доводы и продолжаем верить в рыцарство, хотя это, конечно, мечта — то чего в жизни не было.
Пассажи таких вот «адвокатов рыцарства» оскорбляют ещё больше, чем циничное бесстыдство авторов, вроде Мартина и Сапковского. Получается, что если человек уважает рыцарство, то лишь потому, что от его тупой головы факты отскакивают, как от стенки горох, а его ослепший мозг не способен воспринимать доводы разума.
Факты… А в чем они? Разумеется, в Средние века хватало грубости, жестокости и безнравственности, так же как и в любую другую эпоху, включая нашу. И среди рыцарей действительно хватало «тупых мясников», так же, как и среди современных вояк. Но вот скажите мне, такие рыцари как Кретьен де Труа, Вольфрам фон Эшенбах, Робер де Борон — они что, с Марса прилетели? Эти люди — порождение рыцарской среды, они — органичная часть рыцарства. И, судя по их книгам, они не были ни грубыми, ни жестокими, ни безнравственными, их души жили чистыми, возвышенными идеалами.
Есть вещи, которые невозможно подделать. Ни кто не в состоянии сколько–нибудь правдоподобно изобразить веру, если не имеет её. Книги этих рыцарей дышат верой — настоящей, подлинной. А сотни, если не тысячи трубадуров и труверов (все до единого — рыцари!), писавшие такие чистые и возвышенные стихи, что и спустя столетия, кажется, становишься чище, когда их читаешь. Трубадуры и труверы — так же порождение рыцарства, представители той его части, которая не была ни грубой, ни жестокой, ни безнравственной. При этом понятно, что среди лучшей части рыцарства далеко не каждый обладал художественным талантом, то есть в жизни таких замечательных рыцарей было гораздо больше.
Мы сейчас оцениваем средневековье, как будто глядя на него с каких–то невообразимых нравственных высот. На самом деле ни какие факты не подтверждают того, что современные военные менее грубы, жестоки и безнравственны, чем средневековые рыцари. И сейчас вояки порою пописывают. А мы почитываем. И что–то не видим в их книгах ни каких возвышенных идеалов. Чаще всего эта военная проза — продукт капитально покалеченной психики. А теперь возьмите рыцарские романы — книги, которые вышли из средневековой военной среды. И вы увидите, насколько средневековые военные духовно и нравственно выше современных.
Жан Флори ближе к истине, когда говорит: «В литературе рыцарство выходит на свет Божий в XII веке. Такая литература отчасти, конечно, искажала отображаемую ею действительность, но в то же время она служила «идеологическим проявителем» рыцарства. Она отображала этот мир таким, каким она хотела бы его видеть, и само рыцарство принимало это изображение с энтузиазмом… Действительное поведение рыцарства, наверное испытывало на себе воздействие этого идеала, который был сублимированной реальностью, её моделью, в которой отпущены некоторые неприглядные подробности оригинала».
Вот максимально точное определение того, в каких отношениях находятся рыцарские романы и историческое рыцарство: эти романы — сублимированная реальность. Надо лишь сделать маленькую оговорку: литература (так же как и искусство вообще) это всегда сублимация реальности, в этом суть искусства. Даже самые крайние формы реализма, рождавшиеся с претензией на то, чтобы показать «жизнь такой, какая она есть» — это тоже сублимация реальности. Художественное творчество не может быть фотографично, потому что тогда это уже не творчество. Впрочем, в наше время даже фотограф так тщательно выбирает ракурс, освещение и прочее, что и это уже творчество, и фотография тоже сублимирует реальность, потому что иначе будет не интересно. Прогуляйтесь по какому–нибудь запущенному саду, а потом посмотрите серию фотографий талантливого мастера из этого сада, и вы увидите две разных реальности, но хотя бы в этом случае вы не станете спорить с ним, что реальность на самом деле одна и та же.
И тогда не понятно, почему мы считаем нужным делать все эти оговорки по отношению именно к рыцарской литературе, хотя это относится к литературе, как таковой. Да потому что со времен Сервантеса затрачено такое невообразимое количество усилий на «развенчание рыцарства», что спорить с результатами этих усилий на прямую уже ни кто не решается. Вот и Жан Флори, вполне понимающий, о чем речь, всё же делает глупую оговорку о том, что рыцарская литература, «отчасти, конечно… искажала действительность», хотя из других его слов как раз и следует, что это отнюдь не искажение, а перевоссоздание, переплавка, сублимация.
Удивительное дело, ни кому не приходит в голову говорить, что таких рыцарей, каких мы видим в романе Сенкевича «Крестоносцы» на самом деле ни когда не было. Хотя Сенкевич, ни во что не вникая и ни чего не пытаясь понять, просто переливает в художественные формы свой ясновельможный гонор. Сенкевич всего лишь соскабливает грязь с поверхности предмета и все рукоплещут — наконец–то нам рассказали правду. Мы просто уверены в том, что грязь — всегда правда, а чистота- всегда выдумка.
Когда мы наконец поймем, что скептическая ухмылка отнюдь не признак интеллекта, чаще всего её можно увидеть на лицах очень глупых и мало знающих людей. Мне бы собственно хотелось лишь одного — чтобы вы отнеслись к образам рыцарской литературы максимально серьезно, без этой ухмылки, которая только позорит понимающего человека.
Рыцарская литература — это фотографически точное изображение рыцарской души. Образы рыцарей, которые создали сами рыцари, предельно честно отражают вектор духовного развития рыцарства. Это то, к чему они стремились, и какими они отчасти на самом деле были.
Однажды я спросил у седого полковника налоговой полиции, как он относится к сериалу «Маросейка 12», который посвящен работе его ведомства. Полковник ответил: «Отдельные ситуации вполне могли иметь место. Хотя в жизни всё намного прозаичнее». Мне кажется, так же мог отозваться о рыцарских романах поседевший в битвах рыцарь. Конечно, в жизни всё намного прозаичнее, все это понимают. Хотя… отдельные ситуации вполне могли иметь место.
Кроме прочего, утверждение «в романах рыцари — хорошие, а в жизни они были плохие» — лживо в обеих своих частях. В рыцарской литературе плохих рыцарей более, чем достаточно. Не знаю, кто и когда придумал, что в романах все рыцари идеальны, все они «без страха и упрека». Это враньё. И Жан Флори совершенно напрасно пишет о том, что в рыцарской литературе «отпущены некоторые неприглядные подробности оригинала» (Представление о том, что романы идеализируют рыцарство настолько сильно, что под его влияние попадают даже знатоки предмета) На самом деле в рыцарской литературе столько «неприглядных подробностей» о рыцарстве, что в клевете и необходимости–то ни какой нет.
Скверные рыцари в романах
«Король Марк проехал совсем немного, как ему повстречалась группа рыцарей, служивших при дворе короля Артура. Он постарался объехать их, поскольку знал их обычай вызывать на поединок любого незнакомого рыцаря».
Ну вот скажите, что это такое? Рыцари Артура — они что — шайка хулиганов, которые не пропустят мимо себя ни одного прохожего, пока не набьют ему морду? Да ведь они такими и были. Отчасти. Во всяком случае — некоторые из них. Как и в жизни.
Мальчишкам надо смело драться
Им по ночам девчонки снятся.
Юные задиры просто не могут жить без драки. Им всё равно с кем драться и по какому поводу, лишь бы девчонок (сиречь «прекрасных дам») привести в восхищение. Они вообще–то благородные ребята, придет время и они без страха пойдут на смерть за что–нибудь очень возвышенное, а до тех пор резвятся, как жеребцы, и дурят, порою не столь уж и безобидно.
Религиозны ли они? Если честно, то не очень. Конечно, они христиане и, как положено, ходят к мессе, но вера занимает в их душах очень мало места. А вот бабы — это для них всё.
«Гавейн тут же заговорил о любви, поскольку всё иное казалось ему сущей чепухой и напрасной тратой времени. Он немедленно поклялся девушке в нежной страсти, и пообещал, что будет её рыцарем, пока жив».
Сколько таких клятв раздал этот шельмец? Гавейн — классический бабник. В этом мало возвышенного. А ведь Гавейн — один из лучших рыцарей Артура и вообще — одна из ключевых фигур артуровского цикла. Да, он храбр, силен и слово «честь» для него — не пустой звук. Гавейн ни когда не ударит в спину и не нападет на безоружного. Но в том, что касается духовной составляющей, Гавейн очень обычный и даже заурядный человек. Таких, конечно, и в жизни было полно.
«— Как жаль, — сказал Гавейн, — что я не сразу отправился этой дорогой. Тогда бы я встретился с Галахадом, и мы вместе смогли бы совершить множество подвигов.
— Сэр, — заметил один из монахов, — ты ему плохая компания. Ты грешен, а он — благочестив. Сэр Гавейн, тебе надо искупить грехи.
— Нет, — сказал Гавейн, — ни чего я не буду искупать. Мы, рыцари, и так в своих странствиях терпим лишения и боль».
Такое религиозное легкомыслие весьма удручает, и похоже, что оно достаточно типично для рыцарства. А ведь там полно рыцарей и куда похуже Гавейна. Взять хотя бы сенешаля Кея. Гнилой мужик. Трусоват и благородством не блещет. А помните, как он ударил в ухо девушку только за то, что она не ко времени засмеялась? Да со всего–то размаху… Хорош «защитник дам». А ведь он, между прочим, сенешаль, то есть первый человек в придворной иерархии короля Артура.
Но и Кей — ещё далеко не предел скверного поведения литературного рыцарства. Там такие кадры встречаются… Один только «презренный рыцарь Брюс Безжалостный» чего стоит. Если бы мы перечислили все злодейства вышеозначенного Брюса, так Мартин и Сапковский просто остались бы без работы.
Если же мы покинем двор короля Артура и обратимся к циклу, посвящённому императору Карлу Великому, то легче не станет. Там даже сын императора — Карлот, наследный принц, который должен быть примером всему рыцарству — негодяй из негодяев. «Император слепо благоволил своему сыну и хотел, чтобы бароны и пэры признали Карлота своим сувереном. Однако, принц пользовался такой дурной славой за свою лживость и жестокость, что совет категорически отверг предложение императора».
А ведь есть примеры и куда пострашнее. «Гомарда был закоренелым безбожником. Он заключил с бесами феодальный договор, отдавшись им душой и телом. Когда приблизился смертный час, он решил сам себя убить, чтобы умереть отступником. Он сел на корабль и направил его прямо на скалы. Его спутники начали призывать Господа, но он убил их и стал призывать дьявола. Корабль разбился о скалы, а Гомарда, уже умирая, всё кричал: «Сюда, демоны, сюда, я ваш вассал я предаюсь вам…»»
Да, иные бароны–разбойники вполне могли доходить до откровенного сатанизма, о чем нам известно из рыцарской литературы, которую трудно упрекнуть в идеализации рыцарства. А вот ещё один литературный рассказ о развратном и нечестивом рыцаре, который презирал всё, чему учила Церковь.
Однажды пришла ему в голову прихоть исповедоваться, но вовсе не потому, что он раскаялся в своих грехах, а скорее, чтобы посмеяться над священником. Разумеется, он отказался исполнять епитимью, тогда священник, прекрасно понимавший, что происходит, предложил ему исполнить епитимью очень легкую: «Наполни вот этот маленькой бочонок водой, и все грехи тебе простятся», Рыцарь согласился, опять же скорее из смеха, но вскоре ему стало не смешно. К какой бы реке или источнику он не подходил, вода отступала прочь, стоило ему погрузить в неё свой бочонок. Он ездил по всей земле, из упрямства пытаясь найти такую волну, которая не бежала бы перед ним — все было тщетно. И вот однажды, через год таких странствий, он без сил упал на берегу разом обмелевшего ручья и вдруг вспомнил все свои страшные преступления. Его душу обожгло такое страшное раскаяние, что он зарыдал. Одна его слеза упала на дно бочонка, и он тут же наполнился до краев.
Думаю, не один суровый рыцарь, чья душа огрубела в бесконечных междоусобицах, выслушав эту легенду, украдкой смахнул слезу, вспомнив все свои преступления. И это была та самая слеза, которая разом наполняет сосуд Божьего милосердия.
Вот чего ни как не могут понять мудрецы века сего: рыцари были христианами. Порою, очень плохими христианами, но двери Божьего милосердия всегда были для них открыты, и многие рыцари входили в эти двери.
Смерть Ланселота
Ланселот Озёрный вне всякого сомнения — первый рыцарь Круглого стола. А это значит, что он лучший в мире рыцарь. Если верить романам. А им стоит верить. Но его так и хочется назвать Ланселотом Озорным. Ведь это рыцарь — косяк. Он преступил одну из важнейших рыцарских заповедей — верность сеньору. Ланселот ни чего не мог поделать со своей безумной любовью к королеве, да эта любовь ещё на беду была взаимной, и вышло совсем плохо. Ланселот — один из самых трагических образов мировой литературы. Неустранимое противоречие между верностью королю и любовью к королеве заставляло сокрушаться тысячи сердец.
Не станем пересказывать перипетии отношений Ланселота и Гиневры, они и так хорошо известны. Но не все знают, что Бог в конечном итоге спас этих двух грешников. Они заслужили прощение. И это в их истории — самое главное.
Отшумела последняя битва между королем Артуром и Мордредом, король покинул этот мир. Между Ланселотом и Гиневрой больше ни кто не стоял. Вы думаете, они бросились друг другу в объятия? Но ведь это же не современный сериал. Это история людей совсем другого качества. Покинувший мир король встал между ними теперь уже навсегда — неустранимый, как сама честь.
Ланселот странствовал. Однажды он ехал по темному лесу наугад, не разбирая дороги. И вдруг увидел перед собою каменный крест. Оглядевшись, заметил часовню. Он подошел и постарался через окно увидеть, что там внутри. Глазам предстал прекрасный алтарь, богато украшенный шелковой тканью. Ещё он увидел красивый подсвечник с шестью большими свечами. Ланселоту очень захотелось войти в часовню, но, как это ни странно, входа он так и не нашёл. Утомленный рыцарь прилег рядом с крестом отдохнуть, положив голову на щит.
Потом он уже и сам не мог понять, то ли спал, то ли бодрствовал, когда рядом с ним прошли две красивые белые лошади, между которыми были закреплены носилки с больным рыцарем. Всё было словно во сне, но сознание Ланселота сохраняло полную ясность. Он увидел, как, поравнявшись с крестом, лошади остановились и услышал, как рыцарь, лежащий на носилках, сказал: «О, милостивый Господь, когда же эта печаль оставит меня, и когда передо мной появится священный сосуд, чтобы я мог исцелиться?»
И вот перед крестом появился подсвечник с горящими свечами, хотя рядом не было ни кого, кто мог бы его сюда принести. А потом, так же сам по себе, появился серебряный поднос, на котором стоял Святой Грааль. Тогда больной рыцарь сел и, подняв обе руки, произнес: «Милостивый Господь, Который в этом священному сосуде, внемли моим мольбам и избавь меня от этого тяжкого недуга». Рыцарь с большим трудом на коленях, помогая себе руками, приблизился к Святому Граалю и поцеловал его. И тут же, исцелившись, встал на ноги. А священный сосуд вновь вернулся в часовню вместе с подсвечником, и стало так темно, что Ланселот больше ни чего не увидел. Но отчетливо услышал голос исцелившегося рыцаря: «Хвала Господу, вернувшему мне здоровье. Но как странно видеть здесь спящего рыцаря, который так и не проснулся, когда здесь был Святой Грааль. Наверное, он отягощен каким–то смертным грехом, в котором ни когда не исповедовался».
Ланселот ни чего не мог ответить этому рыцарю, язык не слушался его, а когда он наконец пришёл в себя, всё вокруг было уже обычным, а рыцаря не было. Долго бродил Ланселот рядом с крестом, удрученный и подавленный. Он думал про себя: «Мой грех и моя порочность довели меня до великого позора. Я искал земной славы, земных утех и всегда находил их. Я всюду одерживал верх и побеждал — и тогда, когда был прав, и тогда, когда не был прав. И вот грехи мои привели к тому, что я ни как не смог себя проявить — ни словом, ни действием, когда Святая Кровь явилась предо мной».
Так, терзаясь раскаянием, Ланселот провел у креста целый день, а потом побрел в чащу, сам не зная зачем. И тут он увидел жилище старого отшельника, который готовился к молитве. Когда старец совершил молитву, Ланселот попросил его исповедовать грешного рыцаря, в чем ему не было отказано.
Ланселот рассказал старцу обо всех когда–либо совершенных им грехах, и о том, как многие годы безмерно любил королеву. «Почти все свои подвиги я совершил во имя королевы, я всегда бился только за неё, я ни когда не сражался во имя Господа, а лишь во имя славы и ради того, чтобы быть любимым ещё больше. И я ни когда не воздавал за то хвалу Господу».
Старец видел, как сильно раскаяние Ланселота, но он видел и то, как сильна его страсть к королеве. Отпустив Ланселоту грехи, он сказал лишь:
— Пообещай не видеться с королевой столько, сколько сможешь.
— Я ни когда больше не буду видеться с королевой, — спокойно ответил Ланселот, в душе которого вера в Бога понемногу брала верх над страстью.
Ланселот отправился на поиски Святого Грааля и вот наконец добрался до большого красивого замка. У входа в замок стражи не было, только два льва. И тут Ланселот услышал голос, приглашавший его войти в замок. Он пошёл через ворота, ни чего не опасаясь, но, когда проходил мимо двух грозных львов, многолетняя боевая привычка взяла верх — он выхватил меч. В тот же миг его руку пронзила такая боль, что меч упал на землю, и раздался голос:
— О, неверующий, который больше полагается на силу меча, чем на силу Создателя.
— Милостивый Господь, — смиренно ответил Ланселот, — благодарю Тебя за великое милосердие, за то, что покарал за поступок мой. Теперь я знаю, что Ты принимаешь меня, как слугу своего.
Рыцарь перекрестился и благополучно прошел между львами. Он бродил по замку, но все двери в нем были закрыты. Одну из них он попытался открыть, но у него не получилось. И тут до него донеслось такое сладкое пение, которое не могло принадлежать ни одному земному существу. И он услышал голос: «Возрадуйся и почти Отца Небесного».
Ланселот встал на колени и сказал: «Милостивый Господь, если я хоть раз что–то сделал ради Тебя, то сжалься и покажи мне хоть краешек того, что я ищу». Тогда дверь стала приоткрываться и чертог наполнился таким светом, словно в него внесли все факелы мира. Рыцарь хотел войти в чертог, но голос остановил его: «Стой, Ланселот, не входи».
Рыцарь попятился, голова его отяжелела. Он заглянул внутрь чертога и увидел там серебряный стол и священный сосуд на нем, покрытый красной парчей, а над ним парило множество ангелов. Тогда, позабыв обо всем, он шагнул внутрь чертога и тут же почувствовал огненное дыхание, которое с такое силой ударило его в лицо, что он повалился без чувств.
Утром слуги подобрали Ланселота. Он пролежал без сознания 24 дня. Очнувшись, рыцарь сказал тем, кто за ним ухаживал: «Я видел такое, что невозможно описать. Благодарю Господа за ниспосланную мне милость, ведь я знаю, что не достоин был это видеть».
И вот Ланселот опять едет на коне, сам не знает куда. Поиски Святого Грааля закончились, королева теперь существует только в его душе, Круглого Стола больше нет. Конечно, он хотел ещё раз увидеть королеву, но, опаленный благодатью Божией, больше к этому не стремился.
И вот он увидел на своём пути женский монастырь. Едва вступив за его ворота, он тут же увидел королеву в монашеской рясе. Гиневра, увидев своего возлюбленного, тут же потеряла сознание, а когда очнулась, сказала ему: «Умоляю тебя, во имя любви, которая когда–то была между нами, чтобы ты не встречался больше со мной. Но не забывай меня в своих молитвах, чтобы душе моей было спокойно».
Ланселот был готов к этим словам, он и сам понимал, что теперь они оба должны посвятить Богу остаток своих дней. Рыцарь ответил своей прекрасной даме: «Я выбираю такую же судьбы, как и ты, чтобы радовать Господа и служить Ему».
Ланселот недалеко отъехал от монастыря и увидел в лесу жилище отшельника с маленькой часовней, небольшой колокол которой как раз звал на службу. Он простоял службу, а потом встал на колени перед отшельников и попросил его стать ему братом. Отшельник согласился, вскоре облачив Ланселота в рясу. «Первый рыцарь» стал день и ночь служить Господу в постах и молитвах.
Борс долго искал Ланселота, а когда нашёл, захотел остаться вместе с ним. Через полгода к ним присоединились и другие рыцари, теперь они жили в лесу целой общиной.
Однажды во сне Ланселот услышал голос, сказавший ему, что он должен отправиться в женский монастырь, и предупредивший: он не застанет королеву в живых. Ланселот тут же бросился к монастырю… Ему сказали, что королева умерла лишь полчаса назад. Ланселот долго глядел на её лицо. Он не уронил ни единой слезинки, только тяжело вздыхал. Всю ночь он молился над гробом королевы…
После похорон Ланселот почти ни чего не ел и через 6 недель слег. Исповедовавшись и причастившись, он отдал Богу душу. Тело его отвезли в замок Веселой Стражи. На его похороны съехались чуть ли не все рыцари королевства. Все хотели попрощаться с легендой. В часовне замка тело до похорон пролежало 15 дней.
Думаю, что и нам было бы о чем поразмылсить на могиле Ланселота. И было бы о чем помолится.
Простодушный Персеваль
Персеваль вырос, ни чего не зная об окружающем мире. Его мать больше всего на свете боялась, что он станет рыцарем, и тогда она потеряет его навсегда. Поэтому он ни чего не знал ни о рыцарстве, ни о войне. Мать лишь сообщила ему самые простые представления о религии, как о том рассказывает возвышенный Вольфрам:
— Скажи мне, мать, что значит Бог? — Моё любимое дитя, Тебе отвечу не шутя: Он, Сущий в Небесах от века, Принявши облик человека Сошёл на землю, чтобы нас Спасти, когда настанет час. Светлее Он дневного света, И ты послушайся совета: Будь верен Богу одному, Люби Его, служи Ему. Укажет Он тебе дорогу, Окажет Он тебе подмогу, Мой добрый мальчик дорогой. Но помни: есть ещё другой, Се — черный повелитель ада Его всегда страшиться надо, Предстанет он в обличьях разных, Чтоб ты погряз в его соблазнах. Убойся их! От них беги! И верность Богу сбереги! Так отличишь ты с юных лет От адской тьмы небесный свет.Так он узнал о жизни самое главное, но мало ли в жизни путь и не главного, но тоже очень важного, без чего не проживешь. А Персеваль был совсем не готов встретиться с реальностью.
Однажды он гулял в поле недалеко от дома и услышал страшный грохот. Сначала он подумал, что к нему приближаются бесы, а потом увидел, что навстречу ему скачут пять рыцарей, вооруженные с головы до ног. Их длинные копья и щиты сверкающие на солнце золотом и лазурью, привели его в восхищение. Всадники поражали стройностью, красотой и величием.
«Ах, Господи, Ты послал ко мне ангелов, а я совершил тяжкий грех, подумав, что это бесы. Мать говорила, что ангелы — самые дивные среди всего сущего, кроме, конечно, Бога, Который прекраснее всех. Похоже, среди этих ангелов есть Сам Бог. Мать учила меня, что мы должны чтить и славить Бога, поклоняться Ему. Что ж, я склонюсь перед Ним и перед теми, кто служит Ему».
Персеваль упал на колени и стал читать «Символ веры». Предводитель рыцарей решил, что бедняга в ужасе и, чтобы успокоить его сказал:
— Не стоит бояться.
— Мне ли бояться Спасителя, в Которого верую. Вы ведь Бог?
— Честно говорят, нет.
— Тогда кто вы?
— Рыцарь.
— Ни когда не чего не слышал о рыцарях… Ах, если бы мне стать похожим на вас, стать столь же блистательным, как вы!
Современному читателю реакция Персеваля на первое появление рыцарей может показаться абсурдной даже по меркам очень простодушного человека, но для средневекового сознания это, скорее, метафора, причем вполне оправданная. Простому сельчанину рыцари действительно казались существами из иного мира. Они и выглядели так, как не может выглядеть обычный человек, и жизнь вели не доступную пониманию крестьянина. Рыцарь для них — это другое качество человека. Далеко ли отсюда до вопроса о том, человек ли он вообще? Рыцарь Кретьен де Труа, выписывая эту сцену, должно быть, с улыбкой вспоминал свои реальные встречи с крестьянами.
Итак, Персеваль тот час решил стать рыцарем, мать поняла, что его не остановить, и дала ему на дорогу важные наставления.
— Настоятельно прошу вас посещать церкви и монастыри, дабы молиться Господу нашему.
— Матушка, что такое церковь?
— Место, где совершают служение Тому, Кто создал небо и землю, а так же людей и животных.
— А монастырь, что это?
— Так называют красивый замок, где живут монахи, которые отреклись от мира и полностью посвятили себя служению Богу.
— Ну что ж, теперь я с большой охотой буду посещать церкви и монастыри.
— Дорогой сын, пусть Господь сопровождает вас всюду и дарует вам больше радости, чем сейчас оставляет мне.
Персеваль был прирожденным рыцарем, он вписался в рыцарскую среду сразу же, как только появился при дворе короля Артура. И рыцарского посвящения ему не пришлось долго добиваться.
«Дворянин взял меч и посвятил храброго валлийца в Рыцарский Орден — наивысший Орден из всех, когда либо созданных милостью Самого Господа — Орден, который не терпит ни какой низости. «Дорогой брат, — сказал он Персевалю, — если вам придется сражаться с рыцарем, и он, не в силах больше защищаться, попросит пощады — не убивайте его ни в коем случае. Встречая на своём пути мужчин и женщин, оказавшихся в беде, спешите им на помощь. Посещайте храм, молитесь усердно Господу нашему, просите Его спасти вашу душу и сохранить вас на земле истинным христианином».
Духовно–рыцарские Ордена, едва успев появится, уже подарили возвышенное наименование Ордена всему рыцарству. Был ли Персеваль достоин этого Ордена, «который не терпит ни какой низости»? Нет. Его душа, открытая для всего доброго, так же легко впускает в себя зло. Он бросает мать, даже не думая о том, какое горе ей причиняет, и с тех пор ни разу не вспоминает о ней, ни разу не пошлет весточку. А ведь она умерла от горя, а он об этом даже не узнал. Первый же свой «подвиг» — убийство благородного рыцаря Итера Красного, Персеваль совершает лишь для того, чтобы завладеть доспехами, ни на секунду не задумываясь о том, что убивает человека, который ни в чем перед ним не виноват.
И вот он совершает ошибку, которая будет иметь страшные последствия. Перед ним пронесли Святой Грааль, а он не спросил, что это. Он не спросил и о том, что случилось с больным королем, который принимает его у себя. Он будто бы выполняет рыцарскую заповедь — не задавать лишних вопросов, но заповедь эту выполняет столь формально именно потому, что ему наплевать на всех, кроме себя, любимого. Какой же это рыцарь?
А между тем, он совершает великие подвиги, которые восхищают весь мир, но душа его всё больше наполняется пустотой, и вот он уже становится не столько борцом со злом, сколько его носителем. Закономерный итог — Персеваль восстает против Бога.
Сколь слаб и немощен Всевышний! Служить Ему? Нет! Труд излишний! Я верен был Ему и предан, И я обманут Им и предан. Кто на Него усердье тратит, Тому Он ненавистью платит. Я ненависть Его приму, Но боле не служу Ему.Бедный, глупый Персеваль. Ни когда он не служил Богу, а только самому себе. И ни когда Бог не предавал его, он сам себя предал, более того — он предал рыцарство. Богоборческий бунт самовлюбленного глупца не проходит бесследно, он теряет рассудок, больше вообще не понимая, кто он такой и совершенно забывая о Боге.
Однажды случилось так, что пересекая пустыню в полном вооружении, Персеваль встретил трех рыцарей, они сопровождали десять женщин, одетых в грубые одежды и босых. Один из рыцарей остановил Персеваля и спросил:
— Скажите, сир, веруете ли вы в Господа нашего Иисуса Христа? Если так, то неправедно носить оружие в тот день, когда Христос был распят.
— Что сегодня за день? — спросил безумный Персеваль, вообще не понимающий, о чем идет речь.
— Как, сир, вы не знаете? Сегодня страстная пятница.
— Но откуда вы едете?
— Неподалеку в лесу живет отшельник, это святой человек.
— Но что вы у него делали?
— Ну как же, сир, — удивилась одна из женщин, — мы просили у него помощи и совета, да исповедовались в грехах наших. Мы исполнили то, что должен сделать любой христианин, если он хочет придти к Богу.
Бесхитростные слова женщины неожиданно проникли в сердце Персеваля, и он разрыдался, как ребенок, решив, что должен тотчас отправится к святому человеку. Он брел, с каждым шагом припоминая всё новые и новые свои грехи, и слезы текли по его щекам. Добравшись до пещеры отшельника, Персеваль рухнул ему в ноги, умоляя о помощи. И отшельник принял его исповедь.
«Вот уже пять лет я не знаю, на каком свете я живу. Я забыл о Боге, я только и делал, что неустанно творил зло. Я впал в тоску, и даже призывал к себе смерть. Я отчаялся до такой степени, что ни когда не молил Бога о милосердии, и ни чего не делал, чтобы заслужить Его прощение…»
Отшельник принял исповедь Персеваля и сказал ему:
Бог — это Верность, посему Будь верен Богу одному. Бог — истина, к безбожью Идут, спознавшись с ложью. Добро есть свет, а зло есть тьма, И коль ты не сошёл с ума, Внемли сему совету: Вернись к добру и свету. Будь в вере тверд и чист в любви, И даром Бога не гневи Ни грубым богохульным словом, Ни благолепием дешевым.Вместе с мудрыми словами отшельника в душу Персеваля проникла благодать Божия. Впервые за много лет, он почувствовал мир и покой. Они с отшельником поужинали простыми лепешками с чистой родниковой водой, а на следующий день рыцарь с большим смирением причастился.
Только теперь Персеваль стал настоящим рыцарем — рыцарем веры. Он совершил ещё не мало славных подвигов, и теперь он сражался только во славу Божию. Его душа прошла через страшные искушения и закалилась в столкновении со злом. Теперь Персеваль знал, что главный рыцарский подвиг — победить зло внутри себя.
Галахад, рыцарь–ангел
Мы видим, что даже лучшие рыцари романов отнюдь не идеальны. Образы Ланселота и Персеваля — трагичны. Их души полны грехов, с которыми они борются, причем, не всегда успешно. В их жизни есть периоды, когда грех завладевает их душами безраздельно. Это положительные герои ровно постольку, поскольку им с Божьей помощью удается победить в себе грех.
Собственно говоря, во всей Граалиане есть только один идеальный рыцарь — Галахад. Именно поэтому он выглядит, как бесплотная тень. Галахад не совершает грехов, не допускает ошибок, ни на градус не уклоняется от верного курса, который, судя по всему, ему хорошо известен. Поэтому нам трудно воспринимать его, как живого человека. Хочется, как юный Персеваль, сказать: «Наверное, это ангел».
Галахад был сыном Ланселота, но рос без отца. О том, кто и где его вырастил мы имеем очень туманные сведения. В этом вопросе мы опасаемся полностью доверять сэру Томасу Мэлори, слишком уж много несусветных подробностей громоздит сэр Томас одна на другую.
Итак, мы впервые встречаем Галахада, когда некий старец приводит его ко двору короля Арутра. Старец подвел юного рыцаря к «погибельному сидению» за Круглым Столом, поднял покров, и открылась надпись: «Это место сэра Галахада, высокородного принца». Галахад без малейших колебаний сел на погибельное сидение, а рыцари Круглого Стола в один голос воскликнули: «Вот рыцарь, который достигнет Святого Грааля, ибо прежде ни кому не удавалось сюда сесть, не навлекши на себя несчастья».
Король Артур с любовью и тоской смотрел на Галахада. Он видел перед собой лучшего рыцаря Круглого Стола, но он знал, что этот рыцарь сел за их знаменитый стол в первый и последний раз — отправившись в странствие, он уже не вернется.
И вот Галахад уже скачет на коне. К исходу четвертого дня он достиг белого аббатства. Там его встретили с большим почтением и проводили в покои, где он снял доспехи. Потом монах повел его за алтарь, показав висящий там щит, белый с красным крестом. Монах сказал, что этот щит может взять только самый достойный рыцарь в мире, и посоветовал Галахаду во избежание беды не прикасаться к щиту. Но Галахад взял щит себе. И в этом жесте не было ни какой надменности или горделивой самоуверенности, лишь спокойное осознание своего права.
Монах понял, кто перед ним, и повел Галахада к гробнице, от которой иногда исходил такой страшный шум, что иные, услышав его, лишались рассудка. Едва юный рыцарь подошел к могиле, как оттуда раздался крик: «Сэр Галахад, слуга Иисуса Христа, не подходи ко мне, иначе ты принудишь меня возвратиться туда, где я пребывал уже столь долго». Галахад всё так же спокойно отодвинул надгробную плиту, из могилы вырвался зловонный дым, а следом выпрыгнуло мерзкое существо. Галахад понял, что перед ним — дьявол. «Сэр Галахад, я вижу вокруг такое количество ангелов, что не могу употребить против тебя свою силу».
В могиле все увидели мертвого рыцаря, и Галахад сказал монаху: «Любезный брат, распорядитесь перенести отсюда это тело. Этот рыцарь не достоин лежать в ограде церковного кладбища, ибо он не был истинным христианином»,
Вот так незатейливо начались рыцарские приключения Галахада. Потом он долго ездил по свету и вот однажды оказался на горе, где стояла старая ветхая часовня. Он преклонил перед распятием колени и воззвал к Богу о добром наставлении. Не успел он закончить молитву, как услышал голос: «Ступай в Девичий замок и положи конец его злым обычаям». Вскоре встретившийся Галахаду старец объяснил: «На замке лежит проклятие, равно как и на его обитателях, ибо сострадания там не ведают, там процветает зло и жестокость».
Галахад поскакал к замку, из ворот которого ему навстречу выехали семь рыцарей. Один из них закричал: «Зачем ты сюда приехал? Мы можем предложить тебе только смерть». Но Галахад атаковал разом семерых. Одного он вышиб копьем из седла, шестеро других одновременно ударили копьями в его щит, но он удержался в седле и набросился на них с мечом. Рыцари поняли, что им не справиться с Галахадом, они бросились к воротам замка и тотчас покинули замок через другие ворота.
Когда Галахад въехал в замок, к нему подошел священник и сказал: «Сэр, примите ключи от замка.» Потом священник рассказал освободителю историю Девичьего замка. Однажды семь рыцарей воспользовались местным гостеприимством, а потом убили герцога, овладели всеми сокровищами и запугали всех рыцарей этого края, а простой люд грабили немилосердно. Ни один рыцарь и ни одна дама, заехавшие в замок, уже не могли его покинуть — они убивали всех.
Галахад собрал окрестных рыцарей, заставил их принести вассальную клятву дочери герцога, которой удалось выжить, и с чистым сердцем покинул Девичий замок. Он долго странствовал, везде восстанавливая справедливость, и вот однажды к нему подошла девушка, попросившая его последовать за ней. И попросила она об этом так, что Галахад пошёл за ней, не говоря ни слова. Они пришли на берег моря, девушка показала рыцарю на корабль, который стоял у причала.
Галахад вступил на борт, а там его уже ждали Борс и Персеваль. Друзья ни сколько не удивились этой встрече и сдержанно приветствовали друг друга. А ветер погнал корабль в неведомые дали, и через некоторое время их прибило к берегу, где у причала стоял другой корабль. На его борту было написано: «Остерегитесь вступить на этот корабль те, кто не тверд в вере, ибо вам не будет помощи от Бога.»
Кто измерил собственную веру? Смирение подсказывает нам, что её не стоит переоценивать, а жизнь требует, чтобы мы поступали так, словно наша вера тверже алмаза. Галахад, перекрестившись, взошёл на корабль, за ними — Борс и Персеваль. В каюте на ложе они обнаружили меч, рядом с которым была надпись: «Ни один не возьмет этот меч, кроме единственного, который превзойдет всех остальных». Никто из них не посмел прикоснуться к мечу, и тогда Персеваль тихо сказал Галахаду: «Этот меч — твой». Галахад лишь взглянул в глаза друга и, поцеловав клинок, помолившись, взял меч.
Когда они сошли не берег, на них тут же набросились десять рыцарей, предложивших друзьям сдаться или умереть. «Много же вам придется похлопотать, прежде, чем мы вам сдадимся», — с улыбкой прошептал Персеваль. Рыцари оказались упорными, друзья были вынуждены всех изрубить мечами. Они были очень печальны от того, что им пришлось впасть в такой грех. Давно уже прошло время жестоких ребяческих забав, когда им могла понравиться подобная мясорубка.
И тут к ним вышел старик — священник. Увидев десять трупов, он сказал:
— Проживи вы даже до конца света, всё равно не совершить вам второго такого же доброго дела.
— Я весьма раскаиваюсь в их смерти, ведь это были крещеные люди, — сокрушенно сказал Галахад.
— Нет, не раскаивайтесь. Эти рыцари держали в заточении родного отца, разрушали храмы и убивали священников.
Друзья освободили из заключения старого графа, который сказал Галахаду: «Ты сполна отплатил врагам Господа, теперь же надлежит тебе отправиться к Увечному Королю, который через тебя получит исцеление».
И вот после долгого странствия через Мертвый лес, они достигли наконец замка Корбеник. Король Пелес сказал: «Сэр Галахад, я рад видеть тебя. Давно терплю я невыносимые муки и страдания, но теперь я верю, что пришел срок моего исцеления».
Тут они услышали, как распахнулись двери дальнего покоя и внутри увидели ангелов. Два ангела держали восковые свечи, третий — платок, а четвёртый — копье, с которого чудесным образом бежала кровь. Два ангела поставили свечи на престоле, третий опустил платок на священную чашу, а четвертый установил копьё стоймя на крышке чаши. Тогда, не весть откуда появившийся там епископ, приступил к освящению Даров. В тот же миг явился Отрок с лицом, как огонь, и вошёл в просфору, и все увидели, что просфора — из плоти человеческой.
«А теперь, — сказал епископ, — вкусите пищу за этим столом». Он взял священную чашу и приблизился к Галахаду. Тот преклонил колена и принял причастие, а следом за ним — остальные. Тогда епископ велел Галахаду намазать кровью со священного копья Увечного Короля. Галахад так и сделал, и король совершенно исцелился. Так, наконец, свершилось то, к чему призван был в своё время Персеваль, не сумевший исцелить короля, не оказавшийся этого достойным. И вот наконец великий мистический жест совершен, если и не руками Персеваля, то во всяком случае с его участием.
Друзьям было велено взять чашу с собой, с ней они вернулись на корабль. Галахад сказал Персевалю: «Когда узрели мы толику чудес Святого Грааля, душа моя испытала такую радость, какой, думаю, не знал смертный человек».
Вы, конечно, поняли, что совершил Галахад. Он «всего лишь» причастился Святых Христовых Тайн. А ведь католикам–мирянам запрещено было причащаться Крови Христовой. Представляете, что значила для них Чаша? Ради Святого Грааля они преодолевали немыслимые лишения и лишь немногим из них удавалось прорваться к Святой Чаше.
Друзья, наконец, достигли города, в котором им, хранителям Чаши, надлежало поселиться. Король той страны первым делом бросил их в темницу и приказал не кормить. Но Святой Грааль питал их в темнице целый год. Вряд ли они когда–нибудь были настолько счастливы, как в течение этого года.
Через год король умер, жители города освободили рыцарей и провозгласили Галахада королем. Но Галахад не долго царствовал, он уже не хотел оставаться в этом мире. Однажды утром на молитве его душа отлетела ко Господу. Борс и Персеваль похоронили его без слез.
Персеваль ушёл в монастырь. Борс был с ним. Через два года Персеваль умер, а Борс вернулся ко двору короля Артура и обо всем рассказал.
***
У меня нет для Галахада слов, потому что в Галахаде нет страстей. Описывать страсти легко, как нечто хорошо известное, а вот как описать бесстрастие? Впрочем, слова для Галахада нашлись у Виктора Смирнова: «Галахад обладает мужеством и смирением, простотой и величием. Его утонченная одухотворенность и красота превращают юного рыцаря скорее в ангела, чем в человека».
Так насколько реалистичны рыцари из романов? А насколько реалистична святость в мире, переполненном страстями? Насколько реалистична чистота, в мире, где всё заляпано грязью? Насколько реалистична любовь, в мире, который дышит ненавистью? И всё–таки этот мир не просуществовал бы и трех лет без святости, чистоты, любви, без всего того, что имеет источником Бога. Тот, кто видит в этом мире только страсти, грязь и ненависть, не видит того, на чем этот мир держится. Не видит Бога. А кто не видит Бога — тот не видит рыцарства и не понимает рыцарских романов.
Романы — икона рыцарства. Это не живопись. В романах рыцарство очищено не от плохого, а от случайного. Это изображение сути, а не мелких повседневных деталей. Рыцарские романы рассчитаны на тех, кто умеет видеть суть вещей, а губы верхоглядов всего лишь кривятся от скептической ухмылки. В романах не лишка правды, но истины в них куда больше, чем в исторических хрониках.
Виктор Смирнов пишет: «Господи, где грань между жизнью и вымыслом? Почему король Артур важнее для нас и ближе нам, чем десятки королей и императоров? Почему мы помним имена Галахада и Персеваля и с затруднением вспоминаем имена пап и кардиналов, живших в XII–XIII веках? Кто живее из них: те, которые пришли к нам из текстов Граалианы, или другие, реально дышавшие, евшие, жившие? Иногда кажется, что живее те, кто чище.»
Роланд не зовет на помощь
Образ графа Роланда — пограничный между литературными и историческими рыцарями.
С одной стороны, у главного героя «Песни о Роланде» есть исторический прототип, и источником вдохновения для автора «Песни» послужили исторические события. Летописец Карла Великого Эйнхард сообщает, что в 778 году король франков предпринял первый поход для освобождения Испании от мавров. Захватив несколько городов, Карл дошел до Сарагосы, но здесь встретил сильное сопротивление и вынужден был повернуть назад. Во время отступления арьергард франкского войска попал в засаду в Ронсевальском ущелье (Пиренеи), где был атакован басками и уничтожен. В этом бою погиб один из пэров короля маркграф Бретани Хруодланд. Сюжет «Песни» в основном соответствует хронике, разве что баски превращаются в сарацин.
Но, с другой стороны, «Песнь», написанная в XII веке, то есть через 400 лет после этих событий, воспроизводит совершенно иную психологическую, духовную реальность. Самое главное отличие — во времена Карла Великого ещё не было рыцарства в привычном для нас понимании. Тяжелая кавалерия уже была, но ещё не успела стать рыцарством. Между тем, автор «Песни» создает образ рыцаря, путеводной звездой которого является честь. Этот образ безусловно принадлежит XII, а ни как не VIII веку, и в этом смысле граф Роланд — чисто литературный персонаж.
Роланд — образцово–показательный, можно сказать — классический рыцарь, а между тем это сложный, неоднозначный образ, не все его качества представляются достоинствами даже его лучшему другу графу Оливье. Вот император думает, кого отправить послом к сарацинам.
Роланд промолвил: «Я отправлюсь в путь».
Граф Оливье в ответ: «Не быть тому, Надменны вы, ваш нрав не в меру крут, Вы ссору там затеете, страшусь.»Надменный и слегка припадочный тип — это классический рыцарь? Боюсь, что да. Но именно такой рыцарь максимально опасен для врагов. Когда предатель Ганелон сговаривается с сарацинами, он объясняет, почему Роланда надо остановить:
Ответил Ганелон: «Французы с ним, Они ему верны, а он им мил, Он не жалеет золота для них, Им брони, мулов, щёлк, коней дарит. Готов он сделать всё, что Карл велит, Хоть до Востока покорит весь мир».Роланд — солнечная, щедрая, беспредельная натура. Его очень любят, но даже друзьям бывает с ним тяжеловато. Каково же тогда врагам? И вот они уже в Ронсевальском ущелье.
Роланду молвил Оливье: «Собрат, Неверные хотят на нас напасть». «Хвала Творцу! — ему в ответ Роланд, — За короля должны мы грудью встать. Служить всегда сеньору рад вассал, Зной за него терпеть и холода, Кровь за него ему отдать не жаль. Пусть каждый рубит нехристей сплеча, За нас Господь, мы — правы, враг — не прав, А я дурной пример вам не подам».Душа Роланда такая же прямая, как и его меч. Для него всё просто. Вопросов у него нет и размышлять ему не о чем. Смерть для него — давно пережитое событие. Приближение смерти не только не возвещает ни чего особенного, но и как будто ничего нового. Но ведь можно позвать на помощь основные силы короля. Это не проблема. И в этом нет позора. Но Роланд не хочет.
Граф Оливье сказал: «Врагов — тьма тем, А наша рать мала, сдается мне, Собрат Роланд, трубите в рог скорей, Чтоб Карл дружины повернуть успел». Роланд ответил: «Я в своём уме, И в рог не затрублю, на срам себе, Нет, я возьмусь за Дюрандаль теперь По рукоять окрашу в кровь свой меч. Пришли сюда враги себе во вред, Ручаюсь вам, их всех постигнет смерть… Не дай Господь и ангелы святые, Чтоб обесчестил я свой край родимый Позор и срам мне стращны — не кончина Отвагою, вот чем мы Карлу милы».Граф Оливье и сам храбрец, которого никто не заподозрит в трусости. Это человек чести и верный вассал. Но ведь все же прекрасно понимают: в том, чтобы протрубить в рог, призывая на помощь — нет ни какого позора и срама. Но представления Роланда о чести — запредельны. От себя и от окружающих он требует куда больше, чем требует рыцарский обычай. А, может быть, это просто запредельная гордыня? Собственно, об этом и «Песнь».
И ведь за Роландом последовало всё войско, как один. И в Ронсевале разыгрывается ошеломляющая религиозная мистерия.
Турпен — архиепископ взял в галоп, Коня пришпорил, выехал на холм, Увещевать французов начал он: «Бароны, здесь оставил нас король, Умрем за государя своего, Живот положим за Христов закон… Покайтесь, чтобы вас простил Господь, Я ж дам вам отпущение грехов. Вас в вышний рай по смерти примет Бог, Коль в муках вы умрете за Него» Вот на колени пали все кругом, Турпен крестом благословил бойцов, Епитимью назначил — бить врагов.И вот тут вдруг начинаешь понимать Роланда. Может быть, и стоило пожертвовать жизнью ради участия в таком великом подвиге веры? Когда души рыцарей словно слившись в единую душу, устремились на смерть ради Христа, когда они уже чувствовали на своих лицах дыхание Вечности, неужели они променяли бы этот невероятный порыв на заурядное спасение своих жизней?
Вот граф Роланд по полю битвы скачет, И рубит он и режет Дюрандалем, Большой урон наносит басурманам, Взглянуть бы вам, как он громит арабов, Как труп на труп мечом нагромождает, И руки у него в крови, и панцирь, Конь ею залит от ушей до бабок… «Жесток удар!» — воскликнули враги. «Я ненавижу вас» — Роланд кричит — Мы служим правде, вы злодеи — лжи.»Вот в том–то всё и дело. Ради короля умирать не стоило. Ради короля стоило сохранить войско. Но Роланд служит правде, а ради правды стоит умереть. Смерть за правду так славно венчает жизнь, что лучшей смерти и желать нельзя. Почему люди хотят избежать такой замечательной смерти? Роланд не понимает этого, а Оливье не понимает Роланда.
Спросил Роланд: «Чем вы так недовольны?» А тот ответил: «Вы всему виною, Быть смелым мало, быть разумным должно, И лучше меру знать, чем сумасбродить. Французов погубила ваша гордость, Мы королю уж не послужим больше, Подай вы зов, поспел бы он на помощь.»А, может быть, прав благоразумный Оливье, считающий, что не стоит погибать тогда, когда можно выжить? Может быть, действительно Роланд всего лишь принес гигантскую жертву своей сумасбродной гордыне? Но ведь поступку Роланда есть и другое объяснение. Характерная рыцарская черта — ощущение полной личной ответственности за всё. Рыцарь не привык перекладывать свою ответственность на других. Мысль о том, чтобы спрятаться за чью–то спину, не просто невыносима для рыцаря, она для него неестественна. Если король доверил Роланду прикрывать отход войска, Роланд должен выполнить задачу. Он не может обратиться к королю: «Я не справляюсь, помогите». Он должен справиться любой ценой. Это сфера его ответственности. А тут гордыня вроде бы уже и не причем.
Арьергард выполнил свою боевую задачу, французы разгромили многократно превосходящие их силы противника, но и сами полегли все до единого. Жив лишь смертельно раненый, уже умирающий Роланд.
Взглянул на склоны мрачные Роланд, Везде французы мертвые лежат По–рыцарски их всех оплакал граф: «Да упокоит Бог, бароны, вас, Да впустит ваши души в светлый рай…» Спят на траве все пэры вечным сном, А подле них лежит Турпен–барон, Архиепископ и слуга Христов… Роланд оплакивает Турпена: Вам со времен апостолов нет равных В служенье нашей вере христианской, В умении заблудшего наставить. Пусть вашу душу Бог от мук избавит, Пред нею распахнет ворота рая.В душе Роланда нет сожаления. И перед смертью, оплакивая павших товарищей, он не считает себя виновником их гибели. Мысль о том, что он поступил неправильно, не посещает его. И разве произошло что–то плохое? Целый корпус рыцарей ушёл на Небеса.
Граф Роланд принимает истинно христианскую кончину, он умирает с покаянной молитвой на устах:
«Да ниспошлет прощение мне Бог, Мне, кто грешил и в малом и большом, Со дня, когда я был на свет рожден По этот для меня последний бой…» Вновь просит опустить ему грехи: «Царю небес, от века чуждый лжи, Кто Лазаря из мертвых воскресил, Кем был от львов избавлен Даниил. Помилуй мою душу и спаси, Прости мне прегрешения мои». Он правую перчатку поднял ввысь Приял её архангел Гавриил. Граф головою на плечо поник И, руки на груди сложив, почил.Смерть Роланда исполнена светлого трагизма. Граф, как бы он не жил, умер так, как надо. Он победил.
В какой–то момент «Песни» начинает казаться, что её безымянный автор скорее на стороне благоразумного Оливье, чем безрассудного Роланда, но когда он показывает нам смерть Роланда, как смерть христианского мученика, мы понимаем, что автор и себе желает такой смерти.
Впрочем, автор (и сам, безусловно — рыцарь) воздерживается от окончательных суждений. Заметно, что граф Оливье ему так же дорог, как и главный герой, он ни в чем не упрекает того, кто предлагал позвать на помощь. Так, может быть, всё–таки, прав Оливье, а не Роланд? Мне кажется, даже тогда, когда на земле останутся всего два рыцаря, они будут продолжать спорить об этом. Один скажет: «Так всё–таки нельзя». А другой ответит: «Только так и надо».
Рождение рыцарства
Вопрос о том, когда рыцарство появилось на свет, не так уж прост. Рыцаря называли либо латинским словом «милес» — воин, либо французским «шевалье» — всадник, но воины и всадники раннего средневековья далеко ещё не соответствуют классическим представлениям о рыцарстве. Значение слов, обозначающих рыцаря, развивалось и усложнялось до тех пор, пока не породило новое качество. А историю смыслов проследить куда сложнее, чем историю фактов. Можно относительно точно сказать, когда у франков появилась тяжелая кавалерия, но сказать, когда она стала рыцарством гораздо сложнее. Рыцарство — это не только определенный образ боя, и даже не только определенная этика. Рыцарство — это прежде всего определенная ментальность. А историей ментальностей у нас всерьез никто не занимался.
Рыцарство, как уникальный тип мировосприятия, формировалось в течении 5–6 столетий в результате взаимодействия самых разнообразных факторов. Первый из них — в V веке Европа оказалась почти без власти. Многочисленные германские вожди держали за собой столько земель, сколько им позволяла их сила. Между собой эти вожди, как правило, находились в состоянии вражды, общего управления не было. Полный хаос не может длиться долго, вожди пытаются договариваться, вырабатывать ну хоть какие–то принципы взаимодействия, примерно, как бандиты на сходняках. А договариваться они могли только как абсолютно равноправные суверены.
Франки не могли заменить римскую государственность на свою германскую государственность. У них никогда не было государства, они очень смутно представляли, что это такое. В противоположность римскому, германское общество — это община воителей, превыше всего ставящая боевую доблесть и владение оружием. В эту общину свободных людей доступ был открыт только через инициацию, включавшую клятву над обнаженным мечом. Власть и сила в сознании франка сливаются. Властью обладает тот, кто лучше всех владеет мечом, в силу чего сможет подчинить себе максимальное количество воинов, с помощью которых будет контролировать максимальную территорию. Каждый владеет тем количеством земли, которую может удержать при помощи собственной вооруженной силы.
И вот тут происходит слияние двух реальностей, которые никогда не сливались в римском мире — земельный собственности и власти над этой землей. Римлянин мог владеть на правах собственника сколь угодно обширными землями, но он не был на своих землях сувереном, не обладал властью. Суверен в римском мире был только один — римское государство. Между тем, самый мелкий вождь франков обладал полной властью над той землей, которую контролировал с помощью собственной вооруженной силы. На своей земле он был маленьким государем, сувереном, даже если контролировал всего с десяток гектар. Вот уже и прозвучал первый звоночек, возвестивший о рождении рыцарства, до которого, впрочем, оставалось ещё полтысячи лет. «Человек с мечом» заменил собой органы государственного управления. Хорошее владение мечом само по себе давало власть, аналогичную государственной.
Как ни странно, франки среди прочих германских племен меньше всего ценили кавалерию. Они воевали преимущественно пешими, и все свои победы в Западной Европе они одержали при помощи пехоты. Но этот народ оказался талантливым подражателем. Став господами Галлии, франки постепенно развивают у себя кавалерию. Развивают до того, что слово «дворянин» и слово «лошадь» стали отличаться у них только одной буквой («шевалье» и «шеваль») Уже у Карла Великого мы видим тяжелую кавалерию, прототип рыцарской, которая постепенно стала основным родом войск. Это ещё далеко не рыцарство, но это уже второй звоночек, возвестивший о его грядущем рождении.
Служба в тяжелой кавалерии требовала безумно дорогого вооружения и коня особой породы, тоже весьма недешевого. Особая манера ведения боя требовала длительных тренировок, начинать которые лучше всего с раннего детства. Эти обстоятельства способствовали превращению тяжелой кавалерии в аристократическую элиту. Самый мелкий вождь франков и без того имел самоощущение абсолютного монарха, ибо не знал над собой ни какой власти, потому что её в общем–то и не было. И всё–таки в бою разница между пешим вождем и его пешими подданными была не столь уж велика. А если вождь на коне в безумно дорогих доспехах, которые никто из подданных не может себе позволить, а даже если бы кто–то из подданных и спер доспехи, он всё равно не может в них воевать, разница между вождем и подданными многократно возрастает, и представление вождя о собственном достоинстве возрастает пропорционально. Он, может быть, и правит всего парой–тройкой деревень, но все крестьяне этих деревень, собравшись вместе, не смогут одолеть в бою его одного.
Самая низовая, мелкая аристократия ещё больше суверенизируется, начинает чувствовать свою отдельность, обособленность, начинает воспринимать себя, как людей другого качества. Если у римлян слово «милес» означало просто солдата, теперь оно означает уникального воина — всадника. Но это по–прежнему ещё не рыцарство.
Когда чуть ли не каждый сотый человек в стране имеет самоощущение монарха, государству очень трудно появиться — идет обратный процесс. Территория дробится на всё более и более мелкие сеньории. Единственным реальным центром власти становится замок, а в нем отряд вооруженных людей. Количество замков резко возрастает, потому что реально можно осуществлять власть лишь над окрестностями замка. Личность рыцаря суверенизируется ещё больше. Он и так уже — крепость на коне, благодаря своим доспехам, а теперь вокруг его личности возникает второй кокон — крепкие стены замка. Теперь полноценный рыцарь — это шателен («шатель» — замок).
Е. Ефимова пишет: «Рыцарский замок — это особый мирок, который живет на своей скале совершенно обособленной жизнью, почти не общаясь с другими такими же мирками. Один–два раза в год наезжают сюда вассалы и гости, а остальное время обитатели замка проводят в затворничестве. Поездка в гости представляет целый военный поход, так как дороги опасны, непроходимы и кишат разбойниками. При такой затруднительности сношений между различными местностями и почти при полном отсутствии торговли, всё изготовляется дома, руками своих мастеров, которые жили в замке. Крестьяне обрабатывали поля и платили оброк».
В таких условиях постепенно формировалась средневековая аристократия. Она не просто не похожа на римскую аристократию, в её основе лежит принцип диаметрально противоположный римскому. В Риме даже сенатор из древнего рода — не более, чем винтик государственной машины, сам по себе он — никто. Перестав быть частью государственной машины, он теряет всю свою силу и всё своё достоинство, даже если сохраняет огромные богатства. В Средние века даже самый мелкопоместный рыцарь — это суверенный правитель, осуществляющий на своей территории высшую власть. В Римском мире вообще нет фигуры, равной по достоинству рыцарю. Рыцарь выше даже римского императора, потому что императорская власть черпала силу в совокупной силе всей империи, а власть рыцаря в замке на скале черпала силу только в самой себе. Император не может существовать без империи, а власть рыцаря не претерпит вообще никакого ущерба, даже если провалится под землю весь мир в радиусе пяти миль от его замка. Такого феномена в истории Европы не существовало ни «до», ни «после».
Менталитет формируется очень медленно. Века уходят на то, чтобы определенные условия сформировали определенный психотип. И вот примерно к XI веку процесс формирования рыцарской ментальности был почти завершен. В этой ментальности всё взаимообусловлено, и всё уходит корнями в глубь веков. И рыцарская этика, тот «кодекс чести», о котором так много говорят — это производная от рыцарской ментальности, о которой не говорят вообще ни чего.
Взять хотя бы рыцарскую верность слову. В мире, где все обманывают всех, невозможно просто собраться, договориться и сделать так, чтобы с завтрашнего дня уже никто не обманывал никого. На формирование представлений о том, что слово чести дороже золота и крепче стали уходят века. И если мы отмотаем ситуацию на века назад, то вдруг увидим, что «слово чести» было просто необходимым условием выживания посреди всеобщего хаоса. В условиях государства обманщика карает государство, олицетворяющее собой общий для всех закон. А если нет закона и нет государства? Если воля человека с мечом и есть закон? В таких условиях мир не может существовать вообще, потому что воля, то есть закон, может меняться каждый день. Для того, чтобы придать миру хотя бы относительную стабильность, надо придать слову человека с мечом большой вес. Сила однажды произнесенного слова должна стать такова, чтобы её не мог преодолеть тот, кто это слово произнес. В любой корпорации, не имеющей возможности опираться на силу государства, удельный вес произнесенного слова становится очень высок. Такой корпорации не на что опереться, кроме нерушимости данного обещания, и любого, кто не держит слова, она карает изгнанием из своих рядов.
И представление о том, что рыцарь должен быть защитником слабых — это не из книжек, не из нашептываний прекраснодушных гуманистов, это даже не влияние Церкви. Это продиктовано неумолимыми условиями выживания, это требование крайней жизненной необходимости. В нашем мире — каждый сам за себя, а государство — за всех, оно и призвано защищать слабых, опираясь на общий для всех закон. Но когда закона нет, а есть только право сильного, либо сильные будут защищать слабых, либо все перережут всех за пару лет. Отсюда требование крайней насущной необходимости: человек с мечом должен защищать человека без меча.
Рыцарский кодекс чести — это не выдумка поэтов, это заменитель уголовного кодекса. Нет писаного закона — должен действовать неписанный, иначе все дружно накрываются медным тазом. Не бывает прав без обязанностей, не бывает власти без ответственности. Не потому что это хорошо, а потому что иначе — ни как. Когда нет специальных сил правопорядка, каждый человек с мечом не просто обязан, а вынужден защищать «вдов и сирот». Он может делать это плохо, но вовсе этого не делать не может. Конечно, в том мире полно было скверных рыцарей, осуществлявших насилие исключительно в личных интересах (как и сейчас полно таких ментов и копов), но вся корпорация не могла бы отказаться от своей социальной ответственности уже хотя бы из соображений самосохранения — в полном хаосе не выжил бы никто.
Таково, на мой взгляд, происхождение «рыцарской чести». Свод правил поведения, первоначально осознанных, как требование насущной необходимости, постепенно становится главной ценностью корпорации. За полтысячи лет эти правила растворяются в рыцарской крови. И тогда (только тогда!) рождается рыцарство. Честь становится уже не просто личной добродетелью, но моральной ценностью рода. Каждое поколение должно хранить и приумножать это коллективное достояние. Славное поведение предков морально принуждает следовать поданным примерам. Таков итог этого чрезвычайно сложного и длительного процесса.
В 1098 году Гийом Рыжий, взяв в плен множество рыцарей из Пуату и Ле — Мана, обращался с ними уважительно, велел развязать им руки, чтобы они могли достойно поесть. Его подчиненные высказали сомнение в разумности такого послабления, он им резко возразил: «От меня далека мысль, что истинно доблестный рыцарь может нарушить данное слово. Если бы он такое сделал, то стал бы навсегда презренным существом, поставленным вне закона».
В XII веке европейская аристократия имела уже достаточно интеллектуальных сил для того, чтобы четко сформулировать интуиции минувших веков. Джон Солсбери пишет: «Обязанность рыцарства состоит в том, чтобы оберегать Церковь, карать вероломство, охранять слабых от несправедливости, обеспечивать мир в стране и проливать кровь свою за братьев своих…» И это не благое пожелание, а отражение реальности. Рыцарство не могло не играть эту роль.
Итак, рыцарство родилось из ментальности франков, а так же особенностей общественного бытия и характера власти в V–XI веках. Но! Параллельно с процессом осознания вождями франков своей роли в этом мире, шел ещё один процесс: воцерковление Европы. Эти два процесса совпадают по времени, они тесно переплетаются, они не отделимы один от другого. Рыцарство родилось из переплетения этих процессов, слившихся в один.
Когда Хлодвиг в V веке отверг арианство и принял православие, мягко говоря, ни чего не изменилось. Перемена церковной юрисдикции и исполнение других обрядов ни на что не повлияли в душах франков и ещё очень долго не могли повлиять. Потребовались века на то, чтобы христианство, уже во многом определявшее внешнюю сторону жизни, начало определять внутреннюю жизнь души. Как рыцарский кодекс чести, долго оформлявшийся в коллективном сознании воинов франков, ещё дольше растворялся в их крови, так же и Евангелие, сначала принятое формально, потом осознанное разумом, постепенно растворяется в крови, и эти люди уже не просто делают то, что велит Церковь и не просто думают так, как предписывает Церковь, они уже и дышат так, как это свойственно христианам, они воспринимают реальность по- христиански.
Бесчисленное количество современных авторов с простодушной наивностью далеких от Церкви людей демонстрируют полное непонимание глубины этого процесса. Человек может быть крупнейшим знатоком средневековья, но если это человек нецерковный, он так ни чего в средневековье и не поймет, потому что будет иметь дело лишь с внешними проявлениями тех процессов, внутренний смысл которых ему не доступен. Если, скажем, группой людей движет вера во Христа, человек, во Христа не верящий, не может понять, что происходит, он объяснит действия этой группы причинами, ему понятными, но не имеющими к делу никакого отношения. Внутренняя логика поступков христианина может быть понятна только христианину, а таковых среди современных авторов, прямо скажем, не лишка.
К примеру, Жан Флори пишет о том, что военную идеологию германских племен «Церковь постаралась обуздать, поставить под свой контроль и направить в желательном направлении». Дело представляется так, что хитрая и ловкая церковь сумела заарканить дикого и буйного жеребца рыцарства, напела ему в уши сладких слов, заставила ходить под церковным седлом, и теперь этот жеребец хоть и по–прежнему диковат, но всё же управляем. Церковь и рыцарство представляются здесь, как две принципиально различных силы, одна из которых подчинила себе другую. Принципиальная порочность этого представления в непонимании того, что рыцарство было частью Церкви, а не силой от неё отдельной. Представьте себе барона 20 поколений предков которого молились Господу Иисусу Христу. Такой барон может быть куда лучшим христианином, чем иной аббат, и его действия ни как не определяются тем, что поет ему в уши аббат, он делает то, к чему призывает его Христос.
Флори продолжает: «Рыцарство появилось на свет, как плод слияния двух совершенно несовместимых идеалов, формально противоположных, но тянущихся один к другому — идеала христианской веры и военного идеала германского язычества».
Это утверждение звучит почти комично. Несовместимые идеалы потому так и называют, что их невозможно совместить, если же они оказались совмещены на практике, значит, они никогда и не были несовместимыми. Потому рыцарство и не появилось в VI–VII веках, что воины франки, формально приняв христианство, в душе оставались язычниками. А в XII веке, когда рыцарство окончательно сформировалось, в душах французов от германского язычества уже и близко ничего не было. А в военном идеале как таковом нет ничего несовместимого с христианством. Честь и вера не просто совместимы, глубоко и тонко понимаемая честь — это часть веры. Противоречат христианству лишь искажения воинского идеала, так же как и воинскому идеалу противоречат лишь искажения христианства.
Жан Флори продолжает настаивать: «Из элементов, взятых в разное время в разных пропорциях и под разными именами, складывается идеал, предлагаемый рыцарю прежде всего Церковью, которая настойчиво распространяет свою собственную идеологию, затем светской аристократией, которая связана с рыцарством кровными узами, и в противостоянии церковному влиянию выдвигает на первый план свойственные только ей способы чувствования, действия и мышления».
Вот как бы объяснить этому медиевисту, что христианин и аристократ — это один человек, а не два разных человека. Ни какой «светской аристократии» в средние века не существовало, вся аристократия была христианской, а христианин не станет противостоять церковному влиянию, если не страдает раздвоением личности.
Разумеется, Евангелие и рыцарский кодекс чести — не одно и тоже, но это собственно о разном под одним и тем же углом зрения — надо быть нормальным человеком, а не скотиной. Конечно, каждый профессионал приходит в Церковь, имея личные психологические особенности, сформированные его профессией, так же и рыцари. Но что в рыцарских особенностях может быть противоречащего Евангелию? Антихристианских профессий не бывает. Бывают профессиональные болезни души, но это именно болезни, а не профессиональные идеалы.
Итак, одним из факторов, сформировавших рыцарство, как военно–властную корпорацию, было христианство, а не «Церковь», понимаемая, как сумма попов. Меч — отец рыцарства, Церковь — его мать. Сам факт наличия двух родителей не несет в себе противоречия. Разумеется, мужское начало заметно отличается от женского, но без союза этих двух начал, извините, ничего не рождается.
Рыцарство — едва ли не единственная в истории человечества корпорация, которая не только никогда не была нехристианской, но и не может быть нехристианской даже теоретически. Дело в том, что развитие рыцарского психотипа шло по пути суверенизации личности, но, если этот процесс довести до полного логического завершения, мы получим классического сатаниста — существо максимально суверенизированное. Но сатанизм по сути своей деструктивен, лишен созидательного начала. Ни сатанинского общества, ни сатанинского государства существовать не может. А ведь рыцарство было главным гарантом стабильности в средние века и худо–бедно справлялось с этой задачей. Так вот это только благодаря следующему факту: в архитектуру рыцарской души было изначально вмонтировано христианство, которое четко обозначило пределы суверенизации личности.
Империя может существовать без Христа, мы знаем тому множество примеров. Рыцарство без Христа существовать не может, потому что быстро превратится в разрозненных маньяков–сатанистов, ни один из которых не может думать ни о чем, кроме себя. Такие особи не способны создать устойчивую группу даже из трех человек, не то что контролировать всю Европу.
Рыцарство находится в центре между двумя полюсами: крайняя десуверенизация личности, олицетворяемая стадом баранов или армией зомби–рабов, и крайняя суверенизация — разрозненные одиночки–деструкты. Только христианство не позволяет рыцарству окончательно скатиться во вторую крайность, а без этого «держателя» рыцарство и появиться не могло.
Даже рыцарские ритуалы носят «чисто светский» характер лишь до тех пор, пока рыцарства–то собственно и не было. Когда же рыцарство оформляется, его ритуалы уже христианские.
После строгого поста и нескольких дней, проведенных в молитве, кандидат в рыцари исповедался и причащался. Потом он одевался в белые одежды и шёл в церковь, при этом на шее у него висел меч, который священник благословлял, а затем возвращал кандидату. Получив «рыцарский удар» от посвящающего рыцаря, кандидат слышал: «Во имя Господа нашего, архангела Михаила и святого Георгия, делаю тебя рыцарем. Будь отважен, учтив и верен».
С конца XI века рыцари получают свой меч с алтаря, на котором его предварительно освящают. Рыцарю говорят: «Прими с Божьего благословения этот меч, да обретет он с помощью Духа Святого такую мощь, чтобы ты мог противостоять всем противникам Святой Церкви с помощью Господа Иисуса Христа».
Рыцарь дает обет служить алтарю и давать Богу ответ за свой меч. Этот ритуал не был строго кодифицирован, он мог варьироваться, но христианский смысл его был неизменен.
Изначально фрагмент литургии, когда рыцарь приносил клятву, что поднимет оружие лишь в битве за правое дело, входил составной частью в церемониал коронации королей, но постепенно он достался всему рыцарству. Это очень важный факт — рыцарю сообщалось достоинство, равное монаршему.
***
Итак, рыцарство родилось в XI в. В конце этого века мы уже отчетливо его видим, но и в первой половине века встречаются фигуры, бесспорно наделенные рыцарскими чертами. Вот, например, герцог Нормандии Роберт Дьявол. Милое прозвище, не правда ли? Времена тогда были жестокие, дикими выходками трудно было кого–то удивить, и чтобы заслужить такое прозвище, надо было постараться. Его обвиняли, например, в отравлении своего брата Ричарда и других столь же скверных деяниях.
И вот, как поется в русской народной песне: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Угрызения совести заставили Роберта совершить паломничество в Святую Землю, он прибыл туда, сопровождаемый большим количеством рыцарей и баронов, с котомкой и посохом в руках, босоногий, в «саване покаяния». Роберт говорил, что он ставит бедствия, испытываемые им за Христа, выше лучшего города в своём герцогстве.
В Константинополе он отказался от подарков императора и от роскошного приёма, который ему приготовили, прибыв ко двору простым пилигримом. Когда в Малой Азии он заболел, то отказался от услуг своей свиты и позволил нести себя на носилках только сарацинам. Один нормандский пилигрим, встретив его, спросил, не хочет ли герцог передать что–либо своим подданным? Роберт ответил: «Иди сказать моему народу, что ты видел, как дьяволы несут христианского князя в рай». На наш вкус, религиозность герцога Роберта была малость диковата. Человеку, заслужившему прозвище «Дьявол» вряд ли стоило кого–либо называть дьяволами, а его уверенность в том, что он уже едет в рай выглядит преждевременной. Но это уже искренняя религиозность, пусть ещё очень несовершенная.
Прибыв к воротам Иерусалима, Роберт нашёл там толпу пилигримов, которые не имели средств заплатить пошлину мусульманам за вход в Святой Град. Роберт заплатил за каждого из них по золотой монете и вступил в Иерусалим посреди восторженной толпы христиан. Во время своего пребывания в Иерусалиме он отличался благочестием и особенно щедростью, которая распространялась даже на мусульман.
Герцог умер на обратном пути в Европу, в Никее, занятый мыслями исключительно о мощах, которые он вывез из Святой Земли, и сожалея о том, что не окончил своих дней в Иерусалиме. Было это в 1035 году.
Кстати, наследовавший герцогу Роберту его внебрачный сын — знаменитый Вильгельм Завоеватель, отличался верностью в браке, воздержанностью и искренней набожностью. Вильгельм много воевал, но всегда был чужд бессмысленному кровопролитию и жестокости.
***
По–настоящему и окончательно рыцарство родилось в первом крестовом походе. Европу тогда охватил невероятный религиозный подъем, ставший закономерным результатом духовного развития европейской цивилизации за последние полтысячи лет.
Современник тех событий, аббат Гвиберт Ножанский, писал: «Мы видели, как волновались все нации и, закрыв своё сердце для всех других влияний, привычек и привязанностей, устремились в изгнание, чтобы ниспровергнуть врагов имени Христова, причем с таким жаром и радостью, какие никогда не обнаруживаются людьми, отправляющимися на пиршество или торжественный праздник… Никто не обращал внимания ни на почести знатных, ни на владение замками и городами, пренебрегали самыми красивыми женщинами… При этом внезапном изменении воли, каждый охотно предавался предприятию, к которому никто не мог принудить силой… Ни один священник не имел надобности говорить в церквях, чтобы воодушевить народ к походу, ибо каждый давал обет отправиться в путь дома или на улице и ободрял других своими речами и примером. Все выражали один и тот же жар. Люди, лишенные всяких средств, находили их так же легко, как и те, которые, продав свои огромные имущества, запасались большими средствами.
Так исполнились слова Соломона: «Саранча не имеет царя, а ходит строем». У крестоносцев не было короля, ибо каждый верный считал Бога своим руководителем и смотрел на себя, как на Его союзника. Никто не сомневался в том, что Господь ему предшествует, поздравляли себя с тем, что путь предпринимается по Его воле, и радовались в надежде иметь Господа Помощником и Утешителем в нужде…
Графы были заняты той же мыслью, что и простые рыцари, даже бедняки были до того воспламенены рвением, что никто не обращал внимания на скудость своих доходов и не спрашивал себя, может ли он оставить свой дом, виноградники и поля. Всякий считал долгом продать лучшую часть имущества за ничтожную цену, как будто он находился в жестоком рабстве или был заключен в темницу и дело шло о скорейшем выкупе.
Христос сильно занимал умы всех, Он разрушил оковы жадности. То, что казалось дорого в спокойное время, продавалось по самой низкой цене, когда все тронулись с места для предпринятия этого пути. Так как многие стремились окончить свои дела, произошло удивительное явление — внезапное и неожиданное падение всех цен: за денарий можно было купить семь овец. Дорого покупалось всё, что необходимо для дороги, а то, чем следовало покрыть издержки продавалось весьма дешево. В прежнее время темницы и пытки не могли вырвать того, что теперь отдавалось за безделицу.
Многие из тех, которые не имели намерения отправиться в путь, смеялись над теми, кто продавал свои вещи так дешево и утверждали, что им предстоит жалкий путь, и что ещё более жалкими они вернутся домой, а на другой день эти же самые люди, одержимые внезапно тем же самым желанием отдавали всё свое имущество за ничтожные деньги и шли вместе с теми, над кем только что смеялись.
Все жаждут мученичества, на которое они идут, чтобы пасть под ударами мечей… Девушки говорили: «Вы, юноши, вступайте в бой, а нам будет позволено послужить Христу своими страданиями…»»
Конечно, в том, что описал Гвиберт Ножанский много нервной взвинченности и слегка болезненной экзальтации — Запад есть Запад — у каждого свои недостатки. И всё же любой христианин почувствует в крестоносном движении такой искренний религиозный порыв, такое безудержное стремление к Небу, какое не часто случалось в истории человечества. Кажется, только первые христиане так же массово и с таким же воодушевлением, отреклись от всего земного, шли на смерть за Христа. Сколько в этом было чистой детской веры! А ведь главным движителем крестового похода было рыцарство. Духовные изменения, которые количественно накапливались в течение нескольких веков, в те годы привели к рождению нового качества. Рыцари окончательно осознали себя рыцарями веры — вассалами Христа. Иными словами, тяжелая кавалерия стала рыцарством.
Что чувствовали тогда эти удивительные и уникальные воины? Что происходило в их душах? Они сами рассказали об этом в «крестоносных песнях».
Граф Тибо Шампанский писал:
Я покидаю дом, но меч держа, Горжусь, что послужу святому храму, Что вера в Бога сил в душе свежа, Молитвенно летя вслед фимиаму Владычица! Покровом окружа, Дай помощь! В бой иду, тебе служа. За то, что на земле теряю даму, Небесная поможет Господа.А вот что писал немецкий рыцарь Гартман фон Ауэ:
Ты плащ с крестом надел Во имя добрых дел Напрасен твой обет, Когда креста на сердце нет Зовет воителей отвага Под сень креста Где рыцарям своим на благо Любовь чиста.Эти стихи пронизаны такой верой, которую ни с чем не перепутаешь. Их не стыдно было бы приписать Персевалю или Галахаду, образы которых вдруг начинают выглядеть вполне реально, жизненно.
А вот что писал неизвестный рыцарь–трувер уже в XII веке: «Вы, которые любите по–настоящему, проснитесь! Жаворонок своей песней возвещает, что пришёл день мира, который Бог в своей доброте дает тем, кто возьмет крест из любви к Нему и будет терпеть боль день и ночь. Тогда убедиться Он, кто истинно любит Его…»
Вы думаете, что так воспринимали мир только рыцари–поэты? Если бы «крестоносные песни» не были чрезвычайно популярны среди рыцарства, они не могли бы дожить до наших дней. Трубадуры и труверы выражали в красивых словах то мироощущение, которое было присуще всему рыцарству. Не верят в это только те, кто не верит в Бога.
Виктор Смирнов писал: «Тысячи юношей бросили свою жизнь в горнило крестовых походов, избирая небесную любовь, взамен земной. Великий и судьбоносный очистительный огонь пронесся над XII веком. В этом пламени выковался высочайший религиозный романтизм, чувство религиозной чести, возродились идеи бескорыстия и милосердия, вспыхнула мистическая одухотворенность личного благочестия, сформировалась та рыцарская традиция благородной любви, отголосками которой мы питаемся по сей день».
***
Бернар Клервосский, рассказывая о тамплиерах, провозгласил рождение «нового рыцарства». Его «Похвалу…» традиционно понимают, как противопоставление обычных рыцарей и рыцарей–монахов, которым он отдает предпочтение. Но это по сути не так и противопоставление тут другое.
Бернар писал на латыни и рыцаря называл латинским словом «милес», которое означает просто «воин», «вооруженный человек». В Риме этим словом называли любого рядового легионера. И в раннем средневековье, когда собственно рыцарства ещё не существовало, словом «милес» называли любого вооруженного человека. Бернар по сути возвещает о появлении «новых воинов», то есть о появлении собственно рыцарства, как такового, а не о «новом рыцарстве». Его любимые рыцари–монахи лишь наиболее ярко выражали рыцарский идеал, но не являлись единственными его носителями. И противопоставляет он по сути не светское и монашеское рыцарство, а рыцарство настоящее и не настоящее, хорошее и плохое. Он говорит про «новый род рыцарства (воинства), неведомый прошедшим векам». А ведь мы знаем, что в «прошедшие века» никакого рыцарства в нашем значении слова вообще не существовало. Поэтому, читая Бернара в русском переводе, всегда надо помнить о том, какое слово стоит у него там, где мы читаем «рыцарь».
«Каков же конец или плод сего мирского рыцарства или скорее мошенничества? Что, как не вечная смерть для побежденного или смертный грех для победителя? Какова же, о, рыцари, та чудовищная ошибка, что толкает вас в битву, с такой суетой и тяжестью, цель которых есть смерть и грех? Вы покрываете коней своих шелками и украшаете доспехи свои не знаю уже каким тряпьем, вы разукрашиваете щиты свои и седла, вы покрываете упряжь и шпоры золотом, серебром и драгоценными камнями, а после во всем этом блеске мчитесь навстречу своей погибели со страшным гневом и бесстрашной глупостью. Что это — убранство воина или скорее женские побрякушки? Неужто вы думаете, что мечи врагов ваших отвратятся вашим золотом, пощадят каменья ваши или не смогут пронзить шелка? Столь рискованное дело вы предпринимаете по столь незначительным и пустяковым причинам. Что же ещё причина войн и корень споров между вами, как не безрассудное желание ухватить чьи–либо мирские владения? Воистину, небезопасно убивать и рисковать жизнью за такое дело».
Неужели кто–то думает, что Бернар Клервосский вот так относится ко всем рыцарям, которые не стали монахами? Нет, здесь он просто рисует нам портрет скверного рыцаря, такого «милес», который и рыцарем именоваться недостоин. Он собственно говорит нам о том, что такое вооруженный человек без Бога. Если бы все светские рыцари были такие, то как бы тогда мог состояться первый крестовый поход, когда тамплиеров ещё не было? И откуда бы взялись тамплиеры?
Бернар выражал не собственно тамплиерский идеал, а идеал рыцарства, как такового. Он был одним из первых выразителей этого идеала, но его носители уже успели совершить великие деяния, сами, может быть, ещё не вполне понимая, что они — «новое воинство», что произошёл качественный скачек, превративший «мясника» в рыцаря, хотя, конечно, многие мужики в железе так и остались мясниками, но если раньше их поведение было нормой, то теперь оно стало отклонением от нормы.
Вот что такое рыцарь (любой настоящий рыцарь!) в понимании Бернара: «Воистину, бесстрашен тот рыцарь и защищен со всех сторон, ибо душа его укрыта доспехами веры, так же, как тело укрыто доспехами стальными… Выступайте же уверенно, о рыцари, знайте, что ни смерть, ни жизнь не может отделить вас от любви Бога, пребывающей во Иисусе Христе, и в каждой опасности повторяйте: «Живем мы или умираем — мы Господни». Что за слава, возвращаться с победой из подобной битвы! Сколь блаженно погибнуть в ней, ставши мучеником! Радуйся, отважный воитель, если ты живешь и побеждаешь во имя Господне, но паче того гордись и ликуй, если умираешь и ко Господу идешь. Воистину, жизнь плодотворна и победа славна, но святая смерть важнее их обоих… Рыцарь не боится гибели, нет, он жаждет её. Отчего бояться ему жить или умереть, если для него жизнь — Христос, и смерть — приобретение? Сколь свято и спокойно рыцарство это… Для христианина, воистину, опасность или победа зависят от расположения его сердца, а не от судеб войны. Если он сражается за доброе дело, исход этого сражения не может быть дурен… Рыцарь Христов не напрасно носит меч: он Божий слуга… и по праву считается защитником христиан. Если же его убьют, то знаем, что он не погиб, а вошёл в тихую гавань… Смерть христианина — случай для Царя Небесного явить щедрость, наградив Своего рыцаря.»
С рождением Ордена тамплиеров рыцарский идеал засверкал, как начищенные доспехи. Рыцари осознали, кто они. И в этом им помог Бернар, аббат из Ясной Долины.
***
Он бился яростно и зло Немало воинов легло Под тяжестью его меча Иные корчились, крича От страшной нестерпимой боли. Ей — Богу, в незавидной роли Сегодня оказались те, Кого уносят на щите. Великолепнейшие латы Изрублены, доспехи смяты, Плащи изодраны в куски, На лбах и скулах — синяки, Расплющенный ударом шлем На шлем и не похож совсем, Сочится кровь из ран и ссадин, В бою анжуец беспощаден… О помрачение рассудка! Война — не праздник, смерть — не шутка. Святые попраны права, И красной сделалась трава.Автор этих строк, не извольте сомневаться, очень хорошо знал, с какого конца берутся за меч. Возвышенная рыцарская поэзия на самом деле безжалостно реалистична, она отражает реальный боевой опыт. Только потому она и была востребована у рыцарей, которые, порою, годами не вылезали из кровавой мясорубки и которые просто диву давались, какие точные, меткие слова нашёл дружище Вольфрам для их грубой работы. А Вольфрам понемногу подбирается к самом главному:
Кого склоняет злобный бес К неверью в праведность Небес, Тот проведет свой век земной С душой унылой и больной. Порой ужиться могут вместе Честь и позорное бесчестье. Иные люди, как сороки: Равно белы и чернобоки, И в душах этих Божьих чад Перемешались рай и ад. Но тот, в ком веры вовсе нет Избрал один лишь черный цвет, И непременно потому Он канет в ночь, в густую тьму, А не утративший надежды Оденет белые одежды И к праведникам он примкнет. Но всяк ли мой пример поймет? В чем суть подобного примера? В том, что всего важнее — вера. В разгар немыслимой борьбы Меж черной мглой и ясным светом, Кто устоит в боренье этом, Спасению душу отворя? Для тех старался я не зря.Думаю, когда Вольфрам пел эти стихи, не одна рыцарская голова виновато склонялась, и не один рыцарь подумал: «Надо мне на исповедь. Давно уже не был». Конечно рыцарь фон Эшенбах старался не зря. И если какой–нибудь пан Сапковский сказал бы поклонникам его стихов, что таких рыцарей, как Парцифаль в жизни не бывает, так я думаю, что пана унесли бы на носилках. Чтобы впредь сначала думал, а потом говорил.
Великому творению рыцарского духа роману «Парцифаль» недавно исполнилось 800 лет. А как вчера написано. Не хотите ли узнать, какими были настоящие рыцари не от америкоса Мартина, а от самого что ни на есть настоящего рыцаря? Про Вольфрама фон Эшенбаха даже Мартин и Сапковский никогда не смогут сказать, что его не существовало. И вот какой портрет рыцаря вышел из–под рыцарского пера:
За самый малый знак внимания Он всех всегда благодарил Не в силу княжеского званья Людьми он обожаем был, А в силу скромности безмерной И прямоты нелицемерной, Той благородной чистоты, Не признающей суеты… Вот отчего вошли в преданья Его высокие деяния. <…> Он, окруженный громкой славой, Ей не кичился никогда, Душа его была тверда, Как ясен был рассудок здравый. Служить хотел он… Но кому? Не коронованным особам, Не кесарям высоколобым, А только Богу одному <…> Будь милосерд и справедлив К чужим ошибкам терпелив, И помни всюду и везде: Не оставляй людей в беде Спеши, спеши на помощь к ним, К тем, кто обижен и гоним, Навек спознавшись с состраданьем, Как с первым рыцарским деяньем. Господне ждет благодаренье, Кто воспитал в себе смиренье. Умерен будь. Сколь славен тот, Кто и не скряга и не мот. С вопросами соваться бойся, А вопрошающим — откройся. При этом никогда не ври, Спросили — правду говори. Вступая в бой сомкни, мой милый, Великодушие с твердой силой. Не смей, коль совесть дорога, Топтать лежачего врага, И если он тебе сдается, То и живым пусть остается. Поверженных не обижай, Чужие нравы уважай <…> Стоять коленопреклоненным Возможно лишь перед Мадонной Да перед Господом Христом, Или во храме пред крестом. <…> Чья перевешивает чаша: Моя или, к примеру, ваша? А та, где слава тяжелей! Но это значит: не жалей Сперва себя во время боя, Будь властен над самим собою, Не потакай себе ни в чем… Вот так–то! Ну а уж потом И к недругам будь беспощаден. <…> Нет, страха он не испытал, В себе он волю воспитал, Рад приключениям и тревогам, И был за то замечен Богом И Сам Господь его снабдил Запасом небывалых сил. И рассуждали знатоки О доблести его руки: «Да, равных нет ему, пожалуй! А этот выпад небывалый, А этот натиск! А удар! Здесь, вне сомнений — Божий дар.»***
История, конечно, не донесла и не могла донести до нас развернутые биографии рядовых рыцарей. Их собирательный образ отразили рыцарские романы. Что же касается конкретных исторических рыцарей с именами и биографиями, то это в основном — представители высшей аристократии. Но и герцоги, и принцы, и короли были тогда прежде всего рыцарями. Их сохраненные историей образы — это подлинные рыцарские образы.
Герцог Готфрид Бульонский
Герцог Нижней Лотарингии Готфрид Бульонский родился в Реймской провинции в городе Булоне. Его отец, Евстафий, был графом города, а мать Ида — сестрой герцога Лотарингского. Дядя усыновил племянника, который наследовал ему. Так Готфрид стал герцогом.
Его мать была женщиной очень набожной. Она дала Готфриду и его братьям прекрасное религиозное воспитание. Искреннюю веру во Христа, унаследованную от матери, Готфрид пронесет через всю жизнь.
Герцог Лотарингии был вассалом германского императора. И вот однажды при императорском дворе Готфрид был вынужден участвовать в одном поединке, которого не хотел, но отказаться от которого не имел возможности. Вот он ударил противника по щиту с такой силой, что меч сломался и в его руке остался лишь небольшой обломок. Наблюдавшие за поединком рыцари просили императора остановить бой, но Готфрид настоял на продолжении борьбы. Противник с целым мечом сильно наседал на него, но Готфрид изловчился и ударил противника рукояткой меча в висок с такой силой, что тот упал, едва живой. Тогда Готфрид схватил меч противника, подозвал князей и настоятельно просил их устроить мир с поверженным. Князья тут же с радостью устроили мир.
Готфрид в этом поединке дал блестящий образец благородного поведения. Он показал, как могут сочетаться готовность драться и миролюбие, умение не щадить себя и умение щадить противника. А ведь это ещё XI век. Как видим, рыцарство уже родилось.
А потом началась война с саксами, которые предали императора и поставили королем графа Рудольфа Швабского. Император созвал своих вассалов, в том числе и герцога Готфрида. В день битвы император спросил князей, кому он может доверить знамя и начальство над армией. Князья дружно сказали, что лучше герцога Лотарингии никого не найти. Готфрид отказывался, он не любил себя выпячивать, но его провозгласили тысячи и император вручил ему знамя.
В битве герцог устремился на ту часть неприятельского войска, которой командовал сам Рудольф. Неудержимым натиском Готфрид прорвал ряды неприятеля, сразил Рудольфа и вонзил ему знамя в грудь. Это был сущий лев. Саксы, увидев своего вождя поверженным, сдались императору, который хорошо понял, что победой обязан лично Готфриду.
Когда был объявлен крестовый поход, Готфрид сразу решил, что это дело его жизни и стал собираться в Святую Землю. Он знал, что не вернется и подарил Церкви замок Бульон, именем которого назывался.
Готфрид был лишь одним из многочисленных вождей похода, хотя, надо сказать, одним из самых знатных, будучи связанным узами кровного родства с династией Каролингов. Но его огромный авторитет среди крестоносцев строился не на этом. Современники говорили о Готфриде, что он сочетал невероятную храбрость с простотой монаха. Его подвижность и ловкость в бою, а так же необыкновенная физическая сила изумляли войско. Благоразумие и умеренность смягчали его мужество, набожность его была очень искренней. И никогда на поле боя он не бесчестил победу бессмысленной резней. Всегда верный данному слову, щедрый, человеколюбивый, он был образцом для рыцарства и отцом для народа. Не имея права приказывать войску, он приобрел такую моральную власть, что его советы воспринимали, как приказы.
Говорят, что он был красив собой, высок ростом, красноречив и кроток нравом, но при встрече с неприятелем воспламенялся и был неудержим — редкий щит или панцирь мог выдержать удар его меча.
Когда крестоносцы, следуя в Святую Землю, проходили через христианские страны, у них, кажется, возникало больше проблем, чем позднее в войне с мусульманами. И тогда моральный авторитет, которым герцог обладал во всем христианском мире, очень помогал крестоносцам. Король Венгрии, например, писал Готфриду: «Мы знаем уже давно по слухам, что ты совершенно заслуженно считаешься у своих великим, знаменитым и славным князем, и в дальних землях люди удивляются твоему беспорочному и строгому благочестию и достохвальной твердости твоего характера. Ты действуешь с благочестивой ревностью…»
Проблемы с венграми порешали, сложнее было в Константинополе. Император Алексей Комнин не доверял вождям крестоносцев и видел в их походе не столько помощь, сколько угрозу, причем не без оснований. Одному только лотарингскому герцогу он готов был довериться. Готфрида приняли при императорском дворе, что называется, на самом высоком уровне. Император сказал: «Наша империя, любезный герцог, знает, что ты самый могущественный в среде своих князей. Ты взял на себя благочестивое предприятие, воодушевляемый достохвальной ревность о вере. О тебе носится далекая слава, что ты муж твердый характером и чистый верой, поэтому ты за свои благородные нравы снискал благосклонность многих, кто никогда не видел тебя в глаза. И мы со своей стороны намерены оказать тебе всю нашу любовь и уважение и с этой целью определили усыновить тебя и передать тебе всю нашу империю…»
Проблема тут была вот какая. Алексей считал, что, освободив от турок земли империи, крестоносцы и не подумают вернуть их под его скипетр, оставив за собой. Какие тут могли быть гарантии? Сила делает, что захочет. Император нашёл такой выход: усыновить того из вождей франков, который известен, как человек безукоризненной чести, тем самым привязав его к себе и к интересам империи.
Итак, император Алексей с пышными обрядами облачил Готфрида в императорские одежды и усыновил. С этого времени между греками и франками установились мир и согласие.
Армия крестоносцев продвигалась к Святой Земле. В 1097 году, когда они приблизились к Антиохии, с герцогом произошёл такой случай. Углубившись в лес, он увидел громадного медведя, наружность которого приводила в ужас. Зверь напал на бедного пилигрима, собиравшего лозняк, и вертелся около дерева, на котором несчастный нашёл убежище. Герцог немедленно выхватил меч, дал шпоры коню и устремился на медведя. Однако, этот зверь обладал не только страшной силой, но и большой ловкостью, он успешно уворачивался от ударов рыцарского меча. Когда герцог, удвоив решимость, налетел на медведя, тот изловчился, схватил герцога в лапы, стащил с лошади и, бросив на землю, был готов разорвать на части. Сильно помятый и оглушенный палением герцог, собрал все свои силы и смог быстро вскочить на ноги. Во время падения с лошади, он нанес себе серьезную рану мечом в ногу. Кровь хлестала фонтаном, герцог терял силы, но продолжал оказывать чудищу отчаянное сопротивление. Тут, наконец, на страшный рев зверя сбежались слуги герцога. Вместе они рогатинами смогли пронзить зверю грудь и бок. И в этот момент герцог потерял сознание от потери крови. Рыцарские клинки того времени были длиной около 90 сантиметров, с таким коротким оружием медведя одолеть, конечно, невозможно, а этот хищник к тому же значительно превосходил своих сородичей размером и силой. Позднее выяснилось, что этот медведь–людоед длительное время терроризировал окрестности и никто даже не пытался на него напасть. А Готфрид бросился на чудище в одиночку, без подходящего оружия и только для того, чтобы спасти жизнь бедняку. Эта сцена точно сошла со страниц рыцарского романа, точнее в рыцарские романы такие сцены попадали из биографий реальных героев.
Тяжелая рана ноги надолго приковала герцога к носилкам, но в осаде Антиохии он уже участвовал. В марте 1098 года он совершил подвиг, о котором крестоносцы ещё долго рассказывали. В одиночку преследуя сделавших вылазку неприятелей, он нагнал их у моста и, заняв возвышение, разрубал всех приближавшихся к нему пополам. Благодаря герцогу, франки не только отбили вылазку, но и взяли большую добычу — лошадей и оружие.
И вот, наконец, Антиохия взята, в свою очередь осаждена несметными полчищами врагов, и шатающиеся от голода рыцари ходят по городу с ощущением полной безнадежности. И всё–таки, не держась от голода на ногах, они покинули крепостные стены и набросились на троекратно превосходившего их, сытого, свежего противника. Герцог Готфрид вместе с Гуго Великим и графом Фландрии бросились туда, где неприятель был особо многочисленным. Сарацины не выдержали их натиска, Готфрид в первых рядах вместе с другими героями гнал неприятеля до самой реки, обеспечив франкам небывалую, неслыханную победу.
Наконец настал ключевой момент первого крестового похода — штурм Иерусалима. Любой военный теоретик сказал бы, что крестоносцы не смогут взять этот город. При штурме хорошо укрепленного города силы нападающих, чтобы иметь успех, должны в четыре раза превосходить силы тех, кто обороняется. Между тем, в Иерусалиме было в два раза больше воинов, чем у крестоносцев. Шансов не было. Франки пошли на штурм.
Силы герцога штурмовали город с севера. Защитники Иерусалима основные силы бросили на то, чтобы уничтожить осадную башню, в которой находился Готфрид со своими соратниками. На башне сверкал золотой крест, она медленно приближалась к стене Иерусалима. Под градом стрел рядом с герцогом один за другим падали рыцари и оруженосцы, но его самого словно ангел прикрывал своим крылом. Несмотря на все препятствия, башня Готфрида подошла к стене. С вершины башни на стену перебросили мост. Готфрид с братьями первым бросился по мосту в гущу врагов. Иерусалим был взят.
На следующий день после штурма герцог первым из вождей похода подал пример благочестия. Безоружный и босой, он направился в храм Гроба Господня. За ним, скинув окровавленные одежды, последовали другие крестоносцы.
Среди вождей похода было с полдюжины представителей высшей аристократии Европы — каждый с высочайшим о себе представлением. Выбрать короля Иерусалима в таких условиях было очень не просто. Готфрид ни на что не претендовал, интриг не плел и обращал на себя внимание только этим. Впрочем, князья, не смотря на все свои амбиции, при выборе короля действительно желали следовать воле Господней — ведь это были христианские князья.
Они пригласили слуг каждого из кандидатов и под присягой обязали их говорить правду о характере и образе жизни своих господ. Слуги герцога отвечали, что им не нравится в нем только одно: войдя в церковь, он подолгу не может выйти из неё, и по окончании литургии расспрашивает священников о каждом образе, который есть у них в храме. Слугам это не нравится, ведь, ожидая герцога, они никогда не могут вовремя попасть к столу. Когда избиратели это услышали, они вознесли хвалу тому мужу, которому вменялось в недостаток то, что другие почитали бы за добродетель.
После долгих совещаний герцога Готфрида единодушно избрали королем Иерусалима. Готфрид отказался от короны и знаков королевского достоинства, сказав, что никогда не примет золотого венца в том городе, где на Спасителя был возложен венец терновый. Он принял скромный титул «защитника Гроба Господня».
Кто из герцогов и графов не мечтал о королевской короне? Разве лишь тот, кто не хотел принимать на себя ответственность, которая неизбежно ложится на короля. Но Готфрид именно от ответственности и не отказался, а вот королевской короны не принял.
Падение Иерусалима вызвало шок в исламском мире и побудило многих ранее враждовавших эмиров объединиться. Эмиру Афдалу удалось собрать огромную армию. Афдал поклялся срыть до основания храм Гроба Господня. Готфрид призвал всех вождей немедленно присоединиться к нему и идти навстречу сарацинам. С ним пошли все жители Иерусалима, способные носить оружие.
Армия крестоносцев остановилась на равнине между Яффой и Аскалоном. Ночь на 14 августа крестоносцы провели над оружием, и рано утром был дан сигнал к бою… Христианских воинов набралось всего 20 тысяч, мусульманская армия превосходила их более, чем десятикратно, и всё–таки мусульмане потерпели страшное, сокрушительное поражение. Эмир Афдал бежал, говорят, что по дороге он проклинал пророка Мухаммада.
Иерусалим встретил известие о победе под Аскалоном всеобщим ликованием, защитника Гроба Господня встречали трубами и литаврами. И вот вожди похода, радостные и умиротворенные, с чувством выполненного долга, разъехались по домам. У Готфрида осталось всего 300 рыцарей. Он стал теперь вождем крохотного островка христианства посреди безбрежного моря ислама. У него не было сил даже на оборону своих владений, но этот удивительный воитель продолжал атаковать. Когда город Арсур отказался платить дань, Готфрид решил взять его штурмом. Штурм захлебнулся, Готфрид осадил Арсур.
Однажды к нему в лагерь пришли местные вожди небольших селений и принесли ему скромные символические дары — хлеб, вино, миндаль, изюм. Защитник Гроба Господня принял их, сидя на мешке, набитом соломой и брошеном на землю. Вожди были изумлены и спрашивали, как такой великий государь может сидеть так бесславно, не имея ни ковров, ни шелковых материй. Готфрид ответил: «Для смертного человека достаточно иметь землю сидением, так как после смерти она сделается его постоянным жилищем.» Вожди, прощаясь, сказали приближенным Готфрида: «Это муж, которому должны подчиняться все земли, и который по справедливости предназначен быть властелином всех народов».
Осаду с Асура решили снять, определённый результат она всё–таки дала. Мусульмане теперь, и не думая покушаться на Иерусалим, сидели тихо, радуясь, что сохранили своё. А между тем в Иерусалиме порою просто нечего было есть.
И вот лазутчики доложили Готфриду, что за Иорданом беспечно кочуют арабские шейхи с огромными стадами. Готфрид собрал небольшой отряд, пошел за Иордан и весьма успешно решил продовольственную проблему. Домой он возвращался с огромным количеством крупного и мелкого скота, да ещё и с бесчисленными пленными.
Один местный вождь, захотевший мира с Готфридом, пришёл к нему со свитой. Когда они заключили мир, вождь сказал, что много слышал о силе Готфрида и предложил ему отрубить голову верблюду одним ударом. Готфрид рассмеялся и с лёгкостью отрубил верблюду голову. Араб чрезвычайно изумился и спросил у Готфрида, может ли он это сделать другим мечом? Готфрид взял у араба меч и с такой же легкостью отрубил голову другому верблюду. Араб понял, что сила заключается не в клинке, а в руке. Он подарил Готфриду золото, серебро и лошадей, теперь он искал уже не просто мира, а дружбы с христианским воином.
За то время, пока Готфрид правил Иерусалимом, он показал себя не только, как великий воин, но и как мудрый правитель. Стремясь добиться устойчивости христианских завоеваний, он решил привязать рыцарей к земле и постановил, что проживший на участке год и день рыцарь становится его собственником. Одновременно он наложил дань на эмиров Кесарии, Акры и Аскалона, постаравшись сделать их из противников вассалами.
Первое время в Иерусалиме не было порядка. Победители требовали наград и постоянно ссорились, никто не знал, как решить, кто прав. Тогда Готфрид созвал самых мудрых вождей, и под его руководством был составлен свод законов, названных Иерусалимскими ассизами. Ассизы, принятые с большой торжественностью, были доставлены для хранения в храм Гроба Господня.
Как правитель он умел проявить не только силу, перед которой все трепетали, не только мудрость, которой все восхищались, но и большое смирение, достойное настоящего христианского правителя. В начале 1100 года патриарх Иерусалима потребовал у Готфрида весь город, а так же Яффу и почти всё, что принадлежало Готфриду. Это требование было абсурдно, Готфрид получил Иерусалим и Яффу от совета победоносных князей безо всякого условия когда–либо их уступить кому–либо. Наглость и жадность патриарха поставила едва родившиеся государство крестоносцев на грань конфликта с Церковью. И защитник Гроба Господня с кротостью и смирением уступил патриарху четвертую часть Яффы, а так же Иерусалим с тем лишь условием, что он будет пользоваться этими городами, пока Господь не расширит государства крестоносцев завоеванием двух других городов. Впрочем, этими условиями не суждено было исполниться. Вскоре патриарху пришлось договариваться уже с преемником Готфрида, который принял титул короля.
В июле 1100 года защитник Гроба Господня тяжело заболел. Он исповедовался, причастился и 18 июля принял мирную христианскую кончину. Готфрида погребли в храме Гроба Господня. Его смерть оплакали и христиане, для которых он был отцом, и мусульмане, много раз испытавшие на себе его справедливость и милосердие.
Звезда Готфрида просияла в эпоху, когда рыцарство ещё только зародилось, а между тем он навсегда остался непревзойденным, самым лучшим в мире рыцарем. Своей боевой доблестью он был равен Ричарду Львиное Сердце, своим благочестием и набожностью — Людовику Святому. Столь великим достоинствам и добродетелям никогда уже не суждено было сочетаться в одном человеке.
Кажется, у Католической Церкви было более чем достаточно оснований для канонизации Готфрида. Но католики оказались недостойными памяти великого христианского героя. Тогда не можем ли мы понять усыновление Готфрида православным императором, как усыновление Православной Церковью?
Король Людовик VII Юный
Король Франции Людовик VII взошел на трон в ещё довольно юном возрасте. Так он навсегда и остался в истории Юным, хотя правил довольно долго.
В начале его правления, в 1145 году, у юного короля произошел серьезный конфликт с графом Тибо Шампанским, прибегшим к поддержке папы. В гневе король предал огню и мечу владения строптивого вассала, не щадя ни в чем не повинных его подданных. Взяв город Витри, он приказал сжечь церковь, в которой укрылись 1300 прихожан.
Людовик повел себя, как барон–разбойник эпохи Меровингов, а эпоха была уже совсем другая — рыцарская. Все были возмущены этим поступком, сам Бернар Клервоский отправил королю Франции укоряющее письмо. Одумавшись и впав в ужас от содеянного, Людовик был близок к отчаянию. Он боялся гнева Божьего. И тут пришло известие о падении крестоносного графства Эдесского, был объявлен крестовый поход. Король, во искупление совершенного греха, решил «принять крест» и отправиться в крестовый поход.
Он принял крест на Пасху 1146 года, ему было тогда 25 лет. Отправившись в аббатство Сен — Дени, он молился, распростершись, своему небесному покровителю, святому Дионисию. После того, взяв знамя и получив от папы посох странника он обедал в столовой аббатства вместе с монахами. Это был великий праздник Франции, день духовного единения. Король, как простой кающийся грешник, предпринимал великое богоугодное дело. Народ напутствовал его слезами и молитвами.
Перед самым отправлением Людовик совершил то, чего никогда не совершал ни один король — он отправился ходить по домам прокаженных, сопровождаемый лишь двумя слугами. Это был очень искренний поступок настоящего христианина, но одновременно с этим и королевский жест. Рыцарский жест. Посещая и поддерживая отверженных прокажённых, король–рыцарь подчеркивал, что не считает себя лучше их. Его искренность достаточно подтверждалась тем, что он рисковал смертельно заразиться. В тот момент он вверил свою жизнь Богу.
До самого Константинополя все приветствовали короля Франции и его рыцарство, оказывая ему почести и всеми средствами обнаруживая своё доброе расположение. Ну а в Константинополе всё как всегда было не просто. Напряжение, появившееся между греками и франками ещё во время первого крестового похода, всё нарастало, церковный раскол приносил всё более заметные плоды.
Когда Людовик приблизился к Константинополю, нашлись люди, которые советовали ему овладеть всей богатой страной греков–ромеев. Надо было только немедленно написать королю Сицилии Рожеру о том, чтобы он прислал флот, и вместе осадить Константинополь. Людовик с гневом отверг это предложение. Ему советовали политики, но он был рыцарем, а потому не мог напасть на друзей, пусть даже очень ненадежных.
Сановники императора Мануила разговаривали с французами, стоя на коленях. Французы были скорее изумлены, чем тронуты, и отвечали презрительным молчанием. Ведь рыцарь встает на колени только перед Богом и никогда перед человеком. К тому же французы, среди которых, конечно, хватало льстецов, не смогли бы, даже если бы захотели, сравниться в этом отношении с греками. Король–рыцарь сначала терпеливо выслушивал их преувеличенные комплименты и безудержную лесть, хотя и краснел от того, что ему говорят подобные вещи, а потом король начал всё более заметно напрягаться. Тогда епископ Лангра Готфрид пришел к королю на помощь и просто, но решительно сказал медоточивым грекам: «Братья мои, не говорите так часто о славе, величии, мудрости и благочестии короля. Он знает себя, и мы его знаем».
Потом французский хронист писал: «Кто имел случай знать греков, тот скажет, что в минуты страха они унижаются до последней степени, но, взяв верх, становятся заносчивыми и жестоко притесняют слабейшего». В этом столкновении двух ментальностей в полную меру проявила себя ментальность рыцарская. Развитое чувство личного достоинства не позволяет рыцарю заискивать и лебезить ни перед кем, а потому он не любит, когда и перед ним заискивают и лебезят. Его это не радует. Рыцарь может надменно разговаривать с сильным, чтобы показать отсутствие страха, но он никогда не будет надменно разговаривать с тем, кто слабее, потому что это низость, а рыцарство не терпит низости. А у кого–то всё наоборот.
Тогда же отчетливо проявилась разница между французским рыцарством и германским. Родина рыцарства — Франция, германцы рыцарство заимствовали и усвоили не слишком глубоко. Греческий хронист писал: «Людовик, переправившись через Дунай и намереваясь идти дальше, не вел себя с таким неистовством, как Конрад, германский император. Людовик принял весьма благосклонно послов императора Мануила, и через них передал свой поклон императору. Или Людовик был благоразумнее Конрада, или его характер был мягче от природы. Во всяком случае он приобрел особенное расположение императора Мануила».
Грек, хорошо увидевший разницу между Людовиком и Конрадом, конечно, не понял и не мог понять, в чем эта разница. А дело всего лишь в том, что Людовик, в отличие от Конрада, был настоящим рыцарем.
Король Людовик, сопровождаемый императором Мануилом, посещал святые места Константинополя, а потом уступил настойчивой просьбе Мануила и отправился к нему обедать с небольшой свитой. Многие люди короля боялись за него, но он, считая себя под покровительством Бога, полный веры и мужества, не испытывал ни какого беспокойства. Французский хронист писал: «Тот, кто не имеет намерения вредить другим, нелегко верит тому, чтобы кто–нибудь мог ему навредить, и хотя греки не подали ни какого в этом случае повода думать о вероломстве, но всё же думаю, что если бы имели они хорошие мысли, то не были бы уж в такой степени услужливы». Чисто рыцарская оценка чисто рыцарского поведения.
Но повод подозревать греков в вероломстве всё же появился. В разгар торжеств, устроенных греками в честь франков, в самый тот момент, когда они приносили присягу императору Мануилу, вдруг распространилось известие, что Мануил за их спиной договаривается с Иконийским султаном о совместных действия против незваных гостей. Ошеломленные французы уже было начали громить всё вокруг, а епископ Лангрский предложил Людовику немедленно захватить Константинополь, но Людовик, приложив огромные усилия, сдержал своих. Король не останавливался перед самыми жестокими мерами по отношению к французам, которые обижали греков. Были случаи, когда крестоносцы сжигали дома и оливковые рощи греков, таким король приказывал резать уши, отрубать руки и ноги.
Жозеф — Франсуа Мишо писал: «Святое для французов чувство чести вторично спасло Константинополь». Уточнил бы: Константинополь спасла рыцарская честь короля Людовика.
И вот на пути в Святую Землю армия крестоносцев, переходя через горный перевал, попала в засаду. Здесь Людовик показал себя, как очень слабый, беспомощный полководец и как блестящий, великолепный рыцарь. Он даже не пытался командовать своим войском, он просто бился, причем, бился неподражаемо.
Группа храбрецов собралась вокруг короля и стала пробиваться к вершине горы. Тридцать баронов, охранявших Людовика, погибли возле него, дорого продав свои жизни. Король, оставшись в одиночестве, прислонился спиной к дереву и отбивался от доброй сотни врагов, которые ни как не могли его одолеть. Людовика спасла его рыцарская простота, на нем были доспехи рядового рыцаря, враги не узнали в нем короля и не захотели дальше возиться с таким упорным бойцом, предпочли оставить его и грабить обозы. Короля выручили тамплиеры, благодаря которым остатки войска удалось спасти. После этой бойни оставшиеся в живых рыцари искренне восхищались королем, но не имели возможности поблагодарить его за спасение. Рыцарская натура имеет свои слабые стороны. Классический рыцарь — очень плохой организатор. А Людовик был классическим рыцарем.
Во время перехода через Памфлию французам приходилось обороняться не только от набегов турок, но и от врага более беспощадного — суровой зимы с её холодом и голодом. Дождь лил, как из ведра, одежда превратилась в лохмотья. Во всех этих несчастьях Людовик обнаруживал самоотверженность мученика. Он помнил о том, что, приняв крест и посох пилигрима, вознамерился пострадать за Христа, и с величайшим терпением переносил все лишения во славу Христову.
Людовик провел в Святой Земле год, не совершив ничего, достойного внимания. Единственное серьезное предприятие, в котором он участвовал, осада Дамаска, закончилось полной неудачей, не говоря уже о том, что осаждать Дамаск не было никакого смысла.
Но здесь он проявил себя, как настоящий рыцарь веры. Под его суровым взглядом французы рядом с самыми соблазнительными нравами были образцом строгого благочестия. В лагере чаще служили молебны, чем занимались боевыми упражнениями. Посреди всех опасностей войны король Людовик без всяких послаблений безупречно исполнял все предписания религии. И его забота о французах, которые пришли сюда вместе с ним, не оставляла желать лучшего. Вожди крестоносцев имели Людовика за образец для себя. И может быть этот пример истинно рыцарского поведения был куда дороже для соратников Людовика, чем Дамаск. Для нас этот образец рыцарства тем более дороже, чем все возможные победы, потому что былые победы давно уже развеялись пылью по ветру, а образец остался.
А ведь Людовик был не только крестоносцем–неудачником, но и несчастным супругом. Его жена Алиенора Аквитанская была женщиной великих страстей и бешенного темперамента. Напросившись с ним в крестовый поход, она с первого до последнего дня похода позорила своего венценосного супруга. Когда крестоносцы прибыли в Антиохию, поведение Алиеноры стало уже неслыханно вызывающим. Она быстро вошла во вкус восточной роскоши, флиртовала направо и налево, наотрез отказывалась покидать великолепный город, а Людовику велела во всем слушаться её дядюшку, князя Антиохии Раймунда, а когда Людовик проявил неудовольствие, во всеуслышание кричала, что разведется с ним.
На Людовика, человека сурового благочестия, такое поведение жены, конечно, производило убийственное впечатление. А что он мог поделать со своей бешеной королевой? В конце концов Людовик покинул Антиохию ночью, похитив собственную жену, приказав скрутить её и привезти в свой лагерь.
Исходя из интересов Франции Людовик не мог развестись с Алиенорой, потому что её приданным было герцогство Аквитанское, которое Франция теряла в случае развода короля. И всё–таки после похода Людовик развелся с женой, поставив свою рыцарскую честь выше государственных интересов. А эта бойкая девчонка тут же выскочила замуж за короля Англии Генриха, и Аквитания отошла под юрисдикцию английской короны. Франции был нанесен колоссальный ущерб, который позднее привел к Столетней войне.
Конечно, и Генрих так же не оказался способен слишком долго терпеть Алиенору, но он порешал проблемы, которые создавала ему жена, куда проще, бросив Алиенору в тюрьму, где она провела 16 лет. А ведь и Людовику ничто не мешало это сделать. Он мог обвинить жену в государственной измене, как минимум — в оскорблении величия, и отправить за решетку, а Франция в этом случае не потеряла бы Аквитанию. Но Людовику помешала рыцарская честь, он не мог бросить даму в темницу. Он дал ей свободу. А вот английский король не страдал такими предрассудками.
Людовика легко осудить за то, что он поставил личное выше государственного. Но не торопитесь. Францией тогда правили рыцарская честь и христианское благочестие. Франция тогда не считала иное возможным. Сколько человеческих душ спаслось благодаря этому? А сколько душ погибает, когда на троне — воплощенная низость? У Бога свои весы. Нам трудно судить о том, сколь тяжела на этих весах рыцарская честь.
Ричард Львиное Сердце
Король Англии Ричард Львиное Сердце был в Англии пару раз проездом и ни слова не знал по–английски. Он вырос в континентальных владениях Англии, его родным языком был французский, и ему было куда привычнее, чтобы его называли Ришар, а не Ричард (тьфу, язык сломаешь). Ричард был сыном той самой блистательной королевы (теперь уже — английской) Алиеноры, то есть порождением бешеных страстей. И это было заметно.
Ещё юношей, подстрекаемый своей незабвенной матушкой, Ричард много враждовал со своим королем — отцом, но вот отец умер, и Ричард, едва короновавшись и даже не думая приступать к управлению государством, тут же отправился в крестовый поход вместе с королем Франции Филиппом. Христиане тогда только что потеряли Иерусалим, тень Саладина накрыла уже половину Палестины, так что в Святой Земле было чем заняться, но не сказать, что Ричард воспламенился религиозным порывом. Его тянуло навстречу приключениям. Он был одним из лучших в мире бойцов, если не самым лучшим, ему нужна была площадка для совершения великих подвигов. Святая Земля в самый раз для этого подходила.
Да он не особо и рвался к Иерусалиму, по дороге желая использовать все возможности для совершения подвигов. Для начала он пристал на Сицилии и взял Мессину так быстро, что и порезвиться толком не успел. Жители Мессины убежали в горы, оттуда замышляя напасть на Ричарда. Прознав об этом, он вновь приказал взяться за оружие, и сам с немногими рыцарями, которые были в состоянии выдержать его темп, устремился на крутую гору, которая считалась неприступной. Здесь он устроил такую мясорубку, что укрывшиеся на горе мессинцы в ужасе бросились обратно в город, а Ричард преследовал их с мечом в руках до самых ворот.
Сопротивление короля Сицилии Танкреда было сломлено окончательно. А Ричард всего–то и хотел от Танкреда, чтобы его кузине Жанне, вдове короля Сицилии Вильгельма, были отданы земли, которые её муж оставил ей во вдовье владение.
Аргументы Ричарда выглядели неопровержимыми, и Танкред, конечно, уступил, а Ричард поплыл дальше, но ему ещё не суждено было достигнуть Святой Земли. Его флот попал в бурю и корабли прибило к Кипру, куда Ричард вовсе не собирался, но, поразмыслив, он решил, что можно завоевать ещё один крупный остров, раз уж так вышло. Кипром правил тогда узурпатор Исаак Комнин, объявивший себя императором и прекрасно подходивший для свержения с престола. К тому же Исаак отказался принять Ричарда, этим освободив короля от угрызений совести, которыми он и без того не сильно страдал.
Ричард погонял Исаака по Кипру, выиграл столько сражений, сколько потребовалось и наконец сломил гордыню узурпатора. Ричард предложил Исааку сдаться, пообещав, что не закует его в железо. Тот поверил королю и сдался. Тогда Ричард, верный рыцарскому слову, заковал поверженного врага в серебряные цепи и объявил Кипр королевством. Кстати, это было самое устойчивое завоевание Ричарда — Кипрское королевство просуществовало 300 лет.
Тогда же на Кипре Ричард отпраздновал свадьбу с Беранжерой, дочерью короля Наварры Санчо Мудрого. Говорят, что Беранжеру подсунула Ричарду мама Алиенора. А может это и не так, может они и сами познакомились. Но в поход Ричард отправился ещё и не подозревая о существовании Беранжеры. Всё это случилось по дороге в Святую Землю — и знакомство, и любовь, и свадьба. История вполне достойная короля–поэта, слагавшего прекрасные песни. Но как–то это всё не очень гармонирует с суровым образом крестоносца, который во славу Христову отправился освобождать Иерусалим. А Ричард таким и не был.
И вот, наконец, Ричард прибыл в Святую Землю, прямо под Акру, которая пала под натиском Саладина так же, как и Иерусалим, несколько лет назад. Когда крестоносцы пришли в себя, они попытались вернуть Акру, штурм не удался, началась осада, которая длилась уже третий год. Под Акрой собрались значительные силы христиан, к которым недавно присоединился со всем войском ещё и король Франции Филипп. Но и Саладин не терял времени зря, он так же собрал большое войско, в свою очередь осадив осаждающих.
И тут на сцене появляется король Ричард — блистательный и великолепный, он весь — буря и натиск. Исламский хронист Боаэддин так об этом писал: «Король был страшной силы, испытанного мужества и неукротимого характера, он составил себе большую славу своими прежними войнами. Его флот состоял из 25 кораблей, наполненных воинами и съестными припасами. Он прибыл к Акре 8 июня 1191 года. Франки предались по этому поводу громким ликованиям и ночью зажгли огни. Христиане давно уже ожидали короля Англии, мы знали, что они отложили окончательный приступ до его прибытия — так высоко ценились ими его искусство и отвага. Появление короля Англии произвело большое впечатление на мусульман, ими начал овладевать страх… И вот на стенах Акры появилось знамя франков, в то же время раздались крики радости со стороны христиан. Мусульмане остановились на некоторое время… затем раздались плачь и рыдания».
Около трех лет топтались крестоносцы под Акрой, но стоило появиться здесь этому невероятному герою, и Акра тут же пала. Разумеется, Ричард не в одиночку взял Акру, последний штурм и без него был хорошо подготовлен, и всё–таки одно только его появление среди крестоносцев вдохнуло в них новые силы, которых оказалось достаточно для того, чтобы переломить ситуацию.
И Ричард радостно купался в этом море всеобщего восхищения. Ему и самому уже казалось, что в лучах его славы даже солнце должно померкнуть. Он уже верил, что в мире есть только один рыцарь, а остальные — лишь свидетели его славы.
Вот идет Ричард по взятой Акре и видит над одним домом знамя австрийского герцога Леопольда. Дом понравился Ричарду, и австрийское знамя по его приказу тут же сорвали и бросили на землю. Между тем, Леопольд проявил во время осады чудеса доблести и не заслужил такого с собой обращения. Но что он мог сделать, глядя, как срывают его знамя? Кто тут мог хоть слово сказать против Ричарда?
Ричард вообще очень легко оскорблял людей, но вовсе не потому, что ему нравилось видеть их унижение. Просто он никогда не думал о том, что чувствуют люди его окружавшие, и как они могут переживать из–за его поступков.
К примеру, король Филипп, конечно, не был таким блистательным героем, как Ричард. Но Филипп был королем. А Ричард унижал его на каждом шагу. Он, например, щедро раздавал награды вассалам Филиппа. Рыцари потом говорили: «Ещё никто не раздал столько за год, сколько он за месяц». А каково было королю Франции слышать, как его рыцари прославляют короля Англии?
Ричард задыхался без всеобщего восхищения, как без воздуха. Может ли такой человек быть религиозным? А он безусловно был религиозным, но его религиозность была страстной и нервной. Однажды, ещё в Мессине, он вдруг так глубоко почувствовал греховность своей жизни, испытал такое сильное раскаяние, что вышел к собранию епископов в одной сорочке, босой, при всех покаялся в своих грехах и потребовал бичевания. Кто знал натуру Ричарда — ни на секунду не усомнился в его искренности. Хронист писал, что Ричард «с того часа сделался богобоязненным, творил добро и избегал зла». Да куда там…
Однажды к Ричарду явился всеми уважаемый священник Фулько и сказал ему: «Говорю тебе, король, именем Всемогущего Бога, выдай как можно скорее замуж трех своих злейших дочерей. Одну зовут Гордостью, другую — Корыстью, а третью — Безнравственностью». Ричард, презрительно усмехнувшись, ответил: «Я отдаю мою Гордость за гордых храмовников, мою Корысть за корыстных цистерианцев, а мою Безнравственность за прелатов церковных». Иными словами: «На себя бы вы все посмотрели». К тому времени припадок раскаяния у Ричарда благополучно завершился, началась длительная ремиссия.
И он продолжал творить такие дела, в которых любой христианин потом каялся бы до конца дней. В плену у Ричарда было 2700 мусульман, Саладин обещал заплатить за них выкуп, но когда подходил срок выплаты, он раз за разом просил подождать ещё, оправдываясь тем, что ещё не собрал необходимой суммы. Ричард понял, что Саладин просто водит его за нос и предупредил: не заплатишь к следующему сроку — всех обезглавлю. Саладин опять не заплатил, и Ричард приказал обезглавить 2700 человек.
Это страшное преступление до наших дней все ненавистники Ричарда (как правило — ненавистники рыцарства) с удовольствием ставят ему в вину. Хотя стоило бы задуматься — а какая была у Ричарда альтернатива? Позволять потешаться над собой, как над дурачком? Льва нельзя дергать за усы. И Саладин, когда тянул с выкупом, явно сознательно провоцировал Ричарда на преступление. Султан пожертвовал своими людьми, для того, чтобы выставить Ричарда палачом и лишить его героического ореола среди крестоносцев. И сами мусульмане упрекали за эту казнь не столько Ричарда, сколько Саладина, не пожелавшего спасти своих, выполнив условия договора.
Ричард был по–рыцарски прямолинеен и простодушен, он поступал так, как диктовала ему его буйная натура, и в этом он был абсолютно честен. Саладин — тонкий, изощренный политик, поступал только так, как это будет выгодно. Ричард всегда оставался самим собой, Саладин сознательно, продуманно и целенаправленно создавал «миф о Саладине», который, кстати, и по сей день имеет хождение в Европе.
Когда под Акрой Ричард тяжело заболел, Саладин посылал ему фрукты и даже врачей, рассчитывая всему миру продемонстрировать своё благородство и великодушие. Во время сражения под Яффой Саладин, увидев Ричарда пешим, воскликнул: «Как, такой король стоит пешим посреди своих людей! Это неприлично». Султан отправил королю коня, поручив вестнику сказать, что такой великий человек не должен оставаться пешим в столь великой опасности.
Ах, как это было красиво! Ну просто лубочная картинка, призванная запечатлеться в истории. Саладин ни на секунду не был искренен, он просто изучил психологию франков и хорошо знал, что такой «рыцарской жест» произведет на всех крестоносцев большое впечатление. Но с этим жестом вышел большой неудобняк. Ричард приказал сесть на подаренного коня одному из своих рыцарей а конь, вопреки воле всадника, понес его в лагерь мусульман. И все увидели, что Саладин — подлец. До крайности смущенный султан послал королю другого коня.
А Ричард сразу же после Акры немедленно приступил к совершению великих подвигов. Ему тоже хотелось в историю, но он намеревался туда попасть не при помощи красивых жестов, а совершая что–нибудь такое, что не по силам живому человеку. И у него получалось. Ричард наводил ужас на сарацин. Исламские женщины, когда ребенок плакал, говорили: «Молчи, рядом король Англии».
Под Арсуром крестоносцы встретились с 200-тысячной армией Саладина и с гораздо меньшими силами опрокинули её. Когда франки уже грабили лагерь, мусульмане, народ упертый, вновь напали, франки были готовы отступить, обратив победу в поражение, но тут появился Ричард, который «косил неверных, как жнец колосья» и это решило исход боя.
Говорят, что на равнинах Рамлы, хотя там и не было крупных боевых столкновений, Ричард все же исхитрялся сносить до 30 голов неверных ежедневно. Прикосновения его меча были смертельны. Если для императора Конрада III разруб «от плеча до седла» был редким ударом, то для Ричарда это была норма. А уж что он вытворял под Яффой…
Когда мусульмане захватили Яффу, Ричард посадил своих на корабли и устремился туда. Не дожидаясь, когда корабли подойдут к берегу, он прыгнул в воду и чуть ли не в одиночку выгнал сарацин из города, прежде, чем они поняли, что произошло. Расторопный Саладин тут же бросил на Яффу основные силы, подоспев туда ночью. Крестоносцы босиком, некоторые в одних рубашках, пытались остановить врага. У них было всего 10 лошадей, на одну из них вскочил Ричард и сразу же врезался в гущу врага лишь с несколькими рыцарями, распространяя вокруг себя ужас, он гнал перед собой целые толпы. Но вот враг проник в город через другие ворота. Ричард в сопровождении всего двух рыцарей бросается туда. Чуть ли не в одиночку выгнав врагов из города, он возвращается на равнину. Здесь он молниеносно вклинивается в гущу мусульман, исчезает в их толпе и его уже считают погибшим. Но мусульмане вдруг начинают разбегаться. Когда после победы Ричард вернулся к своим, его конь был полностью залит кровью, а сам он «весь пронзенный стрелами, напоминал подушечку, утыканную иголками».
Эту невероятную победу одного человека над целым войском современники считали самым чудесным событием в летописях человеческого героизма. Когда Саладин стал упрекать своих эмиров, что они были повержены одним человеком, он услышал: «Да разве это человек? Все его действия превосходят доступное разуму».
Ричард стал самым ярким воплощением рыцарского образа боя за всю историю рыцарства, наглядно показав, что рыцарь на поле боя — это не просто боец, — его сила равна целому подразделению. Вы представляете, какое чувство собственного достоинства должно быть у такого бойца, если он хорошо знает, что являет собой нечто большее, чем просто отдельный человек? И каковы в этом случае соблазны гордыни.
Навсегда останется загадкой, почему Ричард, одержавший столько блестящих побед, так и не пошёл на Иерусалим. Половины затраченных им усилий хватило бы на то, чтобы взять Святой Град, освобождение которого вообще–то и было целью похода. Даже если считать, что Гроб Господень был Ричарду совершенно безразличен, то ведь он же понимал, что слава освободителя Иерусалима будет самой громкой, какую только можно себе представить. Говорят, что бесстрашный король был человеком нерешительным, если речь не шла о личном участии в бою. Как только речь заходила о решениях полководческих, он мялся, не зная, что предпринять и, с большим трудом поставив перед собой цель, вдруг неожиданно её менял, а потом опять менял.
Уже после Арсуфа можно было сразу идти на Иерусалим, но Ричард вместо этого пошёл к Яффе и начал её восстанавливать, кажется, лишь затем, чтобы хоть чем–то себя занять. Потом он вдруг принялся восстанавливать Аскалон. Войско роптало: «Мы пришли сюда не строить Аскалон, а освобождать Иерусалим». А он всё никак не мог решиться пойти на Святой Град.
Посреди побед Ричард начал задумываться, уединяться, решимость соратников словно наводила на него тоску. Он вдруг заговорил, что возвращается в Европу, потом так же неожиданно сообщал, что остается. Встав лагерем в 7 милях от Иерусалима, он простоял здесь несколько недель, так и не решившись отдать приказ о последнем рывке. Всякий раз, когда христианская армия устремлялась к Иерусалиму, на него вдруг нападала необъяснимая медлительность и осторожность. Однажды, увлеченный погоней за неприятелем, он доскакал до высот Эмауса, откуда был виден Святой Град. Ричард не смог сдержать слез и закрыл лицо щитом, словно стыдясь смотреть на ускользающую цель его похода.
Рискну предположить, в чем была причина его необъяснимой нерешительности. Ричард боялся Бога, а потому боялся идти в Град Господень. Овеянный неслыханной земной славой, в глубине своей чувствительной поэтической натуры он ощущал, что перед Богом он мелок и незначителен. Он очень болезненно переживал эту свою духовную ничтожность. Ричарду казалось, что стоит ему вступить в Святой Град, как все увидят, насколько он незначителен рядом с великими святынями. Несмотря на всю свою грубость, в глубине души он был довольно религиозным человеком, у него были с Богом свои очень живые отношения. В нем жил страх Господень.
Позднее безбожный император Фридрих под гром литавр вступил в Иерусалим и не убоялся короноваться в храме Гроба Господня. Этот самодовольный безбожник не чувствовал своего духовного ничтожества. А Ричард чувствовал. И убоялся.
И вот из Европы пришло известие, что брат Ричарда Иоанн (известный нам, как «принц Джон») изгнал поставленного им наместника, а король Франции, уже вернувшийся в Европу, начал против Англии боевые действия. Ричард, кажется, даже обрадовался, что у него теперь был такой прекрасный повод вернуться в Европу. Он тут же заключил с Саладином перемирие на три года. Условия договора были весьма неплохими — за крестоносцами осталось почти всё побережье, султан гарантировал христианам свободный доступ в Иерусалим.
Прежде, чем отбыть на родину, крестоносцы безоружными паломниками отправились в Иерусалим. Ричард с ними не пошёл. Он боялся Святого Града. И этим он выразил куда более трепетное преклонение перед Гробом Господним, чем те, кто бездумно бился головой о его камни.
Когда Ричард садился на корабль, провожающие плакали. Его очень многие любили. Он тоже не мог сдержать слез и сказал: «О, Святая Земля! Поручаю народ твой Господу Богу, и да позволит Он мне вернуться и помочь тебе». Бог ему этого не позволил. Ричард оказался недостоин Иерусалима. И сам он это понимал гораздо лучше других.
Он возвращался на родину тайком, зная, что в Европе его многие ненавидят. И вот, когда он был на территории Австрии, его инкогнито раскрыли, герцог Леопольд приказал его арестовать и бросить в темницу. Для Ричарда пришло время платить по счетам. Леопольд припомнил ему австрийское знамя, брошенное в грязь. Глубокую обиду австрийского герцога можно понять, но он поступил совершенно не по–рыцарски, как низкий человек. Тихо выждал, когда на Ричарда можно будет навалиться всем герцогством и восторжествовал. Этим поступком он навсегда себя опозорил.
Император Германии, узнав, что у его вассала столь знаменитый пленник, поступил ещё более низко — он приказал отдать ему Ричарда и так же бросил его в темницу, словно пленника, взятого на поле боя. Короля Англии перевезли из Вены на берега Рейна, в одну из имперских крепостей. Ни в чем не виноватого перед империей короля–рыцаря, теперь держал в заключении император, доказавший, что слово «честь» для него ничего не значит.
Король Франции Филипп тот час поздравил императора и попросил его стеречь пленника как можно лучше. Ещё один подлец. Покидая Святую Землю, Филипп поклялся Ричарду, что в его отсутствие он не нападет на английские владения. И сразу же, как вернулся — напал. А эта трусливая радость, что его враг в тюрьме, показала, как сильно он боялся встретить Ричарда на поле боя. Филипп на весь мир торжественно провозгласил, что он не только подлец, но и последний трус. Это нельзя оправдать ни какими соображениями государственной пользы. Если трон становится транслятором подлости и трусости — страна своё получит. И Франция ещё умылась слезами.
А уж как веселился братец Ричарда Иоанн, требовавший от всех вассалов короля присягнуть ему, потому что Ричард уже не вернется. Он сразу же снюхался с Филиппом, заклятым врагом своей страны. Подлость принца Джона хорошо известна нам, благодаря Вальтеру Скотту и легендам о Робин Гуде.
Леопольд — Генрих — Филипп — Иоанн — удивительно длинная цепочка подлецов, каждый из которых формально был рыцарем, но ни один из них не имел в душе ничего рыцарского. А Ричард порою был очень жесток, порою он легкомысленно оскорблял окружающих, но он никогда не был подлецом, его рыцарская честь всегда была вне всяких сомнений. За всю свою жизнь он не совершил ни одного низкого поступка, какие совершали его враги.
Да, Ричарда многие ненавидели, он умел быть невыносимым, но и любили его так, как редко кого–то любили. И друзья у него были такие, что позавидуешь. Его друзья сбились с ног, пытаясь выяснить, где подлый император держит Ричарда. Рыцарь–трубадур Блондель обошёл всю Германию в поисках пленного короля. Подойдя к замку, где, как ему сообщили, томится какой–то знатный пленник, Блондель услышал голос, напевавший начало песни, которую он когда–то сочинил вместе с Ричардом. Блондель тотчас пропел второй куплет. Ричард узнал его. И Блондель сразу же устремился в Англию сообщить, что нашел тюрьму короля. Теперь уже даже папа римский потребовал для Ричарда свободы.
Император устроил над Ричардом недостойное судилище, предъявив ему бредовые обвинения. Когда Ричард произнес свою оправдательную речь, епископы и бароны залились слезами, что не помешало императору потребовать за Ричарда огромный выкуп. Выкуп принято было требовать только за взятых в бою пленных, а ведь Германия даже не воевала с Англией.
Ричард был вынужден пообещать, что заплатит, он и так провел в плену два года, а враги тем временем разоряли английские владения. И Англия, без того разоренная «саладиновой десятиной» — налогом на крестовый поход, а так же бесчинствами принца Джона, теперь отдавала на выкуп последнее — приходилось продавать даже церковную утварь. А император потирал ручонки, радуясь, как ловко он провернул это выгодное дельце.
Вернувшись в Англию и построив принца Джона по стойке смирно, Ричард сразу же отправился воевать со своим заклятым другом Филиппом во французские владения анлийской короны. Так он провоевал ещё пять лет, пока во время осады одной крепости не был ранен в шею отравленной стрелой. Без яда враги всё же не смогли его победить.
Ричард ещё был жив, когда стрелка схватили и привели к нему. Поговорив со своим убийцей, Ричард приказал отпустить его на свободу, то есть он умер христианином — всех простив. Но когда душа его отлетела, вассалы Ричарда впервые не выполнили приказ своего короля — с убийцы, который намазал свою стрелу ядом, живьем содрали кожу. И никто их за это не упрекнул.
***
Жозеф — Франсуа Мишо писал: «Имя Ричарда было на протяжении столетия ужасом Востока. Мусульмане употребляли его имя в поговорках, как символ зла. Он был поэтом, трубадуром, но это не смягчило его свирепости. Он мог насмехаться над религией и жертвовать собой ради неё. Он не знал границ в ненависти, как и в дружбе. Страсти, кипевшие в нем, редко позволяли ему иметь одну цель. Он не был способен управлять людьми, поскольку не мог управлять собой. Он должен был принадлежать скорее рыцарским романам, чем истории».
И всё–таки без Ричарда Львиное Сердце сейчас уже невозможно представить себе историю средневековья, историю рыцарства, и чьё–то желание сплавить его имя куда–то в область романистики ничего не может в этом изменить. Ричард с максимальной яркостью воплотил в своей жизни как величайшее достоинства рыцарства, так и его тягчайшие пороки. Ричард потому и завораживает, что само его львиное сердце было ареной жесточайшей борьбы добра и зла. А ведь это и есть жизнь. Поэтому Ричард и теперь живее всех живых. На радость нам и на беду.
Король Людовик IX Святой
Людовик IX вступил на трон ещё ребенком. Его короновали в 12 лет после неожиданной смерти отца. Но прежде, чем он отправился в Реймс на коронацию, в Суассоне его посвятили в рыцари. Это было сделано в нарушение обычая, который предписывал посвящать в рыцари юношей по достижении 21 года. Но в XIII веке Франция уже не могла представить себе на троне не рыцаря. Тем миром должен был управлять обязательно и только рыцарь. Даже если это ребенок. И Людовик всю свою жизнь очень внимательно и серьезно относился к своему рыцарскому достоинству. Оно много для него значило, хотя великих подвигов ему не суждено было совершить.
Рано стало заметно, что Людовик предназначен для подвига духовного, впрочем и в этом проявлялось благородство его рыцарской натуры. Вот он приказал построить аббатство Ройомон. Король–ребенок уже строит аббатства. Причем, ему мало приказать, ему надо самому строить. Посетив стройку, он вместе с одним монахом стал носить носилки, груженые камнями, повелев братьям–принцам последовать его примеру. Братья хотели на полпути передохнуть, но он очень серьёзно сказал им: «Монахи не отдыхают, и нам не следует отдыхать». Братьям хотелось поболтать и покричать, но он их урезонил: «Монахи здесь не шумят, и нам не следует шуметь».
И вот, повзрослев до боеспособного возраста, Людовик тяжело заболел. Уже думали, что король умер, но вдруг он очнулся и тотчас потребовал, чтобы ему «дали крест». Людовик сказал: «Уже давно дух мой за морем, и вот, если будет угодно Богу, тело моё отправится туда же и завоюет землю сарацин».
Его мать, вдовствующая королева Бланка Кастильская, не одобрила намерения сына. Она внушала ему, что он принес обет будучи больным и не совсем в себе. Тогда Людовик сорвал нашитый на одежду крест и вновь потребовал его у епископа Парижа, «чтобы больше не говорили, что он взял его, не ведая, что творит». Людовик умел быть жестким, в том числе и со своей властолюбивой матушкой.
Почему для Людовика было так важно отправиться в крестовый поход? Тонкий Жак ле Гофф пишет: «Он шёл на Восток не для того, чтобы увидеть Гроб Господень, он шёл не в Иерусалим, хранящий память о страстях Христовых. Он шёл, чтобы попытаться стать Христом. Цель — Сам распятый Христос. Король страждущий постепенно трансформировался в короля–жертву, короля Христа».
Эти слова могут показаться звучащими несколько… чрезмерно, но ведь подражание Христу, уподобление Ему — это задача, которую должен ставить перед собой каждый христианин. Речь, собственно, лишь о том, что Людовик был очень глубоким христианином.
Каким он был бойцом? Говорят, что Людовик оказался достойным сыном своего отца, равного которому не было на поле брани. Верный друг короля сенешаль Шампани Жан де Жуанвиль писал о нем: «Никогда в жизни не видел я столь прекрасного рыцаря, ибо он возвышался над плечами своих людей с золоченым шлемом на голове и немецким мечом в руке».
Жуанвиль рассказывает так же о бесстрашии, с каким король шёл навстречу опасностям морского похода, и не терял хладнокровия ни тогда, когда корабь сел на мель, ни во время морского сражения.
Когда корабли крестоносцев подошли к египетской Дамиетте, к порту было не подступиться, мусульмане осыпали корабли стрелами. Король, увидев, что христиане остановились, прыгнул в море со щитом на шее, и копьем в руке, вода была ему по пояс. Выбравшись на берег, он сразу вступил в бой. Когда крестоносцы увидели, что сделал король, они тоже прыгнули в море и вступили в сражение.
Судя по всему, Людовик был хорошим бойцом, храбрым и умелым, но хронисты очень скупо рассказывают о короле на войне. Великих боевых подвигов он не совершил, хотя вполне соответствовал требованиям, которые можно было предъявить к рыцарю. Вообще, Людовик неплохо разбирался в военном деле, в Египет он, например, привез целый парк боевых машин, особенно осадных устройств.
При Мансуре 9 февраля 1250 года крестоносцы одержали большую победу. Это был триумф короля–рыцаря, но триумф, увы, единственный. Вскоре последовало поражение, в результате которого король попал в плен.
В плену король постоянно думал и говорил о других пленных крестоносцах, об их участи, о том, возможно ли её смягчить. Он наотрез отказался делать какие–либо заявления, которые бы противоречили христианской вере. Он провел в плену месяц и его выкупили. Король очень разгневался, узнав, что его доверенные лица обсчитали мусульман на 20 тысяч ливров. Он считал, что обязан держать слово, данное кому бы то ни было, включая неверных. И в плену, и при освобождении он являл собой пример безупречного рыцарского поведения.
После освобождения Людовик отправился в Акру, некогда освобожденную Ричардом Львиное Сердце, и надолго остался здесь уже в качестве простого паломника. Всего он провел в походе почти шесть лет — с августа 1248 по июль 1254 года. Ни один король Франции, отправившись в Святую Землю, не оставался здесь так долго.
В чем была причина того, что он не торопился на родину? Можно осторожно предположить, что во всяком случае одна из причин заключалась в его матери. Бланка Кастильская, женщина чрезвычайно властолюбивая, фактически правила Францией от имени короля–ребенка. Когда Людовик достиг совершеннолетия и о регентстве надлежало забыть, привычка править у Бланки, конечно, не исчезла. Она по–прежнему пыталась диктовать свою волю и Франции, и сыну — королю. Для Людовика, как для любящего сына, из этой ситуации не было хорошего выхода. Надо было либо отказаться от своего королевского и мужского достоинства, во всем «слушаясь маменьку», либо постоянно входить с ней в конфликт и жестко ставить на место, нарушая заповедь о почтении к родителям. Король нашел выход, оставшись в Святой Земле. Не отрекаясь от своего королевского достоинства, он фактически отрекся от власти.
Едва только пришла весть о смерти его матери, он тотчас отправился во Францию. Теперь это был настоящий король — зрелый, возмужавший, закаленный. Более того — это был невиданный и неслыханный король.
Он никогда не носил одежду ярких цветов, не использовал предметов роскоши, отказался от золотых и серебряных украшений, предпочитая простое железо. Он редко расставался с той грубой одеждой, в которую облачился, как крестоносец, был совершенно неприхотлив в еде, никогда не заказывал себе ни каких блюд. Вино пил сильно разбавленное водой из простого стеклянного кубка. Его называли монахом на троне.
Впрочем, этот король–монах был крепким государственным деятелем, он очень много сделал для своих подданных именно как правитель, при этом не забывая творить добро своим подданным, как человек. Людовик щедро раздавал милостыню, где бы он в своём королевстве не появлялся, везде много жертвовал на храмы, лепрозории, больницы. Каждый день он кормил великое множество бедняков, при чем многих — в своих покоях, часто сам резал им хлеб и подносил питьё.
Душа Людовика неустанно трудилась над осмыслением нравственного и общественного порядка. Король постоянно думал о защите слабых и советовал своему сыну в «Поучении»: «Если случится ссора между бедным и богатым, стой на стороне бедняка, пока не выведаешь правду, а как только выведаешь — верши суд».
При этом добрый король Людовик умел быть не только суровым, но и жестоким. Случилось, что один парижанин среднего сословия мерзко поносил имя Господа и богохульствовал. За это король велел заклеймить ему рот раскаленным железом. Времена тогда были суровые, но даже по меркам того времени это многим показалось «через край». Но, когда короля упрекнули в жестокости, он ответил, что с радостью дал бы заклеймить каленым железом себя самого, если бы благодаря этому все мерзкие богохульники исчезли из его королевства. И это не были пустые слова.
Король–монах, король–слуга никогда не забывал о том, что он король–рыцарь, придавая всему, что связано с рыцарством большое значение. В XIII веке юный аристократ превращался в мужчину только когда становился рыцарем. И вот, всегда и во всем скромный, Людовик устроил великолепное посвящение в рыцари своего наследника Филиппа. В 1267 году, в день Святой Троицы, в саду парижского дворца в присутствии многочисленных вельмож и при огромном стечении народа состоялось торжественное посвящение в рыцари дофина Филиппа. Вместе с ним были посвящены в рыцари многие молодые аристократы. Для Людовика это был праздник чести.
Но более всего король удивлял подданных своим благочестием. Его исповедник говорил, что желание поста у короля была настолько неодолимым, что пришлось запретить ему поститься по понедельникам, как он того хотел. Он ежедневно присутствовал на мессе. Ближе к полуночи король имел обыкновение подниматься, чтобы петь заутреннюю со своими капелланами, а, вернувшись с заутрени, использовал время отдыха, чтобы молиться у своего ложа. Каждый вечер король молился после повечерия вместе с капелланом в своей капелле. Капеллан уходил, а король продолжал молиться. Ежедневно король делал 50 земных поклонов. Каждую страстную пятницу он читал всю Псалтирь целиком.
Известна его любовь к нищенствующим орденам — доминиканцам и францисканцам. Он даже надеялся, что второй и третий его сыновья станут монахами: один — доминиканцем, второй — францисканцем. Наследнику Филиппу в «Поучении» он пишет: «Любезный сын, моя первейшая тебе заповедь — люби Бога всем твоим сердцем и всем существом, ибо без этого нет человека».
Своё поражение в крестовом походе он объяснил так: «Бог этими угрозами отверзает нам глаза, чтобы мы ясно узрели пороки наши и отринули то, что Ему претит».
Однажды он спросил Жуанвиля: «Что бы вы предпочли: быть прокаженным, или совершить смертный грех?» Жуанвиль сказал: «Уж лучше бы совершить тридцать смертных грехов, чем быть прокаженным». Людовик на это ничего не ответил, поскольку рядом были посторонние, но на другой день сказал своему верному другу: «Вы говорите, как пустомеля, ибо, к вашему сведению, ни какая проказа не сравнится со смертным грехом, так как душа, пребывающая в смертном грехе, подобна дьяволу».
И вот Людовик IX вновь решает отправиться в крестовый поход. Цель похода — Тунис — откровенно говоря, была очень странной. Когда предыдущий крестовый поход был направлен на Египет, это было объяснимо, поскольку Египет — ключ от Палестины. Но от Туниса до Святой Земли слишком далеко. Похоже, эту цель подсказали Людовику люди, которые руководствовались соображениями чисто прагматическими. Тунис — одна из тех ключевых точек в Средиземном море, которые позволяют его контролировать.
Почему же король, далекий от подобной прагматики, согласился на это? Похоже, ему было всё равно. В своём первом крестовом походе он не достиг только одной своей желанной цели — не умер за Христа. Он явно только этого теперь и хотел.
Перед отплытием в Тунис он посетил парижские монастыри и, опустившись на колени перед монахами, в присутствии рыцарей и слуг, просил молиться за него.
В Тунисе крестоносцы не одержали ни каких побед, и король вскоре тяжело заболел. Когда силы его были уже на исходе, а голос замирал, он всё так же неустанно из последних сил взывал к святым, которых особенно почитал, а больше всех — к святому Дионисию, покровителю своего королевства. Он много раз повторял конец молитвы, которую произнес в аббатстве Сен — Дени: «Молим тебя, Господи, сподоби нас отринуть блага земные и не убояться превратностей судьбы».
Говорят, что в ночь перед кончиной он прошептал: «Мы войдем в Иерусалим». Может быть, он уже видел Небесный Иерусалим. Его мечта сбылась — он умер за Христа.
Жак ле Гофф писал: «Его воспринимали, как идеального крестоносца, хотя оба его похода провалились. Эти катастрофы окружили его ореолом более чистым, чем ореол победы. Для историков он останется последним великим крестоносцем, на нем это приключение закончилось».
***
Очарование личности Людовика Святого загадочно. И вот русский историк Т. Н. Грановский пытается дать свою разгадку этой личности: «Сравнивая с суровыми лицами деятелей того времени задумчивый и скорбный лик Людовика, мы невольно задаем себе вопрос об особом характере его деятельности. В чем заключалась тайна его влияния и славы? В великих ли дарованиях? Нет. Многие из современников не только не уступали, но и превосходили его дарованиями. В великих ли успехах и счастии? Нет. Дважды, при Мансуре и в Тунисе, похоронил французский король цвет своего рыцарства. В новых ли идеях, которых он был представителем? Но он не внес ни каких новых идей в государственную жизнь Франции… Значение его было другого рода…»
Грановский объясняет личность Людовика IX через метафору Святого Грааля: «…Доступ к Святому Граалю труден: он возможен только по высочайшему целомудрию, благочестию, смиренномудрию и мужеству, одним словом, высшим доблестям, из которых сложился нравственный идеал Средних веков. Таковы должны быть служители Грааля. Молитва и война составляют их призвание и подвиг в жизни, но война священная, за веру, а не из суетных житейских целей. В стремлении приблизиться к такому идеалу Западная Церковь облагородила феодализм до рыцарства… Идеалу средневековой доблести суждено было воплотиться в лице Людовика IX».
Всё правильно. Людовик IX стал идеальным рыцарем веры. Так близко к христианскому идеалу рыцарства не приблизились даже рыцари из романов. Высочайший уровень личного благочестия Людовика IX сделал его меч воистину священным оружием.
Католическая Церковь канонизировала Людовика IX уже через 20 лет после его кончины. Это единственный святой король Франции. Святой рыцарь. Так, может быть, очарование Людовика Святого, это и есть очарование святости?
Конечно, православный человек лишен формальной возможности считать Людовика IX святым. Мы не можем ему молиться, не можем называть детей его именем. Все канонизации католиков, совершенные у них после раскола, для православных — «яко же не бывшие». Иначе нельзя. Иначе мы берега потеряем. Но это не значит, что у католиков больше не было и не могло быть святых. Это значит лишь то, что мы не можем произнести на сей счет никакого определённого суждения. Теоретически возможен такой вариант: православные соборно рассматривают житие некоего католического святого и, если не находят к тому препятствий, объявляют его святым. Хотя, конечно, никто этого не будет делать.
Но тогда лучше воздержаться от окончательных суждений типа: он еретик, поэтому не может быть святым. Остерегитесь. Бог уже совершил над Людовиком IX частный суд. И приговор нам не известен. И тогда не будет грехом предположить: может быть, он и правда святой.
Черный принц
Принц Эдуард, старший сын короля Англии Эдуарда III, заслужил своё прозвище Черный принц не только тем, что любил щеголять в черных доспехах, но и своими черными делами.
Столетняя война была в полном разгаре. Франция, со всех сторон теснимая Англией, теряла свои земли, проигрывая одно сражение за другим. Принц Эдуард стал одной из самых ярких фигур этой войны. Прославился он тем, что, возгласив королевские войска в Аквитании, прошел по этой провинции огнем и мечом, имея тысячу рыцарей и столько же латников. Прежние английские рейды на французской территории не были настолько беспощадными, а принц побил все рекорды по бесчеловечности и жадности. Он полностью сжег города Каркассон и Нарбон, опустошил области Бержерак и Перигор. Обосновавшись в Бордо, англичане регулярно совершали набеги на Луару, сжигали города и крепости.
Английский хронист писал о рейдах Черного Принца: «Всех, кто оказывал ему сопротивление, он захватывал в плен или убивал». Надо лишь уточнить, что убивал он бедняков, «вдов и сирот», а рыцарей брал в плен, потому что пленный рыцарь — это капитал, за него платили выкуп. За короткий срок в плену оказалось не меньше шести тысяч французских рыцарей.
Черному принцу не откажешь в блестящем военном профессионализме и боевой доблести. Дерзость его рейдов поражала воображение. Имея лишь тысячу рыцарей, пленить 6 тысяч рыцарей противника — это надо суметь. И всё–таки маленькое войско Черного Принца, прекрасно организованное, высокопрофессиональное и полностью преданное своему вождю, было лишь бандой грабителей. Они убивали и жгли только для того, чтобы грабить. Кроме добычи их вообще ничего не интересовало. К тому же они никогда не имели дела с крупными силами французов, всегда нападая на тех, кто слабее.
И вот в конце лета 1356 года большая французская армия во главе с королем выступила из Парижа против Черного Принца. Численность французской армии была по крайней мере вдвое больше английской. Черный Принц сразу начал спешно отступать по направлению к своей основной базе в Бордо. Французская армия опередила англичан в районе Пуатье и отсекла им дорогу на юг. И что же тогда сделал наш отважный принц? Какой великий подвиг он решил совершить? Он храбро отправил к французам парламентеров, пообещав вернуть всю добычу, всех пленников, все захваченные им крепости и города, а в обмен просил только одного — свободного прохода к Бордо.
Это был момент истины, когда стало понятно, что такое Черный Принц на самом деле. Нет, он не был трусом, и свою храбрость много раз доказал на поле боя. Он был прагматиком. Зачем вступать в битву, когда нас мало, а врагов много? Убьют ещё. А за что ему было отдавать жизнь? Человек с душой грабителя всегда понимает, что жизнь дороже добычи. «Останусь в живых — ещё награблю всякого добра, а убьют, так уже ничего больше не награблю». И ведь он отдавал не только добычу, но также и крепости и города, которые захватывал для английской короны. Но на интересы короны ему было также плевать, и принимать красивую смерть во славу Англии он не собирался. Интересно, если бы французы приняли его условия, с какой рожей он вернулся бы в Бордо? Ведь ему же любой встречный рыцарь мог сказать: «Что, мальчик, страшно стало? Привык грабить беззащитных, а как только увидел настоящую армию, так сразу же приказал принести себе коричневые штаны?»
От несмываемого позора Черного Принца спасла только французская спесь. Тупое высокомерие короля Франции Иоанна II вполне могло соперничать по размерам с низменным прагматизмом принца Эдуарда. Король потребовал у принца, чтобы он сдался вместе со своей свитой и последовал в тюрьму. Желая не просто уничтожить, но и унизить Черного Принца, король показал низость собственной души.
Так много принц уже конечно не мог предложить королю и повел себя, как крыса, загнанная в угол — оставалось только драться. Он постарался воодушевить своих воинов, сказав, что в случае победы «они станут самыми уважаемым людьми в мире». Значит, он всё–таки считал победу вполне возможной? А ведь только что хотел отдать все завоеванное без боя.
19 сентября 1356 года произошла знаменитая битва при Пуатье. Французы потерпели страшное, неслыханное, тотальное поражение. Их потери насчитывали 5–6 тысяч человек, примерно половину из них составляли рыцари. Под Пуатье погиб цвет рыцарства Франции.
Нет причин сомневаться в храбрости французских рыцарей и их личном боевом профессионализме. Англичане победили их за счет тактики. Прагматичные, как и все грабители, они хорошо научились использовать не только рыцарей, но и солдат, в первую очередь — лучников. Английские крестьяне (йомены) потом пели: «Если бы не йомены с гнутыми палками, враг бы слопал Англию, как муху». Эдуарду было плевать на рыцарские традиции, он делал то, что эффективно. И за это его, конечно, трудно осуждать.
Французское рыцарство по–прежнему считало, что война это дело исключительно рыцарей, и пусть простолюдины не путаются под ногами. Когда накануне сражения под Пуатье к французам пришло ополчение горожан, по приказу короля оно было отослано назад. Король, совершенно уверенный в победе, очевидно, полагал, что сделал очень красивый жест, дескать, без сопливых разберемся, но на самом деле это был жест тупой спеси.
Горожане и крестьяне взялись за оружие, потому что они ведь тоже были французами, и им невмоготу было смотреть, как гибнет Франция. И потому, что они в первую очередь страдали от войны. Это рыцарей брали в плен, а их–то ведь просто убивали. А рыцари не могли их защитить, хотя это был священный долг рыцарства. Рыцари должны были испытывать нестерпимый стыд от того, что оказались не в состоянии защитить своих людей, позволяя Черному Принцу бесчинствовать, как ему хотелось. Вместо этого они отмахивались от простолюдинов, как от назойливых мух.
Поражение французов под Пуатье и другие их поражение во время Столетней войны кого–то приводят к выводу, что рыцарское войско слабее солдатского, последнее на тот момент было более современным и эффективным. Между тем, это совершенно не так. Отнюдь не рыцарство показало свою слабость и отсталость на полях Столетней войны. Слабость французов, делавших ставку исключительно на рыцарство, проистекала как раз из непонимания сути рыцарства. Дело в том, что этот род войск, основанный на определенном менталитете, отнюдь не универсален. У рыцарства есть свои достоинства и свои недостатки. Рыцарство к тому времени вовсе не было устаревшим, оно отнюдь не отжило свой век, но максимально эффективным войском было войско комбинированное, где лучшие качества рыцарей подкреплялись лучшими свойствами солдат. Собственно, войско Черного Принца в этом смысле как раз и было комбинированным, а потому максимально эффективным.
Впрочем, слабость рыцарства к тому времени сказывалась уже далеко не только в его нерациональном использовании на поле боя, в переоценке его достоинств и непонимании слабостей. Рыцари Столетней войны внутренне, духовно уже очень мало походили на рыцарей первого крестового похода. По мере того, как христианские идеалы понемногу выветривались из души европейской аристократии, рыцарство духовно слабело, понемногу превращалось в пародию на самого себя.
Ярким примером духовной, ментальной деградации рыцарства был французский король Иоанн II. Претендовавший на благородство король предстает на страницах хроник неумным, безответственным и смешным. Это классическая пародия на рыцаря. На поле боя под Пуатье он «дрался до конца», очевидно, воображая себя великим героем, при этом хорошо зная, что ни кто его не убьет. Какой англичанин захотел бы лишить себя целого состояния? Выкуп за короля мог составить больше золота, чем он весил вместе с доспехами. И вот, до сыта наигравшись в героя, французский король красиво объявил о том, что сдается. Тут он чуть было не просчитался. Английскую солдатню мало интересовала красота его жеста, они чуть не задавили короля, когда каждый из них старался завладеть ценным трофеем и правом на выкуп. Однако, пронесло — помяли, но не покалечили.
И вот тут разыгрывается неописуемой красоты рыцарская сказка. Черный принц решил дать ужин в своём шатре в честь французского короля, воспользовавшись для этого французскими же продовольственными припасами, захваченными после битвы. Принц посадил короля и его сына за стол, сам им прислуживал и проявлял большую скромность, отказываясь сам сесть за стол вместе с королем, говоря, что ему не место за столом такого могущественного монарха и такого отважного рыцаря. Эдуард сказал Иоанну: «Дорогой сир, пусть не портит ваш аппетит то обстоятельство, что Всемогущий Господь не позволил вашим мечтам исполниться сегодня. Не сомневайтесь в том, что мой господин и отец окажет вам все почести и выразит свою дружбу, насколько это будет в его силах, и уладит дело с выкупом так, что вы навеки останетесь друзьями. Сегодня вы прославились своей доблестью, превзойдя ею всех рыцарей, сражавшихся за вас». Французы ответили принцу, что он станет одним из самых достойных королей в христианском мире.
Ото всей этой сцены веет такой отвратительной фальшью, что хоть нос затыкай. Эти люди играли в рыцарей, изображая благородство. Ведь они же хорошо знали, какие слова должны говорить благородные рыцари. Вот они и говорили. Но рыцарского духа, сурового и прямого, в них уже не было.
Черный принц находу писал «легенду о Черном Принце». Он фактически диктовал своему секретарю, в каких словах надлежит прославить его неслыханное благородство. Но была у его красноречия и вторая цель, вполне прагматическая, потому что алчный грабитель ни на миг в нем не засыпал. Очаровывая французского короля, он размягчал ему мозги, готовя к подписанию выгодного для англичан договора. И король что называется «поплыл», подписав с этим «любезным юношей» перемирие, признав все английские захваты французской территории. Вот каким «рыцарем» был король Франции на самом деле. Король предал Францию, предал своих подданных, предал всех павших в этой безумной войне.
Иоанн с Эдуардом друг друга стоили. Английский наследный принц перед боем заявил о своей безоговорочной готовности предать Англию, а французский король предал Францию после боя. Дофин и Генеральные Штаты Франции, разумеется, отказались подтвердить договор, подписанный королем.
А Черный Принц ещё долго потом бесчинствовал, проливая моря французской крови. Наталья Басовская писала: «Характерный пример противоречия рыцарских норм морали интересам государства — освобождение Черным Принцам за выкуп взятого в плен в 1367 году талантливого французского полководца Дюгеклена». Это получается, что Черный Принц отпустил опасного врага, лишь бы не вступить в противоречие с «нормами рыцарской морали»? Ой да полно вам. Казнить Дюгеклена было всё равно что бросить в море мешок с золотом, а когда это профессиональный грабитель отказывался от золота? Дюгеклена потом можно было ещё раз взять в плен и ещё раз получить выкуп. Ничего личного, просто бизнес.
Анджей Сапковский писал о Черном Принце: «Герой неисчислимых «рыцарских» сказок для детей, которого Жан Фруассар, французский поэт и историк, назвал «благороднейшим и достойнейшим рыцарем, какие только жили со времен короля Артура» ведет войну с Францией. Захватив Лимож, он дарует жизнь всем взятым в плен рыцарям. Как ни говори — рыцарская солидарность обязывает. Остальные 6 тысяч защитников и жителей Лиможа, в том числе женщины и дети, перебиты».
Сапковский не находит в Черной принце ничего благородного, считая его злодеем. И это единственный случай, когда я согласен с Сапковским.
Черный Принц так и не стал королем, он умер за год до смерти своего отца. Бог не позволил этому кровавому чудовищу взойти на трон.
***
Если вы интересуетесь историей рыцарства, за XIV век можете не заглядывать, там настоящего рыцарства уже не было. Отдельные рыцари, конечно, были, они и сейчас есть, но рыцарство, как таковое, не пережило Столетней войны. И вовсе не потому, что на полях сражений этой войны погиб «цвет рыцарства», а потому что эта война окончательно убила рыцарский дух, рыцарскую ментальность — не как свойство отдельной личности, а как достояние корпорации. С тех пор в истории мы увидим ещё не мало мужиков, закованных в железо, но настоящих рыцарей обнаружить среди них будет уже весьма затруднительно.
***
За каждым из этих рыцарей, чьи биографии нам относительно хорошо известны, стоит целый смысловой ряд. Таких, как каждый из них, было много. Так какими же они были? Белыми, черно–белыми, черными. Всё, как и всегда в жизни.
Рыцарский менталитет.
О рыцарстве мы меньше всего узнаем от рыцарей. Конечно, мы очень многое можем узнать от них о боевой тактике, образе жизни и кодексе чести рыцарства. Но то особое мироощущение, которое присуще только рыцарям, исключительно им одним во всей мировой истории, рыцари словами выразить не могли.
Средневековое мышление было совершенно внеисторично, рыцари даже и не догадывались, что в другие эпохи жили принципиально другие, не похожие на них воины. Автор «Песни о Роланде», писавший в XII веке, спокойно приписывает Роланду, жившему в VIII веке, все те свойства и качества, которые присущи его столетию. Ему не известно, что между VIII и XII веками — пропасть, что души воинов за это время сильно изменились, а потому исторический Роланд не мог так думать, так говорить, так реагировать на происходящее.
Да что там Роланд, рыцари и Гектора Троянского считали самым что ни на есть настоящим рыцарем, таким же, как они, даже ещё лучше. Гийом из Нанжи (1230) писал: «Изучение словесности и философии пришло вместе с понятием рыцарства сначала из Греции в Рим, а из Рима во Францию вслед за святым Дионисием». Ну вот что с них возьмешь, если они искренне полагали, что «понятие рыцарства» существовало и в Древней Греции, и в Древнем Риме, а французы его только заимствовали.
Любой человек — это то, чем он отличается от других людей, так же как и любой народ — это то, чем он не похож на другие народы. Если народ ни чем не отличается от других народов, значит такого народа не существует. И суть рыцарства именно в том, чем оно отличается от других военных элит — в другие эпохи и у других цивилизаций. Боюсь, что сами рыцари просто не поняли бы такой постановки вопроса.
Что же касается современных нам «демократических веков», то сейчас тем более не понимают рыцарства, уже хотя бы потому, что христианина может понять только христианин, а где вы найдете христиан среди мудрецов века сего? Для наших мудрецов Средние века — это мрачная и жуткая эпоха, темный провал в истории человечества. Такой негативный стереотип, мягко говоря, не способствует серьезному, вдумчивому, объективному отношению к главным персонажам средневековья — рыцарям.
Вряд ли вы сможете найти серьезную работу о ментальности рыцарей, о характерных особенностях рыцарского мировосприятия, о том, что такое рыцарский психотип. Мне на многое тоже не дерзнуть, постараюсь лишь пунктиром прочертить некоторые направления, по которым можно было бы разрабатывать эту тему.
1. Родина рыцарей — Церковь.
Почти все работы о рыцарстве подчеркивают космополитизм рыцарского мировосприятия. Т. Н. Грановский ещё в 1851 году писал: «Барон редко унижал себя сознанием, что в городе живут его соотечественники. Он стоял неизмеримо выше их и едва ли не с большим высокомерием смотрел на бесправного и беззащитного виллана. При таких особенностях быта у каждого сословия должно было развиться собственное воззрение на все жизненные отношения и высказаться в литературе. Рыцарские эпопеи проникнуты этим исключительным духом. Возьмите любой роман каролингского или прочих циклов: вы увидите, что в нем нет и не может быть места героям другого сословия, кроме феодального. То же самое можно сказать о рыцарской лирике. Она поет не простую, доступную каждому человеческому сердцу любовь, а условное чувство, развивающееся среди искусственного быта, понятное только рыцарю… Среди городского населения процветала своя, неприязненная феодализму литература. Здесь родилась сказка, в которой язвительный и сухой ум горожанина осмеивал не одни только доблести и идеи составляющие как бы исключительную принадлежность рыцаря, но вообще все идеалы, все поэтические стороны Средних веков».
Ведь что интересно: если барон не был готов рыдать на груди у горожан и крестьян, так это уже обязательно высокомерие. Если для него ничего не значило то, что они — его соотечественники, так это лишь потому, что он, такой гордый, не хотел себя унижать. Но ведь ощущение того, что вот эти люди для тебя — чужие, вовсе не обязательно должно быть вызвано высокомерием. Это возможно, но не обязательно. И ведь автор говорит, что сухой и язвительный ум горожанина осмеивал вообще все идеалы. Если человек смеется над всем, что вам дорого, то разве гордыня побуждает вас считать такого человека чужим, хотя он и говорит на одном с вами языке? В принципе г-н Грановский точно обозначает то обстоятельство, которое вызвало эту сословную пропасть: с одной стороны — наличие высших идеалов, а с другой стороны — отсутствие идеалов и презрительное к ним отношение.
Пусть русский православный человек спросит себя, кто ему ближе и роднее: православный грек или русский безбожник? Что дороже: вера или почва? Что драгоценнее: земное отечество или отечество небесное? И вот когда вы будете отвечать на эти вопросы, тогда вы, может быть, поймете рыцаря, которому иностранные рыцари были ближе и роднее, чем отечественные горожане.
Спустя полтора столетия после Т. Н. Грановского, Наталья Басовская писала: «Феодалы с большим трудом отрешались от космополитической в своей основе рыцарской морали. Идеалы рыцарства представляли собой кодекс военной касты. Кастовая солидарность рыцарства была чужда зарождающимся элементам национального чувства. Феодалы постепенно вырабатывали особую систему нравственных ценностей, призванных утвердить моральное превосходство рыцарства над другими сословиями. Наличие этого кодекса способствовало сближению феодалов различных стран. На протяжении веков рыцари ощущали связь с собратьями по классу гораздо отчетливее, чем с людьми, связанными общностью территории и языка. Рыцарская мораль признавала высшей добродетелью верность сюзерену, а им мог быть феодал любой страны».
Всё так, но надо уточнить: в рыцарскую эпоху таких понятий, как «родина», «отечество», «нация», «народ» ещё не существовало вообще, то есть с рыцарей затруднительно было спрашивать, чтобы они служили своей стране и своему народу, когда никто и не слыхал, что это такое. Мы сейчас порою думаем, что «патриотизм» был всегда, что «Родина» — из разряда вечных ценностей, а это совсем не так. «Патриотизм» — порождение буржуазной эпохи, он в полный голос заявил о себе лишь во времена Великой Французской революции, когда, разрушив трон и храм, французы больше не знали, кому и чему служить, и решили служить Родине, что в переводе означало — национальной буржуазии.
Если помнить об этом, то ругательное для каждого патриота понятие «космополитизм» в применении к рыцарству теряет смысл, а утверждение г-жи Басовской о том, что рыцарская мораль была космополитична звучит странновато. Любая мораль по определению космополитична. Не может быть немецкой или французской морали. Мораль может быть религиозной или корпоративной, но ни когда не национальной. И то, что рыцарская мораль была корпоративной, то, что это была некая кастовая система нравственных ценностей, не надо преувеличивать. Г-жа Басовская, как и большинство современных авторов, в этом вопросе недооценивает религиозный фактор. Рыцарская мораль в основе своей была христианской — с некоторым специфическим оттенком, присущим военной касте.
Собственно, этот оттенок и отличал рыцарей от других сословий, которые тоже ведь объединяли христиан. Но идеи жертвенности, защиты слабых, верности долгу — в основе своей чисто христианские, а отнюдь не военно–корпоративные, получили максимальное развитие именно в рыцарстве, потому что это отвечало его социальной функции.
В национальных государствах тогда никто не жил, потому что их не было. Христианская Европа жила в Церкви, а рыцари, горожане и крестьяне жили на разных этажах Церкви. Естественно, английский рыцарь был ближе французскому рыцарю, чем французский крестьянин. Рыцари разных национальностей были с одного церковного этажа.
Специфичность собственно рыцарского восприятия христианства проявилась, например, в удивительном слиянии аскетизма военного и аскетизма христианского. Ценности, порожденные военной психологией, вдруг оказались очень хорошо сочетаемы с ценностями чисто христианскими. Марк Блок писал: «Из светской морали рыцарство позаимствовало наиболее приемлемые для религиозной мысли принципы: щедрость, презрение к отдыху, страданию и смерти». Немецкий поэт Томазин говорит: «Не желает быть рыцарем тот, кто хочет жить спокойно».
Это уникальное взаимопроникновение военного и церковного аскетизма, разумеется, было не только не близко ремесленнику или крестьянину, но и вообще им не понятно, хотя они тоже были добрыми христианами, но Христос хотел от них другого. В итоге рыцарь только с рыцарем мог разговаривать на одном языке. И это осознание рыцарями своей исключительности вовсе не обязательно порождало в них высокомерие по отношению к другим сословиям. Настоящий рыцарь, как хороший христианин, всегда понимал, что Бог любит всех, и каждый, занимаясь своим делом, служит Богу. И крестьяне, и ремесленники, тоже исключительны в своем смысле, потому что занимают свои этажи в архитектуре Церкви.
Так в чем же, собственно состоял рыцарский космополитизм? Да в том, что рыцари служили вечным, надмирным ценностям и в силу этого не были слишком привязаны к почве.
Кретьен де Труа писал: «Самый высший орден, который Бог создал и которым командовал, есть орден рыцарства». Итак, рыцари служат непосредственно Богу, самые лучшие из них скачут, уже не касаясь земли.
Гийом Дюран привел в своем «Понтификале» благородную рыцарскую молитву: «Святейший Господь, Отец всемогущий, Ты, Который позволил использование на земле меча, чтобы бороться с хитростью злых и защищать справедливость, кто для защиты народа создал орден рыцарства… Сделай так, что бы раб Твой никогда никого не поразил этим мечом несправедливо, но чтобы служил им всегда для защиты справедливости и права». Так мог молиться только рыцарь.
Внутреннее ощущение того, что они, рыцари, служат вечным, космическим ценностям постепенно нарастало в рыцарстве. Жан Флори писал, что рыцари короля Артура «совершают подвиги, которые предполагают вызов силам оккультным, силам мирового зла. Они выполняют миссию космического масштаба, миссию противостояния мировому хаосу и поддержания мирового порядка, то есть космоса, как такового. Эти идеи составили самую сердцевину рыцарской идеологии… Прежний образ идеального рыцаря, верного своему сеньору в деле защиты его земель и безоружных подданных уступает место образу поборника Вселенского Добра в вечном противостоянии вселенскому злу».
Рыцарско–христианский идеал достиг своей мистической вершины.
2. Царственное воинство
Е. Ефимова писала: «Рыцарь привык полагаться в защите самого себя только на собственную силу, только на стены своего замка. Всеми правами, всей властью рыцарь обязан только самому себе. Везде и всегда он действовал от своего лица, от собственного имени. Над ним не было внешней власти, которая могла бы преградить его волю, не было сильного, общего для всех закона. Он подчинялся только добровольно… Его верность — свободный дар, залог его верности — его честь. Как сильно должно было быть влияние подобного положения на того, кто занимал его!..»
Это один из самых принципиальных моментов в понимании рыцарского психотипа. Замок и его окрестности — это маленький изолированный самодостаточный мир, и рыцарь в этом мире — полноправный суверен, едва ли не абсолютный монарх. У такого человека формируется чувство полной ответственности за всё. Нет той спины, за которой он может спрятаться, почти никогда он не имеет возможности позвать кого–либо на помощь. Все последствия каждого его решения ложатся на него и только не него. Так из поколения в поколение в рыцарях всё больше утверждалось, всё больше проникало в их кровь обостренное чувство ответственности.
Привыкнув полагаться только на самого себя и полностью отвечать за свой маленький мир, рыцарь, попадая в большой мир, тут же готов был взять на себя полную ответственность и за него. Он уже так устроен, его не переделать, поколения его предков ощущали себя полноправными суверенами. И при дворе короля, и при дворе самого могучего в мире императора рыцарь держит себя, как суверен. Здесь уже очень много спин, за которые можно спрятаться, но у рыцаря нет такой привычки. Здесь таких, как он, много, и, казалось бы, каждый из них — лишь винтик большой государственной машины. Но рыцарь не способен чувствовать себя винтиком, он и есть машина. При дворе могучего монарха очень выгодно гнуть спину, льстить и заискивать, так чтобы всех растолкать и приблизиться к трону. Но рыцарь этого не умеет. Нет навыков. И получать их он не собирается. У него самоощущение центра власти. Он привык склоняться только перед Богом, и никогда — перед людьми. Поэтому самый незначительный рыцарь, имеющий лишь тощую клячу, ржавую кольчугу и зазубренный меч, смотрит на императора, как на равного. Как монарх на монарха. А императору другие воины и не нужны, он ведь не восточный деспот, который правит рабами.
Итак, при дворе императора, короля или герцога собирались государи. Только государи. Других здесь не было. Рыцарь, многие поколения предков которого на своем клочке земли правили полновластно, имел царственное достоинство. Царственность вдруг не возникает. Каждое поколение предков рыцаря добавляло что–то новое к этому самоощущению и постепенно формировались благородный взгляд, благородная осанка, благородство мыслей и слов, благородство поступков, достойных государя. Так являлось на свет царственное воинство, воинство из одних только царей, какого мировая история не знала ни до ни после.
Царственное достоинство каждого рыцаря, которое делало его равным королям, опиралось на две составляющих. Рыцарь равен королю, потому что они оба воины, и оба — христиане. Кто из них лучший воин — покажет поле боя, и не факт, что это будет король. Кто из них лучший христианин, рассудит Бог, и не факт, что это будет король. У рыцаря–шателена и короля лишь разные функции, разные задачи, но они равны по достоинству и в военном, и в религиозном смысле. Это уникальное преломление христианства через призму военной психологии, причем христианство от такого преломления отнюдь не искажалось, некоторыми своими гранями Евангелие засверкало в рыцарстве, как никогда ранее.
Здесь всё было совершенно не так, как в Риме. Г. Дельбрюк писал: «В Риме патриции правят благодаря политическим силам и политическим организациям. Римские консулы не передовые бойцы на поле боя, как германские герцоги и графы. Полководцы, по их понятиям, продолжали оставаться не воинами, а чиновниками (магистратами) Германские же короли и чиновники были наоборот прежде всего воинами и сохраняли этот характер даже тогда, когда управляли всей государственной жизнью. Императоры и короли средних веков — рыцари, весь их двор состоял из рыцарей. Герцоги и графы, правящие областями, так же являются рыцарями, даже епископы и аббаты достаточно часто брались за оружие. Кто в этих кругах не рыцарь, тот клирик, там кроме этих двух иного звания не существовало. Если король или какой–нибудь дворянин снимет рыцарский пояс, то это означает, что он готовится уйти в монастырь. Римская знать могла довольствоваться гражданскими должностями, ибо она могла держать массы в повиновении, опираясь на дисциплинированное войско, аристократы романо–германского средневековья не располагали обученными манипулами и когортами, вождями народа они могли быть только в том случае, если были самыми неустрашимыми бойцами».
Нам сегодня ближе римское понимание власти. В нашем понимании власть работает, как машина, состоящая из деталей, каждая из которых сама по себе ничего не значит, но машине, состоящей их этих деталей, ничто не может противостоять. То есть если грамотно и продуманно расставит по местам сумму ничтожеств, мы получаем необоримую силу. В рыцарском понимании, власть — это личность. Если личность обладает высокими достоинствами — она получает власть. Нет личности — нет власти. А власть в целом формулируется, как союз равноправных личностей, которые могут действовать как вместе, так и по отдельности.
3. Неслиянно и нераздельно
Если ничего не создавать, то возникает феодализм. Именно феодализм является естественной, органичной системой самоорганизации, которая вырастает буквально из почвы. Мы знаем много государственных систем, искусственных и надуманных, внедряемых единой централизованной волей. При помощи мощной государственной машины можно выстроить жизнь по какой угодно схеме, изобретенной кабинетными мудрецами. Только феодализм возникает сам по себе, поэтому в нем — мудрость самой жизни, мудрость Бога.
Разумеется, феодализм не был земным раем, потому что человеческая природа несовершенна. Но сама его идея почти безупречна. Оценивая феодализм, мы, как правило, оцениваем бесконечное множество извращений его принципов. Но не пора ли оценить сами принципы? Надо четко разделить отношение к идеям и к методам их реализации. Понятно, что на практике всё шло косо и криво. Но давайте рассмотрим саму идею, ту самую феодальную схему власти, которая и породила рыцарство.
Если каждый рыцарь осознает себя центром власти и является носителем достоинства, которое аналогично царскому, значит для того, чтобы выбраться из хаоса, между этой суммой суверенов должна существовать определенная система отношений. И эти отношения должны быть таковы, чтобы каждый суверен сохранял свою царственность, но чтобы при этом существовал общий для всех порядок. И этот порядок был создан при помощи феодальных присяг — оммажей.
Феодальный договор был по сути своей актом свободной воли полноправного и полноценного суверена. Оммаж устанавливал взаимные обязательства между вассалом и сеньором, сохраняя полную независимость вассала. Возникла удивительная и уникальная модель взаимоотношений при которой все абсолютно самостоятельны, но при этом все должны всем. Каждый отдельный суверен–феодал становится частью феодальной иерархии, в которой он занимает строго определенное место, что возлагает на него строго определенные обязанности, но при этом он не перестает быть сувереном, самостоятельным центром власти. Так оказалась решена проблема совмещения в рамках одной системы идеи личной свободы (а значит и личного достоинства) с идеей долга, ответственности, подчиненности. Все от всех свободны, но никто ни от кого не свободен. В рамках той системы отношений в такой постановке вопроса не было ни чего парадоксального.
Барон, являясь сеньором своих рыцарей–вассалов, сам был вассалом графа, который в свою очередь был вассалом короля, а вершиной этой феодальной иерархии был Господь Вседержитель — Верховный Сеньор.
В рамках феодальной иерархии действовало правило: «Вассал моего вассала — не мой вассал». Рыцарь приносил феодальную присягу барону и только ему, а потому ни чем не был обязан графу — сеньору барона. Но из этого правила было одно исключение — Богу, как Верховному Сеньору, все подчинялись непосредственно, напрямую, без субординации. На этом и строилась рыцарская честь. Барон не мог приказать рыцарю то, что противоречит воле Бога, как Верховного Сеньора, а воля Бога известна нам из Евангелия. Власть сеньора над вассалом ограничивалась не только перечнем пунктов феодальной присяги, но и Евангелием — главным источником представлений о рыцарской чести. Если барон приказывал рыцарю пойти и умереть, рыцарь должен был пойти и умереть — он помнил свой долг. В известных случаях сеньор был распорядителем его жизни, но он не был распорядителем его чести. Рыцарю нельзя отдать приказ, который противоречит его представлениям о чести. Рыцарь такой приказ не выполнит. И он будет прав с точки зрения феодальной морали.
Отношения между сеньором и вассалом строились согласно евангельским заповедям. Подчеркивалось, что сеньор и вассал должны любить друг друга. А отношения, которые строятся на взаимной любви, всегда равноправны. Один из них стоял в иерархии выше другого, но ни один из них не должен был позволять себе враждебного поступка по отношению к другому. Сеньора это касалось так же, как и вассала. Сеньор не должен был ни нападать на своего вассала, ни оскорблять его. Если сеньор это делал, вассал имел право порвать с ним связь и при этом сохранить феод.
Эта удивительная система строилась на подчеркнутом уважении к достоинству каждого, кто стоял в иерархии на ступеньку ниже. Как это непривычно для нас, когда мы сплошь и рядом видим, что каждый маленький начальник на каждом шагу позволяет себе унижать своих подчиненных, полагая, что власть дает ему такое право, но куда страшнее то, что и подчиненные согласны с тем, что начальник имеет право их унижать.
Размышляя об особенностях феодальной иерархии, я поневоле вспомнил про халкидонский догмат, из которого следует, что две природы Христа, божественная и человеческая, сосуществовали в Нем неслиянно и нераздельно. Вот так же точно и звенья феодальной иерархии сосуществовали неслиянно и нераздельно. Каждое звено иерархии было совершенно самостоятельно и не сливалось с другими, и всё–таки эти звенья составляли единую нераздельную цепь.
4. Рыцари строем не ходят
Г. Дельбрюк пишет: «Традиции дисциплины у рыцарства не было… При ознакомлении со способом ведения войны рыцарством становится понятно, почему средневековье не создало действительной воинской дисциплины. Непосредственно для военных целей она бы ничего не дала. Исход сражения всегда зависел от рыцарей, там где они были стойки и пока они были стойки, они были опорой, жизненным нервом, костяком для других родов войск. Основой же рыцарства было высокоразвитое личное чувство чести, для проявления которого строгая дисциплина являлась бы, может быть, только помехой. Личная слава есть та несовместимая с дисциплиной идея, которой рыцарь живет, и которая заставляет его в бою искать поединка… В Средние века исход сражения решался не так, как у римских легионов — сплоченностью, ловким маневрированием и совместным натиском хорошо дисциплинированных тактических единиц, а личной храбростью и сноровкой отдельных воинов».
Современная армия держится исключительно на железной дисциплине. Армия хороша настолько, насколько она дисциплинирована. Отсутствие дисциплины или её слабость — недостаток для современной армии губительный. Поэтому, когда у нас говорят об отсутствии в рыцарской армии дисциплины, это понимают как неразвитость, незрелость военного мышления, дескать рыцари ещё не доросли до дисциплины, не преодолели анархических тенденций в своей среде. Но это принципиально неправильный взгляд. Дельбрюк справедливо замечает, что рыцарям дисциплина была не только не нужна, она бы им даже мешала, потому что на поле боя всё зависело от личности, а дисциплина препятствует максимальному проявлению возможностей личности.
Рыцарское войско — это войско такого типа, который нам сейчас совершенно непонятен, поэтому мы склонны потешаться над его недостатками и не видим его огромных преимуществ. Да, рыцари на поле боя сражались в основном каждый сам по себе. Повседневная жизнь рыцаря не только не вынуждала его к кем–либо сливаться, но и принципиально этому препятствовала. Рыцарь, привыкший нести личную ответственность за всё, увидев вражеское войско, понимал дело так, что ему сейчас предстоит это войско уничтожить. Он воспринимал это, как личную задачу, потому что все задачи в его жизни всегда были исключительно личными, возложенными только на него одного. Никогда рыцарь не видел перед собой спины, за которую может спрятаться. Рыцарь мог и в одиночку броситься на целое войско, как это не раз делал Ричард Львиное Сердце, но чаще всего рядом с ним были другие рыцари и каждый из них ставил перед собой такую же личную задачу. Конечно, они желали общей победы, но каждый из них работал на эту победу в одиночку.
Разумеется, рыцари никогда не были отшельниками и, являясь частью феодальной иерархии, имели определенные навыки согласованных действий. Первый натиск рыцарской конницы страшен был тем, что на противника летела именно шеренга рыцарей, напоминающих конную фалангу. Византийский император Лев говорил, что натиск франков в конном строю неистов, противостоять ему невозможно. Но дальше каждый действовал сам по себе.
В современном мире таких бойцов практически нет. А ведь каждому полководцу хотелось бы иметь бойцов, каждый из которых готов в одиночку взвалить на себя судьбу сражения. Но вместе с рыцарством мы потеряли то, о чем сейчас можем лишь беспомощно мечтать. Вот вам и «отсутствие дисциплины».
Странная тенденция характеризует демократическую эпоху: чем больше у нас говорят о «приоритете интересов личности», тем меньше у нас личностей. И это не случайный побочный эффект процесса демократизации, а напротив — результат целенаправленной селекционной работы по выведению человека без личности. Когда под треск демократических лозунгов к власти в Европе пришли торгаши, главную для себя опасность они видели в ярких личностях, в героях, каждый из которых способен к самостоятельным действиям. И начался процесс стирания личностей, и появились солдатские армии.
Идеальный солдат — это человек исполнительный и ограниченный, готовый выполнить любой приказ и не способный самостоятельно оценить его смысл. Он должен делать то, что ему говорят, слепо и не рассуждая. Как может воевать такой человек, который сам по себе ничего не стоит и ничего не значит? Только сливаясь с другими такими же, как он, в некую сверхличность. Сам по себе солдат — абсолютный ноль, но рота — это уже кое–что, а дивизия — это очень серьезно, если действует, как единая личность. Значит главный талант солдата — способность сливаться в единый организм с другими такими же, как он. Рыцарь действует, как личность, солдат — как органичная часть сверхличности. Почему в современных армиях такое большое значение уделяют «шагистике», строевой подготовке, которая, казалось бы, не имеет прямого отношения к боевому искусству? Да потому что, маршируя в ногу, синхронно выполняя общие команды, солдат приобретает навыки слияния в единый организм с другими солдатами. Это его главная способность, делающая солдата солдатом. Такое войско без дисциплины — это стадо баранов, оно не боеспособно в принципе. Рыцарское войско без дисциплины сражалось так, что мир дрожал.
В солдатском войске все солдаты — и офицеры, и генералы. У них так же, как и у рядовых, главный талант — способность действовать, как часть единого органичного целого, они так же не самодостаточны. И среди рядового, и среди командного состава любая яркая личность — по определению угроза общему целому. По большому счету, наличие любых индивидуальных черт мешает солдату, затрудняет его «слияние с абсолютом». Идеальный солдат — это зомби, робот, принципиально лишенный индивидуальности, а потому максимально способный к синхронным действиям с такими же, как он безликими единицами.
Художественное чутье давно уже открыло эту истину лучшим фантастам, например, Лукасу. В «Звездных войнах» действуют идеальные армии из дроидов и клонов. И вот в тот самый момент, когда развитие солдатских армий пришло к своему логическому завершению, когда наконец появились идеальные солдаты, вдруг так обостренно ощутилась нехватка рыцарей, невозможность дальнейшего без них существования, что тоже самое художественное чутьё просто вынудило Лукаса создать рыцарей джедаев. Это именно рыцари. У них ярко выражена индивидуальность. У них максимально развито чувство личного достоинства. Каждый из них стоит армии. Каждый готов в одиночку держать всю галактику на собственных плечах. Лукас не понял, что демократическая система, сторонником которой он является, принципиально не способна породить корпорацию героев. Вот как раз Император, который у Лукаса уничтожил орден джедаев, на самом деле и создал бы этот орден. Лукасу не дано всё это понять и всё же, как большой художник, он прекрасно почувствовал, что без рыцарей невозможно удерживать космические весы в равновесии.
Из сказанного вовсе не следует, что рыцарь — это хорошо, а солдат — это плохо. Мы сделали акцент на плюсах рыцаря и минусах солдата из соображений исключительно полемических, полагая важным развенчать миф о том, что рыцарская армия была слаба в силу неорганизованности. Нам важно понять, что за этой «неорганизованностью» скрывалась сила, которой мы сейчас можем только завидовать. Но силу солдатских армий тоже нелепо было бы отрицать. Они эффективны, в них есть своя красота. И человек, способный к слиянию с огромной и могучей сверхличностью, в душе своей может переживать это как причастность к подлинному величию. Тут уж кому что дано.
Итак, рыцарь и солдат — это два диаметрально противоположных психотипа. Они проявляют себя не только в военном деле, но и в сфере гражданского управления, да в общем–то и в любой другой сфере человеческой деятельности. Сильная стороны рыцарей — способность к самостоятельным действиям, слабая сторона — неспособность к слиянию с другими, к совместным синхронным действиям. Соответственно, у солдатского психотипа всё наоборот: сильная сторона — способность к образованию сверхличности, к тому чтобы играть роль органичной части единого целого, слабая сторона — приглушенная индивидуальность, не самодостаточность.
Духовные риски рыцарства
В этом мире нет ничего совершенного, и рыцарский психотип так же несет на себе печать несовершенства. В этом мире буквально всё таит в себе духовную опасность, и рыцарство так же подстерегают свои духовные опасности. Быть рыцарем — рискованно, и вовсе не потому, что могут убить, а потому, что на пути рыцарства можно погубить свою душу. Но давайте будем помнить: нельзя объявлять некий путь духовно неприемлемым, только потому, что он духовно опасен. Чтобы не рисковать своей душой, надо вообще не жить, но мы христиане и в нирвану не стремимся. Духовные риски несут в себе многие профессии, у управленцев они, к примеру, свои а у актеров — свои. Богатство несет в себе одни духовные риски, а нищета — другие. Даже на пути святости душу всегда подстерегают ловушки. Отшельникам поставлены свои ловушки, юродивым — свои, а уж сколько ловушек расставлено вокруг архиереев, так им, чтобы не рисковать душой, лучше вообще не шевелиться и молчать. Так что рыцарство в этом смысле всего лишь не исключение.
Самая тяжелая, можно сказать, врожденная духовная болезнь рыцарства — это тщеславие, потому что стремление к личной славе — один из главных побудительных мотивов рыцарской активности. Когда на вражеское войско несется несколько десятков тяжелых всадников, каждый из которых готов разделаться с этим войском в одиночку, любой захочет быть первым, самым сильным и самым храбрым, тем, чья доблесть решит исход сражения. Именно стремление к тщетной славе, то есть тщеславия, и побуждает рыцарей совершать подвиги. Но ведь слава губительна для души, она ни в какой ситуации не может быть полезна. И дорога, которая ведет к тщетной земной славе — это дорога в ад.
Рыцарство осознало эту духовную опасность, едва родившись. Не случайно девизом ордена тамплиеров стали слова псалмопевца: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». И Вольфрам фон Эшенбах писал о тамплиерах: «Им запрещалось воевать, чтоб только славу добывать». Рыцари Храма сражались во славу Христа, каждый из них оставался безвестным, вполне сознательно отрекаясь от личной славы.
Храмовники всему рыцарству наглядно показали, каким должен быть настоящий рыцарь. На их примере рыцари убеждались, что можно и должно совершать подвиги безо всякого стремления к славе, что побудительным мотивом настоящего рыцаря должно быть стремление послужить Христу, Он и прославит Своего паладина, но только в Царстве Небесном — не раньше.
И дело вовсе не в том, что рыцари–монахи не стремились к славе, а светские рыцари — стремились. В Церкви монашество никогда не противопоставлялось мирянам, и у тех, и у других — одни и те же ценности, одни и те же стремления, одни и те же представления о грехе. И рыцари–монахи появились не на пустом месте, они рекрутировались из обычного светского рыцарства. И у них был прекрасный пример — Готфрид Бульонский, которого никто не мог заподозрить в тщеславии, и который совершил свои великие подвиги исключительно во славу Христову. Рыцари делились, скорее, на настоящих и не настоящих. А настоящий рыцарь это всегда и только рыцарь веры. Нехристианских рыцарей быть не может, а христианин должен бороться со своими грехами, с тщеславием — не в последнюю очередь.
Итак, вполне осознавая тщеславие как болезнь души, рыцарство, конечно не могло от этой болезни полностью избавиться. К рыцарю предъявляются запредельные требования. Подвиг должен быть для рыцаря повседневной нормой поведения. Рыцарство — это корпорация героев. Но какой герой смог полностью избежать соблазнов тщеславия? Этот грех всегда будет дамокловым мечом нависать над рыцарством. И настоящие рыцари всегда будут бороться с этим грехом.
Второй специфический рыцарский грех — это гордыня. Она ходит рука об руку со тщеславием, но это не одно и тоже. Гордыня — состояние души. Гордый человек может и не быть тщеславным, но он воспринимает себя самого, как самого ценного в мире человека, он служит только собственному «я». Жан Флори справедливо замечает: «К героизму бойца за дело веры примешивается изрядная доля рыцарской гордости, которая не имеет ничего общего с христианским благочестием».
Откровенно говоря, людей начисто лишенных гордости нам вряд ли удастся отыскать. Гордецом мы называем человека, в котором гордости много, а понемногу этой заразы есть в каждом. Что бы мы не делали доброго, по всему в той или иной степени примешивается гордость. А теперь представьте себе рыцаря — человека по определению исключительного. Рыцарь в силу самой своей сути возвышается над всеми остальными людьми. Он абсолютно самодостаточен и мало в ком нуждается. Как такому человеку избежать соблазна гордыни?
Но настоящий рыцарь борьбу с собственной гордыней всегда будет считать своей наипервейшей задачей. Рыцарь знает, что именно этого подвига в первую очередь ждет от него Бог. И милостивый Господь, зная, что рыцарь будет подвергнут соблазну гордыни больше других людей, дал ему от этой болезни особое рыцарское лекарство — благородство души. Благородство — главное отличительное свойство подлинной аристократии, то есть аристократии духа. В основе рыцарского благородства — умение держать дистанцию со всеми, при этом ни одного человека не считая хуже себя. Надменность, которую иногда можно встретить в рыцарях, чужда подлинному благородству. Надменный рыцарь так и не смог стать настоящим рыцарем. При этом в рыцаре должно быть развито чувство личного достоинства. Оно порою бывает похоже на гордыню, но не имеет с ней ничего общего. Человек с развитым чувством личного достоинства чужд раболепству, холуйству, заискиванию, то есть в нем нет человекоугодия. Это одна из важнейших отличительных черт рыцаря. Иногда именно достоинство рыцарей служило поводом для разговоров о рыцарской гордости, например о «гордости храмовников». Человек с рабской душой может посмотреть на благородного рыцаря и сказать: «Какой гордый». Но он не гордый, он просто не привык стелиться ковриком под ноги сильного, и это вовсе не противоречит настоящему смирению.
Но, развивая в себе личное достоинство, рыцарь легко может скатиться в гордыню, и сам того не заметив. Риск велик, но рыцарь не может ради избежания этого риска превратиться в холуя и лизоблюда. Чтобы сохранить своё достоинство и не впасть в гордыню, рыцарь должен пройтись по острию меча. Господь милостив, Он поможет.
Другая группа духовных рисков рыцарства связана с тем, что основное дело жизни рыцаря — война. А как часто на войне человек грубеет, звереет, становится жестоким и беспощадным. Блаженный Августин писал: «В чем грех войны? Неужели в том, что на войне погибают люди, которые всё равно когда–нибудь умерли бы? Осуждать смерть — это трусость, а не набожность. Нет, страсть вредить, ожесточенность мщения, неукротимость и непримиримость духа, дикость в борьбе, похоть господства — вот что по справедливости считается грехом в войнах…»
Это суждение чрезвычайно важно для понимания сути рыцарства. Возлагать на военных профессионалов вину за то, что на поле боя они убивают людей — это абсурд. Но ведь во время войны грех подстерегает рыцаря на каждом шагу — ожесточенность сердца, забвение жалости, нечувствительность к чужой боли — разве может избежать этого тот, кто не вылезает из кровавой мясорубки? Да, может. Можно воевать и не ожесточаться, не позабыть о милосердии и сострадании. Но как это трудно! Воистину, Бог хочет от рыцарей немыслимого. Иными словами, Бог хочет, чтобы осознав тщетность личных усилий в противостоянии греху, рыцарь на каждом шагу призывал Божью помощь.
Бернар Клервосский, твердо сказавший: «Нет такого закона, который запрещал бы христианину поднимать меч», дальше объясняет, насколько в реальности сложен этот вопрос: «Если тебе случиться быть убитым, когда ты стремишься убить другого — ты умрешь убийцей. Если одолеешь противника своей волей к победе и убьёшь человека, будешь жить убийцей же… Что за несчастная победа — победить человека, будучи при этом побежденным пороком, и тешиться пустой славой о его поражении, когда самого тебя поразили гнев и гордыня. Но что же те, кто убивает не в лихорадке мести и не в опухоли гордыни, а лишь ради того, чтобы спасти самого себя? Даже такую победу не назову я благой, поскольку телесная смерть есть воистину зло меньшее, нежели смерть духовная».
Да, не всякий убивающий на поле боя уже повинен в грехе убийства. Но нельзя просто так сказать: «Убийство на войне — не убийство». Аббат Бернар перечисляет те случаи, когда убивающий на самой праведной войне всё же повинен в грехе убийства. Да как же рыцарю избежать всего того, что перечислил аббат? Только с Божьей помощью. Но всегда ли рыцарь помнит о Боге на войне? Рыцарь ведь всего лишь человек — снаружи железный, а внутри — очень уязвимый. Воистину, духовные риски рыцарства огромны.
Ещё один риск связан с тем, что рыцарь по определению очень одинок. Причем, без этого одиночества, без внешней и внутренней обособленности, настоящий рыцарь не может состояться. А ведь в духовном плане это очень опасно. Тут ведь не трудно скатиться в тот тип индивидуализма, который усыновляет человека дьяволу. Если ты всегда и во всем сам по себе, то, может быть, тебе уже нет дела до других людей? А это духовная смерть.
У православных авторов слово «индивидуализм» имеет однозначно отрицательный смысл. Наши любят противопоставлять нехороший «западный индивидуализм» и хорошую «русскую соборность». При этом иногда забывают, что хоть соборность и хорошо, но она легко скатывается в стадность, в «колхозность», в коллективную безответственность, а это уже плохо. Так же индивидуализм может быть разный. Само слово «монах» происходит от «монос» — «один». И самыми великими православными святыми были отшельники, то же ведь «индивидуалисты», избравшие одинокий путь к Богу, но при этом любившие всех людей. Только вот постепенно всё более и более утверждались общежительные монастыри, а отшельничество почти исчезло. Это ведь не случайно. Одинокий духовный путь очень опасен, в одиночку легче погибнуть. Вот так же и с рыцарями. Одинокий, внешне и внутренне изолированный христианский рыцарь идет благим путем, но этот путь очень опасен. Если на этом пути рыцарь вдруг утратит связь с Богом, мало кто сможет его поддержать.
От слова «индивидуализм» на самом деле веет жутью. Крайняя степень индивидуализма и самоизоляции — это сатанизм. Сатанист — тотальный, абсолютный одиночка, разорвавший все связи. Но рыцарь, опять же по определению, принадлежит к Церкви, то есть к общности христиан, рыцарь принадлежит к иерархии, то есть он связан с людьми нитями присяг, которые очень тонки, и порою почти незаметны, но они достаточно прочны. И, наконец, рыцарь всегда с Богом. Пока остается рыцарем.
Связи рыцаря с людьми ослаблены, а вот его связь с Богом должна быть канатом, толщиною с руку. Иначе рыцарю — конец. Стоит рыцарю разорвать связь с Богом, как его связи с людьми оборвутся сами собой, и тогда он станет сатанистом.
Собственно, западный либерализм, который строится на индивидуализме, вырос как раз из злоупотребления рыцарской психологией. Западная цивилизация, душой которой было рыцарство, потеряла баланс, пытаясь утвердить рыцарское начало без Бога, и сорвалась в пропасть.
Настоящий рыцарь, отстаивая свою самодостаточность, своё священное право ни с кем не смешиваться, постоянно балансирует на краю пропасти, не срываясь только благодаря Божьей помощи. Место рыцаря в жизни — скользкое и страшное. На краю пропасти без молитвы и минуты не продержаться. Не рвитесь в рыцари. Рыцарем может быть только тот, кто ни кем иным вообще быть не может.
Рыцари барона Эволы
Жил в Италии XX века барон Юлиус Эвола. Это был сильный мыслитель, но страшный путаник. По какому–то нелепому недоразумению он считал себя язычником и отвергал «догмы христианства». Но барон отстаивал «мир традиции» не отдавая себе отчет, что в Европе XX века никакой иной живой традиции не существовало, языческая традиция была уже не первую тысячу лет мертва, встать на её почву было при всем желании невозможно. В итоге барон, отстаивая традицию, но отвергая христианство, по сути утверждал завоевания и плоды христианства, например — рыцарство.
Слово «рыцарство» барон Эвола, кажется, ни разу даже не произносит, но не много найдется авторов, которые бы тоньше и глубже выразили самую суть рыцарства, чем Эвола. Итак, дадим ему слово:
«Мир традиции толкует жизнь, как извечную борьбу метафизических сил: небесных сил света, порядка с одной стороны и темных, подземных сил хаоса и материи с другой стороны. Традиционный человек должен был вступить в эту битву и одержать победу одновременно и на внешнем, и на внутреннем уровне. Внешняя война считалась подлинной и справедливой, если она отражала борьбу, идущую в мире внутреннем. Это была битва тех сил и людей, которые во внешнем мире имели те же черты, которые необходимо было подавить и обуздать внутри себя».
По сути это объяснение глубокого духовного смысла крестового похода и любой войны за веру. Это гораздо глубже, чем у Бернара Клервосского, Эвола идет дальше. И это вполне христианское объяснение.
Он понимает «традицию» так: «Культура или общество являются традиционными, если они руководствуются принципами, превосходящими просто человеческий, индивидуальный уровень, если все их сферы образованы влиянием свыше, подчинены этому влиянию и ориентированы на высший мир… Жизненный уклад, который можно определить, как нормальный — вертикально ориентированный и напрямую связанный с истинным смыслом».
Эвола по сути рисует портрет христианской цивилизации, причем в связи с проблемами, которые породило расцерковление Европы: «Другой мир, подвергшийся нападению со стороны европейского нигилизма и отрицаемый им, как чистая иллюзия, или осуждаемый, как бегство от действительности, не есть иная реальность, это иное измерение реальности, где реальное, не отрицаясь, приобретает абсолютный смысл в непостижимой обнаженности чистого бытия».
Барон Эвола, может быть, и сам о том не догадываясь, с предельной ясностью и четкостью прочертил ту систему координат, в которой действует рыцарь. Это не отражение исторической эпохи, породившей рыцарство, это понимание жизни и своей роли в ней, которое в любую эпоху присуще настоящему рыцарю.
Что же такое рыцарь, каковы его свойства и качества? Эвола рассказал об этом, ни разу не употребив слово «рыцарь»: «Живые и характерные ценности, за которыми эта концепция признает преимущественное право — любовь к иерархии, умение повелевать и подчинятся, храбрость, чувство чести и верности, готовность к самопожертвованию даже в тех случаях, когда подвиг останется безымянным, ясные и открытые отношения между товарищами, между командирами и подчинёнными. Вопреки буржуазно либеральному утверждению, воинская идея не сводится к грубому материализму и не является синонимом превознесения грубого использования силы и разрушительного насилия. Основными чертами этого стиля являются любовь к дистанции, иерархии, порядку, способность подчинять свои индивидуальные интересы высшим принципам и целям. Этому стилю свойственны твердость в поступках и отсутствие красивых жестов, идеал ясности, внутренняя уравновешенность, недоверие к экстатическим состояниям и смутному мистицизму, чувство меры, способность объединяться, не смешиваясь, как свободные люди, ради достижения высшей цели или во имя идеи».
Кто–то может не узнать в этом портрете рыцаря, вспомнив, к примеру, о пресловутом «отсутствии дисциплины», и усомнившись в том, что рыцарям свойственна «любовь к порядку». Но на самом деле феодализм — это очень четкий и детализированный порядок, в рамках которого каждый занимает своё точно определенно место, и рыцарей в высшей степени характеризует любовь к этому порядку. Так же умение повелевать и подчиняться вполне свойственно рыцарю, поскольку феодальная присяга, которую он приносил и те присяги, которые приносили ему, в его сознании нерушимы. Рыцарю лишь претит плебейское «беспрекословное подчинение», которое ставят в заслугу солдату. И при всем своём «индивидуализме» рыцарь всегда готов подчинить свои индивидуальные интересы высшей цели.
Далее именно об этом: «Готовность подчиниться воинскому порядку и в одно мгновение вместе со своими вассалами стать мужами вождя, однако, всегда сохраняя при этом независимость, чувство одиночества, принципы различия и соблюдения обособленности в коллективе». «Истинный король хочет иметь подчиненных, являющихся не тенями, не марионетками, не автоматами, а личностями, воинами, живыми и могущественными существами, и его гордость заключается в том, чтобы чувствовать себя королем королей».
Это именно о рыцарстве, то есть это о воинах именно христианских, а уж ни как не языческих. Далее «интуитивное христианство» проявляется у Эволы ещё более ярко:
«Воинской традиции неведома ненависть, как основа войны. Ненависть, ярость, злоба, презрение в глазах истинного воина являются ублюдочными чувствами, он не нуждается в разжигании столь низменных чувств, в экзальтации. В традиционных государствах война велась с холодной головой, без всякой ненависти или презрения между противниками».
Здесь ответ на вопрос, который ставили перед собой христианские мыслители. Когда читаешь Бернара Клервосского, может показаться, что он лишь против бессмысленных феодальных усобиц и восхваляет войну за веру. Но! И во время феодальной разборки можно сражаться, не загадив свою душу. И на войне за веру можно озвереть так, что убьёшь веру прежде всего в самом себе. Эвола объясняет: сражаться по–рыцарски, значит сражаться без низменных ублюдочных чувств, то есть не разжигая в себе греховные страсти.
Если надо взяться за меч, значит надо, но ненависть к врагу — греховна, презрение к врагу разрушает душу воина. Настоящий рыцарь ни одного человека не считает хуже себя, включая врага, даже если этот враг совершает нечто ужасное.
Военная профессия связана с необходимостью заглядывать смерти в глаза. У рыцаря особые отношения со смертью. Эвола пишет: «Жизнь заключает естественный союз с риском, преодолевая инстинкт самосохранения, включая так же те ситуации, когда возможность физической смерти открывает путь к постижению абсолютного смысла существования и раскрывает в действии «абсолютную личность». Речь даже не о том, что на пределе сил может быть достигнуто индивидуумом в смертельном поединке, весть о котором ни когда не достигнет чьих–либо ушей, не только о безымянных подвигах, которые остаются без зрителей и совершаются без всяких притязаний на славу и ни когда не будут востребованы любителями романтического героизма. Важнее то, что процессы подобного рода в целом ведут к формированию человека нового типа… Этот современный тип носит смерть в себе, он уже не поддается пониманию в терминах индивида».
«Этот современный тип» — достаточно древний. Это рыцарский тип. Это, собственно, один из способов христианской самореализации личности. Это неудержимый порыв человека в святости, к максимально возможному для него религиозному действию. Такого воина уже действительно трудно понимать в терминах индивида, потому что неудержимый порыв к Небу выводит его за пределы собственной личности.
Эвола по сути призывает к возрождению рыцарства: «Когда властители Запада сделали феодальную аристократию своими врагами, когда они систематически стали направлять свои усилия на создание «национальной» централизации — они начали сами себе рыть могилу».
«Запад забыл… что такое война, война по собственной воле… как священный путь духовной самореализации. Они не знают больше воинов, они знают только солдат, и достаточно небольшой стычки, чтобы привести их в ужас и вызвать у них поток гуманистической, пацифистской и сентиментальной риторики».
«Повсюду ещё остались те, которые помнят о древнем благородстве… В тишине, в строгой дисциплине самообладания и самоопределения, мы должны с холодным настойчивым усердием создать из единиц элиту, возрождающую солнечную мудрость, то мужество… которое исходит из глубины души и сознания… Мы призываем всех одиноких и мужественных людей, остающихся неисправимо благородными в этом мире торговцев, уголовников и сумасшедших».
«… Возродить аристократические ценности, те ценности качества, дифференциации и героизма, тот смысл метафизической реальности, которым противоречит сегодня всё, и которые мы однако вопреки всему отстаиваем»,
«Особый тип человека… Его отличительной чертой является умение встречать лицом к лицу все проблемы современного человека, даже не смотря на то, что сам он, строго говоря, не является «современным человеком», поскольку всецело принадлежит другому миру благодаря наличию в нем иного измерения. Соответственно, для такого человека, в отличие от других, проблема заключается не столько в трагическом поиске собственной опоры (он ею уже обладает), но скорее в том, как выразить и утвердить себя в современной эпохе, в своем существовании здесь и сейчас».
«Отсутствие истинной идеи, способной объединять и разделять по ту сторону «родины» и «нации» приводит к тому, что единственной перспективой остается незримое и не признающее границ единство тех редких индивидов, которых роднит общая природа, отличная от современного человека, и одинаковый внутренний закон».
Эти цитаты из книг барона Юлиуса Эволы нет ни малейшего желания комментировать, есть лишь желание подписаться под каждым словом, пожалуй, даже ни чего не поправляя.
Понятно, почему Эвола, призывая к возрождению рыцарства, не называет вещи своими именами. Ведь история не знает ни каких рыцарей, кроме христианских, а он, наивно считая себя язычником, не хочет приводить примеров из истории христианства, но из истории язычества он тоже не приводит примеров, на которые опирается его концепция, потому что таких примеров попросту не существует. «Солнечная мудрость», о которой пишет барон — это именно христианство, как раз и противостоящее «лунной мудрости» язычества. Поэтому простим барону его ошибку, вызванную скорее всего тем, что в современной ему Европе XX века он не видел настоящих христиан и в силу этого имел о христианстве представление принципиально ошибочное.
Но настоящие, то есть православные, христиане есть в России, и они должны его услышать и понять, что возвышенные мысли Эволы — это плоды именно христианского древа. Мы должны понять Эволу лучше, чем он сам себя понимал.
Для современной России его мысли тем более актуальны, что самая суть мировоззрения Эволы — это отрицание западного либерализма. А русские, самый нелиберальный народ Европы, Богом призваны противостоять либерализму, и мы всё более соответствуем своему назначению, но при этом не всегда знаем, на что идейно опереться. И в этом барон Эвола, один из последних рыцарей Европы, может нам помочь.
Рыцари и самураи
Ещё раз приходится повторить: если ничего не создавать — возникает феодализм. Это не искусственная, а естественная политическая система. Феодализм порождаем самой почвой, самой природой человеческих отношений. Средневековая Европа и Япония не только ни как не соприкасались, но и вообще ни чего не знали друг о друге. Но и тут и там сформировались поразительно сходные системы феодальных отношений, которые отличаются друг от друга, кажется, только национальным колоритом. В Японии, как и в Европе — наверху даймё (герцоги и графы), внизу — масса мелкого воинственного дворянства, самураи (рыцари). Между ними — феодалы всех калибров, и над всеми — император. Страны покрыты замками — оплотами феодальной силы. Правит элита меча, связанная феодальными присягами — честью и верностью.
Отсюда не трудно сделать вывод, что самураи — те же рыцари, только японские. И это будет очень большой ошибкой. Несмотря на поразительное сходство политических систем Европы и Японии, несмотря на множество внешних совпадений между рыцарями и самураями, различия между ними являются принципиальными, смыслообразующими. Это два очень разных, если не диаметрально противоположных психотипа.
Слово «самурай» происходит от слова «служить». Самая суть самурая в том, что он служит своему господину. Казалось бы — рыцарь так же служит своему сеньору, и для него верность феодальной присяге — основа чести. Но у рыцарей это всё совершенно по–другому. Давайте почувствуем разницу.
Крупнейший идеолог самурайтсва Ямамото Цунэтомо в своем трактате «Сокрытое в листве» (Это и есть по сути «Бусидо») пишет: «Служить — это ничто иное, как следовать за своим господином, доверяя ему решать, что хорошо, а что плохо, и отрекаясь от собственных интересов».
Первый звоночек уже прозвучал. Сеньор не может решать за рыцаря, что хорошо, а что плохо. В этом вопросе рыцарь ориентируется не на сеньора, а на Евангелие. Если сеньор прикажет рыцарю совершить грех, он откажется без ущерба для рыцарской чести.
Ямамото: «Что такое быть самураем? Самое главное — это отдаться своему господину и душою и телом».
Между тем, рыцарь служит сеньору не превращаясь в его собственность, которой тот распоряжается по своему усмотрению. Рыцарь не закладывает душу сеньору Душа рыцаря принадлежит только Богу.
Ямамото: «Человек, который служит своему господину, когда тот относится к нему с добротой — это не слуга. Но тот, кто служит, когда господин бессердечен и неразумен — это настоящий слуга».
Согласно рыцарским представлениям, так служат рабы. Сеньор не имеет права покушаться на личное достоинство рыцаря. Бессердечный и неразумный сеньор не заслуживает верности.
Ямамото: «В молитвах воин должен повторять имя своего господина, ведь оно не слишком отличается от имени Будды и священных слов».
Конечно, рыцарь всегда молится за своего сеньора, но мысль о том, что имя сеньора не слишком отличается от имени Христа, прозвучала бы для рыцаря, как дикое кощунство, вызванное помутнением рассудка.
Ямамото: «Каждое утро следует первым делом поклониться своему господину, а затем божествам — хранителям и буддам–покровителям. Если на первое место поставишь своего господина, то боги и будды отнесутся к этому с одобрением».
И вот тут всё становится окончательно понятно. Принципиальная разница между рыцарем и самураем происходит от того, что они являются носителями двух принципиально различных типов религиозности. Верить в Бога — совсем не тоже самое, что верить в богов и Будду. Будда — всего лишь некогда живший человек, он — не Бог, а только учитель, да и боги принципиально от людей не отличаются. Они действуют в ином плане бытия, они, конечно, сильнее человека и могут ему помочь, но хороший воин не слабее богов и не нуждается в их помощи.
Ямамото: «Разве подобает одному из первых воинов обращаться к Атаго, богу стрельбы из лука? Если бы сам Атаго воплотился в воина и сражался на стороне врага, он должен быть достаточно хорош, чтобы рассечь его пополам».
Вот она, самурайская крутизна, эти ребята готовы и бога рассечь пополам.
Ямамото: «Мороока Хикоэмон должен был поклясться перед богами в подтверждение своих слов. Но он сказал: «Слово самурая тверже металла. Поскольку я сам — воплощение своего слова, что ещё могут сделать боги и будды?» Было решено, что клятва не нужна».
Как видим, чем сильнее и значительнее самурай, тем меньше он нуждается в богах. Да кто они такие, эти боги, чтобы скреплять его слово, которое и без того тверже металла? При этом ни один самурай никогда не позволил бы себе так пренебрежительно отзываться о своем господине. Отношение самурая к богам по своему характеру вообще не религиозно, это отношения относительно равноправных субъектов. Отношение самурая к господину дышит реальным религиозным чувством. Служение господину — это и есть религия самурая.
Буддизм сыграл с самураями злую шутку. Они не знают Бога, и то религиозное чувство, которое рыцарь испытывает к Богу, самурай дарит господину. Для рыцаря сеньор — брат во Христе, и рыцарская верность сеньору ограничена верностью Христу, который для него всегда на первом месте. Самурай всю свою верность без остатка отдает господину и ставит его на место Бога, которого не знает.
Рыцарь может стать королем, а может стать нищим, он всё–равно останется рыцарем. Самурай без господина уже не самурай, он называется другим словом — ронин. Для самурая горько стать ронином, наверное, так же горько, как для рыцаря потерять Бога.
Как во время крестовых походов рыцари больше мечтали умереть за Христа, чем победить, так для самурая, по словам Ямамото: «главное в том, чтобы принять смерть за своего господина, а не в том, чтобы сокрушить врага». Самураю больше не за кого умирать, кроме своего господина.
В «Повести о дома Тайра» мы находим удивительные слова: «С верой в Будду, пробираясь сквозь тучи, поднимались мы на эти вершины, опускались в ущелья, не взирая на холодные росы, и творили молитву. Если бы не упование на божественную благодать, разве в силах были бы мы совершить путь столь трудный и опасный? Если бы мы не верили в чудесную силу святого бога, разве сумели бы придти на молитву в столь глухое, отдаленное место? У почитающих святость храмов сердца исполнены веры, чисты, как воды, наполняющие райский пруд спасения всех грешных».
Возвышенный религиозный мистицизм этой картины просто завораживает. Кажется, стоит лишь заменить слово «будда» на слово «Христос» и мы получим отрывок из хроники крестового похода. Но не обольщайтесь: для самурая эти слова звучат совершенно по–другому и значат другое. Вы всё поймете, когда дальше прочитаете у автора «Повести…»: «Учит нас Будда: ничто, пустота, вот что такое дух наш. Ни грехов, ни счастья не существует, ибо и то и другое суть порождения сознания, а оно есть ничто».
Как видим, самурай не знает греха, а потому не может стремится к святости. И чего тогда стоят все самурайские молитвы, если дух самурая–пустота? И храмы их воздвигнуты во имя великого Ничто. Самурай не может служить добру, потому что для него нет ни добра, ни зла. Вообще ничего нет.
Автор «Повести…» пишет: «Любовь к женам и детям — помеха в круговращении жизни и смерти». Самурая трудно увидеть в роли защитника вдов и сирот, даже собственную жену и детей он не должен любить. Будда запретил любить, потому что любовь приводит к страданиям. А там, где нет любви, воистину торжествует Пустота.
И чем–то надо эту пустоту заполнить. Автор пишет: «Осужденному государем, ни луна ни солнце не светит». Мы могли бы такое сказать про отверженного Богом. Но для самурая государь и есть бог. Верховный Сеньор рыцарства — Христос, верховный сеньор самурайства — император.
Ямамото пишет: «Хорошо поступает тот, кто считает окружающий мир сном. Говорят, что мир, в котором мы живем, ни чем не отличается от сна». Значит, по сравнению с рыцарем самурай действует в принципиально иной системе координат. Рыцарь действует в мире Божьего Творения, где всё драгоценно, потому что создано Богом. Самурай действует как бы «во сне», в пределах иллюзии, где ничто не имеет ни какого значения.
И рыцарство, и самурайство дали множество образцов невероятной храбрости, но их храбрость очень разного рода.
Ямамото пишет: «Когда есть выбор, умереть или не умереть, то лучше умереть». «Если смерть для человека нечто ненужное, то он достоин презрения». «Нужно заранее считать себя мертвым».
Основа самурайской храбрости — презрение к жизни. Жизнь — иллюзия, а смерть освобождает от этой иллюзии, и тогда наступает подлинная реальность — ничто, пустота, нирвана. Основа рыцарской храбрости — презрение к смерти. Потому что смерти нет. Погибая, рыцарь остается жив, он лишь переходит в иной план бытия.
Да, рыцарь мог бы повторить вслед за Ямамото: «Если воин привязан к жизни, от него вовсе не будет ни какой пользы». Рыцарь согласился бы и с такими словами Ямамото: «Человек, который не укрепляется в необходимости неизбежно умереть, обрекает себя на недостойную смерть». Но для рыцаря эти слова наполнены совершенно другим смыслом. Рыцарь не боится смерти, потому что знает, что её нет, ведь это только кажется, что человек умирает. Самурай не боится смерти, потому что считает, что жизни нет, ведь это только кажется, что человек живет.
Итак, рыцарь любит жизнь и презирает смерть. Самурай любит смерть и презирает жизнь. Бусидо учит тому, что путь самурая — это путь смерти.
***
Иногда кажется, что рыцарям стоило бы многому поучиться у самураев. Вслушайтесь, например, в прекрасные слова Сиба Ёсимаса: «Человек, профессия которого — война, должен усмирить свой разум и вглядеться в глубины других людей». Как это тонко сказано! Каждому рыцарю стоило бы прислушаться к этому совету. Ни один средневековый европейский автор не мог дать такой глубокой и тонкой формулы.
А Ямамото Цунэтомо сказал: «В конечном итоге в основе всего лежит простота мышления и сила духа». Слова воистину великие. И ещё у Ямамото: «Уже тем, что человек отказывается отступить, он приобретает силу двух людей». Наши аплодисменты. Это вполне по–рыцарски.
И стихи, которые писали самураи, куда глубже и тоньше, чем стихи, которые писали рыцари. Но знаете почему? Рыцари развивали дух, то есть ту часть души, которая связывает человека с Богом, и силы собственно души у них часто оставались не очень развиты. У самураев именно дух, в нашем понимании этого слова, оставался совершенно не развитым, душа самурая начисто лишена вертикального измерения, а потому все свои внутренние силы он мог расходовать на развитие «душевной» сферы, к которой принадлежит и сфера эстетическая. Поэтому, самурайская эстетика интереснее, тоньше рыцарской. Тут всегда одно за счет другого. Человек духовный лучше разбирается в небесном, человек «душевный» лучше разбирается в земном.
Тому что связано с «душевной», эстетической сферой рыцари вполне могут поучиться у самураев, но с очень большой осторожностью, чтобы не нахвататься ненароком ложных идей и представлений. Не будем забывать: Бусидо — путь смерти — не рыцарский путь.
Иван Ильин о рыцарстве
Великий православный мыслитель Иван Ильин ничего не писал о рыцарстве, а между тем, он написал о рыцарстве то самое главное, без понимания чего невозможен настоящий рыцарь, а это понимание в свою очередь вряд ли возможно без Ильина.
Мы по привычке не сомневаемся в том, что дело веры нельзя отстаивать при помощи насилия, как впрочем, и ни одно доброе дело вообще. Кто проливает кровь во имя Христа, тот уже тем самым отрекается от Христа. Нельзя отстаивать добро при помощи зла. Нельзя служить Богу, совершая грехи. Как правило, эти утверждения кажутся нам аксиомами, и с этих позиций православные отрицательно относятся к крестовым походам — нельзя служить Богу, убивая людей. И с этих позиций само понятие «рыцарь веры» может показаться абсурдным. Разве можно утверждать веру Христову при помощи меча? «Взявший меч, мечом и погибнет». Не можем же мы сомневаться в словах Христа. И всё–таки Православная Церковь ни разу не заявила, что использование меча запрещено, ни разу не призвала христолюбивое воинство «перековать мечи на орала». И преподобный Сергий благословил святого благоверного князя Димитрия Донского. И святой благоверный князь Александр Невский всю свою жизнь проливал кровь. И так далее.
Как же снимает Иван Ильин это противоречие? Он его ни как не снимает. Он говорит о том, что это неустранимое противоречие. И неустранимость этого противоречия — трагична. Ильин, ни разу не употребивший слово «рыцарь» пишет в точности именно о рыцарях.
«Где нет живого действующего духа, там не может быть и трагедии. Трагедия возможна только там, где живет и действует свободное и ответственное существо. Сущность духовной трагедии состоит в том, что в земной жизни человека обнаруживается неразрешимое, непреодолимое затруднение, которое вызывается не просто его личными свойствами, но самой объективно сущей природой вещей… — в несоответствии целей и средств, в несогласуемости должного и неизбежного, в неустранимости неприемлемого…, в препятствии, возлагающем вину на невиновного героя, в страданиях невинного за вину виновных…, в вынужденном отказе от праведности во имя религиозного призвания. Всюду, где духовный человек страдает от объективно неразрешимого конфликта и несет в жизни последствия этой неразрешимости, слагается трагическая ситуация… Чем духовнее человек, чем глубже его душа, чем праведнее его воля — тем больше его жизнь насыщена трагическим».
Итак, служение рыцаря веры по сути своей трагично, потому что строится на неразрешимом противоречии. Во имя спасения души, рыцарь губит душу, в первую очередь — свою собственную. Во имя милосердия рыцарь причиняет страдания. Ради очищения души он погружается в грязь, ради праведности, он отказывается от праведности. Рыцарь так действует не от недостатка духовности, а именно потому, что он куда духовнее тех, кто так не действует. Поступать иначе, для рыцаря значит предать людей, а значит и Бога. Именно любовь к Богу и к людям побуждает рыцаря гробить собственную душу.
Об этом и пишет Ильин: «Человек может видеть непреодолимость своих затруднений… Как носитель духовной воли он не может не действовать, как одержимый духовной любовью, он может действовать только в одном свободно выбранном направлении. И в то же время он знает, что затруднения эти нельзя преодолеть, что противоречия эти неразрешимы, что имеющий возникнуть конфликт вряд ли не будет опасен или даже гибелен для его личной жизни. Несмотря на всё это, он решается действовать и действует. Его действие не случайно, оно возникает не из слабости и не от растерянности. Его действие и не ошибочно, но духовно обоснованно, духовно верно и, в сущности, единственно возможно».
Это действие рыцаря — насилие, то есть, что ни говори, а причинение людям зла. И это совершение зла «духовно верно» и даже «единственно возможно», если ни как иначе не предотвратить совершение гораздо большего зла. Но в итоге от рыцаря так начинает вонять злом, что чей–то утонченный нюх уже этого не выдерживает. От рыцаря отворачиваются, как от чего–то непотребного. Иногда, именно те, кого он спас. И настоящий рыцарь это примет и никого не обвинит в неблагодарности.
Кстати, почему мы понимаем слова Христа о том, что взявший меч, мечом и погибнет, как запрет на меч? Здесь нет ни какого запрета, только предупреждение. Ильин поясняет: «Взявший меч, должен заранее примириться с тем, что он «мечом и погибнет», но отказаться от меча он духовно не может». Именно духовность, то есть любовь, побуждает рыцаря взяться за меч и совершать насилие.
Ильин продолжает: «Вопрос о сопротивлении злу силой столь же древен, как человеческое общежитие и человеческая совесть, он не исчезнет до тех пор, пока не придет и не восторжествует Царство Божие. Его трагический характер состоит в том, что человек, исповедующий духовную религию, не может найти здесь праведного исхода, такого, который удовлетворял бы требованиям и духовного строительства, и совести, который не смущал бы и не возмущал бы его сердца…, который освобождал бы его и от укора в предательстве слабых и невинных, и от упрека в угашении доброты и снисхождения. Дать волю злодеям — значит предать слабых, не оборонить добрых, не заступиться за детей и предпочесть личную «безукоризненность» делу духа и добра на земле. Вступить же в организованную борьбу со злодеями, значит… принять и неизбежные крайности этой борьбы… А для этого надо сознательно ограничить свою совестную жизнь…. Религиозному человеку приходится выбирать между сентиментальным предательством, ведущим к лицемерной «праведности» и условным отказом от целостного и неограниченного сочувствия ко всякому живому существу и (практически!) от строгого суда над некоторыми своими внешними деяниями».
А вспомните крестовые походы, которые начались под лозунгом «защиты восточных христиан». Агрессивный ислам наступал, разрушались храмы, осквернялись святыни, христиан убивали и обращали в рабов, издевательствам над паломниками не было числа. И вот рыцари отправились на Восток, чтобы дать отпор мучителям христиан. Ради этого рыцари приняли на себя неисчислимые страдания, тысячи их погибли в Святой Земле, как мученики. А тысячи рыцарей озверели на этой войне, ежедневно купаясь в крови и уже не останавливаясь ни перед какой жестокостью. Но за 200 лет в Святой Земле крестоносцы перемололи неисчислимые силы агрессивного ислама. Если бы не крестовые походы, все антихристианские силы оказались бы в Европе, и в православной Восточной Европе тоже. И вот сегодня некоторые православные, те самые «восточные христиане», которых крестоносцы закрыли грудью, осуждают «преступления крестоносцев». Да, порою крестоносцы злодействовали, но они губили свои души для того, чтобы нашим душам ни что не угрожало. Когда крестовые походы прекратились, агрессивный ислам утопил в крови всю православную Восточную Европу. Если бы не крестоносцы, это произошло бы на несколько столетий раньше. Рыцари Христа спасли наших православных предков, а мы теперь от них нос воротим, на наш вкус они слишком кровавые и злобные.
Конечно, преступления навсегда останутся преступлениями, но если бы рыцари Запада, благочестиво избегая греха, с умильным спокойствием наблюдали, как режут православных, мы сказали бы, что они молодцы? Вспомните, как османы резали православных сербов и болгар. Европе не было до этого дела, ни какие призывы к крестовому походу не находили отклика, потому что в Европе больше не было рыцарей. И мы теперь обвиняем Европу в циничном равнодушии и бесчувствии к страданиям христиан. А представьте себе, что и тогда вся Европа всколыхнулась бы, и мы опять говорили бы про «кровавые преступления крестоносцев». И в обоих случаях это было бы правдой.
Ильин писал: «Цельного, совестно–праведного исхода здесь нет. И религиозный человек рано или поздно убедится в трагической природе этого конфликта. Он должен будет или вступить в серьезную ответственную борьбу, требующую от него несовершенных, для веры, любви и совести тягостных… иногда жестоких поступков… Или «сложить с себя» бремя ответственности… и предаться беспредметному умилению и фальшивой «добродетели». Решит ли человек отвернуться от агрессивного зла, он увидит… что он своим непротивлением предал детей, добрых и слабых, и тем самым толкнул их к злодеям, он поймет, что ответственность за всё это несет он сам, и что уйти от ответственности ему некуда. И точно так же, когда он впоследствии увидит, что ему пришлось «заговорить со злодеями на их языке», то есть отвечать насилием на насилие, подавлять в себе отвращение к этому делу…, когда он почувствует свою душу израненной всем этим, свою совесть изболевшейся, а себя огрубевшим, ожесточенным и ушедшим от своего пути, ведшего его к Богу — он поймет, что должен был принять на себя ответственность за все эти дела, и что сложить её с себя ему было бы не на кого».
Ильин считает, что выбор в такой ситуации — личное дело каждого, но он не уходит от ответственности и прямо говорит, какой выбор он считает правильным: «Верное решение этого вопроса состоит в необходимом сопротивлении злу силою с принятием на себя ответственности за это решение и деяние и с непременным последующим всежизненным нравственно–религиозным очищением. Это и есть подход, указуемый православным христианством». «Сопротивление злу силой надлежит с сознанием… что средство это не «оправданное», не «освященное», а принятое в порядке духовного компромисса…»
Понимания этих моментов сильно не хватало католическим рыцарям. Рыцарство строится на чисто христианской доминанте, но в историческом рыцарстве было нечто порождаемое не собственно христианством, а именно католической ересью, то есть искажением истины. Порою крестоносцы недооценивали трагичность своей миссии, не видели в ней ни какого духовного компромисса, а смотрели на дело упрощенно, полагая, что «правы на 100 процентов». В этом сказался юридизм католического мышления — раз богословы грамотно обосновали необходимость крестового похода, то и волноваться больше не о чем. А с высоты папского престола ещё и неслись заверения в том, что рыцари, которые отправились в крестовый поход, получат полное отпущение грехов. Обещание чудовищное, а рыцари ему легкомысленно верили. И получалось, что они на войне за веру, будучи вынужденными совершать множество грехов, не только не склонны были в них каяться, но даже считали, что им за это ещё и предыдущие грехи простятся.
Помню, как поразил меня один эпизод в романе Генрика Сенкевича «Потоп». Анджей Кмициц, совершивший карательную экспедицию в Пруссию, с легким и чистым сердцем говорит товарищу о том, что за это Бог обязательно простит ему множество грехов. Пан Анджей мыслит вполне по–католически. Он только что выполнил чудовищную, пусть и необходимую, работу карателя, он рубил саблей стариков, женщин, детей. Допустим, он был обязан делать то, что делал, но у него не болит душа от того, что он был вынужден совершить такие тяжкие грехи, у него и мысли нет о том, что за это ему теперь надо до конца жизни каяться. Более того, он считает, что совершение им страшных грехов ещё и послужит искуплению множества других грехов. Таков апогей развития католического рыцарства, это уже и правда мясники, вполне, впрочем, религиозные, но на совершенно извращенный, ужасающий манер.
Рыцарство эпохи крестовых походов было ещё другим. С высоты ватиканского престола неслись уже вполне безумные призывы, но на души рыцарей католическая ересь ещё не успела оказать растлевающего воздействия. И сколько бы папа не обещал им отпущение грехов за участие в крестовом походе, рыцари чувствовали, что после кровавой бани души их чище не становятся, а напротив — к прежним грехам прикладываются новые и теперь они нуждаются в сугубом очищении. Если душа человека жива, её невозможно обмануть.
В православной традиции, напротив, за участие в самой что ни на есть священной войне накладывают епитимью, некоторое время не допуская воинов до причастия. А католицизм в конечном итоге развратил рыцарей до такой степени, что настоящие рыцари вообще исчезли.
Кажется, я только теперь понял смысл названия своей трилогии «Рыцари былого и грядущего». Католические рыцари — рыцари былого, православные рыцари — рыцари грядущего.
Главная задача рыцаря, который сражается с драконом, после победы самому не превратиться в дракона. Православные рыцари вполне осознают эту проблему. У них более высокая сопротивляемость злу, у них есть противоядие от гордыни — сознание собственного недостоинства. Православные рыцари всегда будут помнить заветы Ивана Ильина:
«Сопротивление злу силой идет по трагическому и в то же время героическому пути, человек отдает чистоту и спокойствие своего духа… Это служение не может не вызывать в нем духовной тревоги, известного раздвоения… Он должен принимать в душу жестокие поступки и жалости достойные зрелища, а впоследствии он должен находить в себе множество духовных «осадков» и «отпечатков» ведущейся борьбы. Он должен совершать во имя духа и любви такие дела, которых он никогда не совершил бы для себя».
«Человек слаб и страстен и, ведя суровую, а, может быть, и жестокую борьбу, он неизбежно будет вовлекаться своими страстями в нечистые состояния… И если к религиозному катарсису призван каждый из нас, то люди трагически–героического служения призваны к нему в особенности».
«Тот, кто сопротивляется злодеям мечом, должен быть всегда чище и выше своей борьбы, чтобы бездна, таящаяся в каждом, даже самом бескорыстном компромиссе, не поглотила его. Меч должен быть, как молитва, а молитва должна иметь силу меча. И чем совершеннее будет его молитва, тем меньше, может быть, ему придется прибегать к мечу».
Что значит быть рыцарем?
Мы никогда больше не наденем кольчуги и шлемы, не возьмем в руки мечи и щиты. В буквальном смысле мы никогда уже этого не сделаем. Но наша эпоха, как ни какая другая, испытывает потребность в настоящих рыцарях. Рыцарскую работу никто за рыцаря не сделает. Вот её и не делает никто. Рыцарский психотип, рыцарская ментальность не могут исчезнуть, потому что они будут востребованы до скончания века. Итак, напомним, что значит быть рыцарем — и ныне, и присно.
Родина рыцарей — Церковь. Рыцарь не сражается за частные шкурные интересы, даже если эти интересы презентуют ему, как национальные. Рыцарь отстаивает вечные ценности, как бы и где бы они не проявлялись. Русским рыцарям в этом смысле легче, потому что Русская империя — это стальные доспехи Церкви. Сражаясь за Россию, русский рыцарь уже сражается за Церковь. Главное — чтобы он это осознавал и не позволял себя втягивать в «споры хозяйствующих субъектов».
Рыцарство — царственное воинство. В известном смысле каждый рыцарь обладает некоторыми чертами носителя власти. Рыцарь — сам себе суверен. Источник силы рыцаря только в Боге и в нем самом. Рыцаря характеризует высокий уровень суверенизации личности, то есть самодостаточность, самовластность. Рыцарь всегда склоняется перед Богом и никогда — перед людьми.
Рыцари строем не ходят. У рыцаря ослаблена способность сливаться с кем бы то ни было в единую массу, он плохо пригоден к согласованным действиям, при этом у него развита способность к самостоятельным действиям. Рыцарь незаменим, когда необходимо взять всю ответственность на себя, но в строю он не может раскрыть своих достоинств.
Рыцарь невозможен вне иерархии. Рыцарь — одно из звеньев цепи, прикованной к Престолу Божьему. Хронический одиночка не может быть рыцарем. Рыцарь всегда держит дистанцию, он обладает способностью объединяться, не сливаясь.
Рыцарь служит людям, но зависимость рыцаря от людей ограничена. Рыцарь чаще всего действует «для народа, но без народа».
В основе высокоразвитого чувства личного достоинства рыцаря — уважение в себе образа Божия. Рыцарь чужд человекоугодию. Рыцарь — олицетворенный долг, но его преданность сеньору носит ограниченный характер. Рыцарь никогда не выполнит приказ, который противоречит его представлениям о чести.
Нам бы ещё разобраться с тем, что такое честь, а то слово вроде бы хорошо известное, а как только дойдет до формулировки, так сразу же начинаются проблемы. Словарь Ожегова даёт такое определение чести: «Достойные уважения и гордости моральные качества человека, его соответствующие принципы. Хорошая незапятнанная репутация. Доброе имя». А какие моральные качества достойны уважения? Чему соответствуют эти принципы? Какую репутацию следует считать незапятнанной? Вопросов больше, чем ответов. Всё, как всегда, сводится к тому, что быть хорошим хорошо, а быть плохим плохо.
Рыцарь — это то, чем он отличается от других воинов и вообще от других людей. А моральные, нравственные качества для всех людей едины. В чем специфика рыцарской чести? Какие требования и ограничения налагает на рыцаря честь, кроме совершения хороших поступков, которых мы вправе ожидать от любого человека?
Вальтер Скотт писал: «Честность является краеугольным камнем рыцарства. Если рыцарь дает слово, неважно, насколько обдуманно, он должен выполнить его любой ценой». Всё так. Слово рыцаря — крепче стали, потому что настоящий рыцарь испытывает непреодолимое отвращение к любым проявлениям лжи. И это в определенной степени действительно характеризует рыцаря. Но честность вообще–то предписана всем нормальным людям. А ведь ещё Александр Герцен сетовал, что рыцарская честь заменена бухгалтерской честностью. Вот этой–то подмены нам и желательно избежать. Хороший бухгалтер никого не обманывает, он ведет свою бухгалтерию честно. И понятие чести включает в себя честность, но оно неизмеримо более широкое. Честь требует от рыцаря многого помимо честности.
На кинжалах СС писали: «Моя честь — моя верность». Да, это рыцарский принцип. Честь требует верности. Рыцарь, который предал своего сеньора, и вообще — своих, утратил честь. Но и верным быть мало.
Дело рыцаря — война, а война требует храбрости. Конечно, храбрость требуется и от солдата, но к рыцарю в этом смысле предъявляются более высокие требования. Там где солдат сочтет за благо отступить, потому что нет смысла гибнуть, рыцарь будет драться до конца. Смысл этой упертости — не в боевой целесообразности, а в том, чтобы не утратить честь. Рыцарь может сдаться в плен без ущерба для чести, только исчерпав все свои силы, все свои возможности. Рыцарь, который сдается только для того, чтобы сохранить жизнь, теряет честь.
Самая главная составляющая чести — чувство ответственности. Рыцарь по определению — защитник. Если он не защитил того, кого мог защитить, если не взял на себя ответственность за беззащитного, он утратил рыцарскую честь.
Представления о чести — индивидуальны, в основе их лежит набор общих понятий, но в частностях может быть много отличий. Рыцарь не бьет в спину, не поражает безоружного, щадит того, кто просит пощады. Всё это, конечно, входит в представления о рыцарской чести. Но война есть война. Ты не смог ударить противника в спину, а он тотчас ударил твоего друга в грудь. Ты не смог поразить безоружного, а он схватил оружие и прикончил ребенка. Ты пощадил умолявшего о пощаде врага, а он потом совершил ещё много злодейств. Можно ударить в спину, можно прикончить безоружного, можно не обращать внимание на мольбы о пощаде, и рыцарская честь при этом не пострадает. Или пострадает? Очевидно, на это можно по–разному посмотреть, и судить об этом могут только рыцари.
«Честь — не опера», — как сказал один литературный персонаж. Воистину, отвратительна бывает игра в честь, когда ради совершения красивого жеста, «рыцарь» позволяет злу торжествовать. Подлинная честь чужда показной красивости, потому что честь — драгоценность души, её не выставляют на показ.
Итак, честь это честность, верность, бесстрашие, ответственность. Лжец, предатель, трус и безответственный человек лишены чести.
Нет рыцаря без благородства, но что такое благородство, определить ещё труднее. Словарь вещает: «Благородство — высокая нравственность, самоотверженность, честность». Редко встретишь определение настолько пустое. Сказали бы уж просто: благородство — это всё хорошее. Человек может быть нравственным, самоотверженным, честным, но не иметь в душе даже намека на благородство, при этом являясь вполне приличным человеком.
Некоторый свет на этот вопрос проливают устойчивые словосочетания. Например, «благородные металлы». Почему их так называют? Они не ржавеют и не окисляются, то есть не вступают во взаимодействие с кислородом, чем грешат все прочие металлы. Это, безусловно, отличительная черта благородства — умение оставаться собой, не смешиваясь с тем, что вокруг, проявляя устойчивость к воздействию окружающей среды.
Иногда говорят: «на благородном расстоянии». Это важнейшая отличительная черта благородства — умение сохранять дистанцию, ни с кем не допускать панибратства. Благородный человек редко кого запросто похлопает по плечу, и один только взгляд на него дает понять, что с ним это делать тоже не стоит.
Иногда говорят про «благородную простоту линий» Воистину, благородства нет без простоты — и в одежде, и в общении, и в мыслях, и в поступках. Благородная простота чужда примитивности, она сродни гениальности. В этом смысле рыцарям не грех поучится у самураев, особенно — чайной церемонии. Основные принципы чайной церемонии — чистота и простота. Это очень благородно.
Благородство чуждо всему показному и какой бы то ни было позе. Благородный человек не будет ни хвастаться своими добродетелями, ни кричать о своих грехах.
Главный враг благородства — высокомерие. Благородный человек со всеми и всегда говорит на равных — будь то император или нищий. При этом он никого до себя не возвышает, и ни до кого себя не принижает. Он просто в каждом уважает образ Божий. Проявления высокоразвитого чувства личного достоинства иногда внешне очень похожи на проявления гордыни, но есть один признак, по которому их легко отличить. Человек с достоинством очень бережно относится к достоинству другого человека, он никогда и никого не унизит, а если сделает это невольно — причинит боль сам себе. Это и есть благородство.
Можно сказать, что в основе рыцарского благородства лежит умение со всеми людьми сохранять дистанцию, при этом ни одного человека не считая хуже себя.
Автор этих строк не претендует на то, чтобы написать портрет рыцаря. Вряд ли это по силам одному человеку, который к тому же сам не является рыцарем. Это не столько портрет, сколько набросок, эскиз, который, может быть, кому–то и пригодится.
Но даже этот эскиз уже дает понять, насколько востребован сегодня рыцарский психологический тип. Везде, где человек должен действовать в одиночку, при этом будучи вмонтированным в иерархию — нужны люди рыцарского склада. Например — в разведке. Например — в офицерских группах спецназа. Например — в информационных войнах. Не пытаюсь сделать этот список исчерпывающим.
Рыцарство — героическая элита христианства. И пока мы рассуждаем, нужны ли Церкви рыцари, валяющийся на земле рыцарский меч уже готовы поднять мусульмане. Например, Гейдар Джемаль пишет о «возрождении героической элиты, могущей стать костяком будущего правящего класса». Джемаль призывает к джихаду, поясняя: «Джихад — борьба с ничтожным внутри себя и агрессией ничтожного снаружи. Великий джихад — внутренняя священная война в духе, малый джихад — священная война в физическом мире».
Мне кажется, Джемаль перелицовывает на исламский манер чисто христианские мысли, вопрос лишь в том, считаем ли мы сами эти мысли христианскими? Отвечая на этот вопрос, спросите себя: что мы можем противопоставить джихаду кроме крестового похода?
Возвращение рыцарства
Однажды для меня распечатали текст современной песни под названием «Новый крестовый поход» (слова М. Пушкиной). Я был потрясен.
День или ночь — никому не понять.
Храм разорен, крест в объятиях огня.
След христиан смыт водой с грешным запахом роз.
Там где Христос чудеса сотворил,
Меч мусульман тамплиеров казнил
Свет неземной над телами узреть довелось
Битва за веру священна,
Боль поражений пройдет
И разорвет сон Вселенной
Новый крестовый поход.
Здесь описана ситуация 1187 года, когда Саладин отбил у крестоносцев Иерусалим. Мечеть Аль — Акса на храмовой горе, давно уже превращенная тамплиерами в свою резиденцию, снова стала мечетью. Султан приказал очистить её от осквернения розовой водой. Это происзошло вскоре после поражения крестоносцев под Хаттином близ Тивериадского озера, где некогда Христос творил чудеса. После битвы Саладин приказал обезглавить пленных тамплиеров.
Автор текста современной песни хорошо, детально знает историю Иерусалимского королевства крестоносцев — разве это не удивительно? В этих словах чувствуется живая боль, как от личной утраты, словно речь идет о бедствии, некогда постигшем нашу Родину. А так и есть. Воистину, Родина рыцарей — Церковь. Но самое поразительное в том, что русская женщина не сомневается — новый крестовый поход обязательно вновь «разорвет сон Вселенной». Она даже не призывает к новому крестовому походу, она просто знает, что рыцари–крестоносцы обязательно войдут в Иерусалим.
Так что же мы знаем о нашей эпохе, о наших современниках, о том, что происходит у них в душе? Что мы знаем о России, о русском народе? Кажется, в нашем мире, которым правят торгаши и уголовники, идея крестового похода уже совершенно невозможна. И вдруг понимаешь, что этот вывод был бы преждевременным.
А потом я услышал шутливую песенку о тамплиерах:
Караван среди пустыни разгружаем,
Наплевать, что нет еды, была б вода.
Всё что надо здесь построим,
Что не надо — разломаем,
Мы здесь вобщем не на долго,
Просто навсегда.
Если уроды беспокоят,
Мы примем меры.
В город с веселой песней строем
Входят тамплиеры.
Текст воспринимал со слуха и цитирую, возможно, с неточностями, от которых, я надеюсь, стало только лучше. Казалось бы, эта песенка — просто шутка, к ней не стоит относиться серьезно. Но почему русские парни поют о рыцарях Храма? Это явно для них — тема. В каждой шутке есть доля шутки.
А ведь эту песенку вполне могли бы петь русские офицеры в Сирии. С улыбкой, для прикола. Но кому теперь в Сирии совсем не смешно, так это тем, кто делает джихад (Привет, Гейдар). Мы думаем, что крестовый поход сейчас уже невозможен? Русские уже в Дамаске! В том самом Дамаске, который всегда был верным союзником тамплиеров. Рыцари Храма умели ладить с адекватными мусульманами и давали отпор мусульманам, мягко говоря, неадекватным. Мы кажется еще не поняли, что русские сражаются в Святой земле, на территории государств крестоносцев — графства Триполи и княжества Антиохийского. А Сирия — это не только мусульмане, это православный Антиохийский Патриархат, это «восточные христиане», которых вновь пришло время защищать. Это не похоже на крестовый поход? Но то, что делают русские в Сирии, соответствует главной цели классического крестового похода — отпор агрессивному исламу. И когда на груди русских офицеров, которые сражаются в древнем Леванте, появятся первые георгиевские кресты, мы вернемся к вопросу о том, что такое крестовый поход.
Кстати, летчик — одна из самых рыцарских современных профессий. Летчики строем не ходят.
***
Когда–то в детстве я любил читать «книги про рыцарей» и даже выписывал из этих книжек в тетрадку то, что мне особенно понравилось. С тех пор прошло 40 лет, я уже даже не помню, что это были за книжки, и те тетрадки давно неизвестно куда пропали. И вот в памяти неожиданно всплыли строки:
Был каждый яростен и смел,
Они разбили мусульман,
Валялись груды мертвых тел,
Ручьями кровь текла из ран…
Когда последнее «ура»
Предсмертный заглушило стон,
Увидели друзья, что им
Вдруг улыбнулся он.
Бой кончен, веки он смежил,
И умер просто, как и жил.
Не могу сейчас сказать, чьи это стихи. Но чувствую руку мастера и хороший перевод. А ведь я никогда не учил эти стихи наизусть. Когда–то выписал в тетрадку и забыл, и потерял тетрадку, и с тех пор прошла целая жизнь, в которой не было места ни чему такому. Но, оказывается, картина славной гибели крестоносца всё это время жила в моей душе, и вдруг она четко проявилась на поверхности сознания.
Тем, кто скептически относится к перспективе возвращения рыцарства, мне хотелось бы сказать только одно: мы ничего не знаем о самих себе. В нас может проснуться нечто дремавшее не только десятилетия, но и столетия. Наши души таят в себе такие сюрпризы, от которых мы можем просто обалдеть. Сначала мы, конечно, растеряемся. А потом бросимся чистить ржавый меч.
***
Ни к чему доспехи и верный конь,
Что летит в края, где всегда опасно,
Если не пылает в душе огонь,
Тот кураж, без которого всё напрасно.
Коль о неге, сытости и тепле
Ты лелеешь с детства мечту простую,
По крутым горбам не трясись в седле,
Не вздымай копьё, ибо всё впустую.
Выбирай, пока ещё выбор есть:
Путь продолжить или от бурь укрыться,
Потому что дорого стоит честь,
Для того, кого называют рыцарь.
Эти стихи принадлежат современной поэтессе Ирине Евса. Поверить невозможно, до какой степени глубоко они передают рыцарский дух — неуловимый, с трудом поддающийся выражению и осмыслению. Рыцарство мало понимать, в нем много такого, что понять невозможно. Рыцарский дух требует тонкого ощущения. Тот, кому дано, обязательно распознает рыцарских дух, когда встретится с ним.
Всё уже свершилось, замкнулся круг,
Ни к чему по тропам скакать, пыля,
Нынче есть у рыцаря верный друг,
А ещё — признательность короля.
Ты сберег достоинство, силу, честь,
Значит можешь вволю попировать,
Но всегда приходит дурная весть,
В час, когда не хочется горевать.
И как только мыслями в облака
Воспаряешь, чаянья утолив,
Выпускает кубок твоя рука,
Не вино, а кровь из него пролив.
Тут поневоле вспоминаются слова из старинного романа, сказанные о рыцаре Орландо: «Будучи настоящим рыцарем, он не мог свернуть с избранного пути», А ещё слова Ланселота из советского фильма, обращённые к собрату–рыцарю: «Твори добро и верь, что ты достигнешь горизонта». Всё это очень хорошо чувствует наша прекрасная дама:
Так спадает, рыцарь, за слоем в слой,
Если двигаешься вперед.
Ты врага за первой сразил скалой,
Но вторая, спеша, встает.
А за ней другой затаился враг,
И тебя поджидает он.
То ли луч сверкнет тебе, то ли мрак
Оплетет с четырех сторон.
Но какая сила! Какая стать!
Упоенье, кураж, азарт!
Лучше жизнь за третьей скалой отдать,
Чем коня повернуть назад.
***
От кого ещё рыцарь узнает, кто он есть, если не от дамы? И если есть у нас такие дамы, то есть и рыцари. Одно без другого невозможно.
Мы не случайно привели здесь столько стихов. Теории бывают вымученными, искусственными, далекими от реальности. А в стихах — содержание души. Только реальность души и есть подлинная реальность. И если в душах современных русских людей так явно и бесспорно живет подлинный рыцарский дух, то за теорией дело не встанет.
Владимир Ларионов пишет: «Мы — белое рыцарство Христа и православного русского царя». «Наш идеал — воин–монах, беспощадный к себе и другим». «Мы вправе рассматривать будущие ордена… как новое рыцарство, как орудие Церкви и верных её чад на политическом, государственном поприще…»
У меня сразу же возникает желание спорить с Владимиром о том, что есть рыцарство. И это замечательно. Если мы готовы сорвать голос в спорах о рыцарстве, значит ржавчина уже сама по себе спадает с древнего меча.
***
Я хорошо вижу рыцарские лица. Не просто знаю, какие они, а буквально вижу перед собой. Жаль рисовать не умею. Откуда это — не знаю. Я никогда не видел настоящих рыцарских лиц ни на картинах, ни в фильмах. Когда наши художники или артисты показывают мужиков в железе, пытаясь выдать их за рыцарей, смотрю и думаю: «Не то…, не то…» Если у меня спросят: «Да тебе–то откуда знать, как должен выглядеть настоящий рыцарь?» мне нечего будет ответить. Если я скажу, что мне просто дано это знать — прозвучит очевидно слишком самоуверенно.
Как–то смотрел старый советский фильм: «Новые приключение янки при дворе короля Артура». Фильм любопытный, хотя, на мой вкус, слишком авангардный и сумбурный. Короля Артура там играл Альберт Филозов. В удачности его выбора на эту роль, естественно, сразу возникли сомнения. Только вдруг я увидел, как, казалось бы, совершенно нерыцарские черты его лица на глазах преображаются, и я вижу перед собой настоящего короля–рыцаря, и уже не Филозов, а сам король Артур говорит: «Когда в душах людей исчезнут последние следы рыцарства, они станут мертвецами».


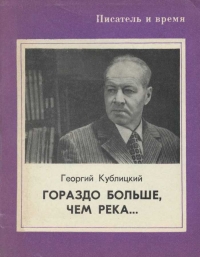
Комментарии к книге «Священные камни Европы», Сергей Юрьевич Катканов
Всего 0 комментариев