Ф. И. Булгаков Из общественной и литературной жизни Запада
1
Ренан и Тэн. – Биография Тэна. – Его позитивизм, пессимизм и аристократизм. – «Маленький лорд Бэкон». – «Ахиллесова пята» Тэна-историка. – Противоречие в исследовании о Наполеоне I. – Заслуга Тэна относительно критики французской революции. – Тэновский метод литературной критики. – Анатоль Франс о теории «среды». – Новейшее мракобесие. – О медиумических опытах Евзании Паладино. – Разоблачение их Торелли. – Протокол 17 медиумических сеансов, подписанный семью учеными. – Может ли наука исследовать все? – Заразительность эпидемии суеверий. – Стэд – главный апостол мистицизма в Англии. – Процветание спекуляции мистицизмом в Лондоне. – Обещаемая газета с телеграммами духов. – Газета-телефон в Будапеште. – Английский богослов о прелестях ада. – Дарвинистская теория ада. – Рекламы в Англии. – Сетования «Times» на их рекламное бесчинство. – Воздушные и огненные рекламы. – Художественные рекламы. – Интересный найденыш. – Пьеса Жюля Леметра из театральных нравов.
«Вслед за Ренаном Тэн!» Такое сопоставление двух имен в некрологах французской печати, посвященных памяти недавно скончавшегося Тэна, ясно показывает, что он не уступает знаменитому Ренану в значении, как блестящий писатель Франции, как художник слова, как ученый исследователь и мыслитель. Разница между ними та, что Ренан считался выразителем идеальной и спиритуалистической стороны французского ума XIX века, а Тэн с не меньшей оригинальностью и блеском – выразителем его материалистической и скептической стороны. Тэн[1] был позитивистом чистой воды, без малейшей примеси мистицизма, что теперь редко встречается во Франции. Он верил только в факты и в те выводы, к каким могло привести терпеливое и методичное наблюдение их. Только любовь к факту и культ знания, культ, впрочем, без веры в непогрешимость знания и в всемогущество его, вдохновляли этого писателя. Такой позитивизм останавливается у порога всего таинственного и признает себя просто неспособным проникать в неразгаданные тайны. Тут нет ни враждебности к таинственности, ни равнодушие. Это скорее уважение перед неведомым, нежели боязнь его.
Как моралист, Тэн был тем, что обыкновенно именуется пессимистом, т. е. он считал человека дурным и почти неспособным к добру. Человек для него всегда был «гориллой кровожадным и похотливым» или, точнее, никогда не может избавиться от свойств натуры первобытного хищника.
В политике Тэн был аристократом, как это и подобает ожидать от пессимиста, мизантропа и поклонника английской культуры. В данном случае он признавал такую доктрину, что в силу наследственности народ есть организм и вследствие цивилизации организм весьма сложный. А к сложным организмам, будь то машины, животные или народы, применяется закон разделения труда. Самое низшее животное обладает лишь одним органом для пищеварения, для размышления и развлечения. Высшее животное имеет много способностей и столько же органов, сколько способностей, без этого оно не могло бы существовать. Разделение труда в обществах называется специальностью или компетентностью. И так, чем значительнее народ и чем многосложнее его состав, тем более каждый составной элемент в нем должен знать, что ему делать, и делать только то, что ему надлежит. Проще сказать, от каждой отрасли труда следует строго требовать возможно больше компетентности. Стало быть, предоставлять законодательство в распоряжение тех, кто умеет делать только обувь, неблагоразумно. А так как демократия сводится к тому, чтоб ставить законодателей в зависимость от тех, кто умеет делать только обувь, и заменять многочисленные колеса одним единственным колесом или, по крайней мере, многочисленные колеса ставить в такую зависимость от универсального колеса, что они всецело поглощаются им, то демократизм является бессмыслицей. Автор «Les Origines de la France contemporaine» старался доказать это фактически, считая, что деспотизм и анархия одно и тоже, т. е. одно и тоже «импульсивность одного мозга», который не признает для себя никаких резонов, или импульсивность коллективного мозга, который неведомо куда увлекается инстинктами и не размышляющей душой толпы.
* * *
Ипполит Тэн был весьма разносторонне одаренной натурой и серьезно изучал такие области, которые не имели связи с его прямой специальностью – историей. Роберт де-Боньер в воспоминаниях о нем не безосновательно называет его «маленьким лордом Бэконом, который для своей специальности пользовался всеми отраслями человеческого знания и ум которого живо интересовался самыми разнородными предметами». Раньше, чем приняться за свой исторический труд «Les Origines de la France contemporaine», Тэн уже приобрел себе известность, как филолог, философ, эстетик, историк искусства и литературы, наконец, как мастер по части художественных путевых описаний. Уже тогда он пользовался большим авторитетом глубокого и остроумного критика и независимого мыслителя, который, не взирая на благосклонность или неблаговоление литературного цеха и общественного мнения, не заботясь о выгодах для своего материального положения, без малейших следов амбиции высказывал то, что считал за правду. Насколько Ренан иронизировал над самим собой, когда ему приходилось излагать результаты своих занятий, настолько же Тэн неизменно старался оставаться борцом за свои воззрения.
Эта-то самоуверенность относительно непогрешимости результатов его исследований, самоуверенность, несвободная от догматического усердия, и была «Ахиллесовой пятой» историка Тэна. Отсюда и вытекали противоречия между его методом исторического исследования и его практическим применением, обнаружившиеся ярко в «Les Origines de la France contemporaine». Его метод был собственно индуктивный, реалистический, долженствующий исследовать каждый объект без предвзятых мнений и не обращая внимания на заключительные выводы, какие логически могут получиться из сделанных наблюдений. Но «маленькому лорду Бэкону» не суждено было провести с строгой последовательностью эту систему. Реалистический историк, сторонник индуктивного метода, не мог отделаться от свойств философа, раньше занимавшегося метафизическими исследованиями, и у Тэна постоянно попадаются положения чисто априористические. Поэтому и его остроумные парадоксы зачастую вызывают возражение.
Вот, например, он задумал объяснить характер Наполеона Великого из корсиканской среды его юности, из разбойничьих традиций его фамилии, из тосканского происхождения её и из общественной и духовной атмосферы Корсики, где нравы и воззрения XIV века оставались нетронутыми позднейшей культурой вплоть до французского завоевания этого острова. Он и охарактеризовал Наполеона Бонапарта, как последнего из итальянских кондотьери и тиранов раннего периода Возрождения, но при изложении истории Наполеоновского режима знаменитый историк впал в противоречие с самим собой, блистательно обрисовав первого консула и первого императора французов, как водворителя общественного и государственного порядка во Франции, как величайшего государственного человека. Очевидно, тут факты, отысканные Тэном и добросовестно поведанные им, сами собой пришли в противоречие с заранее построенным отвлеченным образом героя.
Этому историку-реалисту, когда он брался за перо, очевидно ничто не было свято, за исключением только того, что он сам считал за истину. Он как бы не признает никакого величия французской славы, никакого идеального завоевания, не верит в то, что уже одно желание народа иметь своих великих героев есть нечто хорошее. Тем более беспощаден Тэн относительно исторических легенд. Деятели французской революции выставлены им с фотографической точностью во всей своей наготе без малейшего прикрытия фиговым листком, с их алчностью, кровожадностью и хищничеством. Правда, и раньше «Les Origines» делались попытки отнестись критически к революции, но только трудам Тэна удалось оказать решительное влияние на перемену во взглядах относительно этой эпохи.
* * *
Реалистическая школа в литературе Франции не без основания опиралась на Тэна, на его эстетические и критические этюды. Именно он подорвал значение романтического направления, в годы его молодости господствовавшего во Франции, и старался доказать, что только мир действительности должен быть предметом всякого художественного творчества, что поэт должен черпать свои создания из этого мира, что средой определяется образование и развитие характера и рядом с средой в настоящем решающее значение имеет прошлое семьи и класса общества, из которых вышел индивидуум. Как естествознание объясняет развитие всего влияниями окружающих условий, климата, местных особенностей и способа питания, так и Тэну прежде всего требовалось исследовать, из какой расы вышел такой-то икс, в какое время он рос и какое направление было тогда, каким влияниям подвергался этот икс от окружающих условий, личных и общественных. Затем он искал решения более мелких вопросов в письмах и архивах. По происхождению, по времени и среде он заключал о сущности икса, по внешним моментам и влиянию их судил о внутреннем содержании. Эту мерку он прилагал к поэтам, художественным произведениям и целым эпохам.
По этой теории писатели классифицировались лишь как выразители общества, расы, среды. По замечанию одного выдающегося из новейших французских критиков (Эмиля Фаге) выходит отсюда, что не писатели участвуют в сочинении книг гораздо более, чем их авторы, и Корнель, напр., выражает мысль своих добрых соседей гораздо более, чем свою собственную. С этой точки зрения на писателя лишь как на точный исторический документ, как на точное выражение духа времени, в «Petit Journal» вернее искать свидетельства о состоянии души французского народа 1890 г., нежели у Тэна или Ренана. Ведь писатели этой широко распространенной газетки для историка могут служить самыми ценными выразителями интеллектуального состояния новейшей Франции, и если теория Тэна верна, то помянутые писатели суть настоящие французские авторы XIX века, достойные того, чтоб их изучать.
К счастью, сам Тэн практически не следовал своему методу. Он применял его как раз наоборот. Он брал знаменитых авторов, которые блистали просто потому, что обладали гением, основательно изучал их и по ним-то старался воскресить дух их времени. И тут уже не трудно было показать, что они-то и были настоящими выразителями этого духа времени. Иначе сказать, Тэн сперва составлял себе верную идею об известном авторе и потом более или менее прилаживал к ней дух времени. Весьма понятно, что от этого страдал иногда «дух времени»; случалось и то, что критик, желавший быть только историком, сочинял плохие исторические страницы, потому что оставался хорошим критиком, и образцовых страниц по части критики у Тэна целые сотни.
Тэн в конце 50-х и начале 60-х гг. имел очень большое влияние на литературную молодежь во Франции, гораздо большее, чем Ренан, который не так легко поддавался усвоению. Влияние Дарвина и Спенсера пришло во Францию лишь после влияния Тэна. Новое поколение удаляется от этого направления и старается создать «новую метафизику», открыть двери сверхчувственному. Анатоль Франс, превосходный критик из среды той молодежи, которая некогда увлекалась Тэном, сознается, что тогда он еще не знал, что всякие теории, искусно сочиненные, одинаково хороши в таком же смысле, как этажерки, необходимые для размещения фактов по отделам. А этажерки Тэна к тому же сделаны были превосходным мастером.
«Великая философская истина походит на градусы долготы и широты, обозначенные на картах. Они с точностью определяют положение всех пунктов земного шара. В шесть лет, – говорит Франс, – когда я увидел первую карту земного шара, я думал, что линии, там начерченные, соответствуют осязательной действительности. Во время своих прогулок в Тюльери я отыскивал их и не находил. Это было мое первое разочарование в научном отношении. Идея, что теория среды не может быть безусловно верной, была вторым или третьим таким же разочарованием».
Таким образом ни эрудиция Тэна, ни масса фактов, собиравшихся им, не упрочила его метода, и насмешки над этим позитивистским, серьезно-научным, детерминистским методом оказались для него гораздо важнее и серьезнее, чем глупая злоба оскорбленного партийного гонора на мнимого «реакционера». Новейшее литературное поколение отвернулось от доктрин «английской школы» Тэна и стало прислушиваться к голосу других руководителей.
* * *
Один из характерных признаков новых «веяний» – возвращение к спиритуализму, так горько осмеянному Тэном в лице французского философа Виктора Кузена (в книге «Philosophes franèais»), смутная склонность к мистицизму. Но вместе с этой склонностью к мистицизму водворяется и суеверие совсем не хуже того, что было тысячу лет назад. Очевидно, мракобесие, неотступно следующее за человеческим родом по всей его истории, как зловещая тень, только меняет методы своего владычества. Прежде суеверие и глупость пользовались для своих целей народными массами. Теперь, когда и толпа стала образованнее и разумнее, чем прежде, мракобесие заигрывает с самой наукой и, под маской научного исследования, начинает пленять даже ученых. И посмотрите, сколько обретается у него прозелитов. За ним бегут следом, как за новым крысоловом, безрассудно опьяняются опиумом его мистики, изучают всякие бессмысленные причуды его страшно разросшейся литературы и все это покрывают мантией научного авторитета. То какой-нибудь факир интересует ученых. То почтеннейшая мисс Аббот смущает легковерных физиков своими фокусами. То даже в ученых обществах поднимаются толки об экспериментах профессора Рише в Париже, профессора, который обладает таким мужеством, что утверждает, будто бы существуют люди, которые одним мышлением и волей могут оказывать определенное влияние на других людей, живущих вдали. А вот теперь всплыла на поверхность необыкновенная женщина-медиум. Об опытах её в Милане в присутствии ученых напечатан официальный отчет в лейб-органе спиритов, издаваемом в Лейпциге и Нью-Йорке нашим соотечественником «статским советником» Александром Аксаковым, под названием «Psychische Studien».
Дело в том, что в Италии проживает таинственная синьора Евзания Паладино. Она чувствует в себе все задатки медиума, могущего находиться в сношении с миром духов. И уже давно она кружит головы своим соотечественникам. Импресарио её – сеньор Эрколе Бианя. Эта-та женщина (из неаполитанских крестьянок), кажется, и обладает вышеупомянутой открытой Рише способностью к влиянию на дальние расстояния. Знаменитый туринский профессор психиатрии Ломброзо уже посвятился в кунштюки сеньоры и стал спиритом. Это не могло не произвести сенсацию в научном мире. И вдруг, как бомба, ворвалась в этот спор статья Торелли-Виоллье, издателя консервативного органа «Corriere délia sera». Торели утверждает, что он сам сперва был обманут медиумом Евзанией, но потом разоблачил эту даму и, графически показав в своей газете, в чем заключался фокус медиума, объявил, что он обязуется уплатить 3.000 франков, если медиум сумеет доказать хоть одно из своих чудес в присутствии врачебной комиссии, в которой половина членов должна быть избрана им самим. Медиум не согласился на такое предложение.
* * *
Но в конце концов мракобесие взяло верх. В Via monte di Pieta, в Милане, стоит дом сеньора Джорджио Финци, «доктора физики». Туда-то Кианя привез своего медиума, сеньору Паладино, и, по приглашению г. Аксакова, явились семь ученых из Италии, Германии и Франции, с целью научно исследовать спиритические штуки Евзании Паладино и К°.
И теперь толки о Паладино и о «необычайных феноменах», имевших место, благодаря медиумическим опытам, перешли уже за пределы Италии. Протоколы 17 медиумических сеансов в Милане подписаны именами следующих присутствовавших на заседаниях лиц: Александр Аксаков, редактор газеты «Psychische Studien» в Лейпциге; Цезаре Ломброзо, профессор медицинского факультета в Турине; Джиованни Скиапарелли, директор астрономической обсерватории в Милане; Карл дю-Прел, доктор философии в Баварии; Анжело Брофферио, профессор философии; Эрмакора, доктор физики; Джероза, профессор физики в земледельческой академии в Портичи; Финци, доктор физики; Шарль Ригне, профессор медицинского факультета в Париже, известный ученый физиолог и редактор «Revue Scientifique».
Сеансы эти происходили в Милане, между 9 час. веч. и 12 ч. Собранные наблюдения касаются троякого рода феноменов: 1) тех, которые производились при свете; 2) тех, которые получены были в потемках; 3) феноменов, до сих пор происходивших лишь в темноте, а у Финци полученных при свете, когда медиум был на виду у всех.
Феномены первой категории довольно заурядны. Сюда относятся: боковое поднятие стола, от прикосновения рук медиума, сидящего на одном из более коротких концов его; полные поднятие стола; изменения веса тела медиума, помещавшегося на одной из чашек весов; произвольное движение предметов; колебание стола без всякого к нему прикосновения, удары и появление звуков в столе.
Феномены второй категории точно также небезызвестны. Сюда относятся: перемещение на столе медиума вместе со стулом, на котором он сидит, шум, производимый хлопаньем рук одна о другую, прикосновения таинственной руки к платью присутствовавших, производившие на последних впечатление прикосновения теплой, живой руки, появление одной или двух рук, в виде очертаний на фосфорической бумаге или на слабо освещенном окне.
Феномены третьей категории, согласно показаниям ученых, присутствовавших при их совершении, до сих пор оставались вполне неизвестными. Засвидетельствование этих-то феноменов учеными, имена которых приведены выше, и возбудило всюду интерес к медиумическим опытам Евзании.
Усыпление Евзании Паладино произведено было Эрколе Кианя, её импресарио. Для того, чтобы та часть комнаты, где находились присутствовавшие, осталась темною, комната была разделена занавесом. Затем медиума посадили перед занавесом, против проделанного в занавесе отверстия, спиной в неосвещенной части комнаты, тогда как руки и кисти рук Евзании, а также лицо оставались освещенными. Позади занавеса поставили маленький стулик с колокольчиком, на расстоянии около полуметра от медиума. Наконец, на другом стуле, несколько далее, поместили сосуд с мокрой глиной, поверхность которой была совершенно гладкая.
К освещенной части присутствовавшие заняли места кругом стола, помещенного перед медиумом. Руки Евзании не выпускались из рук двух её соседей – Скиаппарелли и Карла дю-Преля. Комната, сперва освещавшаяся всего одной свечей, через минуту осветилась стеклянным фонарем с красными стеклами, поставленным на втором столе.
Евзания подвергалась таким условиям впервые.
Во избежание какой-либо неточности в передаче наблюдавшегося на этом сеансе приведем самый протокол, подписанный доктором Рише, Ломброзо и поименованными выше учеными.
«Феномены, – говорится в этом примечательном документе, – появились немедленно, даже при освещении одной свечкой. Занавесь стала вздуваться на нас. Когда же соседи медиума приложили руки в материи, то ощутили сопротивление, один из них почувствовал, как стул его сильно рванули. Затем раздались пять ударов в занавесь, что обозначало требование более сильного освещения, тогда мы зажгли красный фонарь и надели на него красный абажур. Вскоре, однако, мы могли снять этот абажур и даже поставит фонарь на наш стол перед медиумом. складки отверстия занавеси были укреплены по углам стола. По желанию медиума, они были переложены на её голове и прикреплены поверх булавками. После этого на голове медиума начались какие-то явления, повторявшиеся по несколько раз. Аксаков встал, просунул свою руку в отверстие занавеси, поверх головы медиума и объявил, что в руке его прикасаются чьи-то пальцы, затем руку его схватили сквозь занавесь, наконец, он почувствовал, что ему что-то сунули в руку. То был маленький стул. Он взял стул, потом от него снова отняли стул, и последний свалился на пол. Все присутствовавшие поочередно клали руки поверх занавеси и чувствовали прикосновение рук. На темном фоне отверстия на голове медиума несколько раз появлялись огоньки.
Скиаппарелли сильно толкнули через занавесь в спину и в бок. Голова его покрылась занавесью и была втянута в темную часть, причем он продолжал левой своей рукой держать за руку медиума, а правой – Финци. В этом положении он чувствовал прикосновение голых и теплых пальцев и видел огоньки, описывавшие круги в воздухе и несколько освещавшие руку и тело, которые его перемещали. Затем он снова занял свое место, после чего в отверстии стала появляться рука, не торопясь скрываться, и таким образом ее можно было разглядеть довольно ясно. Медиум, не видевший никогда ничего подобного, подняла голову, чтобы поглядеть, и рука немедленно прикоснулась к лицу Евзании. Не оставляя руки медиума, Карл дю-Прель ввел свою голову в отверстие поверх головы медиума, и сейчас же почувствовал сильное прикосновение к различным частям тела и к нескольким пальцам. Между двумя головами опять показалась рука.
Дю-Прель снова сел на свое место. Аксаков подал карандаш в отверстие. Карандаш был схвачен, а затем снова выброшен через занавесь на стол. Один раз над головой медиума появился сжатый кулак, который медленно раскрылся и показал нам открытую руку с раздельными пальцами. Рука эта появлялась столько раз и столько раз трогалась нами, что сомневаться более было немыслимо. То была действительно человеческая и живая рука, до которой можно было дотронуться.
В конце сеанса дю-Прель сообщил нам об отпечатке на глине, на которой действительно ясно была видна форма правой руки. Это послужило нам объяснением, почему данный кусок глины был брошен на стол через отверстие в занавеси, в конце сеанса, как очевидное доказательство, что мы не были подвержены обману чувств.
Факты эти повторялись несколько раз в той же форме. Для большей уверенности к левой руке медиума привязали эластичный шнурок, связывавший ей отдельно пальцы и дававший возможность наблюдать, какой рукой Евзания держала каждого из своих соседей.
Явления неизменно совершались также и при строгом и бдительном контроле Скиаппарелли и Шарля Рише».
* * *
Какое заключение можно вывести из всех этих фактов, когда они подтверждены собранием таких почтенных лиц? Прежде всего удивительно, что спиритическое царство духов состоит все из каких-то глупых голов: ни одной разумной мысли не услышишь от них, и только какие-то ребяческие проделки. И тем не менее знаменитый астроном, три физика, два философа и два физиолога, готовы принести в жертву все сокровище своих научных познаний, чтоб удостоверить сверхъестественную способность какой-то женщины или девицы Евзании, заставляющей «духов» производить эти проделки.
Кажется, во всем этом деле заключается одна принципиальная ошибка, именно – вера в то, что наука должна исследовать все, потому что это, мол, соответствует её характеру объективности. Такое мнение фальшиво в самой основе своей. Есть вещи, от которых отрекается разум. Ведь ни один настоящий натуралист не станет помышлять о том, возможно-ли, что солнце вдруг начнет всходит на западе. А то представьте себе, что ученому вдруг почудится призрак какого-то старика, который и станет уверять его, что ему тысяча лет и что он сам видел падение римской империи. Такого ученого пригласят разве для освидетельствования в лечебницу душевнобольных. Между тем как тут какая-то дама поднимается на воздух вместе со стулом, и семеро ученых объявляют о вероятном существовании каких-то новых сил природы, ускользавших от внимания мыслителей, от Галилея до Гельмгольца. Позволительно допустить, что эти семь ученых заранее верили в возможность спиритических чудес, и в таком случае не могли разоблачить фокусов медиума. Недаром один известный психиатр (Мейнерт), незадолго до своей смерти, сказал в одном ученом обществе: «да, суеверие эпидемично, и эта эпидемия стала так сильна, что даже профессора физиологии заражаются ею».
В виду таких явлений невольно ставишь себе вопрос: «куда мы идем?» Говорят, что мы живем в век просвещения, а в тоже время пытаемся вернуться к вере в духов. Эта «духовная» эпидемия проникает и в такой круг, от которого ей подобало бы ожидать сильнейшего отпора. Сами патентованные представители прогресса и просвещения поддаются её действию. Одной из роковых жертв этого заблуждения оказывается и выдающийся английский публицист, Вильям Стэд, известный издатель журнала «Review of Reviews», бывший главным редактором «Pall Mail Gazette». В европейской журналистике он стал чуть ли не самым страстным апостолом мистицизма. А уж если такой публицист, выдающийся и по уму, и по искренности, превращается в передового барана в стаде, то найдется не мало овец, которые запрыгают по следам его, и заклинанию духов широко раскроются двери в круг людей просвещенных.
Всего поразительнее в данном случае двойственность английского законодательства. Оно и здесь, по отношению к медиумизму, меряет богача и бедняка разною меркой. Какая-нибудь гадалка, которая за несколько пенсов предсказывает приятное влюбленным горничным, обещая исполнение всех их сердечных желаний, безжалостно осуждается на три месяца в тюрьму за невиннейшие прорицания. А элегантные дамы, промышляющие таким же чародейством для элегантного круга, взимая не дешевле половины гинеи за каждое предсказание, могут безнаказанно заниматься этим и даже трубить во всех газетах об успешности своего гешефта. Ими пускается в ход и гороскоп, и хиромантия. Кому нельзя лично прибыть к этим гадалкам, тот может послать им прядь волос, и гешефт, спекулирующий на суеверие, процветает отменно.
Новейшие заклинатели духов снимают сливки со всего. Ни один дух не остается пощаженным ими. Они вызывают из мертвых кого вам угодно, покоящихся вечным сном хоть тысячи лет назад. Александр Македонский, Юлий Цезарь, люди, перед которыми мир трепетал, поэты, начиная от Гомера до Тенисона, все они выходят, как послушные пудели, на зов самых игнорантных заурядных людишек. В Англии даже духовные лица верят в этих духов и в длиннейших статьях расписываются в своем легковерии. И все эти духи, являющиеся с того света, Шекспир и Мильтон, Гораций и Ювенал, оказываются самыми банальными и тривиальными существами, ибо болтают всякий вздор, каковым при жизни, наверное, не погрешали никогда.
В Лондоне теперь нет квартала, где не было бы медиума. За несколько шиллингов вы можете вступить в сношение с любым из покойников и видеть его дух. И Стэд перешел в разряд «верующих», а его редакционное бюро превратилось в настоящий приют для духов. Там его посетили уже Тенисон, Гете, Наполеон и целый ряд других великих и малых духов. У него есть свой лейб-дух, который, как лейб-камердинер, вводит к нему всякого покойника, по его приказанию.
Курьезнее всего, что неизвестно, принадлежит ли то, что теперь пишет Стэд, ему, Стэду, или духам. По его уверению, он может сделать свою правую руку совершенно невольной и предоставляет ее для писания духов. Он чувствует их близость, и невидимая сила водит его рукой. Он пишет и сам не знает именно, что такое он пишет. Но за то ясновидящие дамы, которые заседают вместе с Стэдом в Лондоне, всегда видят фигуры, которые водят его рукой, и сообщают ему, какая наружность у этих призраков и как они жестикулируют. Выходит, что отныне большая часть статей Стэда должна получаться с того света.
Во всяком случае, сам Стэд всегда писал умнее своих духов, но теперь он пресерьезно верует, что с помощью этих духов он достигнет наибольшего триумфа в журналистике и по части новостей превзойдет все другие газеты. Он утверждает даже, что путем передачи мыслей и с помощью своих специальных репортеров четвертого измерения может во всякую минуту узнать, что совершается в том или ином уголке мира. Все агентства Рейтера, Дальзиеля, Гаваса могут, значит, закрыть свои лавочки. Телеграфным линиям угрожает банкротство. Специальные корреспонденты не нужны. Стэд уверен, что вскоре он будет иметь возможность печатать такую газету, которая из часа в час будет приносить все последние известия со всех стран света, включая и торговые сведения, и при этом не заплатит ни гроша телеграфу. Остается неизвестным только одно, будут ли достоверны эти «телеграммы духов»?
* * *
Пока Стэд соберется завести такую удивительную газету, настоящие затеи fin de siècle не заставляют себя ждать. Вот одна из таких затей – газета-телефон. Это нововведение народилось в Будапеште. Инициатива его принадлежит Теодору Бусказу, главному инженеру и директору компании телефонов в этом городе.
Общая идея затеи крайне проста и заключается в том, чтобы централизовать наибыстрейшим способом известия со всего мира и немедленно по телефону передавать их жителям венгерской столицы.
Вот каким образом Бусказ привел в исполнение свой план. В № 6 Magyarutea он поместил редакционное бюро, непосредственно соединенное телефоном с биржей, палатой депутатов, метеорологическим институтом, центральным справочным агентством и пр. В этом бюро у аппаратов дежурят стенографы, которые немедленно записывают получаемые ими свежие новости. Записи их передаются во второе бюро, где полученные известия редактируются по-венгерски и по-немецки, так как добрая часть столичного населения не владеет еще национальным языком.
Войдем в передаточное зало. Помещение узкое и стены обиты войлоком, чтобы, по возможности, изолировать аппараты от шума с улицы. За столом, над которым привешен записывающий микрофон, занимают места двое служащих. Один из них читает вслух перед аппаратом только-что сообщенный ему листок, затем второй повторяет те же известия по-немецки.
Для прочтения этого листка требуется около четверти часа; для обоих чтений, на венгерском и на немецком языках, чередующихся одно после другого, – час, по истечении которого доставляется новый листок. Справочное бюро открывается в девять часов утра и закрывается в девять часов вечера. Абонемент стоит всего 1½ флорина, т. е. около 1 р. 20 к. в месяц.
Абонент получает небольшой весьма несложный аппарат-приемник, помощью которого во всякое время дня он может быть au courant текущих событий всего мира.
Один журналист имел случай пользоваться в Будапеште этим новым аппаратом и свидетельствует, что передача им известий вполне ясная. Он узнал самые свежие новости того часа, в который находился у аппарата, а именно: поверхность воды в Дунае в то время только-что достигла 5,45 метра, граф Апоньи только-что произнес замечательную речь в палате депутатов; солнечные часы показывали ровно 10 час. 25 мин.; президент французского сената де-Роне объявил, что подает в отставку, по болезни.
* * *
До сих пор ад считался антиподом не только неба, но и земного рая. Вообще признается, что радости, ожидающие в нем людей, скуднее даже тех, какие дарованы нам в земной юдоли скорби. Но английский богослов Миварт на этот счет иного мнения. Последнее напечатано в серьезнейшем английском журнале «Nineteenth Century», где он описывает прелести ада.
Выводы свои он основывает на сочинении достопочтенного мистера Оксенгэма «Catholic Eschatology and Universalism». Ад вовсе не страшное исправительное заведение для грешников; это – место, где сходятся души, не исповедовавшие истинной веры. В таком случае ад можно принять за приятное, счастливое местопребывание, превосходящее все наши самые смелые мечты о счастье, так что вся присущая человеку способность к счастью там может найти себе полное удовлетворение. И, – прибавляет мистер Миварт, – самый строгий католический богослов не может отрицать, что с этой точки зрения в аду обретается истинное и вечное счастье.
Для правоверного католического пастора такое мнение несомненно покажется поразительным. По Миварту, адское наказание заключается просто в лишении лицезрения Всевышнего, и те, кто не предвкушал этого чрезмерного блаженства, кому оно никогда не было даровано, не в состоянии измерить той утраты, какая постигает их.
Далее, по Миварту, ад рисуется такими мрачными красками исключительно вследствие человеческого бессилия изобразить идеал совершенства и счастья. Данте, напр., гораздо лучше удалось описать ад, нежели хоры серафимов. По народному представлению, ад – это только усиленная степень человеческих мучений. Чтобы изобразить абсолютное совершенство, безмятежное счастье, люди могли указать лишь на противоположное тому, что они видели сами. Здесь, на земле, человек трудится неустанно, и вот там, на небесах, он должен отдыхать вечно. Здесь он борется за свои потребности, там борьба эта прекращается, ибо превращаются самые потребности, и в вечном блаженстве люди наслаждаются чистыми, духовными радостями. Здесь царят перемена и вечное движение вещей во времени и в пространстве, а там – постоянство, экстаз бесконечного благоговения. Народное представление об аде, по мнению Миварта, несовместимо с всеблагостью Всевышнего.
Более глубокое понимание Св. Писания показывает, что ад точно также имеет свою «эволюцию», свою историю развития. Пребывание в нем стало сносным, для большинства даже весьма приятным. Каждый имеет надежду на постоянное улучшение своего положения и, действительно, участь каждого время от времени улучшается, хотя «небесного блаженства» избранных никто не достигает, ибо кто раз попал в ад, тот там уже и остается. «Что-же мешает нам принять, что, подобно тому, как окаянные устроили себе собственный ад собственными своими делами, так и здесь они находят известную гармонию с собственным духовным состоянием. Естественно, что в аду они встречают общество душ, одинаковых с ними склонностей, и несут свои цепи сообща и охотно, так как любят деятельность и низменные желания, составлявшие их счастье и утешение на земле».
Миварт делит население ада на две группы. К первой, наиболее многочисленной, относятся умершие без крещения, начиная от каменного века до наших дней. Представители этой категории вполне счастливы, как и полагается на основании самой элементарной справедливости, «ибо Всевышний не может же подвергать хотя-бы самомалейшему наказанию людей за то, что от них не зависело».
В состав второй группы входят грешные христиане. Они уже не так счастливы. Но все-таки Миварт утверждает, что даже им в аду совсем не так скверно. На этом основании Миварт выводит из высказанных им положений довольно странное для христианского богослова заключение: в виду будущей жизни, по его мнению, лучше быть язычником, чем христианином.
Во всем этом удивительно не то, что в fin de siècle проповедуется такая дарвинистская теория ада, а именно то, что она излагается от имени богослова и находит себе место в видном и серьезном журнале. Не есть ли это только новое доказательство того, что Англия была и останется страною противоречий.
* * *
В этой стране встречается не мало причуд. Возьмите любую английскую газету в руки и неожиданно вам попадется без всяких комментарий фраза: – «С добрым утром!»
Чего бы, кажется, безобиднее такого приветствия. А между тем, вы невольно спрашиваете: «что сей сон значит? Пошутить ли кто вздумал, или интриговать захотел кого-нибудь?» Таким образом, внимание ваше возбуждено, и цель оказывается достигнутой.
В отделе объявлений различных английских газет и самых почтенных журналов громадными буквами, чуть ли не в полстраницы, а также и по углам улиц красуется это «Good morning!» Когда оно успеет всем намозолить глаза, при нем появляется кратенькое добавление: «Have you used… 's soap?» И так, то была реклама мыльного фабриканта, который с материнской заботливостью осведомляется у публики, мылась ли она его мылом?
«Добрый вечер! Да, но я предпочитаю мыло такого-то…» появляется затем вдруг новый анонс.
Факты эти могут служить иллюстрацией того, каким образом коммерческие люди в Англии сорят деньгами на рекламы, или правильнее, – каким образом наживают они громадные состояния! Саморекламирование практикуется, конечно, и в других странах, но нигде рекламное дело не производится с такими денежными затратами, как в Англии! Одна мыльная фабрика израсходовала на это в короткое время до четырех миллионов рублей.
Конечно, против объявлений вообще протестовать не приходится. С прекращением объявлений, пожалуй, тысячи людей остались бы без куска хлеба. Говорят, что без объявлений журналистика не могла бы существовать при современном своем развитии, так как эти объявления покрывают ей значительную часть её расходов, нередко не возмещаемых даже успешной подпиской.
Против газетных или журнальных объявлений ничего не возражает и газета «Times», с некоторых пор открывшая поход против «Advertising plaque». Правда, еще старая английская поговорка гласит: «Good wine needs no bush», т. е. доброе вино не нуждается в рекомендации. Иные же из гигантских реклам, очевидно, указывают также и на нечто совершенно обратное, т. е. Что «Good bush needs no wine». А между тем, еще покойный Барнум, этот король рекламы, сравнивал всякого, имеющего товары для продажи и не рекламирующего их, с кавалером, улыбающимся хорошенькой девушке в темноте. Как бы то ни было, все, так или иначе, готовы согласиться с тем, что объявление, даже реклама, – между ними трудно иногда установить разницу, – или афиша отнюдь не подлежат обязательному изгнанию. Интересно только, в какой форме и в каких размерах будут они предлагаться почтеннейшей публике. И вот тут-то сетования «Times'а» уместны вполне.
* * *
Сетования эти прежде всего направляются против гигантски разрастающихся «плакатов», которыми сверху до низу оклеиваются высокие стены, а подчас и леса на постройках, и которые, по возможности, наиболее яркими красками и нередко режущими глаз иллюстрациями расхваливают то чудотворное лекарство, то новый порошок для чистки посуды. Даже выдающиеся актеры, – или, по крайней, мере, те, которые желали бы считаться такими, – не прочь от того, чтобы их изображали таким же манером на стенах в человеческий рост, и даже больше того, предпочтительно в самых ужасных сценах, в каких они выступают на театральных подмостках, так что нередко одна страшная картина убийства чередуется с другой, изображающей стычки и взрывы. Больше всего кидаются в глаза эти плакатные чудовища на железнодорожных станциях. Едва успеваете вы подъехать к тому месту, где поезд замедляет свой ход, как можете быть уверены, что направо и налево, а нередко и в чистом поле – найдете воздвигнутой эту назойливую картинную галерею. Таким образом, до прибытия на станцию вам приходится как бы пройти сквозь строй, причем и по другой стороне вас ожидает бичевание теми же шпицрутенами, пока, наконец, поезд мало помалу не достигнет обычной скорости. Но и тогда еще вы не всегда бываете спасены от них. Если бы вам вздумалось, – говорит один очевидец, – на самых станциях прочесть название этих станций, – причем надо заметить, что в одном Лондоне слишком 200 железнодорожных станций, – то можете быть уверены, что все, что угодно, найдете раньше, чем нападете на название станции. «Brown's Soap» «Tones's Mustard» и «Robinson's Cocoa», – все эти объявления лезут вам в глаза, некоторые десятками раз, и именно в тех местах, где прежде всего следовало бы рассчитывать встретить название станции. Наконец, если вы совсем не будете смотреть из окон вагонов, то и в таком случае плакатов вам не избежать, ибо, заполняя стены, пристроились они и в купе. В конно-железных дорогах и в омнибусах тоже самое: больше объявлений о театральных представлениях и чистильном порошке, о художественных выставках и сапожной ваксе, нежели о направлении и конечной цели данных поездов. Подобное безобразие проникло, конечно, и в другие города Европы, но в английской столице, при усиленном наплыве в нее иностранцев, при растянутой и запутанной сети её путей сообщения – это вдвойне неприятно.
Очевидно, настоящие герои рекламы несомненно задаются целью надоесть публике, елико возможно, лишь бы им удалось подсунуть ей несколько слов или иллюстраций. Но в конце концов и на земле им не хватает места. Они пускают по городу воздушные шары, чтоб с поднебесных высей осветить имя какого-нибудь фабриканта подтяжек или цену полдюжины носовых платков. Теперь еще завелась мода по ночам кидать на облачное небо огненные буквы, имеющие своим назначением рекомендовать вам тот или другой товар. Когда Гейне говорит, что он вырвет могучий ствол из мрачных еловых лесов Норвегии, окунет его в жерло Этны и таким гигантским пером, напоенным огнем, напишет на небесных облаках: «Агнеса, я люблю тебя», то это ни для кого не обременительно, так как надписью этой любоваться никто не обязан, кроме того, у кого оказалась потребность намалевать ее. Если же вам станут делать небесные объявления огненными буквами о том, что такой-то лондонский листок пользуется «largest circulation in the world» (самым широким распространением в мире), хотя это грубая ложь, ибо наибольшим распространением в мире пользуется известный маленький «Petit Journal» – или что мисс X из театра Т считает пудру Z за лучшую, в таком случае придется обязательно хлопотать об учреждении общества охранения небес от таких безобразий.
Пример о пудре переносит нас в другую область рекламы, пользующуюся в Англии особым успехом, которую можно бы назвать двуствольным анонсом, где прежде всего выхваляется публике назначенный на продажу товар, а затем также и «авторитет», согласившийся связать свое имя с рекламой. Иной фабрикант шоколада изображает принца Уэльского с супругой, распивающими его шоколад. Другие приплетают к рекламам медицинские авторитеты. Авторитетными судьями мыла, пудры и тысячи других туалетных принадлежностей выставляются примадонны сцены, кстати хвастающие своим прекрасным цветом лица. Но в этой категории реклам есть и такие, где покупателям навязываются мнения второстепенных артистов, что уже менее говорить в пользу товара. Но за то этот «puff» рекламирует одновременно и фабрикантов, и «авторитеты», так что в издержках по рекламе, вероятно, участвуют обе партии.
«Times» всячески старается найти средства для обуздания этих пошлых выходов законной рекламы. Предлагается, во-первых, обложить налогом все объявления, что и практикуется уже в некоторых государствах, а затем разрешать к выпуску, в виде рекламы, только такие иллюстрации, которые не противны эстетическому чувству. Некоторые из рекламирующихся фирм озаботились уже придать художественную физиономию своим плакатам. Одна из мыльных фабрик, особенно прославившаяся своими рекламами, заказала сэру Джону Миллэсь, одному из первоклассных живописцев Англии, написать известную картину, изображающую хорошенького мальчика, пускающего мыльные пузыри, и заплатила ему за нее тысячу фунтов стерлингов. В количестве ста тысяч экземпляров копия с этой картины распространилась по всему миру, с подписью имени фирмы. То же самое случилось и с подражанием известной статуе «Грязный мальчик, которого моет мать». Это художественное произведение, наделавшее столько шума на Парижской выставке 1878 года, было приобретено тою же фирмой за высокую цену.
* * *
Из той же страны противоречий…
Несколько времени тому назад в вагоне третьего класса на одной шотландской станция найдена была корзинка. Нашедший, бедный поденщик, не расследовав содержимого корзинки, прямо передал ее начальнику маленькой станции. Тот вскрыл корзинку в присутствии рабочего. Каково же было удивление их обоих, когда они увидели там спящего ребенка, не более трех недель, завернутого в теплые одеяла. Начальник поспешно закрыл корзинку, объявив, что не может принять такую находку к себе, что жена его «объяснит это по-своему», что и без того она ревнует его, что он не может оставить ребенка даже до следующего утреннего поезда, в виду полного неуменья нянчиться с детьми, как его собственного, так и бездетной его жены. Ребенок, пожалуй, еще умрет, прежде чем его отправят на главную станцию, и он, начальник станции, не желает, да и не может навязывать себе никакой ответственности и никаких хлопот и огорчений. Он предлагал нашедшему взять находку себе или же передаст ее полиции.
Бедный поденщик уныло чесал затылок, пробовал уговаривать начальника, наконец, осторожно поднял корзинку с словами:
– Не дам же погибнуть бедному брошенному червячку. На восьмерых детишек работаю, одним больше, одним меньше – не все ли равно. – И он двинулся с этой ношей в темную ночь через пустынное болото по направлению к своей хижине. Что-то скажет жена его? – думалось ему. У неё в это время был также грудной ребенок, а он тащил ей еще второго. Хороший подарок! Сердце у него ёкнуло. Но ведь что же ему было делать? Разве он, мог бросит ребенка на произвол судьбы? Разве он не знал доброго сердца своей жены? И он бодро зашагал вперед и скоро добрался до своей хижины.
Дети уже спали. Только жена сидела, в ожидании его, у печки, где горело несколько поленьев. Трепещущий свет их скользил по полу и по стенам, выкрашенным белой краской, и освещал комнату.
– Что ты там принес с рынка? – спросила жена, заметив корзинку под мышкой у мужа.
– Находку, – запинаясь отвечал муж.
– Находку?
– Да.
– Да где же ты ее нашел?
– В вагоне железной дороги. Эта корзинка стояла под скамьей.
– Джемс, – робко заметила жена, – тебе не следовало присваивать ее себе. Следовало передать ее начальнику станции.
– Я так и сделал, – возразил муж спокойно, – но он ничего знать не хотел об этой находке и заставил меня взять ее обратно.
– Ну, уж если тот отказался, значит, это что-нибудь отменное, – горячо воскликнула жена. – Что же это такое?
– Посмотри сама, – сказал Джемс, поставив корзинку к ногам своей жены. Она с любопытством откинула крышку, и при виде ребенка слегка вскрикнула, с оттенком удивления и досады. Она вскочила и сердито обратилась к мужу с словами:
– Да в уме ли ты притащить это домой? Кажется, довольно с нас и своих детей? Я не стану возиться с подкидышем.
– Что же мне было делать! – тихо проговорил Джемс, – мне стало жаль бедного, брошенного червяка.
Ребенок, очевидно, находившийся под влиянием сонных капель, все еще лежал неподвижно. Жена ни слова не ответила своему мужу, отерла свои глаза, взглянула на ребенка и опустилась на колени перед корзинкой. Красный отблеск пламени скользил по миловидному, зарумянившемуся от сна личику ребенка. Долго простояла она, не отрывая глаз от маленького сони. Затем вздохнула, и слезы тихо заструились по её щекам.
– Бедное дитя! – сорвалось с её уст. – Вытолкнутое на улицу! Какая бессердечная, бессовестная мать! Бедное дитя! Бедное дитя!
Она наклонилась, поцеловала малютку, который открыл при этом свои большие, красивые, голубые глазки и, молча, взглянул на нее. Жена поденщика еще раз поцеловала его, затем взяла на руки, села и приложила найденыша в своей груди, – брошенное дитя обрело новую мать.
Тут муж подошел в своей жене, поцеловал ее и при этом кинул взгляд на корзинку.
– Тут лежит какая-то записка, – заметил он и передал жене маленький листок бумаги, на котором дамским почерком написаны были следующие слова: «Кто сжалится над этим мальчиком, тот никогда не будет терпеть нужды».
– Дай-то Бог! Мы хорошо знакомы с нуждой! – сказала жена.
Муж снова вернулся в корзинке.
– Там лежат еще какие-то вещи! – проговорил он и вынул небольшое, но роскошное детское приданное. На дне корзинки нашел он кошелек с деньгами, в котором лежала вторая записка: «Тому, кто сжалится над ребенком!» и при записке тщательно сложенные ассигнации и золотые – всего же несколько сот фунтов стерлингов.
В эту ночь у Джемса и его жены о сне не было и помину. Доброе дело их было вознаграждено сторицей и оба они бодрствовали над маленьким принцем, как они назвали дитя, по-видимому ниспосланное им самим небом. На следующее утро Джемс отправился к пастору, по совету которого крестил ребенка на свое имя и записал себя и свою жену приемными родителями найденыша. Священник обязал Джемса ничего никому не рассказывать об этом деле, и Джемс действительно держал его в тайне. Тем не менее молва о счастливой находке распространилась и скоро дошла до начальника станции.
Услышав о том, какое сокровище обрел Джемс в корзинке, начальник немедленно побежал к поденщику и стал требовать обратно его находку. При своем бездетном супружестве он и его жена ничего-де более не желают, как усыновить ребенка; останься корзинка на станции, он, наверное, принял бы к себе ребенка; Джемс и права не имел взять ее; он подлежит наказанию за утайку и будет преследоваться судом. Джемс посмеялся над угрозами начальника станции так же, как и над его просьбами. Тогда начальник станции подал на Джемса жалобу в суд с требованием выдачи всей находки, включая и ребенка. Само собой разумеется, что внезапно полюбивший детей начальник станции получил отказ в своей жалобе. Но суд опубликовал эту замечательную историю, и все немедленно заинтересовались необычайным найденышем и его матерью. Но кто эта мать? Вопрос этот занимает в Лондоне всех, и судя по газетным намекам, ее надо искать в самых высших слоях английского общества.
* * *
Из театральных новинок Парижа нельзя не отметить весьма любопытную пьесу бытового характера «Flipote» известного критика Жюля Леметра, иллюстрирующую закулисные нравы театрального мира, директоров, актеров и актрис, драматических авторов, газетных репортеров, ютящихся около театра. Флипот, мелкая парижская артистка, случайно заменив свою заболевшую соперницу Лидию, которой покровительствует сам директор театра, дебютировала с большим успехом на одной из бульварных сцен. Это – восходящая звезда, и она служит центром интересов этого особого мирка. В чем заключаются эти интересы и какова нравственная физиономия главных персонажей, показывает нижеследующая сцена – одна из наилучших в пьесе. При Флипот состоит тетка – девица Англошер, заменяющая ей мать. Эта девица, державшая раньше учебное заведение и получавшая академические премии за назидательные книги, исповедует ту теорию, что актрисе выходить замуж не подобает. А Флипот непременно хочет сделаться женой актера Леплюше, которого она любит и считает многообещающим дарованием, тогда как он просто бесталанное ничтожество и в нравственном отношении может быть назван Альфонсом сцены. Впрочем, и любовь Флипот оказывается не особенно прочной.
И так, к Флипот является директор театра Курбузон с целью заключить с ней контракт.
M-lle Англошер (заметив, что Курбузон окидывает маленькую гостиную взглядом комиссара-оценщика). Надеюсь, вы извините нас, г. директор, мы еще не устроились.
Курбузон. Конечно, конечно… быть может, вы удивляетесь, что видите меня у себя?.. Я шел мимо… и мне вздумалось подняться на верх и узнать, как вы себя чувствуете?.. Так, значит, это маленькое нездоровье не разыгралось ничем?..
Флипот. Решительно ничем, как видите.
Курбузон. Волнение, неизбежное при первом успехе… Ну уж и аплодировали же вам вчера вечером. Прочувствуйте хорошенько это удовольствие, малютка. Не сомневаюсь, что у вас будет еще много хороших вечеров. Но радость неожиданности завладения публикой, которая вас, так сказать, открывает и в восторге от своего открытия… этого никогда не повторяется, предупреждаю вас. Первый успех – это все равно что первая любовь… Теперь только надо позаботиться, чтобы и остаться на той же высоте… или, по крайней мере, делать вид, что вы не сходите с пьедестала… Это не так-то легко в нашем священном Париже. Сколько подобных репутаций на час промелькнуло на моих глазах!
M-lle Англошер. Однако, и стараетесь же вы ободрить человека.
Курбузон. Предупредить на этот счет, значит – оказать услугу… (Замечая, что Флипот взволновалась и с трудом удерживает слезы). Это вас огорчает? бедняжечка, ну, полноте! Да ведь все это я говорю вам по дружбе… Ну-же, улыбнитесь доброму директору!.. и не расстраивайте себе печени в данный момент… У вас будет возможность немножечко отдохнуть. Лидия написала мне сегодня, что сегодня же вечером снова выступает в своей роли.
Флипот. Лидия опять выступает в моей роли… сегодня вечером?
Курбузон. Это её право.
Флипот. Но это подлость! Ведь она только пять минут тому назад писала мне совсем другое.
Курбузон. Нет! (Смеясь). Ну я узнаю ее в этом.
Флипот. Вас это только забавляет?
Курбузон. Да, как состязание женщин, это не дурно… Хотите, я дам вам совет? Отнеситесь к этому с легким сердцем. Скажите себе, что Лидия дорого-бы дала, чтобы быть на вашем месте. Все козыри у вас теперь на руках. Мы устроим вам отменное положение. В самом деле, раз уже мы с вами тут с глазу на глаз, давайте-ка поговорим о серьезных делах? Срок настоящего вашего ангажемента истекает уже через четыре месяца. Я полагал, что вы дружески предложите мне уничтожить его. Так и сделаем. Я сам иду к вам на встречу, так как живо интересуюсь вами.
Флипот. Что же вы мне предлагаете?
Курбузон. Мы сейчас к этому вернемся… Я вступил в соглашение с Монтрие. Я ставлю одну его вещь после «la Fille а Marcassin». У вас будет очень хорошенькая роль.
Флипот. Первая роль?
Курбузон. Конечно.
Флипот. Лидия будет участвовать в пьесе?
Курбузон. Ну, разумеется…
Флипот. В таком случае я отказываюсь.
Курбузон. Почему?
Флипот. После её поступка…
M-lle Англошер. Да не говори же глупостей.
Флипот. Какая же у неё будет роль?
Курбузон. Другая главная женская роль, их там две.
Флипот. Такая же большая роль, как моя?
Курбузон. Ну, знаете, строк я не считал.
Флипот. Я очень рада с ней играть! Ведь я уступчива. Но я не желаю собой жертвовать ради неё; это было-бы слишком глупо! Я имела больше успеха в той роли, в которой заменяла ее; будущность за мной; я подымаюсь как раз в то время, когда она идет под гору; мне девятнадцать лет…
Курбузон. Pardon, малюточка, двадцать два.
Флипот. А ей, по крайней мере, сорок пять.
Курбузон. Нет, сорок один, и она еще очень мила, это неоспоримо. И притом это старая слава. Публика к ней привыкла. Ее хватит еще на пять-на шесть лет, прежде чем заметят, что она утратила свою прелесть… Да что рассуждать на этот счет. Или принимайте, или отказывайтесь.
M-lle Англошер. Мы принимаем, г. директор.
Курбузон. Теперь остается вопрос об условиях. Буду говорить без обиняков. Вы получите шестьсот в месяц и по десять разовых. Надеюсь, это удовлетворит вас? И нам только останется подписать.
Флипот. Вы шутите, не правда-ли?
Курбузон. Но…
M-lle Англошер. Послушайте, monsienr Курбузон. Вы поступаете положительно не хорошо. Я уж и то говорила себе: не даром он так любезничает и решился потревожить себя, чтобы проведать Флипот. Теперь я понимаю, зачем вы пришли. Видя, что Флипот занимает весьма скромную маленькую квартирку и живет честной девушкой, и что некому защитить ее, вы полагаете, что ее можно скрутить сразу… Нет, этому не бывать! Я тетка её, тут на лицо. Мы не одолжения какого добиваемся, и вы не милость какую нам оказываете. Это просто общее наше дело, – и вы первый посмеялись бы над нами, уходя отсюда.
Курбузон. Допустим! Чего же вы желаете? Назовите какую-нибудь цифру.
Флипот. Шестьдесят тысяч…
M-lle Англошер. Сделай мне удовольствие, помолчи. (Курбузону). Я требую две тысячи в месяц и двадцать пять разовых.
Курбузон. Mademoiselle Англошер… mademoiselle Флипот… честь имею откланяться. (Он уходит. – Молчание).
Флипот. Однако, тетя, надо его вернуть.
M-lle Англошер. Оставь пожалуйста. (Курбузон возвращается). Ты видишь!
Курбузон (m-lle Англошер). Я готов сделать глупость… Конечно, я поступаю опрометчиво, но я вижу, что вы так настойчивы. Тысячу в месяц и двести разовых.
M-lle Англошер. Нет, господин директор.
Курбузон. Нет?
M-lle Англошер. Предлагаю вам компромисс. Полторы тысячи в месяц и пятьдесят разовых. Это приблизительно выйдет то же самое, что я давеча спросила у вас, но за то у вас будет та выгода, что вы заплатите ей менее, если она будет реже играть. Это мое последнее слово. Я не хуже вас понимаю рыночную цену Флипот и, в свою очередь, говорю вам: принимайте или отказывайтесь.
Курбузон. Mademoiselle Англошер, вы тверже меня. Вы меня подводите, но вы мне нравитесь… Полторы тысячи и пятьдесят разовых, идет… Ангажемент на пять лет?
M-lle Англошер. Нет, г. директор. Флипот весьма легко может сделаться звездой первой величины гораздо ранее пяти лет. Тогда она стала бы оплачиваться менее своей стоимости. Ангажемент на один год, если вы согласны.
Курбузов. Чтобы она бросила меня в конце этого года и отправилась делать сборы какому-нибудь другому театру той самой репутацией и успехами, каких она достигнет в моем.
M-lle Англошер. Это основательно. Положим два года.
Курбузон. Четыре…
M-lle Англошер. Два.
Курбузон. Да будет по-вашему. Мы положим сто тысяч неустойки, не так-ли?
М-Не Англошер. Нет, г. директор.
Курбузон. Почему-же? Значительность неустойки служит лучшей гарантией для обеих сторон и притом это – честь, воздаваемая таланту артиста… Я достаточно дорожу m-lle Флипот, чтобы…
M-lle Англошер. Несоразмерная неустойка существует лишь к тому, чтобы дать возможность директору обращаться с своими артистами как с неграми и, при случае, эксплуатировать их легкомыслием, на которое ему очень легко подбить их… Неустойка в пятьдесят тысяч кажется вполне достаточна.
Курбузон. Mademoiselle Англошер, я, конечно, сделал ошибку, завернув к вам. Я много бы выиграл, просто пригласив Флипот в свой кабинет. Наконец…
M-lle Англошер. Вы вернете свое на какой-нибудь другой.
Курбузон. Надеюсь…. Ну что же, все в порядке?
Флипот. А красная строка? У меня будет красная строка?
Курбузон. Само собой разумеется.
Флипот. В заголовке афиши?
Курбузон. Нет, после Лидии.
Флипот. Тогда на той же строке.
Курбузон. Это мы увидим.
Флипот. Я желаю быть на той же строке. Я охотно соглашаюсь быть после Лидии, так как она старше меня, но никак ее под нею.
M-lle Англошер. Боже мой, как ты меня раздражаешь, Флипот.
Флипот. Ах, вот еще вопрос о туалетах.
Курбузон. Это вопрос, улаженный заранее. Вы запасетесь городскими туалетами, по обыкновению.
Флипот. Это, любезнейший г. директор, хорошо кокоткам. А честной девушке, которой приходится рассчитывать только на себя самоё, – как вы хотите, чтобы с двадцатью пятью или тридцатью несчастными тысячами франков…
Курбузон. Но, милый друг, я вовсе не обязываю своих артисток быть честными… Впрочем, я не обязываю их и справлять свадьбы… Все это меня не касается.
M-lle Англошер. Ну, сделайте доброе дело. Заплатите ей за половину её туалетов.
Курбузон. Нет, уж это ни за что!.. На этот счет у меня самые строгие принципы… И притом я уже довольно уступал в других пунктах. Повторим вкратце: полторы тысячи и пятьдесят разовых, ангажемент на два года, пятьдесят тысяч неустойки. Завтра мы подпишем. Флипот, я вас буду ожидать в театре, в пять часов. Полагаю, что мы все переговорили. (Прощаясь). Mesdames… (Он подходит к двери).
Флипот. Pardon. А Эммль?
Курбузон (возвращаясь). Какой Эниль?
Флипот. Г. Леплюше. (Вкрадчиво). Милейший г. директор, вы должны мне отдать справедливость, что я была очень любезна, совсем не требовательна… Ну, а теперь вы, в свою очередь, доставите мне большое удовольствие, увеличив оклад Леплюше.
Курбузон. Вот уж этого бы мне и в голову не пришло… С чего это, черт возьми, вздумалось вам, чтобы я прибавлял Леплюше?
Флипот. С того, что я выхожу за него замуж.
Курбузон. Вы выходите замуж… (Обращаясь к m-lle Англошер). Она выходит замуж за Леплюше?
M-lle Англошер. Увы!
Курбузон. И вы допускаете это?
M-lle Англошер. Я отказалась от борьбы. По-видимому, тут любовь, настоящая, которая людей превращает в идиотов.
Курбузон. Леплюше? Нет, это безумие! (Обращаясь к Флипот). И не только потому, что у Леплюше нет никакой будущности и что это для вас плохая афера, но и потому, что это и мне не под стать, по той же причине. Я совсем не гонюсь за тем, чтобы держать в своей труппе замужних актрис. Это отдаляет от тех, которые создают успех театра, подобного моему…. Я не желаю быть осужденным на лицезрение этого молокососа вечно при ваших юбках. Искренно клянусь вам, что если бы я заранее предвидел Леплюше… Впрочем, есть еще время помешать вам сделать глупость. Если вы выходите замуж за Леплюше, все уничтожается, ангажемент не может тогда состояться… Согласны?
Флипот (плачет уже несколько минут, сквозь слезы). Я люблю его…
Курбузон. Это не резон!
Флипот (также). Конечно, это резон.
M-lle Англошер (обращаясь к Курбузон). Оставьте ее. Это ненадолго!
Курбузон. Знаете-ли, я просто не могу прийти в себя от удивления? Послушайте, Флипот, вы глупы, дитя мое, но, честное слово, вы меня трогаете. Сколько получает этот ваш Леплюше. Тысячу двести? Ну, я дам ему тысячу восемьсот. Вы видите, что я, с своей стороны, стараюсь…
Флипот. Тысячу восемьсот? Ему?.. Да нет-же, милейший г. директор, поймите, что у этого юноши есть собственное достоинство и что я сама была бы стеснена таким неравенством ваших положений…. Обращаюсь к вашему такту…. Конечно, я не прошу вас дать ему столько же, сколько мне….
Курбузон. Напрасно стесняетесь.
Флипот. Я не прошу вас о том, хотя и убеждена, что со временем у него будет громадный талант, за это я вам ручаюсь, не правда-ли? Тут я понимаю кое-что… По крайней мере, устройте ему сносное положение, за которое ему не пришлось бы краснеть перед своей женой и подумайте, что Леплюше….
Курбузон (раздраженно). Леплюше чижик! Я ему не дам ни единого су и при первом случае вытолкаю его за дверь, этого Леплюше! Ясно? (Снова поднимается).
Флипот (опять принимаясь всхлипывать). Боже! как я несчастна!
(В ответ на умоляющее движение тетки Курбузон опять возвращается).
Курбузон. Нет, я не могу так уйти…. она положительно обезоруживает меня…. Утешьтесь, Флипот, мне пришла мысль…. Вы хотите, чтобы Леплюше прибавлено было жалованья? Так прибавьте ему сами.
Флипот (не переставая плакать). Каким же это образом?
Курбузон. Очень просто. Я предложу ему ангажемент на пять – на шесть тысяч – цифра для меня безразлична – которые я обязан буду взять из своей кассы, но которые вы примете в уплату вашего жалованья. Таким образом и уладится все.
Флипот. А как-же мое жалованье, по-прежнему будет полторы тысячи и пятьдесят разовых.
Курбузон. На бумаге, да…. вам придется только дать мне маленькую контр-росписку.
Флипот. Тетя, кажется, так можно устроиться?
M-lle Англошер. Ну и устраивайся, дитя мое.
Курбузон. И так, мадам Леплюше, будьте любезны сами назначить оклад вашего супруга. Пять тысяч? Восемь тысяч? Десять тысяч?
Флипот. Пяти тысяч довольно, не правда-ли, тетя?
M-lle Англошер. Предоставляю тебе решить, дитя мое.
Флипот. Да, так довольно, пятьсот в месяц.
M-lle Англошер. На один год!
Курбузон. Решено.
Флипот. Решено.
Курбузон. И так, до завтра! Все будет готово. Постарайтесь только прийти раньше Леплюше.
Флипот. Ах, милейший г. директор, как я вам благодарна…
Курбузон. Право, не за что. (Уходит).
Флипот выходит замуж за своего товарища Леплюше. Она любит его до тех пор, пока чувствует свое превосходство над ним. Но случается так, что Леплюше, играя роль кретина, имеет успех в одной пьесе, где ее самое принимают дурно. Любовь Флипот не переживает этого оскорбления для «jalousie de métier»; супруги расходятся. Супругу возвращается его независимость, а супруга принимает дворец, предложенный ей бароном des Oeillettes, её поклонником, которому покровительствует добродетельная тетушка артистки. Таков финал комедии, согласный с особенной логикой, управляющей театральными нравами и закулисным миром…
2
Современные попытки совершенствовать душу. – Нравственное движение в Германии и «общества нравственной культуры». – Книга против нравственных учений. – Новейшие моды в философии. – Макс Штирнер и его сочинение «Индивидуум и его права». – Разрушительность Гегелевского анализа. – Апология эгоизма и личных интересов. – «Вселенная, это – я!». – Историческое значение метафизических доктрин Штирнера. – Анархизм и диктатура. – Учение Ницше о «желании властвовать». – Биография Ницше и новейшие сведения о душевной болезни его. – Аристократический взгляд на историческое развитие человечества. – Две морали – для титанов и пигмеев. – Вред демократизма. – «Высший человек» и его заповеди. – Ницше, Шопенгауер и Ренан. – Французский роман, основанный на философской системе кулачного права аристократизма. – Колония холостяков в Америке. – Неожиданная разгадка истории одной таинственно погибшей счастливой четы в Англии – благодарный материал для страшной драмы или ужасного романа.
Современное цивилизованное человечество видимо усердно старается совершенствовать не только свои учреждения общественные, но и свою душу, свою совесть, свою внутреннюю жизнь. Во Франции рядом с пессимизмом и атеизмом народилось мистическое влечение в религиозности и ведется пропаганда нравственных идей. В Англии агитируют в пользу «внутреннего христианства», которое разъясняется в массе брошюр назидательного содержания, расходящихся сотнями тысяч. Из Соединенных Штатов, страны, которую европейцы привыкли считать родиной самой беспощадной борьбы за существование, ареной погони за наживой, переносятся в Европу проекты чисто идеального характера. Именно в Америке было положено начало «обществам нравственной культуры», долженствующим содействовать обновлению современной души и протестовать против девиза новейшего эпикурейства: «презирай ближнего как себя самого». В последнее время это движение перешло и в Германию.
В Нью-Йорке, Сан-Луи, Филадельфии, Чикого, Лондоне, Берлине, Киле, Магдебурге, Страсбурге, Франкфурте общества нравственной культуры ведут борьбу, цель которой – возродить в человечестве веру в себя. Книги, брошюры, газеты, публичные лекции поведали эту добрую весть миллионам созданий, вероятно, слушающих с удивлением и недоверием такие речи à la Жан-Жак Руссо, совершенно новые для большинства из них: «мы слишком плохого мнения о людях. В глубине всех нас существует высшая натура, но к ней редко обращались доселе, и потому-то уровень нашей нравственной жизни остается столь низким. Дерзнем же обратиться к добрым сторонам человека, потребуем от него, чтоб он был справедлив во имя долга и совести, и мир изумится тому, чего мы достигнем».
Не разъясняется, откуда главари этого любопытного движения почерпнули свою «веру в человеческую природу» и в благость творения? Наблюдение фактов современной жизни заставляет их энергически трактовать о приниженности характеров, о процветании ненависти между классами, об ужасающей анархии совести, о нравственной гнилости высших классов. Но во всяком случае общества нравственной культуры не допускают, чтоб зло это было неизлечимо. И эта пропаганда, организованная с успехом, одному берлинскому обществу дала уже до 800 членов. Это «общество» имеет в виду обновить нравственное воспитание германской нации, которое держится теперь на идеях ложных. По словам сторонников этого движения, до сих пор всевозможными средствами старались в Германии совращать совесть. Приходится исправлять зло, для чего необходимо приняться за нравственное обучение юношества, создать новую народную литературу, учредить музеи и выставки, публичные курсы и лекции, неустанно твердить всем немцам, молодым и старым, образованным и необразованным, всеми средствами, какими обладает печатное дело, что десять веков их обманывали и что в каждом из нас есть несокрушимый и священный зародыш, из которого может произойти доброе и хорошее.
* * *
И вот в дни таких-то высоких стремлений к нравственному совершенствованию появляются книги, серьезно выставляющие опасность нравственных учений во всех их оттенках. Не верите, перелистуйте книжку Адольфа Гереке «Die Aussichtslosigkeit des Moralismus». «Нет ничего глупее, как идея нравственности, – утверждает автор. – Всемирная история учит нас, что народ нравственный – почти всегда народ без ума, он не создает ничего и не прогрессирует. Желания, стремления к наслаждению и интенсивное чувство наслаждения, без всяких моральных опасений, – вот почва, на которой вырастают и распускаются самые блестящие цветы духа».
Подобные разглагольствования не заслуживали бы ни малейшего внимания, если бы они не были в сущности лишь слабым эхо самых модных доктрин новейшей философии, которые громко проповедуются их последователями и пытаются взять верх над другими течениями общественно-нравственного содержания. И действительно, с недавнего времени входят в моду теории двух немцев, Макса Штирнера и Фридриха Ницше.
Философия и мода – два понятия, на первый взгляд взаимно исключающие друг друга. Самое сопоставление таких понятий может показаться неучтивостью. Философия ведает вечные истины, а мода представляет собою нечто до такой степени эфемерное, что французы именуют ее «le ridicule de demain». А между тем и в философии бывают свои моды, как есть моды на шапки и галстуки. Эти философские моды объясняются многими причинами – манией противоречий, потребностью в переменах, нетерпеливостью, с какою каждое новое поколение стремится упрочить свое значение во вселенной и, отвергая сделанное предшествовавшим поколением, пытается революционировать мысль и вкусы, сокрушить недавние культы, воздвигнуть новые алтари.
Как бы то ни было, но самыми модными метафизическими кумирами ныне оказываются немцы Штирнер и Ницше.
* * *
Макс Штирнер жил в полной безвестности. Биография его не сложна. Уроженец Байрейта (1806 г.), он, подобно Фаусту, изучал теологию, потом филологию и философию, и большую часть своего существования провел в Берлине, преподавая в среднеучебных заведениях и бегая по частным урокам. В 1845 году он напечатал в Лейпциге сочинение под заглавием довольно туманным «Der Einzige und sein Eigenthum» (Индивидуум и его права). Оно возбудило некоторую полемику, но автора не обогатило. В 1856 году Штирнер умер неведомым бедняком.
Первые проблески его посмертного ореола показались десять лет назад, когда появилось второе издание названной книги. Чтоб понять Штирнера, надо вспомнить о системе Гегеля. Этот теоретик проповедывал в Берлине государственную философию. Доктрина его была консервативная, но метод – совершенно противоположного свойства. Он учил: «нет принципов, но есть факты; нет морали, но есть нравы». Последователям своим он оставил обоюдоострое оружие своей диалектики, которая, будучи пущена в ход, уже не останавливается ни перед чем в своем анализировании. Как червь, этот дух анализа подтачивает в корне и чувство и ум. Давид Штраус пользуется им для подрыва и разрушения догматов церкви («Жизнь Иисуса» 1835 г.). Вслед затем Фейербах, упрекая Штрауса и Бруно Бауера в трусости и малодушии, сам ополчается на религиозные чувства. Религия у него превращается в культ человечества. За Фейербахом выступает Штирнер и пытается сокрушить идол «Человечество», заменив его культом личного «я». Этот гегелианец доказывает, что «человечества не существует, что человек не должен подчиняться ничему вне себя, будет-ли это божество или человечество, и что, наконец, нет иных прав, кроме прав личности». Это личное «я» есть начало и конец всего.
Говоря от имени какого-то человеческого существа, Штирнер прибавляет: «Я не подчинен духу, дух и тело могут быть только качествами „я“, свойством „я“. То, что называют свободой духа, есть порабощение „я“, ибо „я“ есть более, чем тело и дух. Для определения „я“ в языке не хватает слов. „Я“ невыразимо… Я не могу считать себя индивидуальностью наравне с другими индивидуальностями, но именно единственной индивидуальностью существующей для „я“. Все прочее, люди и вещи, есть мое добро, моя собственность, в той мере, насколько сила моя позволяет мне присвоить это и насколько я желаю присвоить это себе».
Уже по этой исходной точке зрения легко угадать, что должно сделаться со всеми нравственными идеями, составляющими действующую человеческую мораль. Самая идея свободы ставится в зависимость от боготворения индивидуальности. «Бываешь свободен в той мере, в какой обладаешь силой; истинная свобода только та, которую берешь сам себе». Государство, религия, гуманитарность, социализм, все это исчезает перед верховным «я», не принимается им в расчет. Слова право, долг, нравственность не имеют смысла. Самое слово «истина» не означает ничего. «Мысли создают „я“, они не „я“. Верить в истину значит отречься от „я“».
Но «я» Штирнера, т. е. каждая отдельная личность, не имеет ничего общего с отвлеченным «я» Фихте, «я» величающимся перед природой и смиряющимся перед законом нравственным. Эгоизм Штирнера совершенно отрицает нравственность. То, что разумеют люди под этим понятием, есть только химера. Именем этой химеры те, кто руководит и наставляет других, педагоги, как вожаки медведей, заставляют людей плясать под их дудку, принуждая их к таким штукам, каких свободное «я» их не допустило бы никогда.
* * *
Однако ж, этот радикальный индивидуализм отличается от грубого эгоизма тем, что Штирнер не отрицает так называемых альтруистических чувств. Он только отказывается придавать им характер обязательности: «я не признаю никакого закона, я люблю каждого человека, потому что это мне нравится, потому что это делает меня счастливым и потому что я вовсе не помышляю жертвовать собою ради него, а может быть также и потому, что я могу больше получить от людей добротой, нежели суровостью. Я люблю свою возлюбленную и подчиняюсь сладкому велению её взора – также из эгоизма… Я питаю сожаление ко всякому существу, которое может чувствовать, и его муки мучают меня, его удовольствие мне приятно, я могу его убить, но не замучить», и все это – не лишаясь спокойствия своей совести, ибо порока не существует. Так как всякие правила – вещь чисто воображаемая, то мы и не можем нарушать их. «Мы вовсе не грешники, мы совершенны, ибо в каждый момент мы бываем всем тем, чем можем быть… Наконец, у меня нет ни назначения, ни призвания, как и у цветка. Я не привязан ни к чему. Я только отстаиваю право существовать лишь для себя, пользоваться миром, жить счастливо. Все, что я могу взять и удержать за собой, принадлежит мне, становится моей собственностью. Для меня все средства законны: убеждение, мольба или насилие, ложь, обман, лицемерие; только сила поддерживает мое право. Что мне за дело до блага народа? Мне нужно мое собственное. Свобода существует только в силу эгоизма. Собака видит кость у другой собаки. Если она не отнимает ее, то единственно потому, что чувствует себя слишком слабой. Но человек уважает право другого на кость. Это считается гуманным, а противоположное тому – актом грубости или эгоизма. Не говорите же мне о справедливости и общем благе! Что мне делать с общим благом… Общее благо, как таковое, не мое благо… Общее благо может ликовать, тогда как я должен изнывать… Общество может благоденствовать, в то время как я умираю с голода. Эгоизм не будет удовлетворен тем, что ему дадут во имя общих интересов. Он скажет просто: бери себе то, что тебе нужно».
И так нет общественных обязанностей, есть только личные интересы. «Пусть гибнет народ, – восклицает Штирнер, – лишь бы свободен был индивидуум! Пусть гибнет Германия, пусть гибнут все нации европейские, и человек, избавившись от всех своих уз, наконец получит свою полную независимость!»
Штирнер таким манером водружает верховенство своего «я» на развалинах всякой власти божеской и человеческой. Нерон, когда он сжигал Рим ради своего собственного удовольствия, Людовик XIV, когда он, окруженный своими придворными, говорил «государство это – я», они кажутся скромными существами в сравнении с этим гегелианцем, философствовавшим в одиночестве на своей берлинской мансарде на тему: «Вселенная, это – я. Homo sib Deus (человек есть Бог для себя)».
* * *
Историки философии упоминают об этой книге Штирнера лишь как о курьезном продукте гегелианской софистики, а самого автора её зачисляют в разряд виртуозов диалектики, ловко пляшущих на натянутой веревке парадоксов и жонглирующих равными отвлеченностями. Ведь и «индивидуум» Штирнера только отвлеченность. «Единственные», уники бывают только в домах умалишенных. Всеми своими потребностями, своим воспитанием, своей деятельностью мы зависим от других. «Никто из нас, – прекрасно замечает по этому поводу один критик – не имеет права быть безусловным хозяином своих действий и даже своих мыслей, потому что нет ни одного из нас, кто бы не принадлежал обществу столько же, сколько и себе самому в силу того, что он обязан обществу благодеяниями в прошлом и требует от него помощи или поддержки в настоящем…»
Даже в шайках злоумышленников, когда дело идет о дележке награбленного, индивидуум должен подчиняться известному правилу, поступаться долей своей личной выгоды. Штирнер как бы забывает, что жизнь и деятельность человеческая имеют свои существенные законы, что недостаточно одного резонерства, чтоб их уничтожить; он явно забывает, что государство основано не на призрачной идеи, а на неизживном инстинкте сохранения личностей. Так как человек животное общественное, которое не может жить в одиночестве, то и надо, чтоб он, давая своему личному эгоизму надлежащую долю удовлетворения, делал уступки потребные для эгоизма других, в ком он нуждается. Тут может быть только вопрос о размерах, но никоим образом не об исключительном выборе. Предполагать же возможным все свести к «я», значит, допускать заблуждение, какое может зародиться только в узких умах, которые видят лишь одну сторону вопроса, тогда как их две, и они неразрывны. Подобные софизмы не имеют никакого практического значения, потому что сила вещей всегда призовет к порядку тех чудаков, которые пожелали бы пренебречь им. И действительно, если бы Макс Штирнер, который в сущности был человек мягкого характера, миролюбивый, трудолюбивый и жил всецело экзальтацией своего отшельнического мышления, если бы он попробовал применить на деле свои теории, то полиция и судьи Берлина скоро напомнили бы ему о чувстве реального, которое философы утрачивают так охотно.
Однако, книга Штирнера не лишена некоторого исторического значения. Из всех сочинений гегелианской левой, поднимавших пыль столбом в ратовании против алтарей и тронов, она особенно резко выражает протест этой школы против укротительной дисциплины прусского государства до 1848 г., она осмеивает этот трусливый либерализм, не осмеливавшийся подавить свободу силой. Прудон, современник Штирнера, также ужасал своими радикальными формулами буржуа времен Луи-Филиппа. У них поднимались волосы дыбом, даже когда они носили парик. Но Прудон требовал автономию личности скорее, как средство, а не как цель, скорее как гарантию для возможного осуществления своих экономических мечтаний, чем как основу счастья. И в глазах Штирнера Прудон, как и сам Робеспьер, оказывается ханжой и лицемером, хотя французский философ вместе с этим гегелианцем считается провозвестником революционной бури 1848 г.
Парение Штирнера в заоблачных сферах метафизики по-видимому имеет сходство с доктринами самых вульгарных анархистов. В анархистских брошюрах можно найти такие-же идеи лицемерного бандитизма. Кажется, и Бакунин некогда делал значительные позаимствования из книги «Der Einzige und sein Eigenthum». Но, не говоря уже об извращенном изложении штирнеровских идей наивными проповедниками анархизма, автор все-таки отличается от них в своих выводах. Гг. анархисты никогда не забывают прибавить, что, коль скоро индивидуализм избавится от всякой узды, весь мир будет счастлив и люди станут обниматься друг с другом, как ангелы и избранные на картине «Рай» фра-Беато Анджелико. А Штирнер довольствуется заявлением, что каждая индивидуальность, чувствуя свое бессилие в присутствии других индивидуальностей, без сомнения, пожелает соединиться с некоторыми из этих других, группами свободно условленными, где у каждого будет одна только мысль: свой личный интерес. В результате получается эксплуатация всех каждым, эксплуатация лицемерием, как главным оружием, потому что сила физическая каждого должна быть весьма незначительной в сравнении с самой маленькой коалицией против неё. Штирнер, более последовательный, чем нынешние анархисты, не желает решительно ничего. Он заключает свою книгу такими словами: «не из любви к людям, не из любви к истине, я выразил свою мысль в этом сочинении. Я писал только для собственного удовольствия. Я говорил, потому что у меня есть голос, я обращался к людям потому, что мне нужны уши, для того, чтоб мой голос был услышан».
Но представьте себе общество, составленное из этих уников («Einzige»), где каждый не имел-бы иного права, иной поддержки, кроме собственной силы. Оно, наверное, кончило-бы тем, что самый сильный уник свалил-бы других, стал бы выше всех, эксплуатировал бы их в свою пользу. Исходя из того принципа, что человек – волк для человека (Homo homini lupus), некогда Гоббес, как очевидец междоусобий своего времени, пришел в неизбежному заключению о необходимости основать деспотическое государство. История освятила эту теорию. Когда государство впадает в анархию, когда нет более партий, а есть только заговоры, «синдикаты эгоистов», где каждый помышляет только о своем собственном интересе и своей мстительности, тогда, в момент психологический, видишь, как на сцене появляется какой-нибудь превеликий эгоист, диктатор, цезарь, с тем, чтобы укротить все соперничающие эгоизмы, дисциплинировать их, привести к добыче, резне и погрому.
Любопытно, однако, что этот новый расцвет антиобщественного парадокса переносится и в новейшую беллетристику, как показывает самое недавнее произведение Мориса Барреса, «l'Ennemi des lois», посвященное культу «я». Но, с другой стороны, это, быть может, симптом небезотрадный, свидетельствующий о том, что в революционерной философии возник раскол, разделивший ее на две непримиримые школы – одна стремится пожертвовать личностью для общества, а другая наоборот – отстаивает безусловные права личности против общества.
* * *
Гораздо труднее резюмировать на нескольких страницах идеи Ницше, которые имеют уже и легион комментаторов, особливо в Германии и Скандинавии. Ницше не рассуждает критически и логически, подобно Штирнеру. Чаще всего он выражается афоризмами, иногда апокалипсическим стилем, восклицает с гневом или презрением, иногда же довольствуется ироническими вопросами. Среди смутных фраз зачастую прорываются лирические отступления, поразительные поэтические образы, порывы страсти, не лишенной величия. Ницше приближается в Шопенгауэру, но вместо того, чтобы все резюмировать в «воле к жизни» (Wille zum Leben), как делал это франкфуртский философ, Ницше все сводит к «желанию властвовать» (Wille zur Macht).
Прежде всего кажется странным, что основанные на такой точке зрения сочинения служат восторженнейшей защитой свободы. Но это вполне логично. Ницше желает видеть мир избавленным от всяких препон морали и вековых предрассудков, он взывает в самой необузданной свободе, но просто для того, чтобы в каждую данную минуту существа, обладающие основными качествами властвования, порабощали других. Он признает две морали: мораль рабов и мораль властелинов. Человечество до сих пор повиновалось первой, говорит он, а стоит подчиняться только второй. «Ничего нет истинного, все позволяется». Для Ницше, как и для Штирнера, слова истина, нравственность, благо, право и пр., не имеют никакого значения.
Но прежде чем ознакомиться с доктринами Ницше, не лишнее узнать его житейскую судьбу. Кстати, в журнале «Zukunft» напечатаны самые свежие известия о душевном состоянии этого модного философа.
Уроженец Лютцена (1844 г.), Ницше происходит из польских дворян. Бабка его вращалась в Гётевском кружке в Веймаре, отец был протестантским пастором. Учился Ницше блистательно. В 24 года он уже профессорствовал по филологии в Базельском университете. Душа его склонялась более к военной службе, чем к книгоедству. Он принимал участие в прусской кампании 1870 г. против Франции, в качестве артиллерийского офицера. Позже он отрекся от своей национальности. С 1876 г. здоровье его требовало особенно тщательных забот, и он жил в Сорренто и Ницце. Когда болезнь глаз и его неврологии давали ему вздохнуть, он принимался писать. В январе 1889 г. помрачился его рассудок. Сперва он был помещен в лечебницу душевнобольных в Базеле, потом перевезен в Иену, оттуда вернулся недавно в Наумбург, где живет с своею матерью. Припадков у него не бывает теперь. Теперь он свободно и послушно с матерью делает далекие прогулки по окрестностям, и только страдает от внезапных перемен в расположении духа. Особенно чужие лица вызывают в нем страх. Всякая надежда на излечение утрачена. Умственная и поэтическая деятельность его разрушена окончательно. Ничто уже не возбуждает в нем интереса, он живет чисто механически, расслабленным, время от времени прочитывает несколько страниц по-гречески, но и это делает без особого интереса. одни только арии «Кармен», его любимой оперы, доставляют ему некоторое удовольствие. По мнению докторов, Ницше лишился рассудка вследствие крайнего переутомления. Но здесь влияли еще и физические причины. Он страдал мучительными бессонницами, доктора прописали ему хлорал, а он злоупотреблял им. Один из последователей его учений уполномочен семьей напечатать его, так сказать, посмертные сочинения. Материал оказывается весьма значительный и составит 6–7 томов. Но из того, что уже издано из его трудов, наиболее важны для знакомства с доктринами Ницше – «Zur Genealogie der Moral», «Ienseits von Gut und Boese», «Goetzen-Daemmerung» и «Also sprach Zarathustra».
В Ницше человек и писатель составляют безусловный контраст друг другу. Как человек, он восхваляется за его удивительную скромность, изысканную учтивость в обращении, очень любим своими учениками и обожаем женщинами, хотя в его книгах сильно достается прекрасному полу. Как писатель, он цинически заушает все принципы, на которых опирается установленный общественный порядок. Питая непримиримую вражду к современному обществу, полному лжи, как это было с Ж.-Ж. Руссо в прошлом веке, Ницше, подобно Руссо, требует возвращения к инстинкту, в природе, с тем существенным различием, что Руссо был плебеем, перед которым почтительно держался мир аристократический, тогда как Ницше обладает гордой патрицианской душой.
Он делит человечество на две расы. Во-первых, незначительное число «Благородных». Под ними философ разумеет людей воли, действия, индивидуалистов, честолюбивых, считающих себя рожденными для того, чтобы повелевать, властвовать, созидать. Во-вторых, огромное баранье стадо черни, бесчисленное множество вьючных животных, рабов предрассудка, неизлечимо предающихся ненависти и злобе против тех, кто выше их. По Ницше, все, что есть великого в свете, совершается только исключительными людьми, благородными, а все, что есть рабского и низкого, творится тогда, когда господствуют рабы. Так бывает при владычестве демократии, когда численность подавляет собою избранный элемент, когда львы угнетаются зайцами.
* * *
Как видите, Ницше выразитель аристократического взгляда на развитие истории. Покойный Ренан тоже думал, что прогрессу общества благоприятствует не столько борьба за существование, сколько борьба за преобладание, т. е. триумф великих людей – путеводителей народов, которые дают им новую жизнь. И, стало быть, цель человечества – производить великих людей, жертвовать для них толпою, предоставлять полный простор для их спасительной деятельности. Противоположное воззрение, которого самым крупным представителем можно считать графа Л. Н. Толстого, видит в бесчисленной толпе настоящих агентов истории, а в руководителях хора – простых статистов, зачастую более вредных, чем полезных. В конечном выводе здесь должно быть принесение в жертву личности для общества, верховенство народа, всеобщая подача голосов, возведенная в непогрешимую мистику. Благо цивилизации, которое, с такой точки зрения, является делом коллективным, должно принадлежать всем, а не только малому числу избранных.
Настоящая истина заключается в примирении этих двух исключительных точек зрения. Аристократический взгляд не признает границ для власти личности, условий естественной и социальной жизни. А между тем ведь завоеватель нуждается в армии храбрецов, художник – в интеллигентной публике, ученый, для своих открытий, – в накоплении результатов знания. Государственный человек не может произвести крупных перемен в человеческих делах, если общественный дух не подготовлен к ним в значительной степени общими условиями своей эпохи.
Взгляд демократический, напротив, не допускает, что в исключительной личности есть нечто единственное в своем роде, что сумма всех посредственностей никогда не сделает того, что может сделать одна выдающаяся личность. Соберите все общества литераторов, и они все-таки не напишут ни творений Льва Толстого, ни творений Вольтера, как и целый корпус унтер-офицеров не мог бы совершить стратегического дела Наполеона I. Избранный элемент необходим для того, чтоб совершался прогресс, а под таким элементом надо разуметь компетентное меньшинство, которое во всех отраслях человеческой деятельности должно первенствовать, направлять.
Ницше, следовательно, противопоставляет узкой демократической страсти свой не менее узкий аристократизм, с одной стороны, видя нескольких титанов, а с другой – муравейник пигмеев, без всяких посредствующих звеньев, и первым предоставляет привилегию полной свободы от всякого правила и всякого закона.
По Ницше, нет общечеловеческой морали. Как уже замечено выше, он признает две морали. Для титанов и пигмеев слова «добро» и «зло», хорошее и дурное имеют два противоположных смысла. Те, которых древние называли хорошими, т. е. сильные, в глазах толпы считаются дурными, ибо понятие о хорошем, в классическом смысле, есть синоним силы, угнетения, произвола. Напротив, хорошее для рабов состоит в сострадании, в благотворительности, в любви, доставляющей помощь. А властители именуют это дурным. Единственный долг «благородного» заключается в свободном развитии своих инстинктов. Таким образом привилегией избранных оказывается индивидуализм, или – иначе сказать – эгоизм, граничащий с безнравственностью. «Эгоизм этот, – говорит Ницше, – принадлежит только существу с благородной душой, разумею того, кто питает несокрушимую веру в то, что для такого существа, как он, другие существа естественно должны оставаться подчиненными и жертвовать собою для него. Относительно низших существ позволяется все и во всех случаях переход за пределы категорий добра и зла».
И так, для высшего человека нет ни религии, ни государства, ни отечества, ни семьи, ни власти. Общественные учреждения имеют значение лишь настолько, насколько они позволяют ему господствовать, но они никогда не могут рассчитывать на его подчинение.
Ницше, конечно, враг демократического государства, ибо оно озверяет массы, заглушает всякую инициативу, подавляет всякую сильную волю, всякую личную силу, которые не действуют в их пользу. Такое государство – враг цивилизации. Вообще же государство, по Ницше, может быть благодетельным лишь под условием, если оно попадет в руки тирана «антилиберального до злости». Для высшего человека в государстве нет иного места, кроме диктатуры. Ницше преклоняется перед Цезарем, как гением организации и войны, но за то питает презрение к Бруту, как к доктринеру бесплодному и ограниченному. Пример Наполеона I, более сильного, чем весь народ, доказывает, до какой степени толпы привязываются к людям, умеющим командовать ими.
Исключительный человек должен оберегать себя и против тирании женщины, этой вечной Далилы. Лучше попасть в руки убийцы, нежели сделаться предметом мечтаний «пылкой» женщины. Брак есть только вырождение конкубината. Лучше думать и поступать относительно женщин по-восточному, требовать только удовольствия или здоровых детей от этих вероломных кошек, скрывающих свои когти под перчатками gris-perle. Самые антипатичные из них – те, что добиваются превосходства, героизма: г-жа де-Сталь, г-жа Роланд кажутся Ницше экземплярами прекрасного пола безусловно «комичными», Жорж-Занд – «это корова писальная» с «ея плебейской амбицией выражать великодушные чувства».
Ницше, наконец, не склоняется ни перед каким умственным авторитетом, он уничтожает всякую иерархию умов. На первый план он ставит писателей, которые наблюдали живых людей и умели изображать их такими, какими их видели – Маккиавели, Ла-Рошфуко, аббат Галиани, Стендаль, Достоевский, а на последний план – философов, ученых теоретиков, его настоящих «bêtes noires». Спинозу он называет отравителем, Канта – Тартюфом, Дарвина – посредственной головой.
Однако, Ницше преклоняется перед двумя эпохами – классической древностью и языческим Возрождением. Это – эпохи полуцивилизации, плодовитые истинными характерами, первобытными инстинктами и утонченной культурой, закаленные опасностями, благородной жестокой жизнью и достигшие наилучшего расцвета личности, до таких типов, как Цезарь Борджия, противоположность человека упадка, красивое хищное животное, удивительно здоровое чудовище.
В этом преклонении перед прошедшим Ницше почерпает свой ужас перед настоящим. Будучи неспособным предчувствовать великие скорби или великие радости, современный человек становится женоподобным. Вместо того, чтоб находить свое счастье в проявлении своей силы, он вожделеет о благополучии тунеядцев и недостойных, о комфорте, о роскоши каких-то безвестных. Он не стал лучше из-за того, что его злость принимает золотушные формы, что, не осмеливаясь убивать, он клевещет, что мнимые добродетели рождаются из его слабости. Это – добродетели старух с потухшими глазами, с иссякшими страстями. Единственная школа мужественной энергии, война, готова исчезнуть перед все возрастающим торгашеством и индустриализмом. Начальное образование, пресса, «просвещая» народ, извращают его природные дарования, притупляют его первобытные инстинкты. Люди все более становятся «больными волей». Упадок является даже в смысле физиологическом. Вследствие демократической морали, т. е. филантропии и гигиены, слабые, болезненные выживают, плодятся, ослабляют породу. В данном случае также думает и Герберт Спенсер.
Короче сказать, мир может быть спасен лишь тогда, когда возникнет новая аристократия, порода маэстро, приближающаяся к типу «Ueberniensch». Европа, без различия границ, должна бы управляться такими людьми, а массой подобало бы жертвовать для них. Вот это был бы настоящий погром!
* * *
В самой странной из книг Ницше, в своем роде «евангелии для исключительных людей», «Библии титанов» («Also sprach Zarathustra»), этот модный философ от лица Зороастра посвящает нас в заповеди сильных. Вот несколько из этих заповедей:
Не щади своего соседа.
Берегись доброго человека.
Не верь, что ты не должен красть и прелюбодействовать.
Будь тверд, как алмаз.
Да будет тебе чуждо принуждение, как и раскаяние.
Знай, что ничего нет истинного и что все позволяется, кроме слабости.
Такая мораль для практики жизни вовсе не нова. Если что тут ново, это именно возведение её в теорию. Зороастр Ницше, очевидно, знаком с философами-циниками древней Греции, отрицателями современной им цивилизации. Платон того периода, когда он мечтал для своей республики о благородной касте воинов, Маккиавели, примирявший «sceleratezza» и «virtu» (преступность и добродетель), де-Местр, превозносивший мистическую доблесть войны, говорили совершенно таким же языком, как Зороастр. Провозглашение прав гения, восхваление преступной воли и поиски лучших людей на каторге, бравурство и смелость которых среди нашей расслабленной цивилизации не могли найти исхода иначе, как в преступлении, все это было общим местом романтики. Жестокосердие Ницше и его проповедь безнравственности можно найти еще у Карла Мора в «Разбойниках» Шиллера, у сатанинских героев Байрона, у Бальзаковского Вотрэня, у Жюльена Сореля – героя известного романа Стендаля – Бейля.
Истинными вдохновителями Ницше были Шопенгауэр и Ренан. Но вместо того, чтобы по следам франкфуртского философа дойти до буддистской Нирваны, Ницше ратует за эксплуатирование слабых, за господство волков. Будучи пессимистом относительно огромного большинства, он оказывается оптимистом для избранного элемента, для человека добычи и наслаждения.
Аналогия с Ренаном поразительная. Бурдо в «Journal des Débats» недавно сопоставил взгляды того и другого. «В итоге, – говорит Ренан, – конечная цель человечества – производить не массы просвещенные, а нескольких великих людей. Вся цивилизация есть дело аристократов». И Ренан, подобно Ницше, мечтал о том, что когда-нибудь в человечестве народится высшая порода людей: «широкое применение открытий физиологии и принципа подбора могло бы создать высшую породу, которая имела бы право управлять не только в силу своего знания, но даже и по превосходству своей крови, своего мозга и своих мускулов. Это была бы порода богов или „deva“, существ вдесятеро более стоящих, чем мы, и эти несколько индивидуумов, в которых сконцентрировались бы нации, пользовались бы человеком, как человек пользуется животными».
«Deva» Ренана есть «Ueberinensch» Ницше. Одно и тоже чувство негодования и возмущения против низкой демократии, угнетающей и нивеллирующей, породило доктрины Ницше, «Философские диалоги» Ренана, написанные при зареве пожаров коммуны, «Историю революции» Тана, «Индивидуум против государства» Спенсера. Но ошибка Ницше в том, что), по его мнению, вопреки взглядам Тэна, Спенсера и Ренана, индивидуализм есть синоним эгоизма, права на произвол, тогда как единственное оправдание силы заключается именно в осуществлении справедливости, как это выразила еще классическая древность в прекрасном мифе о Геркулесе.
Доктрины Ницше действуют двояко. Оде и привлекают, и отталкивают читателя, – привлекают потому, что автор – непримиримый враг лжи, и желает, чтоб люди были строги и к себе самим и в другим; потому еще, что он надеется возбудить энергию в поколениях расслабленных и дремлющих; наконец, и потому, что он считает единственно достойной жизнь благородных усилий, творчества, жертв. Но они производят неприятное впечатление тем, что предоставляют отдельной личности полный произвол, доводя ее до гордости, презрения, тщеславия, злобы, и как бы оправдывая и без того заразительное эпикурейство и дилетантство, господствующие в новейшей европейской литературе.
* * *
Быть может, этим-то эпикурейством и дилетантством всего больше Ницше кружит головы литературной молодежи не только в Германии и Скандинавии, но даже во Франции. Вместе с Вагнеровским «Lohengrin'ом», Шопенгауэрским пессимизмом и баварским пивом там имеют успех доктрины этой философской системы кулачного права аристократизма. Нам попался даже роман, обоснованный на учении Ницше. Название романа «L'Edite», автор его – Поль Радио. Тут сперва идет речь о формировании породы избранных, долженствующей обновить больной век режимом аристократического насилия. Разъяснения сего даются не только в духе Ницше, но зачастую его словами.
Содержание «L'Edite» таково. Дельфина Фалеланд – дочь французского государственного человека. Она отказывается от замужества, составляет план морального и социального обновления европейского человечества и в это предприятие посвящает одного французского офицера, Марселя де-Баррон, который хотел жениться на ней, но она предпочла браку незаконную связь, потому что это более достойно для новой свободной и сильной породы, которую она желает развести. Эта порода должна быть международной аристократией, стоящей превыше всяких человеческих законов и имеющей только одну заботу – достигнуть своего индивидуального совершенства. Общая масса людей ради этой цели безжалостно порабощается или истребляется.
Оба апостола избранной породы в выводах своего учения не останавливаются ни перед какими крайностями. Избранные люди, конечно, не вступают в брак, они предпочитают вольные связи, которые можно разорвать во всякое время, ибо имеют в виду главным образом разведение новых превосходных людей. Слабые дети от них осуждаются на смерть. У прочих нет ни семьи, ни отечества, ни законов. За всякое оскорбление они сейчас же отмщают, всякое препятствие устраняют мгновенно. Для них есть только один безусловный порок. Это – сострадание. Массой они интересуются лишь потому, что методически ведут ее к озверению и порабощению.
Дельфина и Марсель домогаются снова присоединить в Франции Мец и Страсбург. Так как во Франции нельзя добыть ни единого су для этой цели, то они отправляются в Лондон и там уговаривают одного лорда предоставить его неисчислимые миллионы в их распоряжение на задуманное дело. Из Англии они едут в Германию, где склоняют на свою сторону одного «старого гегелианца», бывшего гувернером императора Вильгельма. Мало того, они посещают и Россию. У нас обретается какой-то поэт, который в видах подготовки избранных людей для их высокой цели учреждает монастырь.
Наконец, возгорается война. Вся Европа в огне. Дельфина и Марсель следуют за русской армией. Победа русских оказывается роковой для всей Германии. Французская армия проникает до Саксонии и там истребляется. Но этот всеобщий погром означает зарю новой религии. Германский император, который снова превращается в Прусского короля, делается монархом избранной породы, Дельфина становится его наставницей, его эгерией, а Марсель отправляется в Африку снова вводить там рабство.
Напрасно было бы думать, что это только пародирование доктрин Ницше. В романе речь ведется вполне серьезно и по нем можно судить, до каких безнадежных нелепостей договариваются поклонники модного философа, принимающие его рассуждения без всякой критики.
* * *
И без всякого искусственного привязывания философских доктрин в действительной жизни, в ней иногда совершаются такие явления, какие никогда и не снились нынешним мудрецам.
В Америке существует клуб холостяков и притом холостяков обоего пола, наслаждающихся полным счастьем, умеющих с невозмутимым душевным спокойствием обходить тревоги и беспокойство политической и социальной жизни, и нашедших возможность сообща сделаться миллионерами, никогда пальцем не прикоснувшись ни в деньгам, не подписавши ни единого чека.
Сколь завидным должно представляться счастье этих людей великим и знаменитым людям!
Клуб этот или вернее колония была основана одним немцем, неким Георгом Рапп, и в начале именовалась «Обществом гармонии». Члены этого общества или гармонисты собирались подражать образу жизни первых христиан и неукоснительно придерживаться его. Вследствие преследования и гонения их в Германии, в 1805 году они переселились в Соединенные Штаты, в числе 1.000 человек.
Первоначально колония охотно допускала вступление женатых членов и ставила единственным условием, чтобы супруги жили совместно не чаще, как в семь лет по несколько месяцев.
По-видимому, молодые гармонисты так часто обходили это предписание, что Георг Рапп решился обязать колонию безусловным безбрачием.
Вследствие этого в колонии произошел раскол. Георг Рапп вместе с членами, убежденными в святости безбрачия, отправился в штат Индиану, где они основали новую колонию. Но новые колонисты подверглись нападению со стороны индейцев, были изгнаны последними и, наконец, вынуждены направиться обратно в Пенсильванию.
В 1825 году Георг Рапп купил там 2.500 акров земли и поселился с своими последователями, назвавши это поселение «Колонией экономии».
Георг Рапп умер в 1847 году. На смертном одре верным своим колонистам поведал он о полученном им божественном откровении, через которое он узнал, якобы вместе с кончиной последнего из экономистов наступит также и конец мира.
В настоящее время убеждение это твердо укоренилось в пенсильванских колонистах и помогает им поддерживать в себе великое, несокрушимое презрение ко всему земному.
Они действительно вступили на путь мудрости, ибо совершенно серьезно заглушили в себе стремление в бытию и безусловно проникли в сферы божественной Нирваны, хотя и не тем путем, который предписывался Шопенгауэром или Буддой. Эти новейшие монахи строжайше соблюдали и соблюдают свой обет безбрачия.
Что касается обета бедности и лишений, то американская почва сделала их слишком по-американски практичными, чтобы они решились принять его.
Экономисты невероятно богаты. Земля, приобретенная Георгом Рапп за бесценок, в настоящее время сильно поднялась в цене. Помимо того, колония владеет еще значительным количеством акций в большинстве местных железнодорожных компаний. Если бы семнадцать колонистов, находящиеся еще в живых, в ожидании конца мира, вдруг вздумали разойтись и потребовали бы от «экономии» раздела земных благ, то на долю каждого из них пришлось бы около пяти миллионов долларов.
При этом условии, конечно, многие охотно бы, теоретически, обратились в шопенгауэристов или экономистов в Пенсильвании. Но колония придерживается строгой замкнутости и не принимает новых членов.
И это несметное богатство нажили колонисты собственным трудом. Немедленно после своего водворения колонисты начали заводить у себя различные отрасли промышленности. Вскоре приобрели большую известность их виски и вино. На вытканное ими полотно и шерстяные одеяла был большой спрос. Они первые в Соединенных Штатах ввели культивирование шелковичных червей.
В настоящее время 17 колонистов могут пожинать плоды этих трудов и наслаждаться покоем. Миниатюрный рай их одним очевидцем описывается так: «Входя в деревню, вы видите множество крайне простых, в высшей степени опрятных домов, широкие улицы, обрамленные громадными деревьями и оживленные бесчисленным количеством повсюду шныряющих кур. Людей на улице не видно, все дома походят один на другой, стены обвиты виноградником, побеги которого обрамляют окна. Мужчины, и женщины живут в полнейшем разобщении. В одном доме вы встречаете старого холостяка, в другом – старую деву, но у всякого из них отдельное хозяйство. Таково строго соблюдаемое правило колонии. Мужчины носят длинные синие сюртуки, широкие панталоны и черные шляпы с большими полями. Женский костюм состоит из шерстяной плотно втянутой на бедрах юбки и шелковой или синей фланелевой талии. Все женщины носят нормандские шляпы.
Жизнь их отличается крайней простотой и регулярностью, но отнюдь не аскетизмом. В пять часов утра раздается звон колокола, и все должны вставать. Ровно в шесть часов каждый экономист усаживается за свой собственный стол и завтракает или молочным супом, или винным. Колония славится именно своим вином, её погреба пользуются большой известностью во всех Штатах. Но экономисты никогда вина своего не продают, выпивая все до капли сами, так как совсем не употребляют воды, кроме как для мытья.
В семь часов церковный колокол сзывает колонистов на работу. Нынешние „экономисты“ все слишком престарелы для совершения какой-нибудь напряженной работы. Все их занятия заключаются в том, что каждый собственноручно чистит и приводит в порядок свой домик. В девять часов снова звонит колокол, возвещающий о завтраке, а в двенадцать часов пополудни – обед. В три часа раздается новый звон колокола, приглашающий экономистов подкрепить себя стаканом доброго вина и куском пирога. В шесть часов колокол звонить к ужину, а в девять опять-таки при звуке колокола все эти добрые люди обязаны укладываться на боковую.
По воскресеньям все поселяне должны отправляться в церковь. Здесь точно также предписывается полное разделение полов. Мужчины сидят на одной стороне, женщины – на другой. Старейший из общества отправляет должность священника. Он выбирает какой-нибудь текст, по своему усмотрению, и говорит на него проповедь.
Посреди капеллы стоит одинокая скамья, на которую сажают тех, кто, грешным делом, вздумал бы заснуть за время проповеди, да и попался бы. Должность органиста исправляет мисс Гертруда Рапп, симпатичная, любезная старушка восьмидесяти шести лет, с очень голубыми глазами и очень белыми волосами. Она же руководит хором. Она совсем не помнит, чтобы когда-нибудь имела в руках пенни и уверяет, что положительно не могла-бы различить десятицентной монеты от доллара. „С меня довольно пищи и питья“, сказала она, „я хорошо одета, других потребностей я не знаю, для чего-же мне деньги?“»
Итак, если конец мира не совпадет с днем кончины последнего экономиста, как то предсказал Георг Рапп, что-же будет с страшным богатством этих холостяков? Тогда, наверное, много найдется охотников случайно среди членов этого общества безбрачия разыскать какого-нибудь дядюшку или какую-нибудь тетушку, чтобы предстать законным его или её наследником.
* * *
Еще более фантастичной может показаться нижеследующая необычайная драматическая история, достоверность которой, однако ж, засвидетельствована заграничною печатью.
Лет сорок тому назад в маленьком городке Кларквилль, в графстве Монгомери, поселился молодой французский врач, по имени Франсуа Фонтенэ, врач, быстро стяжавший себе известность весьма искусного доктора. Знание дела и любезное обращение не замедлили открыть ему двери лучших домов в Монгомери, и вскоре доктор Фонтенэ сделался домашним врачом и другом именитейших семейств и, как говорилось под сурдинку, героем многих светских амурных похождений. Но чаще всего бывал он в доме ректора англиканской церкви в Кларквилле – его преподобия Фельтнера, жена которого считалась первой красавицей в графстве. Между Фельтнером и Фонтенэ возникла беззаветнейшая дружба, не омрачавшаяся ни малейшим облачком долгие годы. Злые языки начали-таки мало по малу шушукаться между собою о том, что доктор и m-me Фельтнер также состоят в весьма интимных отношениях, при которых платоническая дружба играет крайне второстепенную роль. Но у Фельтнера никогда не являлось ни малейшего подозрения ни по отношению к своему другу, ни относительно жены, которую он буквально обожал. За пять лет супружества родилось у них двое детей, мальчик и девочка, на которых доктор Фонтенэ, по-видимому, перенес самые искренние чувства, какие питал к родителям. Можно было сказать, что он любит их как родных детей, да это и говорили.
Толки становились все громче и громче и дошли наконец до ушей молодого ректора. Быть может в нем закралось недоверие? Быть может он убедился в справедливости злоязычия, что любимая жена и лучший друг обманывали его? Ответа на эти вопросы нет и не будет! Ректора и ректорши нет более в живых. Она умерла в 1856 году совершенно внезапно от разрыва сердца, – так, по крайней мере, говорили, и так объяснил доктор, приглашенный к ней, когда она умирала. То был не домашний доктор, не доктор Фонтенэ. Ректор случайно послал за другим доктором и даже, когда Фонтенэ явился после смерти молодой женщины, его не впустили в дом. Перед смертью у молодой женщины с мужем было крайне бурное объяснение, – первое и последнее в их совместной жизни. Вмешавшаяся смерть сделала примирение невозможным.
Ректор заперся у себя и не принимал никаких посетителей с выражениями соболезнования. Три дня спустя – срок весьма краткий для Англии – бедную ректоршу схоронили. Ректор вернулся домой совершенно разбитый. В 11 часов ночи, вооружившись тяжелой палкой, вышел он из дому. На столе у него лежало недоконченное письмо, которое ему не суждено было окончить никогда. Он бесследно пропал. Исчезновение его, конечно, вызвало большую сенсацию, обшарили все окрестности, разыскивали его повсюду, но нигде не нашли. Исчез бесследно!
Бедные малютки вдруг совершенно осиротели, и при их сиротском, беспомощном положении доктор Фонтенэ доказал доброе свое сердце и свою дружбу. Он усыновил мальчика и девочку и сделался для них настоящим отцом. Он жил только для них. Весельчак вдруг удалился из общества, сделался серьезен и замкнулся в себе и если виделся с людьми, то исключительно в качестве врача. Он был и остался, по-прежнему, всеми любимым и скопил весьма значительное состояние для «своих детей».
Года приходили и уходили. Доктор Фонтенэ обратился в старого холостяка, и наконец настал и его последний час. На днях он скончался. Почувствовав приближение своей кончины, сознавая, что земного правосудия опасаться ему более нечего, и что ему придется держать ответ одному только Богу, он призвал мирового судью и дал ему объяснение загадки на счет исчезновения ректора. Внезапная кончина молодой женщины – так объяснял умирающий – возбудила в нем подозрение, что она была жертвой насилия. Тот факт, что он не был призван к смертному её одру, что ему возбранен был самый вход в её дом – утвердил его еще более в этом подозрении. Он желал знать истину. В качестве врача, ему, во всяком случае, легко было бы потребовать судебного вскрытия тела. Но доктор Фонтенэ не хотел избрать этот простой путь. Почему, он этого не высказал, хотя руководившие им основания легко себе объяснить, если допустить, что злые языки шушукались не даром. Вместе с установлением факта насильственной смерти всплыл бы наружу не только тайный повод внезапной кончины молодой женщины, но также и основание, которое привело к тому. Было-ли то убийство или самоубийство, супруг выдал бы тайну при защите себя, а Фонтенэ очень был заинтересован в соблюдении этой тайны. И как ни близка была ему смерть молодой женщины, несмотря на все желание его отомстить за нее, ему приходилось молчать.
Каким образом мог «он» подвергнуть супруга каре, если тот действительно был им обманут. Кто подал повод для такого дела? Кто наиболее виноват? Каковы бы ни были побуждения доктора Фонтенэ, только он не предъявил требования о вскрытии тела. Но тем не менее он желал еще раз видеть покойницу, он желал удостовериться, что было причиной внезапной кончины его приятельницы. И вот, когда наступила ночь и Кларквилль погрузился в сон, тогда Фонтенэ украдкой вышел из дому. В руках у него был заступ и короткая лестница. Когда башенные часы возвестили одиннадцать часов, доктор стоял уже на кладбище, у свежей могилы. Он прислушался в темноте. Все было тихо. По небу плыли тяжелые тучи, сквозь которые свет месяца проглядывал лишь изредка, и то на короткие мгновения.
Пользуясь темнотой, начал он поспешно рыть и раскапывать едва прикрытую могилу. То была не легкая работа. Доктор рыл почти час, прежде чем заступ стукнулся о гроб. Руками сгреб он последний слой земли и, стоя в могиле, открыл крышку гроба. Глубокая тишина царила вокруг. Лишь глухие удары башенных часов, как раз возвещавших полночь, глухо проникали в могилу. Фонтенэ взял маленький ручной фонарик, осветил им бледное застывшее лицо молодой женщины, затем вынул покойницу из гроба и, крепко прижимая ее к себе левой рукой, вытащил ее по лестнице из могилы. Силы изменяли ему. Осторожно положив покойницу поверх набросанного земляного холма, он уселся около неё. Ночь была темна. Только в ректорстве, находившемся по близости от кладбища, горел еще огонь, освещая окно рабочего кабинета человека, накануне уложившего жену свою на «вечный покой». Если бы чувствовал он, что в этот момент здесь происходит!
Фонтенэ невольно содрогнулся. Он снова поспешно принялся за работу. Ему надо было еще закрыть могилу и унести тело. В этот момент сквозь тяжелые облака проглянула луна. Фонтенэ держал уже заступ в руке, но не мог противостоять искушению, чтобы не заглянуть в лицо молодой покойницы и наклонился над телом. Когда он это сделал, перед ним безмолвно вынырнула высокая темная фигура. Поднялась рука и в следующий момент похититель тела получил страшный удар по затылку. Только надетая на нем толстая шляпа из валеной шерсти спасла его от смерти. Полуоглушенный ударом, Фонтенэ обернулся и увидел перед собой ректора, собиравшегося нанести ему новый смертельный удар. Фонтенэ механически поднял заступ для самозащиты и отпарировал удар. «Я мог видеть по лицу моего противника, – объяснял доктор, – что он решился меня убить. Я должен был защищать свою жизнь. Желая ошеломить его, я нанес ему удар лопатой. К несчастью, я попал по нему острым концом, и он, не промолвив слова, повалился на землю. Я кинулся к нему, он лежал мертвый, с раскроенным черепом». Что делать? Раздумывать было некогда. Быстро решившись, Фонтенэ стащил свежий труп в открытой могиле и спустил его в нее. Затем войдя в могилу, кое-как втиснул покойника в гроб, только что скрывавший его жену, накрыл крышку и выполз из могилы. Вскоре после того глухими ударами загрохотали первые комки земли по гробу и новому его покойнику, и в течение часа могила закрылась. Уже запели петухи. Утро было недалеко. Но ночь была темная, и дождь лил как из ведра, когда Фонтенэ с безжизненной своей ношей добрался до дому. Дождь смыл все следы того, что разыгралось на кладбище под покровом ночи. Ни у кого не зародилось ни малейшего подозрения, что умершая ректорша вынута из гроба, никому и в голову не пришло, что ректор занял её место. Он так и остался «таинственно исчезнувшим» и покоился под надгробным камнем, поставленным прихожанами на могиле его жены.
Тело ректорши доктор похоронил в подвале своего дома, предварительно удовлетворив своей «любознательности» и удостоверившись в том, что она умерла насильственной смертью от своей руки или от…? Конечно, доктор Фонтенэ умолчал также и об этом открытии. Только приближающаяся кончина развязала ему язык и с облегченным сердцем покинул он здешний мир, обратившийся для него в покаянную обитель. Все состояние свое оставил он двум усыновленным им детям, нашедшим в нем второго отца. О тем не менее с какими чувствами и мыслями стояли они у его гроба? Не желательнее-ли было бы для них, чтобы загадка исчезновения их отца, которого они не помнили, осталась неразгаданной, и чтобы второй их отец унес с собой в могилу страшную свою тайну.
В погребе, действительно, нашли скелет женщины, а в её гробу на кладбище – костяк её мужа с рассеченным черепом. Теперь кости некогда столь счастливой четы мирно покоятся вместе в одной могиле. Но желание Фонтенэ быть похороненным в той же могиле не было исполнено. Его положили в отдельную могилу, хотя и на том же самом «театре события», где совершилось это действительное происшествие, представляющее собой весьма благодарный материал для страшной драмы или ужасного романа.
3
О женском элементе в городских и земских собраниях. – О «воинственных женщинах». – Чем объясняются военные подвиги исторических героинь? – Древние амазонки по Диодору Сицилийскому. – Откуда возникли предания об амазонках. – Женские войска в настоящее время. – Крайности в воззрениях за и против женщин. – Лоренцо Медичи о женском предводительстве армиями. – О женском влиянии. – Женское движение во Франции. – Женский вопрос в Англии. – «New York Herald» прежде и теперь. – Газета на всех парах. – Переход «Herald» в собственность её сотрудников и всего состава работающих для газеты. – Утка «Агентство Рейтера» и заявление на этот счет бывшего владельца «Herald». – Карьера Джемса Гордона Беннета-младшего, его предприятия и мотовство. – Хамелеонство «Herald'а». – Померкшая звезда «Herald». – Билль «Home-rule» и фанатические оранжисты в Ирландии. – Шотландское упрямство и пуританство. – Подготовки вооруженного сопротивления введению «Home-rule». – Англосаксонское пьянство прежде и теперь. – Борьба с пьянством в Америке. – Несостоятельность запрещения пить. – Повышение пошлин на торговлю алкоголем. – Ученый Ромео и «тайная советница» Кох из актрис.
Каким-то анонимным библиофилом в Турине напечатано по-французски биографическо-библиографическое руководство о знаменитых женщинах, содержащее в себе краткие данные о жизни и деятельности этих женщин, с портретами и автографами их. На поверку оказывается, что едва ли найдется такая область в науке и литературе, такая гражданская и ученая профессия, в которых не подвизались бы женщины с большим или меньшим успехом. Иные из них пробовали свои силы в нескольких профессиях одновременно. Вот и недавно еще сообщалось из Парижа, что знаменитая артистка, несравненная изобразительница «Dame aux Camélias» и царицы Клеопатры, Сара Бернар выставляет свою кандидатуру на предстоящих выборах парижского городского самоуправления. Вместе с ней намерены баллотироваться в члены муниципалитета Луиза Мишель и до дюжины других дам, сторонниц женской эмансипации. Некоторый прилив благородной женственности в общественных собраниях, городских и земских, не помешал бы, конечно, особенно в видах облагораживания тона публичных прений. Разве только репортерам было бы хлопотливее, – пришлось бы, пожалуй, давать отчеты не только о речах, но и о туалетах дамских, да еще модным журналам – печатать рисунки костюмов à la Conseil municipal и т. п.
Но от муниципального совета всего один шаг до парламента, а от парламентского велеречия недалеко и до министерского портфеля. Отчего бы и не так? Ведь теперь то и дело слышишь, что представительницы прекрасного пола обладают совершенно теми же способностями, как и мужчины, чем, видите ли, и оправдываются вполне вожделения женского честолюбия занимать те амплуа и звания, на которые мужчины искони удерживают за собой монополию. Но неизбежный спутник всеобщей подачи голосов – всеобщая воинская повинность. Стало быть, остается признать возможность и того, что дамам ничто не должно мешать, подобно любому мужчине, вооружаться на защиту отечества. При таких условиях Европа, по крайней мере, могла бы гордиться тем, что по уровню цивилизации она ничуть не отступает от дагомейского короля Беганзина, которого в недавних стычках с французами особенно рьяно защищали дагомейские амазонки.
* * *
Вопрос о воинской повинности женщин не на шутку обсуждается в наше время. Один итальянец Ферро посвятил ему особый томик в серии изданий «военной библиотеки» («Bibliotheca minima militare ророиаге»), под заглавием «Воинственные женщины» («Le donno guerriere»). На виньетке, украшающей эту книжку, изображены пушки, исполинские орудия, шпаги, копья и т. п. принадлежности совсем недамского обихода. Автор, кажется, имеет в виду главным образом привлечь внимание итальянок на общество «Красного Креста», но для вящей заманчивости этой цели, он составил исторический обзор успехов воинственности женщин. Здесь он скромно ограничивается битвами на театре военных действий, во время различных осад и уличных стычек, тогда как супружеская сфера женской воинственности, быть может, гораздо более обширная, оставлена им совсем в стороне, чем и должно объяснить небольшой объем книжки.
Ферро перечисляет воинственные подвиги отдельных женщин. Кто не знает про Орлеанскую Деву, или её тезку и землячку, которая была моложе её на полвека, Жанну Гашет, защитницу Бови? Менее известна одна из красивейших женщин Франции, «канатчица из Лиона» XVI века, переодевшаяся мужчиной для служения в армии, и беглая монахиня того же времени Екатерина Эрос, бывшая офицером в испанской армии. Большую храбрость выказывали отдельные женщины в войнах французской революции и первой империи во Франции. Эти женщины были офицерами пехоты, кавалерии, артиллерии, имели ордена за блестящие дела.
Но эти воинственные подвиги отдельных женщин составляют все-таки исключение, тем более что чистый патриотизм и воинское призвание не суть главное для этих героинь. История свидетельствует, что одни из них вдохновлялись преимущественно или личной преданностью, или самопожертвованием – таковы все три французские Жанны – д'Арк, Гашетт и Мальотт, а другие шли на поле битв за своими мужьями или любовниками. Иначе сказать, страсть делала их воинами.
Гораздо интереснее в данном случае воинственные подвиги женщин в массе. Но на этот счет книжка итальянца нуждается в дополнениях. И эти дополнения не заставили себя ждать. Немец Макс Ландау в этюде «Всеобщая воинская повинность и женский вопрос» дает их в изобилии.
* * *
В «Илиаде» Гомера и у многих греческих историков имеются известия о воинственных женщинах, наводивших страх на своих соседей. Эти женщины под именем амазонок, отсылали к мужчинам рожденных от них мальчиков и при себе удерживали только девочек. Кажется, война была их единственным занятием и все воспитание имело в виду эту цель. Древние не мало повествуют о военных походах поэтических амазонок и об их храбрости. Только великие греческие герои – Геркулес, Беллерофон, Ахиллес, Тезей – могли побеждать этих женщин. Тезей будто бы даже женился на царице амазонок и еще во втором веке нашего летосчисления в Мегаре показывалась гробница этой амазонки Ипполиты или Антиопы. Но древние греки знали, кроме этого женского царства, находившегося в Малой Азии, на южном берегу Черного моря, еще и про другие царства амазонок между Черным и Каспийским морями, а также и в Африке. Наиболее обстоятельные и заслуживающие доверия данные сообщает о них в своей «Исторической библиотеке» Диодор Сицилийский, живший во времена Юлия Цезаря и императора Августа: «у Понтийских амазонок – говорит он, – война составляла привилегию женщин, а унижение и рабство – назначение мужчин. Новорожденному мальчику искалечивались ноги и руки, чтоб сделать его непригодным для военной службы».
Значительным было царство амазонок в Африке между Ливией и Атласом, и эти африканские героини, по свидетельству Диодора, «находились на необыкновенно высокой степени развития, если сравнить их с нашими женами». У этих африканок был определенный срок службы, только по отбытии, которого им разрешалось производить потомство. Правление и общественные должности были исключительно в руках женщин. Мужчины оставались дома, повинуясь приказаниям своих супруг и занимаясь кормлением детей и уходом за ними. Как видите, мужчины пребывали тогда в настоящем рабстве. Диодор повествует подробно о военных походах и завоеваниях этих амазонок в Африке и Азии и о том, как они были покорены другим женским народом, Горгонами.
* * *
Впрочем, предания об амазонках держатся во всех частях света, внутри Азии, как и в Южной Америке, где большая река называется их именем, и в Европе, вблизи границ Германии. В Бравальсвой битве с королем шведским Рингом царица Гета с 300 амазонками помогала датскому королю Гаральду Гильтланду с правого фланга. Известны и чешские сказания о Любуше и Власте.
Откуда могли народиться все эти предания об амазонках и есть ли в них какое-либо историческое основание? Всего вероятнее предположить, что у некоторых народов с древних времен женщины сопровождали своих мужей на войну и вместе с ними участвовали во многих битвах. Когда такие народы сталкивались с другими, которым подобная смешанная армия казалась чем-то новым, то фантазии представлялся повод к сочинению сказаний о государствах амазонок. А примеры женских войн встречаются даже и в настоящее время. Женские полки дагомейского короля Беганзина своей выносливостью, дисциплиной и храбростью, как равно дикостью и любовью к спиртным напиткам доставили не мало неприятностей французским войскам. В Африке и другие предводители туземных племен имеют женщин солдат в качестве своей лейб-гвардии. У Сиамского короля есть стража из 400 сильнейших и красивейших девушек, которые состоят на службе с 13 до 20 лет и затем зачисляются в резерв. они подразделяются на четыре отряда и сами избирают себе офицеров. Небезызвестно также, что индийская предводительница Магарани Барода в дни ожиданий войны в 1885 г. предложила английскому правительству вспомогательный отряд амазонок.
В Европе в новейшие времена женщины в массе служили только в период французской революции, но, кажется, не оправдали надежд своего начальства, ибо декретом Конвента 30 сентября 1793 г. уволены были все женщины-солдаты, которым уплатили по 5 су с мили путевых издержек для возвращения на родину. Затем уже республиканскую армию женщины сопровождали лишь в качестве прачек и маркитанток. Женский батальон, сражавшийся в 1871 г. при коммунарах, также не принес особенной чести прекрасному полу.
Из всех этих примеров можно заключить, что женщины нецивилизованных и диких народов более пригодны для военной службы, нежели цивилизованные. А отсюда опять-таки вытекает и то, что чем более цивилизованы народы, тем больше оказывается различие особенностей и способностей мужчины и женщины.
Это, конечно, не значит, что стремления женщины к расширению своих познаний и сферы деятельности лишены почвы. Тут надо только помнить, что профессия профессии рознь и подобает подальше держаться от тех крайностей, какие высказывались и высказываются в обширной литературе за и против женщин, особенно в средние века и в эпоху Возрождения. Одни видели в женщине лишь существо нечистое и какое-то недоделанное, неизбежное зло, от которого следует сторониться. Другие изображают ее не иначе, как венцом творения: «женщины, – говорит один из таких дамских угодников XVI века – превосходят мужчин добродетелью, остроумием и разумом и обладают мужеством и физической силой столько же, как и мужчины, если не больше».
Лоренцо Медичи некогда сказал, что «было бы, пожалуй, недурно, если бы предоставили женщинам предводительствовать армиями». Весьма возможно, что этот знаменитый из Медичисов имел в виду ободряющее и одушевляющее действие, оказываемое на воинов стремлением отличиться перед женщинами. Не только рыцари средних веков, носившие цвета́ своих дам и ломавшие копья из-за них шутя и серьезно, но иные из современных офицеров и солдат не прочь были бы отличиться, лишь бы заслужить одобрение от своих возлюбленных.
Это можно сказать даже не об одних военных подвигах. Ферро справедливо замечает: «при всяком преступлении так охотно повторяется известное французское изречение „cherchez la femme“, но еще с большим правом в каждом благородном и доблестном деле можно бы найти ободряющее влияние женщины».
* * *
Кстати, по женскому вопросу, нельзя не отметить этюда г-жи Жанны Шмаль, печатавшегося в «Nouvelle Revue» и вышедшего теперь отдельной брошюрой. Это – вовсе не адвокатская речь в пользу женщин, и не вызов сильному полу, как большинство ратований на тему о женской эмансипации. Не увлекаясь ни фразами, ни общими местами, г-жа Шмаль довольствуется изложением фактов, которые говорят сами за себя. Этюд этот не лишен интереса и для читателей не-французов.
Во Франции большая масса женщин остается равнодушной к новым явлениям современной жизни, даже касающимся будущности прекрасного пола. Понятие о семье изменилось теперь, условия существования и борьбы за существование не те, какими они были 20 лет тому назад. Какие же должны быть роль и место женщины в обществе, которое формируется постепенно и ищет себе лозунгов? Многие благомыслящие люди задаются этим вопросом тревожным и, без сомнения, интересным. Французские женщины не составляют большинства в числе этих благомыслящих людей. «Немногие женщины у нас, – по замечанию „Temps“, – в эти последние годы делают вид, будто занимаются судьбой своего пола, причем поступают необыкновенно странно… Самым пустым претензиям они придают важное значение. У нас есть женщины-апостолы, торопящиеся заставить своих „сестер“ подавать голоса и надевать мужское платье, нисколько не помышляя о том, что было бы важнее для них изменить некоторые пункты гражданского кодекса и ослабить некоторые предрассудки».
Тогда как эти женщины устремляются к блестящему зеркалу бесполезного и лишнего, английские женщины показывают им пример благоразумия и мудрой сдержанности. В этюде г-жи Шмаль приводятся на этот счет любопытные данные. Соединяясь в группы, дисциплинированные кооперативной организацией, которая придает столько силы предприятиям Англии, англичанки в течение 15 лет неутомимо и рьяно добивались закона, который предоставлял бы замужней женщине право располагать своим личным имуществом, своим жалованьем, а также правом заключать контракты, совершать торговые сделки. Эта эмансипация английской женщины была достигнута не сразу. Победа доставалась ей мало по малу, по частям. Десять раз обсуждались в парламенте законопроекты этого рода и различные поправки и дополнения к ним. И все это велось с удивительной логикой. «Сперва – пишет г-жа Шмаль, – английские женщины отстояли право располагать своими сбережениями, потом своим приданым и жалованьем, затем – своим личным имуществом». В 1882 г. победа была полная. С следующего года началась новая кампания с целью улучшить законодательным порядком положение женщины в семье. Прошли три года и в 1886 г. исчез давний обычай, лишавший мать опеки над детьми. Замечаете постепенность: сперва – имущество, потом – дети; затем – школа, а там – местные интересы и в перспективе – парламент.
Статистические сведения, приводимые в рассматриваемом этюде, показывают, что теперь в Лондоне 46 женщин, занимающихся медициной из 150 имеющих докторские дипломы, 296.126 имеющих право подавать голос на выборах членов муниципальных советов, 502.199 обладающих тем же правом на выборах в советы графства. В течение одного года с октября 1891 г. по октябрь 1892 г. из «Patent office» в Лондоне выдано женщинам 824 привилегии на разные изобретения.
Из других государств г-жа Шмаль указывает на Данию и Швецию, где женщины имеют право голоса на выборах членов городского управления, на Швейцарию, где они участвуют в таких же выборах через посредство своих поверенных. В Италии право женского голосования ограничивается вопросами народного образования и с 1877 г. итальянки могут давать свои подписи на актах общественных и частных. Интересы русской женщины в полной мере охраняются. Она без разрешения мужа может принимать наследство, приданое, покупать и продавать, и муж без доверенности от своей супруги не имеет права распоряжаться её имуществом. Об Америке и говорить нечего. Известно, что положение женщины там возбуждает зависть всех её европейских «сестер».
* * *
Впрочем, в Америке все творится в грандиозных и эксцентрических размерах. Там есть города, сооруженные в несколько месяцев и населенные миллионами жителей. Там имеются железные дороги, бороздящие эту часть света во всех направлениях. Там есть газеты, ежедневно дающие от 30–40 печатных страниц петита, переполненных иллюстрациями, из которых многие своей отчетливостью могут соперничать с лучшими репродукциями иностранных иллюстрированных журналов.
Левиафаном этих чудовищных газет считался доселе «New-York Herald». Эта газета печатается в 190.000 экземпляров. В будни она дает 16–24 страниц, по 6 столбцов каждая. По воскресеньям бывают номера в 42–50 страниц! В этой газете есть все: сперва идут объявления, потом статьи, в сущности, весьма краткие, но в них прежде всего, во что бы то ни стало, даются сведения отовсюду. Кажется, в целом мире не имеется такой страны, откуда-бы «New-York Herald» не получал телеграмм, ей «каблируют», как выражаются в Америке, о каждом самомалейшем событии.
Настоящий успех дался этой газете не сразу. Но своей энергией, изобретательностью, а в особенности беспартийностью она добилась того, что сделалась газетой, чтение которой стало обязательным для всех янки.
Основатель «Herald», Джемс Гордон Бенетт, был журналистом по профессии. Ему принадлежит честь, начинания и осуществления этого небывалого дела: уничтожения «времени» и «пространства» в репортерском материале.
На столбцах «Herald» впервые стали печататься речи in extenso всяких американских собраний на другой-же день по произнесении этих речей, а финансовый американский рынок увидел свои курсы, неведомым дотоле чудом, воспроизводившимися с комментариями, по мере их официальной котировки.
«На всех парах» – таков был девиз «Herald'а». И этот девиз сделался девизом прессы всего мира. Но чтобы провести его на практике, потребовались много денег, необычайная расторопность, обширный запас инициативы, ума и изобретательности.
Газета не отступала ни перед какой затратой, раз дело шло о наибольшей известности её. «Herald» послал экспедицию на северный полюс на «Жанетте», погибшей столь ужасным образом среди вечных льдов. Но за то от имени «Herald'а» американское знамя водружено было там, куда не достигало еще ни одно человеческое существо. «Herald» же нашел Стэнли и отправил его на розыски Ливингстона в центральную Африку!
От имени того же «Herald'а» водружено было знамя с 34 звездами там, где до того времени не появлялось ни одного белого человека. При этом становится понятным значение и влияние, какое может завоевать себе подобная газета в стране, где высоко ставят инициативу.
Эта газета, столько раз служившая образцом для журналистов всех стран, недавно дала новый пример, который, наверное, наделает много шума во всем мире. Она обращается в собственность, в кооперативной форме, всех сотрудников, работающих там в каком бы то ни было отделе.
Известие это напечатано в нью-йоркском и парижском изданиях этой газеты. Происхождение его любопытно. Несколько дней тому «Агентство Рейтера» возвестило, будто бы Бенетт-младший, сын основателя газеты, продал «New-York Herald», и американская газета немедленно ответила на эту утку следующее:
«Собственник» «New-York Herald'а» снял свое имя со страницы «editorials». Тогда «Агентство Рейтера» телеграфировало в Европу следующее нелепое известие: «кратковременное пребывание г. Гордона Бенета в Америке объясняется следующим образом: газета переходит в собственность одного акционерного общества. Бенетт берет себе крупный пай и сохраняет за собой контроль. Продажная цена 2 миллиона долларов (4 миллиона рублей)». Известие это лишено всякого основания. Самая цена запродажи свидетельствует о злостном намерении. Собственник «Herald'а» поручил лондонскому адвокату Джорджу Льюису передать «Агентству Рейтера», что если оно не напечатает категорического опровержения на курьезное свое известие о продаже «Herald'а» за 2 миллиона долларов, а также резюме данной статьи, которая появится одновременно в парижском и нью-йоркском изданиях этой газеты, то он возбудит против него процесс о диффамации. Если дело будет разбираться, в таком случае г. Льюису вполне легко будет доказать, что тут был злой умысел.
«Действительно, „Агентство Рейтера“ имело доступ в бюро „Herald'а“ в Нью-Йорке и пользовалось нашими депешами не только из Соединенных Штатов, но также из Мексики, Панамы, всей Южной Америки и Канады.
Но это пользование производилось до такой степени небрежно, что собственник „Herald'а“ лишил Рейтера этой привилегии и телеграфирует теперь на свой счет все депеши в лондонские газеты, с единственным условием, чтобы они указывали „Herald“, как источник.
Быть может, это и побудило „Агентство Рейтера“ напечатать диффамацию. В данный момент „Herald“ достиг апогея своего благосостояния. Синдикат, который составился бы для его покупки, – легко мог получить 6 % на капитал в 20 миллионов долларов (40 миллионов рублей). Он мог бы еще загнать экономию и увеличить барыши, сбавив гонорары некоторых редакторов, достигающие до ста тысяч, семидесяти пяти тысяч или пятидесяти тысяч франков, а также сократив число редакторов, получающих по 25.000 франков и произведя еще некоторые реформы, которые сделались-бы неизбежными, раз „Herald“ обратился бы в коммерческую компанию.
Справедливо, что настоящий собственник имеет намерение составит кооперативное общество, но единственно в пользу служащих и редакторов, в данное время работающих в „Heralds“. Таким образом, барышами будут пользоваться главный общий редактор, главный городской редактор, главный редактор известий, главный ночной редактор, все сотрудники, все корреспонденты, все репортеры, кассир, служащие, ментранпажи, наборщики, корректоры, служащие по экспедиции газеты, в конторе объявлений, телеграфисты, разносчики, машинисты, пожарные, ибо все они входят в состав армии „Herald'а“.
Поступая так, нынешний собственник желает воздвигнуть прочный памятник в честь Джемса Гордона Бенетта, основателя „Herald'а“.
И так, сняв свою подпись со страницы „éditorials“, собственник желал единственно предупредить какие-бы то ни было пререкания после его смерти. Он намерен самолично наблюдать за осуществлением своего проекта.
Собственник „Herald'а“ хочет идти по стопам учредителя этой газеты, по стопам своего отца и распоряжаться самостоятельно „Herald'ом“, без постороннего вмешательства, и в особенности предохранить его от превращения в орудие спекуляции, как это часто случалось в Англии и Америке. Кооперативное общество начнет функционировать с того момента, когда признает это целесообразным теперешний собственник.
Таким образом, он последует примеру основателя „Herald'а“ проделавшего то же самое за несколько лет до своей смерти по отношению к теперешнему собственнику за один доллар.
Лорд – главный судья в Англии Кольридж объявил, что имена „New-York Herald“ и Джемс Гордон Бенетт – суть синонимы. Имена мистеров Hewland'а, Reicher'а и Henderson'а, значащиеся теперь на странице „editorials“, поставлены там теперешним собственником, так как он сохраняет за собой право выбирать исполнителей его распоряжений.»
«New-York Herald» проделывал уже много необычайного. Но ничего подобного еще не бывало, ибо это, – что ни говорите, – прямое разрешение социального вопроса, осуществленного на поприще, где до сих пор его только обсуждали, но не решали.
«Figaro» в своем восторге по поводу этого филантропического почина назвал Беннетта-младшего «патроном журналистов всего мира», умолчав, конечно, о том, во что обошелся такой лестный титул бывшему издателю «Herald'а».
* * *
Филантропия филантропией, но, кажется, и соображения иного свойства тут имели значение. Все, чем заявил недавний издатель «New-York Herald'а», не говорит в пользу его вполне искусного уменья упрочить положение такого издания. Судите сами. В 1872 г. основатель «N.-Y. Herald'а», Джемс Гордон Бенетт, умирая, оставил свободной от долгов эту газету, которая была тогда значительнейшим органом американской прессы, множество очень ценных домов и поместья в Нью-Йорке, да вдобавок огромный капитал. Газета досталась сыну, Бенетту-младшему, а дочери покойный издатель завещал миллион долларов.
Бенетт-младший сейчас-же, что называется, загулял. Блестящее воспитание, полученное им, богатство и влиятельная газета облегчили ему доступ в лучшее светское общество. Но удовольствия, каким предавался молодой Бенетт, были весьма разнообразного свойства и не сообразовались со вкусами высшего круга, в котором он вращался тогда. И в один прекрасный день Бенетт-младший почувствовал необходимость распрощаться с Новым Светом и переселился в Париж.
Здесь еще более, чем на родине, он играл видную роль в спортсменских кружках и стал желанным гостем в высшем обществе Парижа и Лондона. Через несколько лет по переселении в Европу он начал издавать «N.-Y. Herald» и в Лондоне. Он первый попробовал в столице Англии выпускать газету по воскресеньям, вопреки установившемуся там обычаю. Это был смелый опыт, особенно если вспомнить, что Лондон и все большие города в Англии обладают хорошо организованной системой газетного дела. Но Бенетту-младшему хотелось, чтобы его имя гремело везде. Его опьянила слава, доставшаяся ему от отца. Им овладела своего рода мания величия, и он точно хотел всему миру навязать свою газету. Лондонское издание должно было положить начало этой газетной сети. Но эксперимент не удался. Раньше, чем прошел год, Бенетт должен был прекратить лондонский «Herald», и эта затея обошлась ему 850 тысяч рублей.
Затем он стал выпускать парижское издание «Herald». Бенетт обнаружил большую ловкость в умении приспособлять политическое направление каждого издания своей газеты в той стране, где оно появлялось. В Нью-Йорке «Herald» держался антианглийского направления, популярного в Соединенных Штатах, и заигрывал с ирландцами. В Лондоне «Herald» был национально-британской газетой и относительно ирландского вопроса, и в делах внешней политики, враждебной в России. За то в парижском издании «Herald» муссировалось все, что пользовалось симпатиями во Франции, поддерживались и русско-французское сближение, и неприязненность к немцам, хотя Нью-Йоркское издание «Herald» всегда дружелюбно относилось к немцам.
Бенетт, номинально находясь во главе своих изданий «Herald'а», сам писал редко. Он проводил свое время в клубах спорта и игорных увеселений, разъезжал по морям на своей роскошной яхте, а когда это надоедало ему, искал развлечения у игорных столов Монте-Карло.
При этом он брался за всякие предприятия. В Париже он вместе с другими капиталистами устроил линию омнибусов для сообщения города с предместьями. В области спорта не было такой новинки, которой бы он не испробовал.
Неудивительно, что в капитале его скоро обнаружились прорехи. Нью-Йоркские дома сперва попали в залог, а потом были проданы. Такая судьба постигла его роскошную виллу, блестящий дворец, огромный дом, выгодно сдававшийся в наймы. Из всех доставшихся ему от отца зданий остался только большой дом, где редижировался и печатался «Herald», хотя и этот дом закладывался неоднократно.
Несколько лет назад Бенетт вернулся в Нью-Йорк, после 8-милетнего своего отсутствия, и решил продать и «Herald Building», а взамен построить для газеты новый дом. Для выполнения этого плана он заручился денежной поддержкой известного калифоруского миллионера Маккэ, и теперь, когда новое здание окончено, Бенетт снова прибыл в Нью-Йорк, чтоб уступить свои права и на газету, на которой уже не значатся более слова «James Gordon Bennet, Proprietor», стоявшие в заголовке «Herald» в течение 57 лет со времени его основания в 1836 г.
В американских журнальных кружках не особенно удивлены такой перемене. Один издатель заметил по этому поводу: «Джемс в последнее время понаделал так много безумных дел, что оставалось ожидать непременно еще чего-нибудь нового!» Один известный писатель сказал: «я нисколько не удивлен! Рано или поздно это должно было случиться. Бенетт во всех частях света пригоршнями расшвыривал деньги. Оказал ли он какую-либо крупную услугу человечеству, это решит потомство. Во всяком случае он растратил все свое состояние, и сумел бы свести в нулю и богатство самого Вандербильта».
Еще недавно Нью-Йоркский «Herald» был самой значительной, самой распространенной и самой доходной газетой в Северной Америке. Теперь не то. Народились другие газеты и уже во всех отношениях отодвинули «Herald» на второй план. Нью-Йоркский «World», когда его купил Иосиф Пулицер, в 1883 г. издавался в 60.000 экз. Теперь он печатается в 300.000 экз. Нью-Йоркский «Sun», издаваемый Дана, самая содержательная из американских газет, расходится в 180.000 экз. Сверх того, есть целый ряд менее значительных газет, как «Recorder», «Press» и др., которые в настоящее время пользуются большим успехом, чем «Herald». Но это развитие американской прессы – явление на столько характерное, что о нем уместно будет побеседовать особо.
* * *
Англию занимают теперь преимущественно две заботы – Гладстоновский билль о самоуправлении Ирландии, известный под именем «Home-Rule», сулящий ирландцам свой отдельный парламент, и вопрос об искоренении пьянства. «Home-Rule» имеет множество противников, но самыми ярыми из них оказываются фанатические оранжисты шотландского происхождения в Бельфасте, ведущие свой род от времен Вильгельма III Оранского. В случае полного торжества билля они угрожают превратить «Home-Rule» в «Home-Ruin», т. е. не прочь прибегнуть к междоусобице. Пока еще далеко до практического осуществления «Home-Rule», и тем не менее оранжисты бушуют неистово.
О шотландце вообще говорят в Англии, что он до такой степени серьезен, что для уразумения какой-либо шутки ему надо сделать хирургическую операцию. А шотландские выходцы, еще со времен Стюартов переселившиеся в северо-восточную провинцию Ирландии, Ульстер, где и происходит теперь брожение, привили своим потомкам тоже упрямство, которое за их северной отчизной упрочило мнение, что история Шотландии представляет собой самую кровавую хронику из всех наций в Европе. Новейшие времена кое-что смягчили в характере этих неисправимых пуритан старого закала, но «оранжисты» в Бельфасте не останавливаются ни перед чем в своей вражде в автономии ирландцев. Не даром они любимцы всех английских правительств из партии тори, которая, как не безызвестно, держатся принудительной политики по отношению к Ирландии. Они, пожалуй, в настоящее время единственные люди в Европе, которые еще в нынешнем столетии вели религиозную войну, и ежегодно устраивают процессию в честь своих старых обычаев, чем сильно донимают иноверных ирландцев. В Бельфасте и окрестностях возбуждение, вызванное биллем Гладстона, дошло до того, что мужчины и женщины помышляют серьезно о вооруженном сопротивлении. Местные капиталисты ассигновали уже несколько сот тысяч фунтов стерлингов на «военный бюджет» для междоусобной войны против их пугала – Дублинского парламента. Один юморист обрисовывает это настроение оранжистов в следующем характерном эскизе:
Опрятный дом в Ульстере. Семья собралась в саду позади дома.
Муж (обращаясь к жене). Ну, сокровище мое, хорошо-ли ты сегодня себя чувствуешь? Голова не болит. Нервы в порядке?
Жена. Нет, сегодня лучше, чем вчера.
Муж. В таком случае, возьми свое ружье и попробуй, не метче ли ты будешь целиться сегодня, чем вчера. (Он кладет яблоко себе на темя).
Жена (прицеливаясь). Не шевелись, Джон! Иначе я попаду в тебя.
Муж. Да ведь для тебя же лучше, если я шевелюсь. Неужто ты воображаешь, что, если в мое отсутствие к нам в лавку войдет враг, то он будет спокойно стоять, в ожидании твоей пули. Ну-же, молодцом! Бум! Стреляй.
Жена. Яблоко ужасно мало. (Стреляет и попадает мужу прямо в глаз).
Муж. Ах, милая, ты слишком низко метила. Попробуй еще раз. Ведь у меня имеется еще один глаз, готовый к услугам моего отечества.
Жена. Не моргай, это только мешает стрелять.
Муж. Я должен моргать. Ну, скорей и смелей. Ты забываешь, что одна пулька сидит уже у меня в глазу!
Жена (целясь снова). Не гримасничай, по крайней мере, так ужасно. Ведь это меня смешит, и тогда дрожит ружье.
(Она стреляет, причем пуля пролетает через яблоко и попадает прямо в пирожника, который как раз входит в этот момент).
Пирожник. О, Господи! Где же верхний край моего уха? (Оглядывается кругом).
Жена. Мне очень жаль, но я вас не заметила.
Пирожник. Ничего не значит, сударыня. Как в истом ульстерце, патриотическое чувство ликует во мне, при виде, как дамы стремятся защитить родину от тиранов. Я уж где-нибудь разыщу свое ухо. Если оно попадется вам, сберегите его, пожалуйста от кошачьих зубов. Вечером я наведаюсь о нем. (Быстро убегает).
Муж. Ну, теперь перейдем к строевому обучению малолетних. (Трижды трубит в детскую трубу. Являются три маленькие девочки я трое маленьких мальчиков, все вооруженные небольшими ружьями, а также кухарка с длинным кухонным ножом и служанка с ножницами).
Жена. Я становлюсь во главе полка. (Она вынимает носовой платок и размахивает им направо и налево). Это наше знамя, британский Union Jack! Вперед! марш!
(Семейство марширует трижды вокруг садика, распевая новейшую военную ульстерскую песню).
Муж. Превосходно. Теперь отправимся в верхний этаж и поупражняемся в защите гнезда наших предков!
Семья идет за ним и поднимается вверх три лестницы. Каждый член семьи кладет ружье на подоконник открытого окна и дает один выстрел за другим до тех пор, пока раздается сигнал главы семейства о превращении пальбы.
Является полицейский, который объявляет: Так нельзя, слышите-ли вы? Ведь ваши пули разлетаются во все стороны на половину церковного прихода. Приходили уже жаловаться в полицию.
Муж. Ну, ну, ладно, почтеннейший! Ведь мы готовимся для борьбы с биллем «Home-rule».
Полицейский. Ах, вот в чем дело? Правда? Ну, в таком случае, продолжайте свою стрельбу, желаю успеха! Право, я сам ульстерец. (Он убегает, а семья снова начинает заряжать)
«И это не фарс, – пишет один местный корреспондент, – тут только краски положены несколько гуще». Даже в пансионах юные девицы упражняются теперь в свободные часы, стреляя хлопушками и из маленьких револьверов в зажженные свечи. Некоторые граждане Бельфаста устраивают у себя в домах запоры, заказывают железные решетки на все окна и кишки для обливания «врага» водой из цистерны.
* * *
Что касается искоренения пьянства, то на очереди в английской палате общин имеется не менее десяти законопроектов об урегулировании торговли напитками, т. е. об уменьшении потребления алкоголя. В Англии, как известно пьянство развито в значительной степени. Англосаксы стяжали себе в этом отношении добрую славу. Лет тридцать, сорок тому назад домашнее пьянство, при закрытых дверях, было очень распространено и даже терпимо. А публичное пьянство в больших городах было так обычно, что по вечерам полицейские ограничивались уборкой пьяных мужчин и женщин (почти не уступавших в количестве своем мужчинам) в сторонке вдоль стен, чтобы они не мешали движению по улицам. В некоторых шотландских городах, как например в Гриноче, существовала муниципальная тачка (drunkard barrow) для развозки по городу этих отвратительных тюков. Даже средний класс и сама аристократия были заражены этим поровом. Один знаменитый роман «Life for a life», приписываемый г-же Грег, действие которого происходит в более высоком кругу, почти весь построен на ужасных последствиях пьянства.
В настоящее время пьянствуют меньше. А все же нельзя сказать, что пьянство исчезло. Знаменитые и недавние процессы свидетельствуют о том, что даже благородные лорды имеют обыкновение напиваться до бесчувствия.
Многочисленные и разнокалиберные общества трезвости с первыми сановниками государства и в особенности с аристократками во главе, подтверждают существование, и немного не достает, чтобы сказать – распространение этого зла. Наконец, столь часто по этому поводу присматривавшееся законодательство также доказывает, что общественные власти сознают необходимость постоянно заботиться о пьянстве.
Для предотвращения пьянства пробовали многое. Америка, которая также не изъята от такого порока, применила два средства. Одно заключается в безусловном воспрещении торговли, а другое – в возвышении пошлин на торговые патенты.
Воспрещением ничего не добились. Да оно и требовало чересчур многого. Кто пил, тот не перестает пить. Когда воспрещается открытая торговля, является тайный сбыт, который действительно так распространился, что полиция оказалась беспомощной и довольствовалась наложением штрафов. Доход с последних сделался регулярным и заранее дисконтировался в государственном бюджете.
Применение каждой из этих мер зависит не от федерального правительства, а от местных властей. И вот что из этого вышло. Поезд, положим, отправлялся к Атлантическому океану, к Тихому океану. Проезжали по штатам тут либеральным, там налагавшим запрещения. В либеральных штатах пробки взлетали сами собой, в остальных шкаф с напитками был опечатан властями. Но у гарсонов карманы были битком набиты медицинскими рецептами и пили, в виде лекарства (это не значит в умеренных дозах) то, что законом штата воспрещалось как яд.
Повышение пошлины на торговые патенты привело совсем к другим результатам. Когда пришлось за право открытой торговли платить по 200, 400, 800 и даже 2000 рублей, то многие закрыли свою лавочку. С уменьшением «салонов» – точнее, притонов – уменьшилось и число пьющих. И все остались в выигрыше: продавцы, клиенты, государство и нравственность.
Система, какую хотят ввести в Англии, совсем иная. Один из десяти вышеприведенных законопроектов – «Liquor traffic local Veto» – состоит в том, что выдача или возобновление свидетельств на право торговли зависит от решения избирателей округа. Баллотировка открывается по инициативе десятой их части, и если большинство участвующих в голосовании пожелает, то выдача новых патентов на право торговли и возобновление старых воспрещаются на пять лет.
Герберт Спенсер сказал, что законы не давали никогда тех результатов, каких от них ожидали, и наоборот, приводили к тому, чего от них никак не ожидали. Какие же могут быть неожиданные результаты этого права veto? Кажется, один из таких результатов имеется в наличности уже и в настоящее время: профессия избирателя округа, по крайней мере, на некоторое время, будет очень выгодной. Кабатчики, практикующие или надеющиеся ими сделаться, постараются сойтись с этими церберами, вливая в них целые бочки. Мало помалу, быть может, в конце концов veto достигнет уменьшения пьянства, но очень вероятно, что перспектива этого самого veto только усилит его.
* * *
Уже давно ни одно из «causes célébrés» не волновало так берлинских бюргеров и ученых, как второй брак Роберта Боха, знаменитого ученого бактериолога, главы науки о микробах. Дело в том, что «тайный советник», профессор доктор Кох развелся с своей женой, с которой жил в долголетнем браке, и женился вторично на юной актрисе. Об этом романе ученого Ромео, завершившимся самым заурядным бравом, ходили слухи в печати еще прошлой зимой. Слухи эти проникли в печать не из Берлина, а с итальянской Ривьеры и сообщались не в немецких газетах, а в парижских бульварных органах. «Echo de Paris», «Oil Blas» и «Gaulois» напечатали тогда заметки в таком виде: «г. Роберт Кох, отец бацилл, нашел своеобразный способ утешиться в своем горе, которое он должен был испытать, когда дело об его туберкулине приняло несчастный оборот. Недавно он похитил танцовщицу из главного берлинского театра и теперь на солнечном берегу Средиземного моря наслаждается прелестями медового месяца». В Германии никто тогда не поверил этой басне. Ни один из немецких корреспондентов в Париже не решился сообщить это известие своей газете даже с подобающей оговоркой. Только в начале нынешней весны стало известно и в Германии, что парижская «басня» вполне основательна. Единственная неточность в ней заключалась в том, что молодая дама, о которой идет речь, и которая теперь стала «тайной советницей Кох», была не танцовщицей, но актрисой, игравшей в «Berliner Theater» Барная.
Имя её Гедвига Фернбрюк. В кратковременный период своей театральной карьеры она не пожинала лавров. Она выступила в театре Барная, как «новенькая», и единственное, что в ней нравилось, это её свежая юность и красивые, огненно-рыжие волосы. её шевелюра напоминала русалку или Цирцею, как ее представляют себе парижские франты. Во всем прочем она считалась «beauté du diable»: большие голубые глаза, смеющийся, чувственный рот и сильно вздернутый нос. По носу ее можно бы принять даже за монгольскую красавицу. Рост её почти средний, стройность всей фигуры как у девушки, только что достигшей первой зрелости.
Самоуверенность осанки её, впрочем, не соответствовала её таланту. Она исполняла роли наивных девиц. Вскоре, однако, её имя исчезло из театральных афиш, и никто не скорбел о сем. Это было, по немецким справкам, в 1891 г. И только теперь объяснилось такое быстрое прекращение этой артистической карьеры. Юная дама перешла от ролей наивниц в роли любовниц и досталась такому Ромео, какой крайне редко может встретиться даже в богатой чудесами истории человеческого сердца и еще реже в истории строгой науки.
Разведенной первой жене Коха, по приговору суда, придется получать четверть его доходов. Новой «тайной советнице» Кох вместе с остальными ¾ достаются и пасынки, почти таких лет, что они могли бы сделаться её родителями.
4
Журналистика ведет во всему. – Баронеты и рыцари пера в Англии. – Журналист Брюнетьер – член французской академии. – Его система критики. – Закон эволюции в применении в французской критике. – Реакция против научной критики. – Различное понимание критики. – Миссия критики по Брюнетьеру. – Искусство – одна из форм религии. – По поводу памятника Теофрасту Ренодо. – Его филантропическая деятельность. – Первая французская газета. – Первый журналист – благодетель человечества. – Вена, как месторождение журналистики. – Назначение и власть газеты. – Без прессы жить невозможно. – Первые начатки журналистики. – Страсть к новостям в XVI и XVII вв. – Наемные репортеры прошлого. – Рукописные газеты. – Печатные бюллетени. – Первые ежедневные газеты. – Статистика журналистики на земном шаре. – О выборе лучших книг. – Составление идеальной библиотеки по плебисциту публики. – Результаты голосования «Revue bleue» о 25 лучших книгах. – Жюль Леметр о предпочтительности тех или других книг. – Золотые мечты сливок человечества об идеальном человеке. – Пессимизм Модели и оптимизм Мантегаццы. – Повальное пародирование изречения «здоровый дух в здоровом человеке». – Необходимость великодушие для идеального человечества. – Ребячества знаменитостей в суждениях о людском совершенстве. – Романическая история преступника Рустана и его самоубийство.
Вильмесан, основатель «Figaro», сказал некогда, что «журналистика ведет ко всему, лишь бы уйти из нее». Теперь это подтверждается теми почестями и отличиями, какими официально жалуются журналисты в Европе. В Англии, напр., журналистика ведет в очень многому, уходишь ли из неё или остаешься в её рядах. В нынешнем Гладстоновском кабинете есть такой член, который прямо из-за письменного стола журналиста попал в министры. Это статс-секретарь по ирландским делам Джон Морлей. Из тех же, которые не пожелали бросить журналистику, многие в Англии повышены на поприще общественных рангов. Еще на днях, по случаю тезоименитства королевы, несколько журналистов сделаны баронетами и рыцарями (knights). Титул баронета наследственный. Поэтому он пригоден только людям более состоятельным. Не обладающие достатком получают титул рыцарей, который не переходит в потомство, хотя он древнейший из всех английских дворянских титулов, ибо сан Альфред Великий возводил своего сына в рыцари, как и теперь это делается: королева фактически ударяет мечем жалуемого ею достоинством рыцаря. Но в обыденном употреблении между баронетами и рыцарями нет различия: те и другие одинаково именуются «пэрами», а жены их «леди».
* * *
Во Франции журналисты допускаются даже к «бессмертию», т. е. попадают в члены французской академии, что считается там наивысшим литературным отличием. Недавно такой чести удостоился журналист Брюнетьер – критик «Reme des deux mondes». Этот 44-летний критик успел уже выработать свою систему анализирования литературных произведений, которая состоит в применении Спенсеровой теории эволюции в истории литературы, о чем дает полное понятие его собрание лекций в «École normale» в сборнике под заглавием «L'évolution des genres littéraires». Правда, критика есть скорее искусство, чем какая-либо особая наука. Всякая наука берется предсказывать. Астроном, напр., умеет наперед рассчитать, какие перемены должны произойти в светилах небесных, а критик не может извлечь из состояния прошлого и настоящего литературы ни малейших догадок насчет будущих перемен вкуса. Но, с другой стороны, историк искусства устанавливает общий закон эволюции, который можно проследить, положим, в истории музыки от народной песни до Вагнеровской оперы, или в истории романа, от восточного баснословия до крайнего разнообразия современных романов, иногда так верно отражающих многосторонние горизонты жизни.
Тем легче наблюдаешь эти последовательные превращения, когда изучаешь каждый в отдельности род литературы и прослеживаешь его особое развитие. Брюнетьер не только наметил себе метод, но и показал его применение в своих публичных беседах об «Эволюции французского театра», в своих чтениях об «Эволюции лирической поэзии в XIX веке». Ряд статей его на эту тему напечатан в последних №№ «Revue bleue». Этот метод требует сравнительного изучения литератур.
История французской критики показывает, что и к ней приложим тот же закон эволюции. У Монтэня и Байля критика остается еще неопределенной, кидающейся в эрудицию, биографии писателей и в анекдотичность. Ла-Гарп судит о всем по классическим теориям об абсолютно прекрасном. Поле французской критики расширяется лишь от знакомства с иностранными литературами – у г-жи де-Сталь, Шатобриана, Бильмана. Сент-Бёв заимствует приемы своей критики из естествознания, воссоздает личности в мельчайших подробностях, определяет отношения между индивидуальностью творчества, произведением автора и окружающими его обстоятельствами. По Тану, все это заменилось «средой», а история литературы представляется одним из самых важных документов для познания психологии народа.
Нововведение Брюнетьера состоит в том, что он изучает в литературном творчестве преимущественно влияние момента. Величайший гений есть не только продукт своего народа и своего времени, как это утверждается по Тэновсвой теории «расы» и «среды»; он есть также продукт накопленной суммы мыслей и произведений, ему предшествовавших. Влияние предшествовавшего творчества на любое поколение писателей значительно. Они проявляют свою оригинальность, они нередко ищут путей противоположных тем, по каким шли с успехом их непосредственные предшественники; но это самое искание нового определяется творчеством предшественников. «В каждый момент своей продолжительности, – говорит Огюст Конт, – человечество складывается более из мертвых, чем из живых». Мы как бы прикованы к мысли о покойниках, также как мы – узники темперамента, переданного нам предками. Это влияние прошлого – по замечанию Бурдо, – можно сравнить с влиянием наследственности в биологии. Таким образом Брюнетьер применяет к развитию литературных произведений теорию не только Спенсера, но и Дарвина. Изменения литературных жанров, по его мнению, совершаются подобно изменениям животных видов, путем наследственности, разнообразия, естественного подбора, борьбы за существование, долговечности более приспособившегося в жизни. Вот сколько дарвиновских формул! Конечно, их надо понимать только в смысле чисто метафорическом.
Кстати отметить, что такое строгое применение научных приемов даже терминов к литературным произведениям возбуждает уже своего рода реакцию. Против пользования научными методами вне области чистой науки горячо протестует Анжеллье в предисловии в пространному этюду о Роберте Бёрнсе. По мнению Анжеллье, совершенно напрасно тратить труд на попытки объяснить таинственное бытие гения. Пора вернуть вещам их обширную сложность, их необъяснимую запутанность и их кажущиеся противоречия. Другой французский сторонник эстетической критики и ярый противник научной критики, Дроз, в своей брошюре «La Critique littéraire et la Science» готов даже воспретить самое употребление технических терминов, которых Лейбниц советовал избегать, как «ехидн или бешеных собак». Дроз желал бы вычеркнуть из словаря честных людей всякие термины вплоть до слова «психолог», и уже по этому примеру можно судить о непримиримости этого эстетика. Короче сказать, такие критики, как Анжеллье и Дроз, суетности суждений предпочитают способность чувствовать и любить. С произведениями искусства случается тоже, что с любовью: как скоро начинаешь их сравнивать, так и превращается восхищение ими.
Вообще критика в новейшие времена понимается весьма различно. Бурже анализирует впечатление, производимое данным сочинением на его чувствительность. Фагэ в мыслях писателя старается выделить внутреннюю логику. Анатоль Франс передает читателю о «приключениях своей души среди шедевров». Жюль Леметр в современных пьесах отыскивает отражение подвижного образа новейшего изменчивого общества. Для Вогюэ всякая книга служит поводом в возвышенным размышлениям.
Критика Брюнетьера вполне гармонирует с его призванием. Он историк и диалектик, любит обобщения и широкие перспективы. Он ратует против индивидуализма и интеллектуального эпикурейства. Он пытается доказать, что критика обязана судить. Под этим разумеются не безапелляционные суждения, а уменье, по замечанию Сент-Бёва, «находить относительное в каждой вещи». Она обязана классифицировать произведения не по правилам слишком узким, а как желал Тэн – по их благотворному характеру. Наконец, Брюнетьер, увлекаясь историей, составил себе весьма высокое понятие о важности изучения французской литературы. Миссия историка и критика, по его мнению, заключается в беспрерывном охранении и возобновлении «культа шедевров, которые суть общие сокровища расы, свидетельствующие, из века в век, последующим поколениям о древности, величии и прочности отечества». Тогда как интересы, верования, идеи, разделяют людей друг от друга, искусство связывает их между собой. «По мере того, как религии, кажется, теряют почву, остается одно только искусство, чтоб служить противовесом демократическим и утилитарным тенденциям наших современных цивилизаций, чтоб поддерживать между нами симпатию и нравственную возвышенность». Таким образом выходит, что искусство, вследствие эволюции отделившееся от религии, в свою очередь стремится, в своих возвышеннейших проявлениях, сделаться одной из форм религии.
* * *
Настоящим торжеством для журналистики явилось чествование памяти отца французской журналистики Теофраста Ренодо, которому в Париже только что открыта статуя. Этот первый журналист был человек весьма замечательный. Уроженец Луденя (1575 г.), он, по окончании медицинского факультета в Монпелье, совершил поездки в Италию, Голландию и, кажется, еще в Англию. Затем он в Париже изучал химию. В столице Франции его поразила нищета, попадавшаяся ему на каждом шагу. Толпы нищих из бывших солдат требовали милостыни с оружием в руках. Hôtel-Dieu, где дети умирали у грудей голодных матерей, была переполнена больными, погибавшими от тифа. Тогда-то у Ренодо и зародилась мысль о необходимости избавить несчастных от нищеты при помощи труда. Между тем Ренодо из Парижа переселился в свой родной город. Там он скоро приобрел известность, как врач, но не переставал работать над своим самообразованием. Там же близко узнал его Ришелье, впоследствии знаменитый кардинал – государственный человек. После смерти Генриха IV Ренодо в 1610 г. был приглашен ко двору. Уже в 1611 г. ему дана была королевская грамота, предоставлявшая ему право применять на деле все, что он считал нужным для блага бедняков, найденышей и больных. Но на деле филантроп встретил для себя большое препятствие в злой воле парижского полицейского префекта и потому снова вернулся на родину, где продолжал заниматься врачебной практикой.
Прошло 14 лет и только тогда он мог осуществить свои благотворительные идеи. Ришелье в это время достиг высшего могущества и по одному его слову устранялись всякие препятствия филантропическим стремлениям своего протеже. Для избавления себя от массы нищих французское правительство доселе не имело иного средства, помимо того, что скитальцев запирали в особые дома, где заставляли их исполнять тяжкие работы. Бедняки бунтовали, да притом не обреталось и денег на содержание подобных заведений. Таким образом нищие опять получили себе полную свободу. Ренодо решил открыть контору, в которой всем несчастным за три су, а совершенным беднякам бесплатно, давались бы указания, где найти работу. Дело здесь пошло успешно. И Ренодо задумал начать издание газеты. В ней должны были печататься иностранные известия, королевские распоряжения и трактаты, заключавшиеся с иноземными государствами.
Кардинал Ришелье сразу понял, какое значение могла иметь для него такая периодическая публикация при содействии лица, поддерживающего его политику. 30-го мая 1631 г. Людовик XIII пожаловал Ренодо «привилегию на составление, печатание и продажу новостей, известий и повествований о том, что происходило и происходит внутри и вне королевства». В тот же день появился и первый номер этой «Газеты» (Gazette). Газета Ренодо выходила еженедельно и состояла из 4-х страниц. В 1632 г. Ренодо прибавил в ней еще 4 страницы, под заглавием «Новости». Номер стоил один су. Тут уже Ренодо не довольствовался исключительно сообщением одних новостей. Он вел и полемику с завистниками, нападавшими на его юное предприятие. «Gazette» в политическом отношении находилась под непосредственным влиянием Ришелье и в ней сотрудничал сам Людовик XIII.
Успех Ренодо был блистательный. Это дало ему возможность учредить свои благотворительные консультации для бедных больных («Consultations charitables pour les pauvres malades»). Сперва по вторникам, а потом каждодневно, в его бюро собирались 15 врачей, друзей Ренодо. к ним являлись больные. В случае сложности болезни врачи совещались и совместно решали вопрос о лечении. Присутствовавшие аптекаря доставляли различные лекарства. Были тут и хирурги на случай операций. Из больных те, кто был с достатком, могли, по желанию, класть свою лепту в поставленный тут же ящик. Это шло на покупку лекарств для бедных. Из этих добровольных даяний бедняки нередко вместе с лекарствами получали и небольшие денежные пособия. Ренодо из личных доходов вкладывал в это дело по 2.000 франков в год. Врачи, сотрудники его, посещали бедных и на дому, по назначению Ренодо. Мало по малу парижский медицинский факультет проникся ненавистью к смелому новатору. Ренодо стали называть обманщиком и предостерегали от его средств. На стороне новатора был Людовик XIII и Ришелье, а парижский факультет опирался на парламент. Борьба эта длилась долго и велась с большим ожесточением. После смерти его обоих покровителей консультации пришлось закрыть. Но «Gazette» Ренодо осталась. Она уже настолько отвечала потребностям правительства, что прекратить ее не решались, особливо накануне фронды, и не дерзали поручить редактирование её кому либо другому, кроме Ренодо.
Впрочем, Ренодо был слишком горд, чтоб жаловаться на неблагодарность. Он и не думал мстить своим врагам. Он удалился в уединение и занимался исключительно редакцией своей газеты, отклоняя от себя всякое новое приглашение ко двору. Разбитый параличом он редактировал свою газету еще за два дня до своей кончины. Он, который имел столько случаев обогатиться, умер бедняком.
И так первый журналист был благодетелем человечества и его услуги проявлялись в различных областях. Контора справок о работах, ломбарды, бесплатная врачебная помощь бедным и многие другие общеполезные учреждения обязаны ему своим происхождением. Потомство теперь заявило ему благодарность, и на цветочном рынке в Париже, как раз в том месте, где некогда находились его конторы, воздвигнут памятник, увековечивший имя великого филантропа-журналиста XVII века.
* * *
Однако, напрасно было-бы думать, что журналистика зародилась во Франции. Честь этого изобретения давно уже оспаривалась семью городами – Антверпеном, Страсбургом, Франкфуртом-на-Майне, Фульдом, Гильдесгеймом, Эрфуртом и Штетином. А теперь явилась еще новая претензия. Ценкер, издавший «Beschichte der Wiener Journalistik» (два тома: первый – до 1848 г., второй – в период 1848 г.), доказывает, что в данном случае первенство принадлежит Вене. Там первая регулярная газета возникла в 1615 или 1616 г., тогда как в Фульде такая газета явилась лишь в 1618 г., в Эрфурте – в 1620 г., в Антверпене – 1621 г., в Англии – 1622 г., в Голландии – 1626 г. Но Ценкер, как историограф вполне добросовестный, спешит прибавить, что эти первые газеты далеко не имели того значения, какое выпало на долю знаменитой еженедельной французской «Gazette», и что Австрия не имела своего Ренодо. Этот энергичный человек понимал, что истинный журналист не удовольствуется опубликованием известий полезных для коммерции или занимательных для любопытствующих. У него должны быть помыслы высшего порядка и стремление сделаться своего рода особой в государстве, оказывать обществу и государству ценные услуги своим влиянием на общественное мнение.
Как свидетельствует Ценкер, уже в свои младенческие годы журналистика являлась ценным культурным средством, «создавая на обширные дали духовную близость, умственное родство и отсюда духовное единство, которое безусловно необходимо для великих деяний». Этим замечанием превосходно определяется назначение газеты, её великая власть. Кто из читающего люда не дивился подчас, держа в руках номер газеты, что вот в ту самую минуту, когда он пробегал газетный лист, делали тоже тысячи других читателей, интересуясь одними и теми-же мыслями или фактами? Назначение газеты – создать «духовную близость» между тысячами людей, отделенных друг от друга значительным расстоянием.
Власть эта признавалась самыми могущественными людьми. Наполеон I сильно скорбел о том, что он, который смирил всю Европу, ничего не мог поделать против «Times'а». Признание этой силы сказывалось и в том, что журналистику несчетное число раз считали ответственной за всякие напасти и беды. В новейшие времена этот клеветнический спорт поубавился значительно. Разве только тупые головы равных утаптывателей мостовых не перестают позорить прессу. Каждый-же здравомыслящий человек считается теперь с значением прессы и порицает только её уродов, какие есть везде, в бюрократии и в парламентах. Остается несомненным, что пресса сама по себе ни хороша, ни худа, но, как воздух и огонь, есть особый элемент, который при известных обстоятельствах может действовать разрушительно и без которого, однако, жить невозможно.
* * *
Но как-же зародилась и развивалась эта бумажная власть? Зачатки журналистики, как в Англии, так и в Голландии, как в Вене, так и в Париже всюду были одинаковы. Повсюду она нарождалась из рукописных новостей и из печатных реляций, появлявшихся по случаю каких-нибудь важных событий и притом в неопределенные сроки. Во все времена и во всех странах человек был любопытен до нескромности и постоянно стремился к тому, как-бы обмануть свою скуку. Но в средние века не было почты; это римское изобретение утратилось. Приходилось довольствоваться устными рассказами, переносившимися странствующими певцами, представлявшими собою живые газеты. Их была масса в Германии. Как выражается Ценкер, от Рейна до Одера и от Балтийского моря до Дуная переходили они из селения в селение, повествуя перед восхищенными и внимательными слушателями о том, скольких противников вышиб из седла такой-то рыцарь, какой пышный турнир устроил такой-то герцог, сколько колдуний и евреев сожжено было недавно.
Но с наступлением новых времен, с возобновлением почты, с изобретением книгопечатания, с возрождением наук и искусств, с развитием торговых сношений, со времени великих путешествий, с целью исследований, со времени Реформации и вызванных ею волнений во всей Европе – область предметов, возбуждающих человеческое любопытство, необычайно расширилась. В конце XVI века и в начале XVII в. страсть к новостям дошла до мании. Во всех Европейских столицах существовали господа, которые ставили себе в заслугу, если им удавалось пронюхать тайные помыслы государей, или в точности разузнать цифру казны и армии грансиньора. Из мании страсть к новостям превратилась в прибыльное ремесло. Вельможи нанимали себе разведчиков (это тогдашние репортеры), на обязанности которых лежало сообщать им слухи дня, закоулочные сплетни, назидательные или скандальные анекдоты, ходившие по городу. Они держали таких разведчиков, как держали метр д'отеля, кучера. Оплачивали их по истине скудно. Из приходо-расходной книги герцога Мазарини видно, что он платил Портайлю по 10 ливров в месяц «за новости, доставлявшиеся им еженедельно по приказанию монсеньора». Монсеньор, без сомнения, получал их в изобилии за свои деньги. В некоторых кружках составлялись списки собранных новостей. С этих списков снимались копии, распространявшиеся во множестве экземпляров. Вскоре эта потаенная торговля была урегулирована. При каждом кружке составилось свое редакционное бюро, явились свои провинциальные корреспонденты и платные абоненты. Таким образом, от рукописных новостей до газеты оставался всего один шаг. Груша назрела и на долю француза Ренодо достался лишь труд сорвать ее.
Рукописные газеты, наполненные сплетнями, злословием, посвящали своих абонентов в придворные интриги, мелочные факты, в закулисную сторону политики и заальковную жизнь. Интересовавшиеся подробностями великих событий находили их в печатных отчетах, именовавшихся в Германии «Neue Zeitungen» и продолжавших усиленно распространяться в течение всего XVI века. Важные открытия, придворные празднества, военные приключения, военные события, казни, процессы колдунов и колдуний, метеоры и кометы – таковы были разнообразные сюжеты, трактовавшиеся в прозе или в стихах этими журналистами.
Если верить Ценкеру, первые печатные отчеты появились в Вене, и это неудивительно. Вена, как императорская столица, была центром Европейской политики. Сюда съезжались государи и принцы, и задавали тут себе грандиозные празднества. Сверх того, здесь же раньше других стран явились представители по искусству книгопечатания, пользовавшиеся большой известностью, да и почта австрийская не уступала почте наиболее передовых стран. Начиная с XVI века в Вене установилась отправка курьеров в определенные дни в Грац, Линц и другие города, а с 1516 года заведены были регулярные сношения с Брюсселем.
Самый старинный из сохранившихся таких отчетов относится к 1488 году. Это бюллетень, предназначавшийся для успокоения народа на счет здоровья эрцгерцога Максимилиана, находившегося тогда узником в Брюгге. Другой бюллетень 1493 года повествует о погребении императора Фридриха III.
Впрочем, хроникеры интересовались не только императорами и государями, золочеными их каретами или победами и поражениями Оттоманской Империи. Они рассказывали также о голоде, о появлении косматых и вещих небесных светил, о чудесном размножении ехидн и ящериц, о приключениях и преступлениях, об истории одной женщины, проданной мужем разбойникам, а также одной молодой служанки, продававшейся дьяволу на шесть лет и которая в один прекрасный день исчезла в облаке пыли на глазах изумленных зрителей. Часто один и тот же летучий листок заключал в себе несколько рассказов. Из него узнавали, наприм., что в некотором Венгерском городе одна женщина разрешилась ребенком с тремя головами, тремя руками и тремя ногами, а также, что турки принуждали христианских своих пленников поклоняться кошке, повешенной на кресте. Первоначально всякий имел право печатать бюллетени и рассказы. Впоследствии это право стало привилегией, монополией, жаловавшейся известным издателям, представлявшим гарантии правительству. Эти издатели вскоре решили печатать свои бюллетени в определенные дни, когда отправлялась почта. С тех пор в Вене явились печатные периодические газеты. Около 1620 года таковых там было три. Не мудрствуя лукаво, их окрестили именем «Ordentlichen Post-zeitungen», «Ordinari Zeitungen», «Ordentlichen Zeitungen». Что же касается до рукописных газет, то, несмотря на воздвигнутое на них гонение, они существовали еще очень долго, сохраняя за собою прелесть запретного плода. Написать можно многое, чего не напечатают, а на контрабанду всегда большой спрос.
Журналистика имела повсюду не только общие начала, но ту же самую историю, одинаковую или почти одинаковую судьбу. Повсюду развивалась она постепенно, с соблюдением пропорциональной зависимости между спросом и предложением. С течением времени еженедельные газеты стали появляться дважды в неделю. Первая ежедневная газета появилась в Лондоне 11-го марта 1702 года. Во Франции первая ежедневная газета вышла в 1777 году. Называлась она «Journal de Paris». О ней тогда же говорилось: «Ежедневная газета настолько привилась ко вкусам французов и парижской жизни, что иначе не завтракали, как имея ее около чашки шоколада или кофе со сливками». В одних раньше, в других позже, но во всех странах явилась своя большая и малая пресса, свои юмористические журналы, свои политические, литературные, богословские, научные ведомости, свои официальные органы. Счастливые нововведения весьма скоро находили подражателей из конца в конец Европы.
* * *
В настоящее время периодических изданий наземном шаре насчитывается более 35.000, причем на Европу приходится до 20.000.
В Германии выходит более 5.500 периодических изданий, в том числе 800 ежедневных. Из всей этой громадной массы, среди которой имеются издания религиозные, педагогические, научные, по части путешествий, охоты, ремесел, наибольшего внимания, без сомнения, заслуживают научные и литературные сборники. В них именно во всю ширь развертывается глубокий и философский немецкий ум. На их страницах нарождаются на свет Божий самые необычайные научные и религиозные идеи, самые смелые теории, самые замысловатые системы, равно как и самые неожиданные доктрины по всем отраслям человеческих знаний. В каждом сколько-нибудь значительном немецком городе существуют газеты, пользующиеся большим распространением.
Затем следует Англия, в которой 4.000 периодических изданий, в том числе 800 ежедневных. Из них «Telegraph» печатается в 250.000 экземплярах, «Standard» – 242.000; «Daily News» – до 160.000; «Times» – до ста тысяч.
Во Франции приблизительно столько-же повременных изданий. Из них 1.586 выходит в Париже и 2.506 – в провинции. Еженедельных 360.
Италия занимает четвертое место. Там 1.400 повременных изданий: 200 печатается в Риме, 140 – в Милане, 120 – в Неаполе, 94 – в Турине, 79 – во Флоренции. Еженедельных насчитывается 160.
В Австро-Венгрии выходит 1.200 периодических изданий, в том числе 150 ежедневных. Наиболее любопытное из них – это «Acta comparationis litterarum umyersarum» – вестник сравнительной литературы. Это издание имеет сотрудников всюду и все языки мира здесь находят себе место.
В Испании около 850 периодических изданий, из них треть – политических. В большинстве случаев они не имеют подписчиков, а распространяются отдельными номерами. В истории испанской прессы интересен тот факт, что разносчиками первых её образчиков были слепцы. Газеты, называвшиеся тогда «Relaciones», – выходили в неопределенные сроки и нередко облекались в форму романсов, распевавшихся и продававшихся этими слепцами по улицам.
В России до 800 периодических изданий, из которых 200 выходят в Петербурге и 75 в Москве.
В Греции в каждом пооаде имеется одно или более периодических изданий. В одних Афинах 54 ежедн. газеты.
В Швейцарии 450 периодических изданий. Из них некоторые пользуются большим значением. Любопытная подробность – на все эти издания можно абонироваться, сразу заплатив приблизительно около 3.000 франков.
В Бельгии и Голландии выходит приблизительно одинаковое количество периодических изданий, а именно – около 300 в каждой стране.
В Швеции, Норвегии и Португалии пресса не пользуется особым значением, хотя в двух первых странах она свободна.
Даже в Турции существует журналистика. В одной столице Оттоманской империи насчитывается около 50 периодических изданий, на турецком, французском, английском, армянском и греческом языках.
В Азии не менее 3000 периодических изданий, но большинство их выходит в Японии и в Английской Индии.
Из всех стран света только Африка, по части прессы, оказывается наиболее обездоленной. Там имеется не более 200 периодических изданий, в том числе около 30 приходится на Египет. Остальные издаются в различных африканских колониях Европейцев.
Но за то Америка – настоящее царство прессы и журналистики. В одних Соединенных Штатах 12.500 изданий, в том числе более 1.000 ежедневных. Первая американская газета вышла в Бостоне в 1704 году, под названием «Boston News». До 1800 г. она пользовалась малым распространением. В то время там было всего 200 периодических изданий. Но с начала XIX столетия пресса Соединенных Штатов пошла вперед быстрыми шагами. Действительно, в 1840 году насчитывали уже 1.630 периодических изданий, а в 1860 г. число их возросло до 4.000. С тех пор цифра эта более чем утроилась. Сверх того, в Соединенных Штатах существует до 120 изданий, издаваемых и редактируемых неграми.
В Канаде имеется до ста периодических изданий, в Аргентинской республике – 60.
В Австралии насчитывается до 700, почти все на английском языке.
По языкам первое место занимает английский, на нем печатается 16.500 периодических изданий. Затем следуют немецкий (7.800 изданий), французский (6.850) и испанский (1.600).
* * *
Иного рода средством духовного общения служат книги. Это наши лучшие друзья, не покидающие нас в дни несчастья и не стесняющие при благополучии. Но друзей подобает выбирать не зря, и выбор книг, особенно таких, которые всегда доставляли бы собой приятное общество, – операция деликатная, которую приходится производить с головой спокойной, мало по малу, по зрелом размышлении и сравнении. Короче сказать, это не легкая вещь. Библиотека среднего уровня никогда не удовлетворит всех. Географу нужны книги географические, врачу – медицинские, читатель-итальянец будет иметь в своей библиотеке итальянские книги, которые останутся неведомыми или, по меньшей мере, мало интересными для читателя-англичанина, и наоборот. В данном случае более, чем где либо, личный вкус изменчив до бесконечности. Есть люди, которые всегда, предпочтут «Дон-Кихота» или «Тысячу и одну ночь» творениям Маккиавели, Гиббона, Маколея. Но известное число образованных людей непременно предпочтет «Дон-Кихоту» Маколея. Для одних комедии занимательнее романов, для других путешествия интереснее сочинений моралистов и философов.
Но при этом кажущемся разнообразии есть некоторое всем общее достояние. Есть небольшое число образцовых книг, которые каждый должен знать и хорошо знать, любить и очень любить. Врач и археолог, немец и француз, молодая женщина и старик, дипломат и военный, все они найдут источник наслаждения или назидательности в сочинениях Мольера и Шекспира, Гомера и Сервантеса, т. е. в тех шедеврах, которые стоят выше всякой разнокалиберности людей и пригодны «среднему человеку».
Такую-то идеальную библиотеку, основу всякой библиотеки, пытались составить не раз, а в последнее время в Англии, Италии, Германии и Франции в тех же видах было организовано своего рода голосование. В Англии Джон Лебок пожелал, чтоб публика назвала сто книг наилучших, по её мнению. По примеру английского писателя, изложившего результаты своих изысканий на этот счет в книге «The Pleasure of Life» (в главе «The choice of Books»), один берлинский издатель напечатал брошюру с мнениями разных известностей о «лучших книгах всех времен и литератур» («Die besten Bücher aller Zeiten und Literaturen»). В Италии также издана любопытная книга «Fra I Libri», с предисловием проф. Тамбурини, Гвичиарди и Сарло в ней собрали 214 мнений о пяти лучших литературных книгах, какие могли бы людям всегда доставлять удовольствие или утешение даже при лишении их сообщества с другими людьми. Тут голоса поданы в пользу 60 авторов иностранных и 40 итальянских, за французских писателей – 53, за немецких – 41, за английских – 35, за американских и русских – по 12. Но преимущество все-таки отдается авторам XIX столетия перед писателями иных времен. В Париже «Revue bleue» произвел голосование о 25 лучших книгах и получил 764 списка таких книг. Самое большое число голосов досталось Виктору Гюго (616), после идут:
Мольер (563), Шекспир (476), Расин (475), Лафонтен (426), Мюссе (426), Корнель (400), Гете (393), Вольтер (388), Паскаль (373), Ланартин (352), Гомер (346), Ветхий и Новый Завет (331), Монтэнь (300), Сервантес (288), Мишле (282), Бальзак (256), Дант (246), Ренан (246), Лабрюбер (245), Флобер (240), Босюэт (239), Раблэ (237), Додэ (214), Виргилий (207), Зола (194), Руссо (190), Тэн (188), Подражание Христу (168), Пьер Лоти (168), Гораций (164), Тацит (147), Софокл (143), Сюлли Прюдон (136), Лев Толстой (130), Ла-Рошфуко (130), Жорж-Занд (121), Александр Дюма отец (111), Лукреций (110), Дарвин (110), Шатобриан (108), Мопассан (106), Диккенс (105), Бомарше (105), Монтескье (105), Лесаж (99), Эсхил (97), Бурже (95), Лабиш (91), Альфред де-Винье (89).
* * *
По поводу всех этих литературных голосований остроумно высказался Жюль Леметр, когда ему предложили назвать 20 книг, которых хватило бы на духовное услаждение жизни человека. Он составил такой список: 1) Библия, 2) Гомер, 3) Эсхил, 4) Виргилий, 5) Тацит, 6) «Подражание Христу», 7) 1 том Шекспира, 8) Дон-Кихот, 9) Раблэ, 10) Монтень, 11) 1 том Мольера, 12) 1 том Расина, 13) «Мысли» Паскаля, 14) «Этика» Спинозы, 15) «Contes» Вольтера, 16) 1 том стихотворений Ламартина, 17) 1 том стихотворений Виктора Гюго, 18) 1 том пьес Альфреда де-Мюссе, 19) 1 том Мишле и 20) 1 том Ренана. Но, перечитав этот список, Леметр заметил, что это не «искренний» список. «Совершенно безотчетно, – пишет он, – я составил его не для себя только, но и для публики, и выразил здесь скорее условные предпочтения, нежели личные симпатии. А между тем вопрос заключался в выборе не 20-ти наилучше написанных книг, а таких, с которыми приятно было бы провести остаток дней».
И действительно, положа руку на сердце, можно сказать, что вовсе не испытываешь желания часто читать Библию, Гомера, Эсхила и т. п. Стало быть, первые 10 номеров следовало бы вычеркнуть и заменить их такими книгами, которые действительно читаешь и которыми поддерживается вся интеллектуальная и моральная сущность этого писателя. «Я бы, – прибавляет Леметр, – поместил тут Сент-Бёва и Тэна, „Мысли“ Марка Аврелия, немножко из Канта, из Шопенгауера, том Сюлли Прюдона, стихотворения Гейне, роман Бальзака „Madame Bovary“ и „L'Education sentimentale“ (Флобера), роман Зола, роман Додэ, несколько рассказов Мопассана, „Le Crime d'Amour“ Бурже, несколько комедий Мельяка и Мариво. Но уже это составит около 20 томов. Поэтому приходится вычеркнуть из приведенного списка и вторую половину его, оставив разве Расина и Ренана». «Пожалуйста не примите меня за ум, лишенный серьезности, – спешит добавить остроумный критик. – Невидимому я предпочитаю только современных писателей, а в действительности я берегу при себе и старых писателей, потому что наши лучшие книги, самые усладительные и редчайшие – именно те, которые содержат и резюмируют всю человеческую культуру, всю сумму ощущений, чувств и мыслей, собранных в книгах со времени Гомера, и потому что книги современников происходят от книг прошлого и составляют их наивысший расцвет. По стоит ли ломать себе голову из-за 20 книг, которые я предпочитаю сегодня? Буду ли я предпочитать их и через 20 лет? Впрочем, я и теперь предпочитаю гораздо более 20 книг».
Вот как стеснителен вопрос о выборе книг идеальной библиотеки!
* * *
Впрочем, теперь мечтают не только об идеальной библиотеке, но и об идеальном человеке. Два года тому газета «New-York Herald» циркулярно поставила вопрос избранным людям и знаменитостям всего света: «какие наисущественнейшие качества могли-бы сделать человека совершенным?» Ответ на этот вопрос должен был ограничиваться всего 250 словами.
Профессор Нью-Йоркского университета Уоллес Вуд собрал эти золотые мечты сливок человечества об идеальном человеке под заглавием «Ideals of life. Human perfection. How to attain; а symposium on the coming man». Отсюда, стало быть, можно узнать не только об идеалах жизни и о средствах достигнуть совершенства, но и о сущности весьма любопытного существа, о неведомом человеке будущего.
Прежде всего надо сказать, что, за исключением американских и английских, ученым других стран отведено в этой книге скромное место. Быть может, их напугали эти 250 слов, поставленные преградой плодовитому лиризму их мечтаний. Или же, быть может, причина этого кроется в идее этой самой ярмарки мечтаний, не особенно одобряемой европейцами. Как бы то ни было, книжка Вуда служит почти исключительным приютом для знаменитостей Америки и Англии. Есть там несколько итальянцев и французов, да и те приведены, по всей вероятности, лишь затем, чтобы ярче оттенить тонкие красоты мечтаний брата Ионафана и Джона Буля. Однако, посмотрим, как мечтают о людском совершенстве представители сливок человечества.
Существенное условие, чтобы сделаться идеальным человеком – хорошее пищеварение и больше ничего, так говорит благородный лорд Рандольф Черчилль. И, словно предвидя всеобщий возглас негодования, какое вызовет подобное заверение, английский государственный человек прибавляет: «я иного и не знаю».
Д. Стэнгли Галль, почтенный ректор «Clark University», развивает собственно ту же мысль, только несколько подробнее: хорошо есть, хорошо пить, хорошо спать, а затем почаще брать ванну и побольше двигаться. Впрочем, он пополняет свою мысль, замечая, что, на ряду с хорошим пищеварением, нам также необходима и религия, которая именно и поможет нам обойтись без того, чего нам недостает, и перенести горести жизни, в случае они нас постигнут.
Коп, профессор Пенсильванского университета, полагает, что совершенный человек, идеальный человек должен будет весить 160 фунтов и иметь нервный темперамент. Что касается производительных сил, то они должны достигнуть верха совершенства…
Но вот и мнения философов и мыслителей.
У Модсли сорвалось признание жестокого и безотрадного пессимизма. Совершенный человек, идеальный человек сам в себе носит жгучее противоречие. Хотелось бы представить его себе сильным, как Геркулес, прекрасным, как Аполлон, и проворным, как Меркурий. При этом упускается из виду, что каждое из названных качеств развивается в ущерб другим и что между ними существует род несовместимости. Тоже самое повторится в моральной области, в области идей. Созерцательный, философский, глубокий ум никогда не будет способен на отважные предприятия и всегда будет ниже своих современников в задачах, касающихся практической жизни. Тот, кому удастся изощрить свой артистический, моральный ум до беспредельности, неизбежно утратит свою возмужалость и кончит такой же чувствительностью, какая свойственна женщинам. Человек должен остаться несовершенным, ибо, в том виде, каков он теперь, он составляет часть социального организма, совершенство которого составляется из всех человеческих несовершенств.
Сэр Джон Лебок ограничился по этому поводу приведением ряда общих мест. Требуется-де трезвая голова, теплое сердце, крепкое тело, здравый ум. Вот и все, ни больше, ни меньше!
По мнению Мантегацца, человечество, достойное названия идеального, должно избавиться от болезней, страданий, войн, ненависти. Какие-же требования предъявляются к идеальному человеку? Страдать исключительно ради ближнего своего, любить всего одну женщину, производить maximum труда, напрягая все свои силы для своего счастья и для счастья своего ближнего. Он должен созерцать лишь прекрасное и высокое и умирать, убаюкиваемый сладкой надеждой, что сыновья его будут лучше его, а внуки еще лучше сыновей.
Но подобный оптимизм странным образом перемешивается тут же с преувеличенным пессимизмом. Великий нью-йоркский раввин Готтейль идет по стопам Модсли. По его мнению, философия своим дуновением на человеческую жизнь погасила в нем самое лучшее – религиозную веру. Нравственность сбита с пути и поставлена в тупик. Что же такое идеальный человек? А идеальным человеком был бы я сам, – лукаво замечает великий раввин, – если бы я исцелился от всех моих недостатков, я сам был бы этим идеальным человеком, если бы мог развить в себе все доброе, вложенное в меня. И религия этого идеального человека, конечно, была бы моею, тем более, что я не знаю лучшей… Впрочем, не сказал ли один персидский ученый: «Кто познал Бога, тот безмолвствует», а Готтейль следует его примеру, во всяком случае, сказав больше, чем следовало.
Ф. Г. Фаррар, почтенный архидиакон, под видом утешения, дает несколько советов насчет гигиенического и религиозного строя жизни. Идеальным будет тот человек, который будет уметь сохранять крепкое здоровье, который сумеет быть честным и целомудренным, мозги которого будут представлять собой склад знаний, а в воображении будут носиться одни только прекрасные и чистые образы. Идеальным будет, наконец, тот, совесть которого всегда будет в согласии с Богом и которому ни в чем нельзя будет упрекнуть себя по отношению к своему ближнему.
Религиозная нотка, по-видимому, преобладает в американских заявлениях. Все эти пророки напускают на себя важный вид и увлекаются мистицизмом, достойным избранников неба.
Мисс Вилльярд с пафосом восклицает: «Только Царствие Божие на земле может ниспослать свыше всяческое благополучие на род людской». Когда дух Божий снова вселится в наши тела, тогда люди обратятся в ангелов, достойных мечтаний… идеальной мисс!
Приходится, однако, скромно признаться, что это великое собрание ученых и избранных умов ничему нас не научило. Самые возвышенные идеалы, какими они нас угощают, были гораздо определеннее высказаны несколько тысячелетий тому назад. Mens sana in corpore sana – вот к чему сводятся все их догадки и наставления. И только у одного Гавелока Эллиса хватило духа открыто в том признаться. Для него вся философия идеального человека сводится в здоровой душе в здоровом теле, а два десятка других мыслителей ходят все вокруг да около этого афоризма, силясь перевернуть его на новый лад.
* * *
Все эти остроумные умы, по-видимому, и не подозревают, что гораздо легче превозносить величие этого наставления, нежели осуществить его на деле. Здоровое тело не всегда достигается при самой образцовой воле с нашей стороны. Подчас это лишь дар, или, если вы предпочитаете, – большое бремя, унаследованное от другого поколения. Притом же, мы получаем свое тело от предшествующих поколений; дух наш точно также подвергается влияниям прошлого и настоящего. Мы наследуем болезненные идеи и болезненные организмы, и принуждены принимать их без права, даваемого наследнику, платить только те долги, которые не превышают стоимости наследства. А так как, согласно утверждениям науки, мы наследуем больше дурного, чем хорошего, значит, болезни и всевозможные слабости скопляются на нашей спине, и будущие поколения тщетно будут мечтать о здоровой душе в здоровом теле…
Однако, вернемся к пророкам.
Джон Баском, профессор философии в Массачусеттской коллегии, полагает, что идеал человека кроется в согласовании его умственных способностей с физическими его силами. Подобная гармония должна отразиться на будущем обществе, которое будет состоять исключительно из людей, озабоченных достижением этого идеала.
Знаменитый Стэнли утверждает то же самое, только он пускается при этом в длинные разглагольствования. У совершенного человечества будут две формы: моральная и физическая. Необходимо развивать элементы каждой из них, т. е. с одной стороны мужество, искренность, любовь к правде и т. п., а с другой – физическое здоровье. Его идеал человека сводится к исчезновению эгоистических чувств.
Профессор доктор Пеппер в восторженных выражениях говорит, что следует внушить молодежи «сущность идеала», сладость жертвы и значение высоких принципов. Мисс Споффорт подпевает в тон Стэнли и видит наше будущее в исчезновении эгоизма. По мнению мисс Говард человечество достигнет совершенства в великодушии. Только бы оно не погубило себя им!
Очевидно, великодушие серьезно угрожает человечеству, и все знатные и благородные мисс Соединенных Штатов и Великобритании пророчат его последнему.
Среди этого потока женской сентиментальности приведем еще мнение г-жи Клеманс Ройе. её profession de foi представляет сплошной восторженный гимн в честь человеческого разума. Идеальный человек – это тот, который прежде всего ищет правды, воля которого всегда будет согласна с разумом, внушена и порождена наукой.
Заметка Шарля Бернара отличается большей игривостью. Он верит в будущее и вполне убежден, что человек будущего будет меньше работать, веселее жить, натура его будет артистичнее, он будет менее мелочным лавочником и дельцом, чем в настоящее время.
В заключение приведем замечание Жерома Аллена, директора педагогической школы в Нью-Йорке. С невозмутимой серьезностью объявляет он, что человек будущего будет внушать мальчикам делаться… мужчинами, а девочкам становиться… женщинами.
Таким образом, всему предстоит обстоять вполне благополучно. Род людской будет продолжать свое существование более чем регулярно. Педагогия спасет его от пропасти, куда он стремится. Мальчики обратятся в мужчин, а девочки – в женщин! Да, в сущности, не сводится-ли и философия всех этих остроумных догадок к утверждению ученого педагога? Бедняга! Он хотел блеснуть такой-же глубиной, как и другие, а между тем, по воле случая, оказался бесподобен и правдив.
Вот теперь, помимо своего желания, он и попал в критики, и принужден несколькими шутовскими своими словами бичевать все ребячества, которые вылезают из всех больших и малых окон, какие открываются перед нами на неведомое и отдаленное будущее…
* * *
Где Рустан? Куда исчез герой сенсационного преступления, занимавшего всю Европу? Этот вопрос стал европейским. Газеты подробно описывали наружность искомого преступника, сообщали пикантные подробности насчет его карьеры. Читатели посвящали этим описаниям больше внимания, чем политическим известиям газет. Дамы упивались рассказами о похождениях «героя» преступлений. Последний представлялся им необыкновенно красивым и интересным мужчиной.
То там, то сям Рустан появлялся на несколько часов. Агенты тайной полиции охотились за ним с трогательным усердием. Они могли составить целый музей из сувениров о переездах неуловимого. Но сам он успевал скрываться от своих преследователей. Разыскивались приятели Рустана, чтоб найти нити, по которым можно было проследить за ним. Но у Рустана не было приятелей.
У него была только единственная приятельница.
Они встретились друг с другом в лучшие дни на тех высотах или точнее на тех низменностях жизненного пути, когда порок скрашивается драгоценными туалетами, игрой шампанского и увядающими цветами. Великодушный авантюрист платил за любовь маленькой авантюристки. Он не чаял, что у Каролы есть сердце. Она сама того не подозревала тогда. В её глазах чувство могло только мешать её профессии. Если ей жертвовалось состояние, утрата которого равносильна была разорению всей семьи, она принимала это как должную дань красоте, т. е. ей, которая сама жертвовала собой, изучая будуарный коммунизм. Руководимая такими именно чувствами, не отталкивала она руку Рустана, пока эта рука продолжала еще черпать золото пригоршнями.
Затем явилось административное распоряжение о задержании его. Рустан был беден, как и она. Интересен и презираем – как и она. И вот тогда заговорило её сердце, голоса которого она не слыхала раньше. От Рустана ей нечего было более получать, не на что надеяться. Он был изгнан из общества порядочных людей так же, как и она, его имя, подобно её имени, было окружено ореолом позорной славы. И вот теперь она сознала, что предана ему телом и душой, что ей с ним не расстаться.
У него ничего не оставалось кроме этой любви, которую он некогда покупал и которая теперь, в виде доброхотного дара, воплотила в себе все лучшее в его существовании. Мир представлялся ему полчищем врагов-преследователей, жизнь его – травлей без передышки. Из всех людей он мог довериться единственному существу, ненависти которого ему нечего было опасаться. Таким образом, эта любовь, возникшая в грязи, оказалась для изгнанника последней опорой. За эту опору уцепился Рустан. Он готов был довериться, быть преданным той женщине, которая открыла ему свое сердце лишь в дни бед. От Каролы у него не было тайн. Ей он доверил свою судьбу. Несмотря на беспрестанные увертки его от преследователей, она всегда знала о новом избранном им убежище. Словно объятый ковами каких-то таинственных чар, сообщал он ей о всех своих планах, какое-нибудь необдуманное слово Каролы, неосторожное обращение с присылаемыми им письмами, могло порешить с его судьбой, даже помимо какого-либо умышленного предательства. Несмотря на то, он надеялся на проницательность своей любовницы и верил в нее, как ребенок.
С своей стороны, в этом доверии, какого она удостоишь хоть раз в своей жизни, Карола видела драгоценное благо. Всеми силами своего разумения заботилась она о неприкосновенности своего друга. Всех являвшихся к ней с целью выманить у неё тайну его местопребывания она направляла на ложную дорогу. Сойдясь с Рустаном на несколько часов после долгих недель разлуки, она успела только передать ему, как отлично она справлялась с своей задачей, как тонко обдумывала все для него, – насколько она заслуживала то доверие, каким он дарил ее…
* * *
Любовники снова были разлучены на сотни миль.
Карола «лицедействовала» в одном летнем театре в южной Франции. Рустан утешался в Нью-Йорке при чтении газетных сообщений, из которых узнавал, что его ищут только в Румынии. В новом своем пребывании Карола явилась львицей дня. Но скромные артистические её способности были почти ни причем в этих триумфах. Овации, оказывавшиеся ей в провинциальных городках, она могла приписывать единственно своей красоте, личной своей привлекательности. Самой громкой рекламой для маленькой субретки был слух, что между Каролой и «знаменитым» Рустаном существовали тайные сношения. Пикантность этого слуха в глазах добрых недалеких буржуа окружала появление Каролы соблазнительным ореолом. Преклонялись не перед сомнительным талантом, не перед истинной красотой, – нет, дивились на это необыкновенное существо, судьба которого связана была с судьбой великого бродяги. Каролу радовало такое редкое поклонение.
Она отлично умела разговаривать, ужиная после спектаклей с неуклюже-развязными провинциальными франтами, и была счастлива, наблюдая, как толпа этих придурковатых поклонников искусно сводила разговор на Рустана. В данном случае сценический эффект удавался ей как нельзя лучше, когда она искреннейшим тоном выкрикивала вопрос, что это за таинственный Рустан, имя которого она слышит впервые, причем зубоскалы, конечно, были всегда на её стороне.
Но однообразный репертуар этих собеседований как-то раз оживился. Участники пирушек с ней рассказывали про гипнотические эксперименты. Один молодой чиновник маленького городка ухватился за эту тему.
Он уверял, что может самой нежной женщине, – если только она окажется восприимчивым медиумом, – сообщить силу – любого мужчину одним рукопожатием поставить перед нею на колени. Он обратился к Кароле с просьбой сделать опыт. Тщеславие Каролы было крайне польщено при мысли, что она еще раз в новой позе сосредоточит на себе внимание всей компании.
Она согласилась на его просьбу.
В течение десяти минут находилась она в состоянии полного безволия.
И в этом-то состоянии прошептала она человеку, поработившему ее своей воле, ответ на тот решительный вопрос, с которым он обратился к ней в одном из углов салона…
Тайна местопребывания Рустана была выдана…
Из свидетелей опыта никто не слыхал мимолетного разговора. Приведенная снова в сознание, Карола узнала только одно, что в ней наблюдались все проявления силы, какие всегда поражают зрителей, что это была прелестная картина, когда, поманив пальцем, она заставила мэра данного городка – мускулистого малого и врага женщин – пасть перед ней в положении молящегося ребенка.
Через час тайна, выданная субреткой, была передана по телеграфу в столицу, а затем и за море.
* * *
Рустан почти ежедневно получал письма от Каролы. В этот день он также собирался предпринять прогулку по улицам миллионного города и зайти в ближайшее почтовое отделение, чтобы спросить, нет-ли весточки от любезной издалека. Сходя с лестницы отеля, он сошел сперва в читальню, в эти часы остававшуюся еще без посетителей, и заглянул в европейские газеты.
Через тонкую стенку он услышал разговор, который происходил в конторе, помещавшейся рядом с читальней, между владельцем отеля и двумя незнакомцами:
«– Я, тем не менее, не могу этому поверить…
– Мы, наверное, знаем, что он тут живет. Конечно, он носит чужое имя. Прочтите еще раз описание личности Рустана. Оно „должно“ относиться к одному из ваших жильцов. Позовите кого-нибудь из ваших людей – ну, хоть портье, который ежедневно видит всех постояльцев по нескольку раз…
– Извольте, если вы этого желаете. Только это будет напрасный труд.
– Наверное, нет. Телеграфный кабель из Парижа принес нам известие, ясно говорящее о тождественности…»
За три месяца Рустан пережил не мало моментов, требовавших крайнего напряжения безумной его смелости и присутствия духа. Пятиминутный срок, и какое-нибудь смелое решение могло еще спасти его.
И на этот раз судьба его не совсем еще была решена. Никто не видел, как он вошел в читальню. Переговоры с отельным персоналом могли еще дать ему четверть часа времени… Ринуться в уличную сумятицу мирового города было еще возможно, если только другие полицейские не оберегали входных дверей отеля.
Но в голове Рустана не было места для этих планов и надежд. Мышление человека, умевшего до этой минуты с невозмутимым челом преодолевать всякую опасность, ослабело. Слова «Телеграфный кабель из Парижа» расстроили мыслительную способность его мозга. Свобода утратила для него свою прелесть. Он испытывал лишь жгучую боль от сознания, что «она», единственная, которой од доверился из всех людей, выдала его. Он не хотел этому верить. Но ведь только одна Карола знала, где он нашел убежище за последние две недели…
Драгоценные минуты уходили, а между тем Рустан снова и снова в воображении возвращался к тому блаженному часу, когда, при последней встрече с любимой женщиной, в то время, когда она прильнула к его груди, – он прошептал ей слова:
«– С 1 до 20 мая я буду в Нью-Йорке, отель ***…»
Сносить презрение целого мира показалось делом легким для преступника, которого преследователи его вытравили из Европы и загнали за океан, но мысль, что единственная, которую он подобрал из грязи и которой отдал свою любовь, как добрый, верный человек, – что эта единственная позорно принесла его в жертву, быть может, из-за денег, – эта мысль подкосила его окончательно.
Последнее чувство, которое он мог испытывать наравне с другими честными людьми, – было попрано ногами… последние узы, привязывавшие его в жизни, – порваны.
И звук выстрела привлек сыскную полицию к трупу «знаменитого» преступника.
5
Биография Гюи-де-Мопассана. – Кружок Эмиля Зола. – Первая новелла Мопассана. – Письмо Флобера (1873 г.) о задатках дарования Мопассана. – Сборник стихотворений Мопассана. – Субъективный характер его. – Стихотворения «Дикие гуси». – Взгляд на людей сверху вниз. – рассказ «Boule de Suif». – Оригинальная манера Мопассана. – О натурализме вообще и Мопассановском в частности. – Мизантропия Тэна в рассказах Мопассана. – Натурализм и реализм Мопассана, как источник его меланхолии и пессимизма. – Разочарованность героини «Une vie». – Сомнения Мопассана насчет спасительности любви. – Несоответствие между тем, чем любовь бывает в действительности, и раем мечтаний. – Первый роман Мопассана. – Романы «Bel-Ami» и «Mont-Oriol». – Роман «Pierre et Jean» и отречение Мопассана от доктринерского реализма. – «Fort comme la mort» – замечательнейший из психологических романов Мопассана. – Последний его роман «Notre Coeur». – Ипохондрия Мопассана. – О брачных путешествиях мнения самих потерпевших от них. – Новейшие Пифии в Париже и их знаменитая прародительница – Ленорман.
Гюи де-Мопассан, занимавший одно из самых почетных мест в первом ряду французских писателей, достигших в период 1880–1890 гг. полной зрелости своего таланта, скончался недавно в сумасшедшем доме. Слава его выросла быстро, но не прошло и десяти лет с тех пор, и звезда его закатилась. Гюи де-Мопассан родился в 1850 г., а перестал писать сорока лет. И тем не менее в истории новейшего романа он оставил неизгладимый след. Биография его весьма несложна. Получив диплом, какой требуется во Франции, он поступил на службу в министерство народного просвещения и, подобно Терье, Коппе и другим французским писателям, в своей канцелярии занимался сочинительством. Затем он вышел в отставку и жил некоторое время на своей нормандской родине. 30-ти лет он выступил на литературное поприще, в течение десяти лет работал с нервозной неутомимостью до тех пор, пока не омрачился его рассудок. В конце 1891 г., в Канне, на своей яхте «Bel-Ami» – Мопавсан страстно любил охоту и гребной спорт – он пытался покончить с собой и помешанным был отвезен в Париж, от которого бежал к берегам Средиземного моря. С тех пор этот писатель, всех поражавший своим здоровьем, веселым и ясным умом, прозябал до кончины в лечебнице душевнобольных.
Эмиль Зола еще в 1880 г. признал своеобразность и оригинальность дарования покойного новеллиста. Именно в то время автор «Ругон Маккар» объявил своим лозунгом натурализм и около него группировался кружок молодых и горячих его последователей. к этому кружку принадлежал и Мопассан, который в литературе стремился идти по стопам своего дяди Флобера, знаменитого автора «Madame Bovary». В числе первых проб талантливости помянутого кружка, напечатанных Эмилем Зола в сборнике «Soirées de Médan», новелла Мопассана «Boule de Suif» выдавалась наиболее, хотя его сверстниками-меданистами были тогда Поль Алексис, Сеар, Энник, Гюисманс – все четыре, принадлежавшие в разряду очень недюжинных писателей.
Но Мопассан чужд был самомнения молодости, и он не решался отдавать в печать написанное им, прежде чем не подвергал это тщательнейшей отделке. В данном случае его руководителем был Флобер, этот отшельник Круасе, мучивший себя обработкой своего стиля. Прочитав первые рассказы Мопассана в стихах, Флобер отечески подбодрил его в дальнейшему писательству: «работайте, молодой человек!». В письме к матери молодого писателя (1873 г.) Флобер заявляет: «уже с месяц тому, как я хотел писать тебе, чтоб объясниться в любви в твоему сыну. Ты не можешь себе представить, каким милым, скромным, благодушным, понятливым и остроумным, словом, симпатичным я нахожу его. Не смотря на разницу лет между нами, я считаю его „другом“ и потом он так напоминает мне моего дорогого Альфреда (Альфред ле-Пуатвен – рано умерший поэт, брат г-жи Мопассан)… То, что он показывал мне из своих работ, конечно, не менее ценно, чем то, что печатается „Парнасцами“… Со временем он дойдет до оригинальности, индивидуальных воззрений и ощущений. А это главное. В результате, в успехе мало толка. В этом мире подобает прежде всего сохранить душу в высокой сфере. Культ искусства доставляет гордость. Такова моя мораль».
И Мопассан, верный заветам своего учителя, с судорожной сосредоточенностью своих умственных сил обрабатывала стих за стихом, строку за строкой, чтоб достигнуть флоберовского идеала выразительной простоты и ясности. Когда минуло ему 80 лет, он ринулся на арену литературы вполне вооруженным, и на первых же порах завоевал себе почетное место среди новейших писателей Франции.
* * *
Любопытно, что Мопассан, так мало склонный к лиризму, начал свою карьеру лирическим поэтом, и хорошими стихами. Но этот первый и последний томик стихов, напечатанный в 1880 г. под скромным заглавием «Des Vers» («стихи»), содержит в себе собственно коротенькие рассказы в стихах.
Во Франции, как и везде, в числе писателей-художников есть, конечно, такие, которые воздерживаются от рифмованной поэзии. К таким исключениям принадлежат Гонкур и Гюисманс. А по правилу даже крупнейшие прозаики, как Зола и Додэ, дебютировали стихами. Доде, напр., издал сборник легких эротических стихотворений («Les Amoureuses»), Зола в ранней юности писал не мало стихов в подражание Альфреду де-Мюссе. Они напечатаны теперь в жизнеописании Зола, которое издал Поль Алексис.
Стихи Мопассана значительно оригинальнее стихов Зола. Но если сравнить их с произведениями какого-нибудь из истинно лирических поэтов его поколения, то впечатление получается не особенно глубокое. В 20 Мопассановских стихотворениях бросается в глаза сильная и здоровая чувственность вместе с оттенком мизантропии.
Едва-ли не самое типическое для его душевного настроения стихотворение «Дикие гуси». Изображается, как над монотонной равниной пролетают дикие гуси, направляясь к югу, тогда как их прирученные друзья внизу переваливаются с ноги на ногу, съеживаясь от холода. Какой-то оборванец-мальчишка, насвистывая что-то, гонит этих прирученных гусей. И вдруг последние слышат крик дикой стаи, которая, как стрела, пролетает там, вверху. Они поднимают головы и, видя вольных гусей, рассекающих пространство, сами немножко взмахивают крыльями, топчутся на месте. В них как будто проснулось смутное воспоминание о прежней воле, о свободе тех, от которых они ведут свой род; и смотря вверх, они поднимают резкий крик, как-бы в ответ на крик своих диких братьев.
Натура дикого гуся симпатичнее поэту, и его самого, любителя мореплавания, охоты, спорта и путешествий, тянуло к югу. В его глазах различие между значительными и незначительными людьми заключается, очевидно, в том, что элементом первых служит свобода и жажда жизни, а элементом вторых оказывается стесненность с парализованными крыльями. В своем писательском призвании он чувствует себя дивим гусем, крик которого раздается над головами домашних гусей и там и сям пробуждает в сердцах их исконное мечтание о дикости и свободе. То, что цивилизация сделала из людей, напоминает писателю нечто, похожее на этих переваливающихся гусей; с одной точки зрения нечто безобразное, с другой – нечто комичное. Он смотрит на них, как дикие гуси на своих прирученных сородичей, сверху вниз.
* * *
Такой же взгляд на людей сверху вниз чувствуется и в вышеупомянутой первой напечатанной новелле Мопассана «Boule de Suif» («Сальный комочек»). В предисловии в «Soirées de Médan» Зола объявил этот рассказ шедевром, и все, читавшие «Boule de Suif», не могут не разделять такое мнение. Как и все прочие рассказы в названном сборнике, Мопассановский переносит читателя во времена франко-прусской войны 1870 г.
В виду приближения пруссаков в Руану, жители этого города собрались бежать. В пасмурное зимнее утро, когда при слабом мерцании фонаря едва можешь различить другого, дилижанс битком набивается жаждущими отъезда. Тут и легитимистский граф с своей строгой супругой, и крупный фабрикант-миллионер с своей легкомысленной женой, и богатый, хотя не очень добросовестный, виноторговец с своей высохшей дражайшей половиной, и демократический хвастун, две сестры милосердия и какая-то хорошо одетая дама, которая, однако, при ближайшем знакомстве с ней, оказывается вовсе не дамой, а всему городу известной персоной. Она полная, жирная, нецеремонная в обращении, но ретивая патриотка. Мятель вынуждает этих путников долго простоять на дороге. По прошествии двух часов вся компания чувствует себя в критическом положении. Никто не запасся жизненными припасами, а купить их негде, так как население бежало от наступающих немецких войск. Только хорошо упитанная, хорошо одетая молодая дама взяла с собой корзину с съестным, набитую разными сластями, с четырьмя бутылками вина. Как раз в это время она раскладывает белую, как снег, салфетку и начинает свою трапезу.
Сперва её спутники посматривали косо на её присутствие, выражали свое негодование в полголоса оскорбительными замечаниями на её счет, потом ее стали игнорировать совершенно, как бывает с пороком, когда он проникает в нравственный круг. Но теперь, когда аппетит давал себя знать все сильнее, все алчнее, он оказывается сильнее энтузиазма демократа, респектабельности купца, высокомерия фабриканта, самомнения аристократа, добродетели дам и благочестия сестер милосердия. Один за другим все они складывают свое оружие и, рассыпаясь в предупредительных любезностях относительно владелицы корзинки, пользуются содержимым последней. Всякие политические и нравственные оттенки имеют своих представителей в этом дилижансе и все они сдаются на капитуляцию перед этой корзинкой на коленях куртизанки.
В гостинице городка, куда дотащилась наконец эта компания, дилижанс задерживается, – немцы туда пришли раньше. Войска их заняли город, и прусский лейтенант согласен разрешить компании дальний путь лишь под тем условием, если девица Елизавета Русел примет его визит. Она отвергает с негодованием такое предложение, при общем одобрении своих спутников, и через это выигрывает в уважении всей компании.
Однако ж запрещение отъезда оказывается вполне серьезным и соблюдается неумолимо. Компанией овладевает весьма понятное нетерпение, и на даму, враждебную к пруссакам, начинается давление, слегка мягкое, потом все более сильное, чтоб заставить ее отступиться от патриотических соображений и принести себя в жертву ради почтенной компании. Все теперь стараются рассеять её предрассудки относительно иноземных поработителей и в конце концов она сдается на уговоры. На следующее утро она позже всех занимает свое место в дилижансе, и тут почтенное буржуазное общество опять вступает в свои права. Зияющая пропасть между добродетелью и поровом разверзлась снова. Никто и знать ее не хочет, никто не кланяется с ней. Смущенной и пристыженной не дают ни кусочка те, с которыми она так щедро делилась еще вчера своим запасом съестного.
Она провинилась и может поголодать.
* * *
Такая же смелость в выборе сюжетов и положений, способных подорвать всякое лестное мнение о людях образованного общества, положений, исполненных иронии и мизантропии, отличает и другие многочисленные новеллы Мопассана. Их наберется до 15 томов, и в них не заметно ни малейшего внутреннего истощения. Везде тот же нигилизм рядом с здоровым юмором и наслаждением жизнью, везде отменная художественная форма, замечательно простой язык, в котором каждое слово тщательно взвешено. «La Maison Tellier» (1881 г.), «M-elle Fifi» (1883 г.), «Les Soeurs Rondoli», «Les Contes de la Bécasse» (1885 r.), «Monsieur Parent» (1886 r.), «La Main gauche» (1887 r.), «La petite Roque» (1888 r.), «L'inutile beauté» (1890 r.), – все эти сборники рассказов явились чем-то неслыханным во французской литературе, по выражению одного французского критика, взрывом молодости, здоровья и бьющей через край жизненной силы. «В эпоху, – замечает Жюль Леметр – когда наша литература была наиболее сложным явлением и дистилировала наиболее обработанные напитки, талант Мопассана, как новеллиста, явился точно источником удивительно свежей и хорошей воды». Литературный последователь Флобера и Зола, он выработал себе свою особую манеру. Он не описывал ни людей, ни мебель, не производил психологического анатомирования душевных побуждений. Он выражался немногими штрихами, одной какой-нибудь живописной или карикатурной чертой, перенося всякую психологию в самое действие рассказа. В тот век, когда иные из превосходных писателей достигали действия тем, что преследовали какую-нибудь идею в целом ряде периодов, растянутых на целые страницы, где не доберешься до сказуемого, Мопассан был краток и сжат, смел и ироничен, забавен или ядовит, но всегда краток. Несмотря на выбор смелых и опасных сюжетов, искренность, тонкая наблюдательность и качество стиля спасали автора от злоупотребления двусмысленностями, которые так любимы французскими новеллистами.
* * *
Гюи де-Мопассан более, чем кто-нибудь из его современников, писатель-натуралист. Теперь слово натурализм выходит из моды. Из него хотели сделать своего рода фабричную марку для произведений запоздалых романтиков. Пытались обозначить этим именем какую-то доктрину, которой никогда не могли уяснить сами официальные её представители и которой Эмиль Зола пользовался, по его собственным словам, лишь «для мусирования своих книг». Если же под натурализмом разуметь не пустую систему, которой пользуются ради рекламы для привлечения прохожих, а известное направление ума, интеллектуальную привычку, созданную общими результатами положительных знаний и поддерживаемую печальными политическими событиями во Франции (банкротством идеалистических мечтаний 1848 г., кораблекрушением свободы при второй империи, унижениями 1870 г.), то Гюи де-Мопассан по своему презрению к людям, по своей чувственной веселости, где всегда имеется подкладка горечи, по своей восторженной любви к природе, этой вечной утешительницы, остается именитейшим представителем или, если угодно, достославнейшей жертвой эпохи, когда все великие и малые страдают болезнью бесконечно более опасной, чем меланхолия романтизма.
В рассказах Мопассана по-видимому имеешь дело с новеллистом веселым, любящим разные вольности и галантные забавные шутки. Но на поверку выходит, что он писал вовсе не для веселых компаний. Тен, которого отвращение к Зола известно, в Мопассану питал особое благорасположение. В шутку он называл Мопассана «волом в печали». В последние годы своей жизни Тэн читал Мопассана, перечитывал его, рекомендовал его своим приятелям. И это понятно. Тоже дурное мнение о человеке, которым дышит вся «Histoire des origines de la France contemporaine» Тэна, тоже презрение к человеку-зверю было «idée fixe» Мопассана. По замечанию одного французского критика (Гастона Дешан, сместившего на днях Анатоля Франса в «Temps»), среди моралистов, проповедников и аскетов не найдется писателя, чтение которого было бы более убийственно для нашей гордости, чем это оказывается из произведений Мопассана. Сколько раз он разоблачал, раздевал животное похотливое, жестокое, жадное, которое прячется под высокие цилиндры и изящные костюмы. Скольких из среды культурного человечества он показал во всевозможных смешных положениях и низменных функциях, на какие обречены люди. Сколько раз отмечал он зародыши разрушения, омрачающие наши лучшие дни и отравляющие наши радости.
* * *
Чем дальше стоишь от веры в реальность сверхчувственного, тем менее можешь противиться печали, вытекающей из созерцания вещей преходящих и бренных радостей. Искренний спиритуалист не имеет резона быть меланхоликом, если, конечно, его к тому не обязывает мода или не принуждает худое состояние его желудка. Его бессмертная душа уверена в том, что она переживет опадение листьев, закаты солнца и смену дней. Он найдет снова в лучшем из миров лиц, которых любил некогда. Ему и нечего чересчур сокрушаться о развалинах, накопляющихся вокруг него от возобновления «подлой материи». Напротив, для тех, кто имеет несчастие быть лишенным веры в сверхъестественное, нет такого утешения, которое было бы вполне действительно. Если же ничего не существует вне чувственной видимости, то жизнь, когда пройдет физический пыл юности, должна показаться пустынной, бесцветной, усеянной рухлядью. На каждом шагу наблюдая, как все имеет конец, человек мучается тем чувством непоправимого, против которого тщетно возмущается наше сердце. Всякая поблекшая красота, всякое исчезнувшее счастье, всякая расторгнутая дружба, всякая обманутая надежда тут должна быть почти ежедневным поводом к душевному трауру, и начинаешь бояться пуще всего на свете грубого удара смерти. Тут, без сомнения, надо искать и резона горького пессимизма, приступы которого предшествовали за долго до окончательного кризиса, когда помутился столь ясный ум Мопассана.
Вспомните, о чем в «Une Vie» размышляет несчастная героиня этого романа, обманутая в своей любви, пришибленная, как все деликатные и изящные создания, несоответствием между тем, о чем она мечтала и что оказалось в действительности: «иные воспоминания воскресали в ней: горькие разочарования её сердца. Все было только печалью, бедствием, несчастием и смертью. Все обманывало, все лгало, все заставляло страдать и плакать. Где найти хоть немного покоя и радости? В ином существовании, без сомнения! Когда душа освобождается от земного испытания. Душа! И она принялась мечтать об этой бездонной тайне»…
Где-же найти прибежище против таких мыслей, развлечение, которое заставило бы забыть все эти тревоги. Романтики воспевали в таких случаях чудодейственность любви. И Мопассан думал тоже, что любовь сильнее смерти. Но личный опыт обманул его жестоко. Ему казалось, что любовь в момент, когда она достигла наибольшей степени возбуждения, отказывает именно в том, что обещала: «воспарение двух сердец к недоступному идеалу, слияние двух душ, все это поддельно и неосуществимо, все это вложено поэтами в страсть». Он не раз возвращался к таким сомнениям, проклиная «женщину, существо бессознательное, восхитительное, странное», сожалея о неизбежной изолированности тех, кто хочет любить, говоря в шутку, что творец, созидая любовь, «выказал себя крайним натуралистом, и в его изобретении не хватало поэзии», с болезненной настойчивостью распространяясь о нечистоплотных реальностях, в какие повергает нас похоть, о мерзком наслаждении, которым нам приходится довольствоваться, далеко от того рая мечтаний, о котором мы фантазируем. Немудрено, что у Мопассана, подозревавшегося в острой эротомании, можно набрать не мало выдержек, которые составили бы внушительный сборник наставлений по непорочности. И настало время, когда этот живописец плотских вакханалий проникся отвращением к плоти. Он точно желал бы бежать от самого запаха женщины, распространенного во вселенной.
* * *
Все это можно проследить по его романам. Первый большой роман Мопассана называется «Une Vie» (1883 г.), т. е. «Некая жизнь». Темой для себя автор избрал не определенную какую-либо личность, в роде «Madame Bovary» Флобера или какого-нибудь из персонажей фамилии Ругон Маккар, как у Зола, а лишь «горькую истину» («humble vérité») обыденности, историю жизни, какая встречалась сотни раз и может опять повториться тысячи раз. В «Une Vie» повествуется о жизни одной женщины, которая в непорочности своего 18-ти-летнего возраста выходит замуж за бессердечного господина, душевно отчуждается от него, но из потребностей материнства снова сближается с недостойным её, и впоследствии со стороны своего собственного сына встречает обыденную заурядность его отца – ту же мелочную, скаредную, холодную и грубую натуру. В конце концов несчастная мать находит себе приют в доме своей прежней служанки.
В последующем романе «Bel-Ami» (1885 г.), который разошелся в 80 изданиях по 500 экземпляров каждое и доставил Мопассану всемирную известность, в центре повествования поставлен один из тех беззастенчивых искателей наслаждения и выскочек-карьеристов, которые со времен романа Додэ «Immortel» стали называться английской кличкой «struggleforlifer» («борцы за существование»). Этот молодой человек, при всей своей бесталанности, только за свою красоту, чары которой покоряют женщин важных и неважных, молодых и старых, а также при помощи беззастенчивости, приобретенной в школе жизни, взбирается на высшие ступени общества. Все здесь преклоняется перед удачами, которыми он обязан единственно своей самой заурядной натуре.
В романе «Mont-Oriol» (1887 г.) героиня – молодая девушка. экзальтированное существо; молодому человеку, к которому она привязывается, она скоро надоедает. На фоне комизма, связанного с сплетничаньем новейшего курорта, выступают её горе и его пошлость. Он бросает это изящное создание, которое отдалось ему в свободной любви, чтобы по своей глупости предпочесть ей крестьянскую девушку, ухаживатели которой возбуждают его ревность.
Поворотный пункт в творчестве Мопассана отмечается с появления романа «Pierre et Jean» (1888 г.). Тут романист как бы отрешается совсем от натуралистических подробностей и делается настоящим психологом. Из положений двух совершенно несхожих братьев, он с неумолимо ясной логикой выводит наказание для провинившейся матери их. Пьер врач, имеет в себе нечто терзающее его, Жану-юристу больше везет в жизни и он одерживает победу над старшим братом в их соперничестве из-за руки одной молодой вдовы. Жану вдруг достается значительное наследство от давнего друга дома, и это все разъясняет Пьеру: Жан – сын этого друга; мать, значит, браконарушительница. И Пьер начинает беспощадную игру с пытаемой матерью до тех пор, пока она не сознается в своем грехе. Жан с благородством относится к этому трагическому признанию, так что отец его, поглощенный рыбной ловлей, остается по-прежнему в неведении насчет проступка его жены, а Пьер в качестве морского врача уезжает далеко.
В предисловии к этому роману Мопассан бесповоротно осуждает доктринерский реализм и выставляет своим эстетическим принципом то, что искусство каждого писателя состоит в передаче читателю своего субъективного взгляда на явления действительности. Эти рассуждения Мопассана о теории романа свидетельствовали, что он сам чувствовал себя неудовлетворенным своим натурализмом. Он уже мечтал об искусстве более широком и гуманном, в котором было бы больше любви и скорби и которое отводило бы больше места душевным явлениям.
* * *
В этом отношении следующий роман его «Fort comme la mort» (1889 г.) явился едва-ли не самым значительным произведением. Живописец Бертэнь живет в связи с графиней Анной де-Гильеруа. По прошествии 12 лет, в родительский дом возвращается дочь графини, 17-ти летняя Аннета, похожая как две капли воды на портрет, который Бертэнь некогда писал с её матери и который привел его в связи с графиней. Бертэнь относится весьма предупредительно в Аннете. Графиня по этому поводу задает вопрос своему другу, но тот не понимает, в чем дело.
– Я говорю не о вашей совести, а о вашем сердце.
– Я не понимаю загадок. Пожалуйста, выражайтесь яснее.
Графиня медленно берет за руки художника и говорит так, точно каждое слово терзает ей душу:
– Имейте в виду, мой друг! Вы на самой настоящей дороге к тому, чтобы влюбиться в мою дочь.
Он быстро отнял свои руки и с раздраженностью невиновного, который протестует против позорного подозрения, стал защищаться, живо жестикулируя и с возрастающим возбуждением обвиняя ее, с своей стороны, в неосновательности подозрения.
Графиня продолжала:
– Но я не подозреваю вас, мой друг. Вы сами не знаете, что происходит в вас, как и я не знала этого еще сегодня утром. Вы поступаете так, точно я вас обвинила в обольщении Аннеты. Нет, нет! Я знаю, насколько вы безупречны, достойны уважения и доверия. Я настоятельно прошу вас только хорошенько взвесить, насколько расположение, какое вы невольно начинаете чувствовать к моей дочери, не представляет собою нечто другое, чем простую дружбу.
Бертэнь еще долго боролся с собой, потому что он не хотел сознаться, что графиня смотрела верно. Наконец, с горечью, он убедился в истине, но не сделал ни малейшей попытки, чтобы действительно сблизиться с молодой девушкой, которая дает слово юному маркизу быть его женой просто потому, что он обещает ей каждое утро ездить верхом с ней в Булонском лесу.
Последняя беседа между графиней и её другом опять-таки поразительна в хорошем смысле и без малейших следов фальшивой сентиментальности.
– Мой бедный Оливье, как вы страдаете! – говорит графиня художнику, тогда как сама она провела последние дни в тоске по своей поблекшей красоте.
– Более, чем вы думаете, – ответил Бертэнь.
– О, я это хорошо знала. Я все поняла. Я видела, как это зародилось и выростало, – пробормотала она печально.
– Это была не моя вина, Анна.
– Я это хорошо знаю и нисколько не упрекаю вас, бедный друг, это вина наших сердец, которые не состарились. Я чувствую, как полно жизни мое сердце!
Он пробовал говорить, но не мог. Она слышала, как душило его рыдание и снова стала мучиться от ревности.
– Боже, как вы любите Аннету!
– Ах, да, я люблю Аннету!
– Так вы никогда не любили меня.
Он не отрицал, ибо он был в таком состоянии, когда говоришь полную правду, и прошептал:
– Нет я был тогда слишком молод!
– Слишком молод? Почему?
– Потому что жизнь была слишком легка. В наши годы любишь только как отчаянный.
– Мой бедный друг! Через несколько дней она выйдет замуж и уедет. Когда вы не будете видеть ее, вы, конечно, выздоровеете.
– Нет, нет, я пропал, действительно пропал!
Финал был такой. Старик-художник как раз в тот вечер, когда жених невесты обедал у родителей, шатался по улицам Парижа и в одном из отдаленных кварталов попал под омнибус. Графиня могла только принять его последний вздох на смертном одре. Любовь, действительно, оказалась такой сильной, что могла кончиться только со смертью.
Такая развязка подготовлена так мастерски, так ясно мотивирована психологически, что огромная печаль от сознания своей старости невольно задевает и читателя.
Основной мотив последнего романа Мопассана «Notre Coeur» (1890 г.) не менее меланхоличен. Счастье в человеческой жизни возможно только на половину. И разочарованность писателя жизнью выступает здесь еще ярче. Мопассан изображает, как в свете – утонченнейшем свете парижского общества, где не знают никакого иного серьезного занятия, кроме любви, утрачиваешь дар даже к этому занятию. Женщины теряют его вследствие светской утонченности, которая делает их равнодушной к физической любви, мужчины вследствие дуализма между их чувственным и душевным влечением любви, в какой повергают их отношения к ним элегантных женщин.
* * *
Как видите, меланхолия и разочарованность все более овладевала творчеством Мопассана. В последних своих произведениях он с особенным упорством твердил такие фразы: «жизнь, коротка ли она или длинна, делается иногда невыносимой. Она всегда одинаково завершается смертью». В другом месте читаем: «бреясь, я ежедневно испытывал непомерное желание перерезать себе горло». Или вот еще предчувствие трагического конца: «Неужели я лишился рассудка? То, что произошло, то, что я видел в прошлую ночь, до такой степени страшно, что голова у меня идет кругом, когда я думаю об этом… Я становлюсь помешанным».
Коллеги Мопассана тогда считали это за шутки, забывая об иных страницах мрачных, почти зловещих, попадающихся даже в его самых развеселых рассказах. И только теперь припоминается, как часто Мопассан старался избегать общества людей, как он уединялся на многие месяцы на море или в деревне, как пытался начать упрощенную жизнь, чисто физическую и животную, где бы он мог забыть про глухого врага, которого носил в себе. Эту ипохондрию считали временной, а на самом деле она оказалась непоправимой и роковой.
* * *
«Figaro» поставил недавно своим читательницам следующий вопрос: «Стоят ли женщины за или против свадебных путешествий?» Полученные ответы сводятся к единодушному решительному приговору, осуждающему подобные путешествия. В некоторых из них чувствуется затаенная, даже при отдаленном воспоминании поднимающаяся злоба, в иных звучит меланхолический тон, но все ясно и решительно высказываются против соблюдения этого условного обычая. Вот несколько образчиков из писем, присланных в «Figaro».
«Все женщины, в том числе и я, знакомы с этим ужаснейшим периодом положения невесты и с волнением, переживаемым в последний день перед свадьбой. Проснувшись на рассвете великого дня, – не знаю, впрочем, спала-ли я сколько-нибудь, вообще, – с семи часов утра я принялась за утомительный свой туалет. Свадьба была назначена ровно в 12 часов пополудни, но еще в половине первого гости ожидали нас в церкви. Я приехала туда такая усталая и такая обессилевшая, что едва могла расслышать говор своих любезных приятельниц, сохраняющий, впрочем, одинаковый характер при всех свадьбах: „Как ей не идет белый цвет“. – „Это правда, милочка, да и неудивительно – белое платье днем представляет всегда самый ужасный критерий для цвета лица“. Наконец, они продефилировали передо мной. У меня было такое ощущение, будто я прошла через колесование; щеки мои горели от поцелуев целой сотни пожилых дам.
Не отдохнув и часочка, сейчас-же после завтрака, наскоро переменив туалет, я уехала. С обеда прямо в вагон… Это, право, банально и отвратительно. Прислуживавшие нам лакеи называли меня „барышней“, несмотря на всю серьезность моей физиономии и дамскую шляпку. Морис смеялся над этим, а я приходила в ярость.
В первый отель, где нам предстояло остановиться, предварительно послана была горничная, чтобы все было готово для нашего приезда. Она воспользовалась случаем, чтобы разболтать всем мою биографию. Прислуга и путешественники, еще до моего приезда, знали уже, что я только что повенчана, что я еще очень молода и что мы женились по страстной любви. Каждый, по дороге, мог полюбоваться содержимым дорожного моего несессера и изяществом моего приданого.
При нашем прибытии мне пришлось выдержать перекрестный огонь нескромных взглядов, я не переставала краснеть от шушуканья – на меня прямо указывали пальцами.
Несмотря на цветы, которыми была украшена моя комната (приятное обыкновение, тем не менее сейчас же причинившее мне мигрень), я нашла ее ужасной. Как! Эта комната должна служить моей брачной горницей! Моей первой обителью, моим первым „chez-soi“, в котором я поселюсь, в качестве молодой!
Я чувствовала себя одинокой, чужой в этом пустынном четырехугольнике. Домашняя кокетливая моя горница представлялась мне каким-то раем, утраченным мною на веки. Сердцем моим овладела бесконечная грусть, слезы стояли у меня в глазах, когда муж впервые поцеловал меня, как свою молодую жену.
На другое утро я не смела пошевельнуться, не смела выйти со двора, так как все глаза с любопытством были направлены на меня… Никогда не приходилось мне переживать такого чувства стыда.
Таковы были первые впечатления моего супружества. Постараюсь пощадить свою дочь от чего-нибудь подобного. Пускай совершает свадебное путешествие, если ей захочется, но только не тотчас после свадьбы. Ни за что не соглашусь подвергнуть ее всем этим случайностям и тревогам в отеле, ни за что!»
В другом письме говорится:
«Что меня касается, я положительно против свадебных путешествий и вот на каких основаниях. Прежде всего я не нахожу в том никакого удовольствия. Если брак состоялся по любви, в таком случае какое же тут может иметь значение красивый ландшафт или великолепная местность? Они не доставят никакой радости. Дома можно также сильно чувствовать взаимную любовь, как и в каких-нибудь гостиницах, – даже сильнее. Если же маленький божок не сопровождает новобрачных, то путешествие их обращается в мрачное tête-à-tête, во время которого оба собеседника заняты единственной мыслью, как бы его сократить; является скука, только увеличивающая стену, воздвигнутую между супругами. Дурное настроение берет верх, и тихонько подкрадывается раскаяние, – это роковое раскаяние.
Во-вторых, брачные путешествия бывают всегда сопряжены со всевозможными неудобствами, о которых существует столько рассказов. Ограничусь замечанием, что неудовольствия во время свадебных путешествий могут служить началом к разводу.
Как! Неужели мало всех волнений, смутного страха от приближения чего-то неведомого, слез, пролитых при расставании с семьей – так как, по-моему, всякая девушка, обладающая чувством, как бы ни была она влюблена в своего жениха, обязательно ослабевает в ту минуту, когда за ней закрывается дверь родительского дома – неужели же всего этого мало? Неужто необходимо еще странствовать из отеля в отель с усталым лицом и томными глазами, проезжать огромные расстояния в нервном состоянии и обессилев от всех свадебных треволнений, против которых единственным универсальным средством был бы покой!
Бедные женщины, с первых шагов замужества, обреченные на страдание, возвращайтесь лучше домой и оставайтесь в уютном своем гнездышке, среди собственной мебели, семейных воспоминаний и свадебных подарков. Какая вам польза от Швейцарии и Италии, какой прок от гор и озер, за которые вы платитесь напряжением и разными неудобствами, нередко оказывающимися не по плечу даже сильнейшим и самым здоровым организмам. Что могут значить для вас красоты природы, когда вы любите и любимы!
Для развлечения, в виде путешествия, будет еще достаточно времени впоследствии, значительно позднее. Вы успеете разглядеть чудеса природы и искусства и оцените их по достоинству, когда у вас будет больше опытности и голова станет посерьезнее смотреть на вещи.
Что же касается принятого обычая, то, по-моему, умнее не мешаться с толпою и не бросаться в железнодорожную сумятицу, а держаться тихо и скромно в стороне, и скорее представлять собой исключение».
В третьем письме заключается такой вопль: «О, это свадебное путешествие в Италию! До сих пор камнем лежит оно у меня на сердце! Прежде всего Италии я совсем не видела. Хотя мы проездили по этой, так называемой, чудной стране целых долгих пять недель, но в дождливое время лил такой дождь, что нам постоянно приходилось слоняться из угла в угол по пустым комнатам отеля, в этих отвратительных караван-сараях, в конце концов, сделавшихся для меня пугалами, где на меня обращались все взоры. Я готова была лучше провалиться сквозь землю. Заглянув в глубину своего сердца, как мне кажется, и до сих пор сержусь я на мужа, что он потащил меня в это свадебное путешествие.
С каким счастливым чувством приветствовала я тот день, когда мне объявили, что мы возвращаемся в наше гнездышко, это очаровательное гнездышко, так прелестно устроенное заботливой рукой нежной матери, в наше милое chez-soi, с которым нам никогда не суждено было расставаться… Впоследствии мы еще раз ездили в Италию, причем муж тогда постоянно уверял меня, что нам нечего спешить домой. Ведь человек никогда не бывает доволен!»
В том же роде следующее письмо: «Свадебное путешествие мое представляется мне исключительно в виде какого-то отвратительного гнетущего кошмара, посягавшего на мое здоровье и на мою любовь. Имея возможность наслаждаться самым приятным существованием, пользуясь притом всеми удобствами жизни среди старых слуг, собственной семейной мебели, не замечая пролетающих часов, с глазу на глаз с милым сердцу, чувствуя себя словно на крыльях блестящих грез, вдали от всяких отвратительных банальностей, располагая всем, чего желаешь, – положительно глупо всем этим пренебречь и променять на испытания кочевой жизни, на все случайности и муки путешествия, в роде тревоги перед отъездом, снования по прибытии, глупого людского любопытства, холодной пустоши отельного помещения, неприятного соседства, ужаса „Table d'hôte'а“ и нахальства или-же стеснительной угодливости прислуги. Это называется самовольно отдаться в рабство».
Одна дама особенно энергично высказывается против свадебных путешествий: «Предоставляю другим, более призванным, разъяснить происхождение странного этого обыкновения. Меня только изумляет, что, при всех сопряженных с этим обычаем неудобствах всякого рода, он так долго держится среди нас. Одновременно с моментом вступления нашего в новую жизнь, мы создаем себе совершенно излишние затруднения, спешим найти случай в какому-нибудь faux pas. Как раз в это время желательно было-бы иметь около себя верного руководителя, который сгладил-бы новый наш путь разумными советами, которому мы могли-бы доверить наши сомнения и маленькие тревоги. А между тем, этот самый момент мы выбираем, чтобы умчаться в даль и таскаться из отеля в отель с нашей неопытностью.
Впрочем, в юности я ничего не имела против этого смешного обычая, в силу которого новобрачную в свадебном её наряде, с флер д'оранжем в волосах, прямо отправляли по белу свету вместе с молодым её супругом. Напротив, мне всегда улыбалась мысль о свадебном моем путешествии, я мечтала о прекрасном, отважном супруге, – все ведь они рисуются такими, по крайней мере, в книгах, – который возьмет и унесет меня далеко, далеко, подобно могучему орлу, уносящему маленькую птичку в свое гнездо. Мне представлялось это чем-то в роде похищения, окружавшего брачный союз какой-то поэтической атмосферой, и похищения, совершавшегося с разрешения г. мэра и с благословения церкви. Но увы! Едва маленькая птичка успевала вылететь, как снова начинала рваться в дому. Однако, как-же возможно отступить, наобещав столько рассказать и написать милым своим подругам о впечатлениях поездки, об Италии и её чудесах.
Что касается итальянских чудес, то мне удалось-таки заметить некоторые из них. Знаю, что холмы Сан-Миниато, близь Флоренции, весьма тенисты, так, что там возможно мечтать целыми часами. Рим произвел на меня впечатление разрушенного храма, из которого исчезли боги и куда въехали путешествующие новобрачные. Знаю еще, что в Неаполе, на Каподимонте, находится прелестная вилла, очаровательно скрывающаяся в тенистом кустарнике. С одной стороны, у ног зрителя тянется морская синева, тогда как с другой возвышается красноватая вершина Везувия, словно какая-то угроза, как-бы говорящая влюбленным: жизнь коротка, наслаждайтесь ею.
Но для меня не требовалось никаких угроз Везувия, я и так любила своего мужа. Чудные-же часы, проведенные нами на холмах Сан-Миниато и в вилле Каподимонте, принесли-бы мне гораздо больше наслаждения в нашем тихом доме, где мы были-бы один на один, и я легко могла-бы воспроизвести их потом в воспоминании.
К чему это требуется срывать цветок первой любви по всевозможным местам и дорогам и затем развевать его лепестки на все четыре стороны? Как было бы приятно впоследствии иметь возможность снова собрать эти развеянные лепестки и связать их в букет, чтобы вдыхать его аромат.
В виду этого, давайте-ка, молодые барыни, порешим мы с этой глупой и смешной модой и откажемся от всяких свадебных путешествий. Не будем разбрасывать по всем концам Италии и Испании чудные воспоминания, обретение которых вновь сделало бы нас счастливыми, обретение их вблизи нас, где они снова могли бы воскреснуть, без погони за ними по всевозможным местам, куда, по всей вероятности, мы сами более никогда не заглянем».
Последнее письмо кратко, но выразительно. Там сказано:
«Мне было весело во время моего свадебного путешествия. Оно представлялось мне еще раньше приятным, и я настояла на том, чтобы сделать это путешествие, несмотря на некоторые мудрые советы. Возвратилась я из путешествия усталая, без сил, почти больная. Было-бы куда лучше, если бы я спокойно осталась дома».
Доводы, кажется, довольно-таки убедительные, и приведенными заявлениями самих потерпевших вопрос о брачных путешествиях может считаться порешенным вполне определенно.
* * *
Гипнотизм, магнетизм, спиритизм в последние годы всюду пустили глубокие корни, и среди самых прозаических и трезвых людей обретается не мало последователей этих «измов». Но едва ли где-нибудь в Европе вербуется любителей чудодейства больше, чем в Париже, где не изъяты от увлечения «чудесами в решете» даже сферы высшего образования и высшего общества. Об Америке и говорить нечего. Это Обетованная земля «духов» и «ясновидящих». В Европе же Париж является раем для сомнамбул, гадалок и ворожей. Недавно во французской печати прошел слух, что парламент намерен заняться изысканием мер для борьбы с этими новейшими пифиями. И это имеет основание, ибо в столице Франции в числе пророчиц на ряду с совершенно безобидными дамами есть заведомо и такие, салоны которых сделались настоящими агентурами вымогательства и шантажа. Эти агентуры ведут дело на широкую ногу, знают всякие семейные истории и в особенности «скандальную хронику» всех тех, кто пользуется влиянием по рождению, по таланту или по официальному положению. Они-то при случае и делаются подходящей добычей вымогательства. Если кто-нибудь из этих лиц обращается к гадалке, то может статься, что первый шаг клиента в её приемной окажется первым шагом в его полному разорению. На-днях еще попала под арест одна парижская сомнамбула, совершенно опутавшая своими сетями одну богатую даму из высшего круга. Сомнамбула соблазняла свою клиентку предвещаниями больших выгод всевозможных спекуляциях, и легковерная дама таким путем лишилась своего богатства.
Для таких преступлений строгость закона, разумеется, вполне целесообразна. Конечно, это лишит куска хлеба безобидных последовательниц m-lle Ленорман, но и спасет многих маленьких людей, которые составляют главнейшую клиентуру гадалок и новейших пророчиц, дорого расплачиваясь за предсказание.
* * *
Кстати о девице Ленорман. Ровно полвека тому, как в Париже скончалась эта знаменитейшая ворожея всех времен. Уверяют, что она предсказала заранее великую революцию во Франции, Директорию, Консульство, Империю, Реставрацию, Правление Ста Дней, Вторую Империю и Июльскую Революцию. Быть может, действительно, исполнение её столь своеобразных предсказаний зависело от необъяснимого совпадения случайностей, но этого, разумеется, никто утверждать теперь не может. Достоверно только одно, что Наполеон I твердо верил в прозорливость необыкновенной женщины и способствовал упрочению её славы. Весьма возможно, что предсказания Ленорман имели решающее влияние на превратности судьбы Наполеона.
Никто, конечно, не станет оспаривать, что нередко какая-нибудь идея до тех пор преследует человека, пока она не воплотится в самое дело. При таких условиях часто могут исполняться предсказания, когда человек, поверивший предсказанию, настойчиво, напролом, идет к данной цели, или же взволнованный дурными предвещаниями совершенно падает духом. Иначе нельзя объяснить себе осуществление необычайных предсказаний. Охотник, встречающий ранним утром, по дороге на охоту, старуху – не имеет удачи на охоте, не потому, что он встретил старую женщину, а потому, что охотничьи предрассудки так глубоко всосались в него, что он, при виде старой женщины, предвещающей несчастие, утрачивает свою энергию и меткость. Дерзкая угроза, предсказание неудачи, окончательно лишают малодушного последней энергии, тогда как человека энергичного указание судьбы, предсказание окрыляет новой надеждой, мужеством и самоуверенностью.
Единственно только так можно объяснить себе некоторые действительные исполнения предсказаний, причем одно из них исполнившееся обыкновенно приносит ворожее больше пользы, нежели может ей повредить сотня неоправдавшихся предвещаний. Какого же влияния могла достигнуть гадальщица, которой удалось верно предсказать будущность самого Наполеона!
Пятьдесят лет прожила m-lle Ленорман в маленьком простеньком домике в Париже, в улице de Tournon, № 5. На дворе, над входом в первый этаж, находилась доска с следующей надписью: «M-lle Lenormand, libraire». Она назвалась книгопродавцем, на что имела полное право, так как продавала собственные свои гадальные книги. Притом же открыто называться «ворожеей», несмотря на все внимание и большую клиентуру, какими пользовалась носительница этой клички, возбранялось и прежде, как не допускается теперь.
Знаменитая парижская гадальщица принимала во всякое время. Девушка докладывала о посетителе, и его немедленно допускали. Комната её всегда отличалась простым убранством, несмотря на то состояние, какое она приобрела себе своей ворожбой. Но у неё всегда было чисто и уютно. Никаких черепов, скелетов, или других наводящих ужас украшений, которыми, для порождения мистического впечатления, особенно любят украшать свои жилища гадалки. M-lle Ленорман обыкновенно сидела на оттоманке в великолепном белокуром парике и удивительном персидском тюрбане. Такою изображается она и на отпечатках гадальных карт Ленорман. Остальной костюм гадальщицы напоминал обыкновенную горожанку.
Консультация у Ленорман описывается так:
Войдя в её кабинет, гость получал приглашение занять место против её оттоманки. Затем таинственная женщина совершенно деловым тоном задавала вопрос: «Какую игру желаете: в 6, 8, 10, 20 и т. д. до 400 франков?» После назначения цены m-lle Ленорман осматривала левую руку своего клиента, спрашивала его, сколько ему лет, какой любимый его цветок, какое животное для него противнее всех и т. д. Затем ворожея брала свои карты, заставляла клиента снимать их опять же левой рукой и раскладывала эти карты перед собой по столу, с зеленой покрышкой. И тут, упорно уставившись на карты глазами, свободно льющейся звучной речью излагала свое предсказание.
* * *
Ленорман родилась 27 мая 1772 г. в Алансоне и при крещении получила имя Марии-Анны. Там же в Алансоне, в Бенедиктинском монастыре, получила она превосходное воспитание. Особенно дались ей языки, музыка и живопись. Говорят, она не раз проявляла и поэтическое дарование. Искусство прорицания передано было ей в детстве одной монахиней. Уже на седьмом году своей жизни предсказала она, – так, по крайней мере, рассказывают, – смещение игуменьи Бенедиктинского монастыря, и за это пророчество была посажена под арест. Месяц спустя, предсказание её действительно сбылось. Она указала заранее наместницу игуменьи, и это пророчество также оправдалось в течение короткого времени.
В 1790 г. 18-ти-летняя Ленорман поселилась в Париже. Таким образом она вступила в свет в то время, когда все умы живо интересовались величайшим событием прошлого столетия – французской революцией. От неё слышались одни мрачные предвещания, над которыми легкомысленный Париж только подсмеивался. Однажды ее посетили трое молодых людей. Она начала уже тогда прорицательскую свою профессию. Разложив карты своим гостям, она серьезно сказала: «Все вы трое умрете насильственной смертью. Вы, – продолжала она, указывая на одного из них, – сопровождаемый благословениями народа, который будет чтить вас как своего кумира, а вы оба – осыпаемые народными проклятиями». Молодежь посмеялась, кинула ей золотой и отправилась по домам. То были Марат, Робеспьер и Сен-Жюст.
Когда Марат пал под кинжалом Шарлотты Кордэ, и народ ликуя снес его труп в Пантеон, тогда, видя исполнение одной части предсказания, Робеспьер пришел в сильное волнение, тем более, что Ленорман продолжала мрачные свои пророчества. И вот, в одно прекрасное утро, по распоряжению Робеспьера, она была арестована и отправлена в тюрьму Бонсьержери, откуда в то время обыкновенно выходили лишь для того, чтобы взойти на эшафот.
9-е Термидора спасло жизнь также и Ленорман и вернуло ей свободу. Но преследование Робеспьера украсило ее новым ореолом. Все устремились к ней, чтобы узнать свою будущность. Однажды к ней явилась молодая женщина в глубоком трауре, потерявшая мужа на гильотине. Ленорман, старалась утешить печальную вдову и заключила свою речь пророческим уверением: «Вас ждет корона, madame!» То была Жозефина Богарне, вскоре после того вышедшая замуж за маленького, тогда неведомого генерала Бонапарта, не располагавшего ни состоянием, ни прочной будущностью. Жощефина Богарне в душе отказалась от короны и, быть может, только для того, чтобы показать гадальщице, что та ошиблась, уговорила Наполеона отправиться с ней вместе к Ленорман. Каково-же было удивление Жозефины, когда Ленорман встретила ее словами: «В вашей участи ничего не изменилось, madame!» Затем Бонапарт, смеясь, протянул ворожее свою левую руку и, говорят, Ленорман громко, с воодушевлением приветствовала неказистого и тогда вполне неведомого офицера в таких выражениях: «Сотни победоносных сражений, спаситель республики, основатель династии, победитель Европы». Бонапарт сначала будто бы рассмеялся, затем вдруг сделался серьезен и сказал: «Постараюсь оправдать ваше пророчество».
Наполеон долгое время был расположен к Ленорман. Императрица Жозефина также покровительствовала ей. Когда-же впоследствии Ленорман напророчила ей предстоящий развод, Наполеон велел арестовать ворожею. Ее отправили к Фуше, которому она напомнила о прежней их встрече. В бытность Фуше депутатом Конвента, Ленорман предсказала ему следующее: «Вы уже высоко поднялись, но поднимитесь еще выше». Фуше, бывший в то время молодым профессором философии в Нанте, совершил воздушное путешествие на вошедшем в то время в моду аэростате.
– И ваше пророчество сбылось, – сказал он при встрече с арестованной Ленорман, – я поднялся выше, чем я дерзал тогда мечтать на воздушном шаре. Но знаете ли вы также заранее, что вам придется попасть в тюрьму и, по всей вероятности, очень долго просидеть там?
– Конечно, я прочла это в моих картах, – отвечала Ленорман. – Только я не унываю, так как знаю, что меня скоро освободит оттуда один могущественный человек.
– Кто же этот могущественный человек? – смеясь спросил Фуше.
– Ваш наместник – герцог де-Ровиго.
Вскоре после того Фуше впал в немилость и был отставлен. Место его занял герцог де-Ровиго, и прорицательница была освобождена из тюрьмы.
В 1809 г. Ленорман за свои предсказания была признана настолько опасной, что подверглась изгнанию из Франции. Она поселилась в Брюсселе, где написала книгу, под заглавием «Souvenirs prophétiques d'une sibylle sur les causes de son arrestation», в которой предсказала падение Наполеона. Но Наполеон так боялся гадальщицы, что помешал выпустить это сочинение, которое могло появиться лишь в 1814 году, когда Ленорман снова уже вернулась в Париж. С возвращением Наполеона во Францию, Ленорман вторично бежала в Бельгию, где и проживала веселая и довольная, в полном убеждении, что тамошнее пребывание её теперь уже не затянется, и что возвращению её на родину скоро не будет препятствовать никакой император.
После падения Наполеона она спокойно проживала себе в Париже, в качестве известной и привилегированной гадальщицы. В списке обращавшихся в ней за советом значатся имена значительнейших особ. В 1818 году она также ездила на Ахенский конгресс, где с ней беседовал император Александр Павлович. В числе других знаменитостей из её клиентуры называют г-ж Сталь, Тальен, Ревамье и Бенжамена Констана. Именитые иностранцы, приезжая в Париж, также посещали интересную женщину, не столько, быть может, ради того, чтобы услышать её предсказания, сколько ради знакомства с необыкновенной и удачной гадальщицей.
В двадцатых годах Ленорман напечатала «Mémoires historiques et secrets de l'impératriie Josephine», выдержавшие несколько изданий. Но в тридцатых годах гадальщица снова предана была забвению. Когда же в 1843 году она скончалась, нашлось много людей, которым кончина её напомнила о ней.
Еще в последние годы жизни пыталась она передать кому-нибудь свой дар, но ни одна из её учениц не достигла какого-либо значения. Некоторое время некая mademoiselle Лакомб пыталась продолжать дело своей наставницы, но она не имела успеха. Быть может, она не владела настоящим пророческим даром, или же сами парижане стали благоразумнее?
Своим гаданием Ленорман составила значительное состояние. её племянник, служивший капралом в Алжире, после её смерти вдруг стал богатым человеком. Он поспешил в Париж, и в наследство после Ленорман получил полмиллиона франков, затем всевозможные игральные карты, гадальные книги, массу писем от исторически знаменитых лиц и драгоценные украшения, присланные ей, в виде гонорара, от различных высокопоставленных особ, которым она гадала.
Все ожидали появления её мемуаров, но эти ожидания не оправдались. Говорят, будто бы, крайне невежественный её племянник вскоре продал все оставшиеся после неё рукописи, а покупатель, по всей вероятности, имеет основание тщательно скрывать содержание этих рукописей.
Любопытно, что и все нынешние парижские пророчицы претендуют, опираясь на различные «документы», быть непосредственными представительницами и продолжательницами фирмы Пифии первой империи.
Сноски
1
Тэн родился 21-го апреля 1828 г. в Вувье, в департаменте Арден, учился в парижской «École normale», затем был преподавателем в разных провинциальных лицеях, но вследствие независимости своих взглядов не ладил с начальством и, бросив преподавательскую деятельность, переселился в Париж, где начал свою литературную карьеру в «Revue de l'instruction publique». Фирма Гашер, издававшая этот педагогический журнал, поручила ему составить путеводитель по Пиренеям, а он написал «Voyage aux Pyrénées» – книгу, обратившую общее внимание на его литературное дарование. Затем он занялся изучением философии. В результате этого изучения в 1856 г. явилась книга, вызвавшая сенсацию в философском кругу Франции, «Les Philosophes franèais du XIX siècle». С тех пор, ежегодно печатались этюды Тэна по философии, критике и истории. В 1862 г. его «Histoire de la littérature anglaise» произвела целую бурю в лагере спиритуалистов. Несмотря на высокие научные достоинства этого труда, французская академия не увенчала его премией в виду протестов клерикалов. Как бы в вознаграждение за это Тэн, при содействии Наполеона III, получил профессуру истории искусств в «École des beaux-arts». К этому периоду относятся замечательные труды Тэна по искусству: «Philosophie de l'art en Italie» и «Voyage en Italie», «Idéal dans Part» (это – собрание его лекций в «École des beaux-arts»), «L'art dans les Pays-bas», «L'art en Grèce». За этими трудами последовало опять возвращение к философским занятиям в монографии «De l'Intelligence», а четыре года спустя – в 1874 г. – появилась его «Contre le suffrage universel». В 1875 г. вышел первый том капитальнейшего исторического исследования Тэна «Les Origines de la France contemporaine». Тут был начисто осужден «старый режим» Франции: жизнь распутного дворянства обрисована в ярких красках. Следующие три тома («L'anarchie», «La Conquête Jacobine» и «Les Gouvernements révolutionnaires») посвящены исследованию истории французской революции. Автор пользуется здесь огромным материалом, документальным и архивным, из всевозможных библиотек. Из литературы касательно революции едва ли что-нибудь ускользнуло от внимания Тэна. Главная заслуга его в том, что он впервые низвел до человеческих пропорций «божественную» легенду революции, и с тех пор началась настоящая расчистка поля исследования этого предмета. С 1878 г. Тэн заседал в числе сорока «бессмертных» французской академии. В 1890 г. издан и первый том второго отдела «Les Origines», носящего название «La France moderne». В этом томе охарактеризован Наполеон I и его режим. Оставалось обрисовать «Новейшую Францию», вышедшую из этого режима, и на это предназначался последний том «Les Origines», который должен был выйти через три месяца, но смерть прервала изумительно труженическую жизнь Тэна.
(обратно)
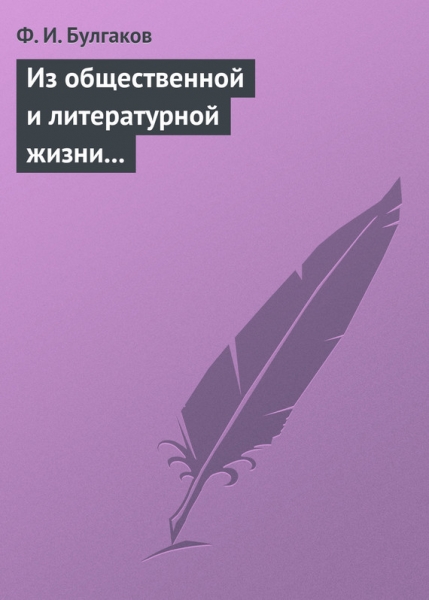




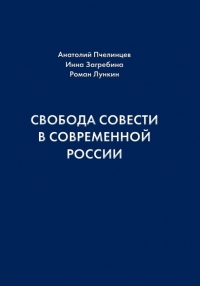
Комментарии к книге «Из общественной и литературной жизни Запада», Федор Ильич Булгаков
Всего 0 комментариев