Свасьян К. А. Растождествления
От автора
В этой книге собраны статьи, охватывающие два с большим десятка лет. Я собирал их без всякого плана и порядка, отдавая приоритет тем, которые раньше просились на ум. Некоторая заминка возникла уже потом, при попытке упорядочить пестроту собранного; нужно было найти какие–то стержни, на которых эти подогнанные друг к другу мысли разных (столь разных!) лет могли «концептуально» или «структурально» держаться; из двух возможностей, хронологической и тематической, я отдал предпочтение последней, не потому что она решала проблему, а потому что создавала, как мне казалось, более приглядную видимость структуры. Заботы о порядке странным образом лишь увеличивали беспорядок, так что пришлось ограничиться минимумом мер: пятью наспех размеченными разделами, в которых кое–как и разместился материал. Дело было не в книге, а в разорванности времен; перечитывая тексты, упирающиеся одним концом в «советское» время, а другим убегающие в «футурошок», я сравнивал их«жизненные миры» и поражался абсолютной разности некоторых смысловых поясов; считанные годы разделяли здесь status quo ante и то, что наступило потом; еще можно было догадываться о центральных линиях наводки, о становящемся всё более крутым скате общего культурного вырождения, о закате Европы, превосходящем самые мрачные шпенглеровские прогнозы, но предугадать, что за считанные годы аннулированными окажутся тысячелетия нравственных усилий; что то, что в тысячелетиях ощущалось уродством и аномалией, станет вдруг НОРМОЙ и jus naturale, я не взялся бы, даже находясь под воздействием психодислептических средств. Больше всего ошеломляло, впрочем, даже не это, а легкость, с которой это приняли и к этому привыкли. Когда однажды я имел неосторожность публично на лекции высказаться об одном извращенце, приобретшем репутацию всемирно признанного художника (он прославился, в частности, тем, что так обустраивал отведенные ему в музеях пространства, что их вполне можно было принять за мусорные свалки, причем не немецкого, а более южного, скажем, неаполитанского размаха), я был поражен, наткнувшись на протест и возмущение со стороны не молодых людей (чего, по правде говоря, и ожидал), а трех благообразных старушек почти викторианского возраста и габитуса, с которыми самое время было бы порассуждать об Обри Бердслее и прерафаэлитах. Моя позиция показалась им чересчур «нетолерантной», как это здесь принято называть. Толерантным было бы: поупражнявшись у зеркала, улыбаться всему, чему улыбаются «все». Скажем, постаревшему эстрадному жеребцу (титулованному «сэру»), ведущему под венец молодого человека в Виндзоре — как раз там, где незадолго до этого венчались наследник британской короны и его очередная избранница, — и радующему гостей видео–поздравлением от еще одного постаревшего жеребца (хотя и с традиционным уклоном): американского экс–президента… Короче, пациенту предстоит еще догадаться, как и чем его усыпили и что отчекрыжили, а главное, что пришел он уже не в «себя», а во «что–то» иное: в некий неотторжимый трансплантат Я, неизменно улыбающийся всему, чему улыбаются ВСЕ. «Ах, если бы вы знали, как недалеко, как близко уже то время, когда будет иначе!»[1] Иной стала даже техника записи; я смотрю на ранние, почти архаические тексты, которые писал еще пером на бумаге, и сравниваю их с прочими, извлеченными из гига– и мега — (хочется сказать: гога– и магога-) байтов «черных дыр»; мне ясно, что старые писательские байки, типа «бумага не краснеет» или «бумага всё стерпит», не имеют никакого отношения к экрану компьютера, который как раз краснеет и не терпит, больше того, временами даже устраивает обструкции, особенно при некоторых словосочетаниях, как бы предупреждая и грозя санкциями, если простак–писатель заупрямится и продолжит настаивать на своем. Что не позволено бумаге–быку, позволено экрану-Юпитеру. Со мной он позволил себе это дважды; оба раза как раз предназначались для настоящей книги. Чудовище неожиданно взбеленилось, и стало реагировать немотивированными провалами программы. Я включал его снова и снова, тщетно пытаясь продолжить работу; не помогало ничего. Хорошо хоть, что с каждым отключением автоматически изготовлялась резервная копия, снова приводящая меня к месту, откуда нажатие любой клавиши провоцировало новое отключение и очередную копию. С какого–то момента пришлось уже заботиться не об «авторских правах», а о спасении «написанного»; нужно было установить «причину», по которой техническое чудо падало в обморок; я с удивлением обнаружил, что срыв провоцировался (post hoc, ergo propter hoc) определенными словами, скорее, их расположением. В какой–то комбинации, после того или иного слова, любое продолжение приводило к аварии. Всё это было то ли немного смешно, то ли совсем смешно, потому что из двух упомянутых разов первый застрял на Гёте, а другой на — Горбачеве… Наверное, «специалисты» объяснят, что дело совсем не в двух названных мужах, а в знаках их имен, точнее, в энном количестве знаков, скопившихся в определенных конфигурациях, одна из которых в силу тех или иных причин активизировала фактор несовместимости (нейрофизиологи примерно так объясняют мозг); всё же только после того как я пошел на уступку и изменил распорядок слов, я смог продолжить работу. Кому–то (под технической кличкой фактор несовместимости) пришла вдруг, на такой нетрадиционный лад, нужда стать соавтором… Меня не покидает уверенность, что мой вариант был всё же лучше.
К фактору времени прибавлялся фактор двуязычья. Из 30 очерков, составивших книгу, 12 написаны по–немецки, остальные по–русски. Я снова, хотя и с другого конца, столкнулся с разностью смысловых температур; дело шло не о языке, ни даже о более или менее удачных переводах, а о принципиально не конвертируемых смыслах. Вопрос: чего недостает русскому, чтобы стать немцем, соответственно, немцу, чтобы стать русским, оставался неотвеченным как раз по причине чересчур подозрительного изобилия ответов. Но мне, не–русскому и не–немцу, приходилось постоянно решать его для себя, переводя себя же из одного неродного «оригинала» в другой — неродной! Суть решения и состояла в том, чтобы сделать из «перевода» «оригинал»; конкретно: перевести на русский, а точнее, под предлогом перевода, написать по–русски 12 немецких статей. То есть, переводить, что переводится, а что не переводится (по крайней мере, с налету) — писать. Работалось не без азарта. Я выдумывал себе читателя (понятно, что им мог быть только кто–то фактический) и, вслушиваясь из него в написанное, правил текст по его аудиовизуальным реадаптациям. Читатель без усилий отличит переведенные оригиналы от непереведенных, если обратит внимание на курсив в оглавлении, предназначенный для немецкой доли. При всем не обошлось и без курьезов; так, статья о Флоренском сначала (я думаю не раньше 1985 года) была написана по–русски. Позже, уже живя в Германии, я перевел её на немецкий, и сделал даже по ней доклад для одного религиознофилософского коллоквиума в Нюрнберге. И только совсем недавно, когда мне при составлении этой книги понадобился русский оригинал статьи — для дополнения, как мне казалось, очерков о Пушкине, Достоевском и Шпете, — и я никак не мог его найти (рукопись то ли куда–то затерялась, то ли я выкинул её по оплошности), мне пришлось снова переводить вещь обратно на русский. Понятно, что этот, переведенный, «оригинал» едва ли опознал бы себя в том, написанном. Всё же я счел нужным выделить и его в оглавлении курсивом.
Оставалось дожидаться заглавия, и, дождавшись, принять его, как есть. Растождествления: нужно было бы перенестись однажды в состояния, из которых эта книга не могла возникнуть, чтобы понять, что писать её и значило: расключаться, растождествляться со всем, что делало её невозможной, со всем, что есть общего в ассортименте привычек ума и воли, а главное, со всеми теми словами и представлениями, с которыми современному человеку приходится как раз отождествлять себя, чтобы иметь шанс на культурную и социальную прописку. Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя всё, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания; если телега жизни рано или поздно начинает буксовать в налаженностях форм и способов понимания жизни, выражаемых коротким сигналом «о'кей», то приходится, чтобы не потерять в себе человека, впрягать в неё волов, смогших бы вытянуть её из дерьма общезначимостей. Растождествления: диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой «символической формой» при этом отождествляешься, «доброй» или «злой»; важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — «добрый» или «злой» — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, всё равно какими: советскими или антисоветскими, фашистскими или антифашистскими, религиозными, атеистическими, научными, мистическими, сегодняшними, вчерашними или — уже завтрашними. Еще раз: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ в нас и начинается с растождествлений: когда мы видим вещи не в зеркальной комнате дискурсов и наименований, а в МЫСЛИ, свершающейся в нас, но принадлежащей к вещам… Наверное, иному читателю уже не терпится уличить «антропософа». Но это не более чем недоразумение. Я не антропософ, в том смысле, в каком говорят о ком–то: православный, или: атеист. Но я антропософ, в том смысле, в каком о ком–то говорят: физик. Поясню. Есть явления природы, и есть физика, с помощью которой эти явления пытаются понять. Это значит: физиком делаются не для физики, а для понимания явлений природы. Параллельно: есть явления культуры, и есть потребность их понять. С этой целью становятся историком, филологом, философом. Только в отличие от природы, в которой царит общее, культура индивидуальна и необобщаема. Явления культуры суть откровения человеческих индивидуальностей, и понять их на какой–то один общий лад невозможно и нелепо. Становятся шекспироведом, чтобы понять Шекспира. Или платоноведом, чтобы понять Платона. Ну, так вот, если я стал антропософом, то только для того, чтобы понять Рудольфа Штейнера. Я ничего не проповедую и ничего не пропагандирую: я говорю только: посмотрите, вот человек, он написал уйму книг и прочитал свыше шести тысяч лекций (число опубликованных томов уже перевалило за 354); в них он говорит о вещах, начиная как раз с той самой черты, на которой о вещах обычно говорить перестают. И говорит не в трансе, не загадочными символами, как мистик или визионер, а тоном естествоиспытателя, расширившего область своих наблюдений до мира духовного. Всё это суть факты, а не оценки. Вот я и силюсь понять эти факты, как физик или биолог силятся понять свои. И если при этом я называю себя «антропософ», то только потому, что антропософия — это специальность, предметом изучения которой является факт Штейнер. Здесь учатся подбирать вопросы к факту, который есть ответ. Скажем, вопрос: «Чтоможет человек?», но уже после того как видишь, что он может. Или вопрос: «Что есть человек?», но уже после того как видишь, кто он есть. Где же и было начаться — впервые в таких масштабах и с такой интенсивностью — моим растождествлениям! В том числе, и особенно, с антропософским движением, которое давно уже тщится стать социально компатибельным, то есть, отождествляет себя с«кармой неправдивости» и даже демонстрирует с этой целью свою улыбающуюся всему готовность забыть, что оно вообще такое, откуда и для чего нужно. Понятно, что после сказанного порядок и прочие признаки, по которым из данного материала статей могла получиться книга, впору было бы искать не столько в собранном, сколько в самом собирающем. Решив связать эти мысли разных лет в книгу, я вдруг очутился среди множества стогов и охапок, но это нисколько не смутило меня. In honorem rectoris magnifici Ioanni Buridanil He то, чтобы прославленная апория старого парижского ректора потеряла актуальность. Напротив, она стала даже более рафинированной, особенно после того как ею заинтересовались сами ослы. Какой же осел не заморит себя сегодня голодом за право быть Буридановым! Чего он ни при каких обстоятельствах не поймет, так это того, что можно же, находясь как раз между двумя крайностями, не только самому утолять голод, но и приглашать к трапезе других.
Война в эпоху корректности. Заметки о балканской войне
Опубликовано в бернском журнале «Gegenwart. Zeitschrift fur Kultur, Politik, Wirtschaft», Nr. 4/1999.
1.
Каждому, кто вознамерился бы, поверх агитаторского шума, осмыслить нынешние балканские события, бросился бы в глаза некий странный контраст: высокоинтеллектуальное поведение бомб на фоне слабоумия политиков, генералов, репортеров и прочих «всех». Так и хочется сказать: чем точнее бомбы из невидимой высоты поражают цель (в особенности там, где юркие модераторы ставят им в вину так называемые «попутныеразрушения»), тем больше пустых слов пускаются в воздух людьми, силящимися — всё равно, по службе или от нечего делать — объяснить случившееся. Если, как об этом сообщается, из тысячи бомб какая–то дюжина отклоняется от цели и поражает вместо нужных объектов колонны беженцев или здания посольств, то в ежедневной болтовне на этот счет едва ли насчитается с дюжину слов, вообще относящихся к делу. — Напрашивается фатальный вопрос: может ли тварь быть умнее творца? Скажем, некий литературный герой, смертельно скучающий на страницах романа — в уверенности, что он распорядился бы своей судьбой лучше и убедительнее, чем автор. Западный человек, гордый своей технической смекалкой, лишь платит дань демону–хранителю абсурда, когда восторгается собой как создателем этих сверхумных бомб, всегда — даже при отклонениях от цели — попадающих в точку. Он пожмет плечами, скажи ему кто–нибудь, что не он создает бомбы, а бомбы — его, и что он имеет к их возникновению не большее отношение, чем ртутный столбик в термометре к лихорадке. Разумеется, понять это можно и в спокойных условиях, но там, где непонимание приняло запущенный характер, потребна встряска. Скажем, война, которая подставляет себя гордым ученикам чародея как увеличительное стекло, чтобы за букашками болтовни они не проглядели действительного слона.
2.
Невыносимая легкость балканской войны: эта война велась из–за значения слов. Умение не называть вещи своими именами достигло здесь невиданных высот. Прежде всего, это касается самой войны. Характерно, что происходящее не называют войной, а называют миротворческой акцией или чем–то еще в этом роде. Причем по обозначениям можно судить о проблемах самих агрессоров. В Германии, например, страдающей и поныне заворотом кишок своего национал–социалистического прошлого, в ходу были попеременно обороты типа: гуманитарное вмешательство или косовский кризис (дажекосовская война), чтобы в обывателя четко впечаталась разница аспектов: косовская война — война между Белградом и отважной албанской чегеварщиной, а гуманитарное вмешательство — что–то вроде миссии Красного Креста, но иными — бомбовыми — средствами. Понятно, что не обремененные никаким прошлым победители обеих мировых войн могли, в свою очередь, позволить себе более вменяемые заголовки, типа: strikes against Jugoslavia[2]. — Так и выглядело это поначалу: неким политически корректным камуфляжем оскорбительной наготы реального. При более пристальном рассмотрении, однако, вычерчивается иная картина, именно: случившееся не называют войной не из пропагандистских соображений, а просто потому что это и в самом деле никакая не война.
Война (всё равно, наземная ли, морская ли или воздушная) предполагает, прежде всего, адекватность топики и соотношения сил. Говоря популярнее: война — это когда стоят друг против друга, чтобы убить или быть убитыми. Воюют, находясь в одном пространстве и воспринимая противника, что создает паритетность перед лицом смерти (чужой, как и своей), следовательно, равные шансы пасть на поле боя. В этой оптике нынешние бомбардировки Югославии с таким же успехом могут быть названы войной, как, скажем, гонянье мяча, при котором бьют только в одни ворота, футболом. Что в гигантском военном тезаурусе мировой истории сохранены самые разнообразные специи войн, это может при желании знать каждый. Особенный интерес представляют те разновидности, которые лавируют на грани возможного: бестиально возможного, но и куртуазно возможного. Достаточно сравнить ужасы Тридцатилетней войны с писано благородными сценками из Семилетней войны, где последние могикане европейского дворянства — как раз перед появлением на сцене негоцианта–буржуа — изощряются в изысканных манерах лишения жизни себя и своих противников. Это предельные, но никак не — запредельные случаи. Чтобы понять, что имеется в виду под запредельностью, было бы неплохо рассказать какую–нибудь из названных сценок господам из Брюсселя, соответственно, Лондона—Вашингтона-Парижа—Бонна (разумеется, в расчете не на моральный эффект, что было бы столь же глупо, как и безвкусно, а на эффект терапевтический, для наблюдения реакции «трансплантат против хозяина»), скажем, британскому премьер–министру или его министру иностранных дел или his master's voice, некоему Джемми Шеа, чья кривая ухмылка как нельзя лучше символизирует прочность атлантического союза. Можно было бы увидеть тогда невооруженным глазом, что к войне эти господа и проводимая ими акция не имеют ровно никакого отношения. Назвать эту компьютерную игру поседевших молокососов войной было бы оскорблением войны; лингвистические ублюдки вроде гуманитарного вмешательства приходятся здесь как нельзя кстати. Любопытно, что параллельно с воздушными налетами проводились опросы мнения: продолжать ли бомбежки или переходить к наземным операциям? Открытым текстом: пришло ли время перестать убивать в одностороннем порядке и начать воевать, то есть, не только убивать, но и быть убитыми. Ибо наземная война и есть война собственно: ведущаяся не в съемочных павильонах Голливуда, а в пока еще ощутимой реальности и на равных условиях, где солдаты противника не скашиваются как цели в видеоиграх, но где и за ними — из уважения к ремеслу — признается право скашивать стоящие перед ними цели. Опросы мнения в США дали интересные результаты: более половины опрошенных согласились на наземную войну, при условии что не погибнет ни один из «наших». Оставшаяся часть предпочла быть в своих ответах более адекватной: они готовы были поддержать вторжение, при условии что «наши» потери не превысили бы сотню (100) солдат. Потребовалось вмешательство экспертов Пентагона, чтобы окончательно протрезвить сограждан. В арифметике Пентагона цифра выглядела более реальной: не более четырехсот (400). Если учесть, что потери противника исчислялись бы сотнями тысяч, то налицо соотношение, по сравнению с которым все позорные акции возмездия бывших войн выглядят попросту ребячеством.
3.
Что эта «война» никакая не война, хорошо подтверждается и юридически. Можно сколько угодно бомбить с воздуха целую страну, даже попадая при этом «по ошибке» в иностранное посольство, сигаретную фабрику или детский сад. Всё это не идет в счет. Определяющее значение остается за обстоятельством, при наличии которого можно было бы не только de facto, но и de jure говорить о войне.
Война начнется фактически и войдет в силу юридически, как только нога хоть одного натовского солдата коснется югославской земли. То, что американский президент, в отличие от своего британского подельника, столь упорно противится послать сухопутные войска в юго–восточную Европу, которые положили бы конец воздушному бандитизму и ознаменовали бы начало настоящей честной войны, связано не только со страхом аннулировать расчеты реалистов из военного ведомства, но и с его личной судьбой. Если strikes against Yugoslavia начались 24 марта, то запланированы и подготовлены они были задолго до этого. Решение было, по всей вероятности, принято в момент, когда порядок дня «могущественнейшего человека мира» атипически раскололся на две части, именно: ему пришлось посылать свою anima по имени Олбрайт на расследование преступлений режима Милошевича (умные люди давно подметили магомифический каузатив воздушных налетов: сначала появляются фотографии г-жи Олбрайт на фоне выкопанных черепов и костей, после чего начинаются бомбежки) и одновременно готовиться к самозащите в связи с одной деликатной аферой. Так что можно было бы сказать: воздушные удары против Югославии и случай с Моникой Левински протекали параллельно и синхронно. Как известно, будущее президента зависело от юридической квалификации названной аферы. Будь она зачислена в разряд половых сношений, ему пришлось бы, как лжецу (он, как известно, отрицал, что был в половой связи с «практиканткой»), сложить с себя полномочия. Конец истории известен. Президент не подал в отставку, так как он не солгал. Его контакт с юной девицей был квалифицирован правовыми экспертами не как половой акт. Половой акт (определяют юристы) — это когда соприкасаются гениталии обоих партнеров. Соответственно, война — это когда солдаты касаются земли ногами, а не забрасывают её бомбами с воздуха. Юридически шалость Клинтона столь же мало походила на половой акт, как параллельные бомбежки Югославии на войну. Везунчик: погнавшись за двумя зайцами, он поймал обоих. I deeply regret it.
4.
Мир — «английский пациент». В более острой наводке: мир — пациент Англии. Если внимание сегодня отвлечено в сторону Америки, то это не более чем оптический обман. Не будем забывать: Америка — это Вест—Индия Англии, а американцы — западные индусы, или более естественные англичане, вламывающиеся, как говорят немцы, в дом вместе с дверью. Чего во все времена хотела Англия? Мира. По возможности, целиком и сразу. Кульминация английского миролюбия разыгрывается между 1939–1945 гг. Его организатор — величайший англичанин всех времен: свиноликий Уинстон Черчилль. Его исполнитель — карающий бог Дрездена, маршал, он же бомбер, он же мясник Гаррис. Недаром юные немецкие пацифисты (они называют себя антифа) отметили недавно 50-летие дня Дрездена демонстрациями с плакатами, на которых было написано: Bomber Harris, do it again! Чем только не пожертвуешь ради мира! Мир — «английский патент». Мир — планетарная миротворческая акция, на знамени которой проставлен девиз: The greatest happiness of the greatest number.
Парад омрачается вопросом: как быть, если упрямый противник не хочет мира, если он, назло всем расчетам специалистов, противится этой machine de guerre, которая превосходит его (если, по меньшей мере, в этом пункте верить журналистам) в 268 раз? Реакция миротворцев на редкость ясна: тогда это будет длиться ровно столько времени, сколько нужно для наступления мира. Английского мира во всем мире. Следует лишь обратить внимание на решительность, с которой усилия найти выход немедленно бракуются и аннулируются. Ибо мир, о котором идет речь, достигается не путем переговоров, audiatur et altera pars, а — в память о Касабланке 1943 — как unconditional surrender. (Поправка для справочников: не только концентрационные лагеря, но и тотальная война — английский патент, а министр Геббельс всего лишь плагиатор с лицензией изобретателя.) Что в этой установке не изменилось ничего со времен Первой мировой войны, можно увидеть на отрывке из одной лекции Рудольфа Штейнера, в которой начало столетия смыкается с его концом. 4 декабря 1916 года в Дорнахе Рудольф Штейнер демонстрирует первофеномен Pax Britannica: «Люди, говорящие сегодня о необходимости мира, говорят на деле о том, что с убийствами будет покончено только тогда, когда появится надежда на прочный мир». Это значит: «мы» будем убивать «вас» до тех пор, пока «вы» не придете в себя, точнее: пока «вы» не выйдете из «себя» и не придете в «нас». Логика и впрямь гуманитарная. После неё «нам, другим», не остается иного выбора, как держать язык за зубами и в нарастающем молчании внимать языку мира. Не того мира, который говорит словами, а того, который говорит случайными фактами. Вроде следующего, где неприхотливый бытовой беспредел являет ad oculos женевский рефлекс беспредела брюссельского (Tages—Anzeiger от 12.05.1999):
«Совершено убийство. В Женеве 40-летний мужчина–наркоман обвиняется в том, что он кастрюлей забил насмерть свою 44-летнюю подругу, мотивируя это тем, что она не хотела ему готовить. Подозреваемый преступник, находящийся в предварительном заключении, утверждает, однако, что, когда он обнаружил свою подругу, она лежала уже на полу кухни, Ударами кастрюли он–де намеревался реанимировать её».
Базель, 14 мая 1999
Россия и демократия (заготовки одного некролога)
Опубликовано в шаффхаузенском ежемесячнике «Novalis» (2/1996); в русском переводе в «Независимой газете» от 19 сентября 2000 г. и «Новой России», 5/2000.
Как могло случиться, шепчутся в одной комедии Гоголя, что вся нижняя часть лица нашего заседателя баранья, так сказать? Ответ: Когда покойница рожала, подойди к окну баран, и нелегкая подстрекни его заблеять. — Кому эта интерпретация покажется шуткой, тот пусть поищет более серьезное, научное, объяснение нижней части заседательского лица. Как будто десятки космогонических россказней, вроде«первоначального бульона» или «первоначальной туманности», оттого лишь не подлежат смеху, что относятся к жанру не комедии, а научной теории… Шутка шуткой, но было бы несерьезно каждый раз отделываться от шутки просто смехом. Возможен и иной вариант. Отсмеяться и задуматься. То есть, переждать смешное смешного и оказаться лицом к лицу с несмешным смешного. Как знать, может статься, что тогда дело не ограничится уже только особенностями заседательской физиономии, а выведет нас к совершенно неожиданным перспективам. Скажем, к диалектике «низа» и «верха» русской истории.
Догадка Г оголя выверяема правилом Гёте: «Всё фактическое есть уже теория». Это значит: не теория накладывается на факты, а факты, особым образом сгруппированные, складываются сами в теорию. Нет проку умножать баранье блеянье блеяньем историков, политологов, социологов и прочей пишущей и говорящей братии; оно само способно обнаружить себя как теорию — при условии, что так называемые теоретики приучат себя вслушиваться в язык фактов, а не забалтывать его трещоткой слов. Если, таким образом, суметь увидеть нынешнюю российскую историю (её последнее десятилетие) как чистый факт, то чистота обернется — чистотою хаоса. Мы спрашиваем: что значит этот хаос? Ответ, о который мы поначалу спотыкаемся, вполне отвечает уровню плаката: Россия на пути к демократии. То, что политический team at work делает хорошую мину при этом мертвом зайце, едва ли способно уже сбить кого–нибудь с толку. Политики, верящие талейрановскому: «Язык дан нам для того, чтобы скрывать наши мысли», пребывают в плену забавной иллюзии. Ибо если в их говорении что–то и скрывается, то уж никак не мысли, а разве что отсутствие мыслей. Нужно обладать поистине носорожьим оптимизмом, чтобы считать транспарант Россия на пути к демократии вообще мыслью. Это не мысль, а, как сказано выше, отсутствие мысли. Мысль могла бы начаться с вопроса: Что означает слово демократия в условиях русской топики? Иначе: какова реальность этого политико–репортерского номена? Факт хаоса именно здесь обнаруживает себя как теорию, так что некий безусловно фактический ответ на фактический вопрос гласит: Новое, послекоммунистическое, правительство России, после того как оно пришло к трудно вменяемому решению махнуть целое тысячелетие византийского государственного абсолютизма на демократию с фирменным знаком Made in USA, изводится нынче в тщетных поисках отвечавшего бы ему демократического общества.
Что путь России в демократию вымощен благими намерениями, не вызывает никаких сомнений. Что путь этот, с другой стороны, привел в ад, не только не противоречит упомянутым намерениям, но прямо вытекает из них. Можно ли всерьез рассчитывать на сколько–нибудь похожую демократию там, где нет никаких более или менее стабильных признаков саморегулируемого общества? По ответам на этот вопрос можно будет, между прочим, отличить скучных оппонентов от нескучных. Скучные станут возражать и доказывать обратное. Спорить с ними имело бы ничуть не больше смысла, чем пытаться отговорить от публичного пения энтузиаста с отсутствующим слухом. Гораздо более интересными показались бы нескучные оппоненты, скажем, такие, которые, отнюдь не оспаривая приведенного выше довода, возразили бы на него простым и логически обескураживающим чохом: ну и что же из этого? Разве демократия без общества парадоксальнее и абсурднее, скажем, психологии без души или теории познания без познающего субъекта или, на худой конец, теологии без Бога? А между тем названные дисциплины процветают в парниках западной университетской учености, нисколько не смущаясь нелепостью своих метрик. К тому же (добавят нескучные оппоненты) вопрос надо ставить не так грубо, а с учетом множества параметров. Психология без души илитеология без Бога означают вовсе не отсутствие души или Бога, а лишь их примитивных понятий. С чем они имеют дело, так это не с какой–то лирической душой или каким–то мистическим Богом, а с определенным ансамблем психосоматических функций, модусы действия которых описываются (субъективно) как душа или (объективно) как Бог. Ничто не мешает применить этот фокус и к демократии без общества. Именно: «без» должно читаться здесь как «с», соответственно: «без» общества значит, «с» определенным комплексом функций, называемых в силу терминологической инерции и удобства радиобществом. Определенно: если в истории мысли были мученики мысли, то отчего бы в ней не взяться и шутникам мысли!
Особенности национальной иммунологии. — Давно рекомендуется иностранцам, вознамерившимся пуститься в духовное путешествие по России, сделать себе прививку от всякого рода парадоксов и абсурдностей. Университетская логика рискует впасть в столбняк, полагая справиться с русской темой столь же самоуверенно, как она делает это со своими силлогизмами. Трагическая участь затерявшейся в неэвклидовых пространствах России наполеоновской grande armee служит предостережением смельчакам, вздумавшим в легкой, сообразной европейскому душевному климату, экипировке ринуться против отечественной морозной апокалиптики. Классический топос такого предостережения находим мы в тютчевском: «Умом Россию не понять». Некий шутник (из означенных выше) оспорил было в недавнее время эту строку, переведя её в высоцко–окуджавскую тональность: «Пора, пора ядрена мать/Умом Россию понимать». Очень смешное попадание, но, рискуя испортить эффект, спросим всё же: что останется от него, если еще раз отжать смешное и сосредоточиться на сути (суть — опровержение Тютчева)? Останется вопрос остряку: каким, с позволения сказать, умом призывает он здесь понимать? Фрейдовеберовским? Федотовско–бердяевским? Или умом интеллектуальных отморозков послегорбачевского десятилетия? А ведь тютчевская строка не агностична, как могло бы показаться на первый взгляд, но фактична; дисквалифицируемый в ней «ум» — это всё тот же кичливый и болтливый интеллигентский ум прошлого и нашего столетия, который полагает, что понять, значит проштемпелевать понятием. Что факт «Россия» с одной стороны реалистичен и натуралистичен, с другой стороны, однако, отвечает всем жанровым причудам фантастики, в признании этого сходились такие западные первопроходцы русской terra incognita, как Жозеф де Местр или маркиз де Кюстин. Если ум есть способность фиксировать вещи в понятиях, то понять Россию умом всё равно, что гнаться с сачком за солнечным зайчиком. Специфика случая в том, что понимается (или как раз не понимается) здесь не нечто стабильное и законченное, а во всех отношениях становящееся, так что понимание (или непонимание) оказывается не побочной процедурой теоретического порядка, а неотъемлемой составной частью самого становящегося, в пределе — его судьбой. Никто не станет отрицать, что диагноз врача влияет на ход болезни и объективно действует в самой болезни — как выздоровление или ухудшение. Говорят о тиранах, диктаторах или извергах, затерзавших становящуюся Россию; но что значат все эти терзания по сравнению с ущербом, причиненным ей её интеллигентами! Нет сомнения, что с точки зрения друзей русской философии начала века, сначала изгнанной, а ныне вернувшейся домой, сказанное покажется циничным и даже кощунственным, но однажды это должно быть сказано. Можно допустить, что во времена, умственно более сильные и морально более мужественные, чем наше, какие- нибудь Бердяев, Булгаков или Шестов увидятся, сквозь патоку слов и придыханий, пятой колонной Сталина в его истребительной войне против России.
Без сомнения, западный человек лучше справился бы с русской экзотикой, если бы рассматривал её не саму по себе, а как некое перевернутое подобие западной экзотики. В конце концов, правительство, ищущее себе свое общество, ничуть не экзотичнее общества, ищущего свое правительство, как это демонстрирует, скажем, история Франции после 1789 года. А между тем никто не говорит почему–то о загадочной французской душе, не тычет пальцем во французскую историю последних двух столетий, которая — сразу после ураганной каденции рекапитулирующего весь филогенез её тысячелетней монархии корсиканца и до сих пор — представляет собой не что иное, как непрерывную лихорадку некой societe, страдающей от фантомной боли в месте, где когда–то располагалась голова. (Запад напрасно потешается над бревном в глазу своего русского подельника, вместо того чтобы бить тревогу о лесозаготовках в собственном глазу. Помочь ему в этом могла бы именно Россия, не страдай она всё еще втемяшенным ей в столетиях комплексом неполноценности. Ей бы впору ознакомиться с неполноценностью своего кумира и начать — наконец — смеяться и подтрунивать над Западом, а не робеть или неуклюже огрызаться перед каждой импортируемой оттуда чушью. Ну какая же выходка из арсенала непредвиденностей бывшего российского президента сравнима с очаровательной блажью нынешнего французского президента, решившего провести свою первую, после избрания, президентскую ночь… в постели де Г олля!) Своеобычность русского случая лучше всего проясняется на контрастном фоне западной специфики, и — прошу внимания! — отнюдь не по коммунистически–антикоммунистической модели: плохо–хорошо, а по её реальному образцу: плохо–плохо. Социальное самоопределение Европы, её contrat social, зачатки которого еще со Средних веков прослеживаются в муниципальной революции, а кульминация падает на XVII–XVIII вв., являет с точностью до наоборот противообраз социальной неопределенности России, где общественные инициативы — за отсутствием общества как такового — всегда осуществлялись в рамках государственных мероприятий. Меткое замечание Мережковского о Петре, как первом русском интеллигенте, указует на необходимость в рамках российской действительности давать Кесарю отнюдь не только Кесарево. Почин Петра сотворить российское общество из ничего допускает сравнение разве что с сотворением северной, европейской, столицы из болота: это общество, наряду с «самым фантастическим городом», останется в истории как уникальнейшая прихоть монарха, разыгрывающего в одном лице не только исконно западные роли папы и императора, но заодно также и Лютера, Эразма и Вольтера. Никто не хотел ими быть, пришлось стать ими — царю. Начиная с петровских времен, с момента, когда европеизация России официально объявляется государственной программой (своего рода первоперестройкой), миф России — догнать и перегнать Европу, быть больше Европой, чем сама Европа. Мы присутствуем при рождении «загадочной русской души», загадочность которой не в последнюю очередь объясняется умением вести более желающую казаться, чем быть, западную душу (эпоха Канта и Просвещения) за нос. С этого времени принято различать Россию «в себе» и Россию сквозь лорнет западных представлений: Россию, как «мир неслыханных измерений» (Рильке), и Россию, как попугая европейских говорилен. У вас есть университеты, академии, салоны, гражданские права, свобода слова, общественное мнение! Вот, пожалуйста, и у нас! Можете прийти и увидеть собственными глазами. — Не знаешь, чему больше дивиться: ловкости потомков князя Потемкина или слабоумию их клиентов. Современный средний европеец, подрессоренный больничными кассами и всякого рода страховками, ставит успех российской демократии в прямую зависимость от наличия BigMac и вносит, таким образом, свою скромную лепту в поддержание популярного материализма, согласно которому человек (= налогоплательщик + избиратель) есть то, что он ест (или в более правдоподобной, реверсивной, редакции: он ест то, что он есть). Миф западной демократии удивительно напоминает старую греческую притчу о царе Мидасе. Всё, к чему бы она ни прикасалась, становится глупостью. Люди, еще недавно слывшие умными, все эти бывшие диссиденты, правозащитники, пикетчики, борцы с режимом, преображаются на глазах, едва оставшись один на один со своими демократическими убеждениями. Чего стоит один лишь пример нынешнего чешского президента, мученика тоталитаризма и друга госпожи Олбрайт (молчу уж о наших мучениках, ухитрившихся за пару лет вызвать у избирателей тоску по коммунистическим временам и Сталину)! Теорема: степень ума демократов прямо пропорциональна степени их преследуемости и подпольности.
В противоположность своему европейскому собрату русский царь всегда значился отцом, даже батюшкой, вследствие чего его самодержавность транспарировала не только теократичностью, но и оттенками некоей вполне фамильярной интимности. Подобного ранга не удостаивался в Европе ни один монарх. Властители Европы могли почитаться под прозвищами вроде: Святой, Благочестивый, Красивый, Смелый, даже Возлюбленный; никому из них, тем не менее, и не пришло бы в голову рассчитывать на народное признание отцовства. Оттого народы Европы всегда ходили в гражданах и никогда, как в России, в детях. Что отец мог быть добрым или злым, умным или блаженным, разумелось само собой. Рассчитывать приходилось при этом только на: повезет или не повезет. Царь–отец заботится о детях. Он их наказывает или милует. Он решает всё. Даже его слабоумие не меняет дела; с ним мирятся столь же покорно, как с судьбой (или несудьбой). Легко догадаться, что импортируемая с Запада рассудочность должна была вступить в конфликт с этим самоощущением. Нельзя стать гражданами, оставаясь детьми. Граждане не заставляют себя долго ждать, если необходимость избавиться от властителя ломится в учебники истории. Они его казнят, предварительно посадив его на скамью подсудимых и дав ему (номинальную) возможность защищаться. Дети терпят отцов, но если им внушают, что исторически необходимо другое, то даже и в этом случае они не казнят отцов, а просто их приканчивают. Давно подмечено удивительное обстоятельство, что царям в России могли прощать что угодно, но только не либерализм. Традиционно на Руси возвеличивались грозные властители и приканчивались либеральные. Александр II, которому Россия обязана Эрмитажем, Г осударственной библиотекой, Академией художеств, восьмью Университетами, освобождением Балкан и отменой крепостного права, разорван бомбой. Сталин, тридцать с лишним лет методически истребляющий и клонирующий собственный народ, в день своей смерти всенародно оплакивается как едва ли кто–нибудь до этого. Если, впрочем, и европейским государям время от времени приспичивало сходить с ума и раздувать свои нелепости (можно вспомнить в этой связи хотя бы уникум акта испанской государственности от 16 февраля 1568 года, согласно которому все жители Нидерландов были, как еретики, присуждены к смертной казни), то вряд ли кому–нибудь из них приходило вообще в голову, что он по этой самой причине мог бы лишь в большей степени слыть родным и отеческим. Прусский Фридрих I гнался за своими подданными по берлинским улицам, колотил их палкой и рычал в бессильной ярости: «Отчего вы не любите меня, паршивые псы?» Представить себе это в России, где можно представить себе всё что угодно, нельзя. Европа (как общество) требовала своих социальных свобод от своих князей — и брала их себе между прочим, даже если это должно было стоить князьям их головы. Бессменной презумпцией российской истории было, напротив: власть, будучи одной, распоряжается социальными свободами, к которым она, в случае надобности, силится подобрать необходимый социум. Русский царь, подобно языческим богам, знает над собой лишь одну власть: власть судьбы. Судьбой было, что юный царь Петр отправился в Европу и потерял свое сердце «в Гейдельберге»[3]. Поскольку, однако, даже царево сердце не могло томиться вне сферы действия его тела, поскольку, с другой стороны, не представлялось возможным пересадить «Гейдельберг» в Россию, влюбленный по уши молодой батюшка принял решение переделать Россию под Европу, так сказать, устроить своего рода «евроремонт» в масштабах одной шестой (или — тогда — почти что одной шестой) земного шара. Первофеномену русского «Просвещения» надлежит воздать должное средствами логики Гоголя: некий чёрт (по версии славянофилов) или некий бог (по западнической версии) дернул юного царя прорубить окно в Европу. Через это окно в чреватое будущим молчание России ворвалось энциклопедическое блеянье, после чего верхняя часть лица её заседателей задергалась в тиках europaesk. Не следует лишь пренебрегать этой перестройкой XVIII века, если не хочешь потеряться в перестройке XX века. Просвещение по–русски значит: царь решает, должно ли по утрам пить водку (по дедовским обычаям) или кофе (как в «Гейдельберге»). Царь велит: прочь бороды — парики на головы! Царь предписывает далее: учиться — под страхом палочных ударов — говорить по–немецки и по–французски. Хочешь высморкаться, сделай это не в рукав или куда попало, а в платок, и если ближний твой чихнет в твоем присутствии, соберись с духом и молви: «Будь здоров!» — Времена меняются и требуют новых бутафорий. Если нынче русское сердце предпочитает быть потерянным не в «Гейдельберге», а в«Вашингтоне», то виновны в этом уже причуды не русских судеб, а судеб Европы.
Не то чтобы можно было упростить дело до такой степени, будто очередной партийный избранник Горбачев поставил себе целью прочистить семидесятилетний большевистский запор слабительными парламентской демократии. Просто коммунистическая идея, изжив себя в своей большевистской форме, облачается в иные, более жизнеспособные формы. Не вербальные различия, а глубокое сродство открывает перспективы понимания. Демократизация России — как бы истово ни заговаривали её бойкие телеговоруны и говоруньи — была и остается лишь злой коммунистической шуткой, прощальным свинством сходящего с копыт маразматика, короче, последним решением Политбюро. Тягостно наблюдать, с какой наивностью (или бессовестностью) стараются не обращать на это внимания и всё еще пользуются старым сценарием хорошо–плохо, по которому плохо сегодня всё, что вчера считалось хорошо. Это противопоставление себя всему коммунистическому порой смешит, порой удручает; в каком еще зеркале могли бы клонированные российские реформаторы опознать родимые метастазные пятна собственной неистребимой коммунистичности! Нынешняя демократическая реформа в России не составляет исключения из всех прежних: сначала была команда, потом пошло на авось. Неужели «русские мальчики», которые когда–то у Достоевского бились в падучей над проклятыми вопросами, а теперь, повзрослев и поумнев, катаются на западных автомашинах и оплачивают счета кредитными карточками, всерьез полагают, что перехитрили тысячелетие русской автократии! Между тем, если внимательнее вглядеться в происходящее и не подпасть гипнозу фраз, можно будет увидеть нечто из ряда вон неожиданное, именно: некую коварную рокировку идеологических гегемонов по обе стороны бывшей Берлинской стены. Чем яростнее послекоммунистическая Россия тщится усвоить навыки европейской демократии, тем очевиднее выявляют себя в самой Европе замашки большевизма. Европейские интеллигенты вроде обоих Маннов, Роллана, Шоу, Фейхтвангера и прочая никогда не делали секрета из своих симпатий к русскому большевизму; их потомки из поколения 68 распространили эти симпатии даже на международный терроризм. Если по восточную сторону Берлинской стены капитализм соблазнял штанами и сигаретами, то по сторону западную соблазнял социализм, причем с поправкой на«человеческое лицо», что означало: мы возьмем у русских их марксизм и перефасоним его по нашей стати. Евросоюз сегодня — это никакие не Соединенные Штаты Европы, а Союз Европейских Социалистических Республик (15!!!) со столицей в Брюсселе, откуда по образцу недавней Москвы осуществляется руководство над братскими странами. Брюссель решает или собирается решать в сегодняшней Европе всё: от определения стандартной величины потребляемых по общеевросоюзному пространству арбузов (с уничтожением нестандартных) до санкций против отдельных (нестандартных) республик, вплоть до права дискриминировать их или просто бомбить. Ибо, заверяют члены этого новоиспеченного Политбюро, речь идет о высших ценностях: правах человека и светлом демократическом будущем, ради которого мы не остановимся ни перед чем, ни даже перед мировой бойней. Так говорили товарищи Троцкий и Ленин. Вовсе не обязательно спрашивать со всех этих Шираков и Шредеров знания столь отдаленных фактов истории, как Троцкий и Ленин, но неприлично же быть до такой степени сиюминутным, чтобы не опознать это deja vu, известное на Западе под названием «Доктрина Брежнева»! Во всяком случае трудно отделаться от впечатления, что тщетное стремление нынешней России вступить в Евросоюз перекликается с некогда напрасными тщаниями Болгарии быть принятой в семью братских советских республик.
Куда мы идем? — В старые благородные времена лучшие души России равнялись на Запад в стремлении догнать и перегнать Европу духа. Страсть эта передалась впоследствии вытравившим их лакеям, разумеется, в соответствующей редакции: обгонялась уже не духовная Европа, а мясо–молочно–кукурузная Америка. Равнение на западный дух уступило место равнению на западное брюхо. Вопрос: на что равняемся мы теперь в послецаристской и послекоммунистической, демократической, России? Сказать, на опыт западной демократии, значит ничего еще не сказать. Что есть западная демократия и где она явлена как образец? Сомнений нет: в Соединенных Штатах Америки. Остальное выдается путем нажатия нужных клавиш: если пик всемирной демократии Америка, то пик американской демократии, очевидно, её всенародно избранный президент (заседатель, по–русски). Кто есть американский президент? Who is Mr. Clinton? Из всех возможных свидетельств я выбираю решающее: эссе, вышедшее в Соединенных Штатах, как раз после фульминантного скандала с девицей Левински, под заглавием «Пенис президента» (автор — женщина). Определенно, гоголевская парадигма происхождения нижней части лица отечественного заседателя превзойдена здесь во всех отношениях. Нижняя часть лица заседателя заморского, каковое лицо олицетворяет, по определению, образец западной демократии, расположена — ниже пояса. Можно, конечно, и дальше вести себя как ни в чем не бывало, говоря вслед за бывшим узником и нынешним пенсионером совести Вацлавом Гавелом (как раз в связи с упомянутым скандалом): «Я очень люблю Америку, хотя в ней есть вещи, которые я отказываюсь понимать», но если потерявшая свое сердце в Вашингтоне демократическая Россия захотела бы подобрать себе девиз (или, по–современному, сайт в Интернете), то едва ли можно было бы предложить ей более соответствующие позывные, чем старое: Quos deus perdere vult, dementat prius! (Кого Бог хочет погубить, того он сперва лишает разума).
Базель, 7 декабря 1995 года.
Час челяди. После Беслана
Опубликовано в «Литературной газете» от 15 декабря 2004 года
В ступоре делающейся всё более немыслимой и парализующей речь и чувство действительности мысль тщится привязать себя к мачтам вопросов, чтобы, услышав крик вещей, ответить на него не немотой, а смыслом. Беслан подвел черту. Похоже, это было самое точное из всего сказанного за эти дни. Россия вздрогнула, как, кажется, никогда еще до этого. Ни даже в самые страшные свои годы. Не то, чтобы детей не убивали в ней и раньше. Но так, как на этот раз, в этот день, — никогда. Собственно, убийство случилось в первый же день. На третий день дети и, милостью их, взрослые — родители, учителя, спасатели — воскресли в Смерть.
Беслан подвел черту. Не только под прошлое с его вот уже скоро двадцатилетие длящимся экзорцизмом a la russe, когда не демоны входили в свиней, а свиньи в демонов, в пополнение большевистского бесовства разгулом либералистического свинства, но и — под будущее. Нельзя ошибиться грубее, резюмируя случившееся в знаке слов: дальше некуда. Дальше — больше. Вопрос: что может быть больше массового убийства детей в первый школьный праздник? Ответ: еще одно такое убийство. Потом еще и еще одно. Пока, наконец, это не станет привычным. Пока какой–нибудь ублюдок пера не заговорит снова о яркости сцен, где борцы за независимость гордой горной страны вынуждают детей пить мочу, прежде чем стрелять им в спину. Когда композитор Штокхаузен восхитился художественной яркостью взорванных башен Манхэттена, концертные агентства объявили ему бойкот, и ни один газетный гек даже не пикнул об ущемлении свободы слова. А всё ведь оттого, что Манхэттен взрывали подлые убийцы. В Беслане сложили голову, ну конечно же, «воины» (этим словом назвала журналистка Политковская отребье, захватившее московский Норд—Ост).
Вопрос: когда же всё это началось? Был ли это немецкий летун–озорник, выруливший свою легкомоторную машину прямо в коммунистический санктуарий и создавший мягкий, «бархатный», прообраз будущего 11 сентября Америки! Любитель Руст едва ли догадывался о том, что за его спортивным самолетом увязалась целая эскадрилья мертвых асов люфтваффе: менее удачных отцов и дедов, смогших–таки на сей раз долететь до цели и взять реванш. Но, может, инцидент оказался бы менее убийственным, не сядь машина на Красной площади, а протарань она Кремль! Тогда это было бы всё еще в рамках жанра, всё еще «подлым вражеским ударом», а не порчей. Месту, откуда планировался и осуществлялся большой террор, приличествовало бы быть взорванным, но не подпасть посмеянию. Есть такая диспозиция обстоятельств, при которой лучше убить кого–то, чем указать ему на незастегнутую ширинку. СССР — сталинское «вечнее меди» — кончался анекдотом. Смехом сквозь смерть. История России после 1917 года будет написана однажды как история двух безумий, из которых одно, государственно–коммунистическое, переросло в другое, уголовно–демократическое, а пружиной перехода был анекдот.
Эпиграфом (эпитафией) к этому второму, нашему, безумию можно было бы проставить слова, сказанные незадолго до смерти Сталиным членам Политбюро: «Вы слепцы, котята. Что же будет без меня — погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов». Ярость дряхлого тигра при виде царапающихся тигрят, которых он уже и не отличал от котят. Жалкие котята в роли наследников тигра: им казалось, что, стуча ботинком по столу, можно напугать мир. Но мир не хотел больше бояться, мир хотел смеяться. Сначала сдержанно, с оглядкой, на всякий случай, потом — без удержу. Смех пошел горлом. Смеялись не потому, что перестали бояться, а потому что то, чего боялись, стало смешным. С Хрущева бессытная жестокость российской государственности уступает место периодическим приступам чисто отечественной дури, перемочь которую уже и нельзя было иначе, как смехом. Сколько бы ни вычеркивали Лысенко с его биологическим «дыр бул щил» из истории сельского хозяйства, всё равно, в истории дадаизма смекливый полтавчанин занял свое прочное место. Наследник Сталина, зацикленный на кукурузе, умещался в частушку.
Хрущев убил коммунизм, разморозив его, сделав его смешным, прикосновенным, лишив его трансцендентности. Если творение Сталина держалось на перманентном умерщвлении людей, то объяснить это можно было бы не политикой, а, скорее, магией: Сталин лишал жизни не как тиран и диктатор, а как (языческая) судьба, поражающая кого попало, даже преданнейших; оттого роптать на него имело не больший смысл, чем на землетрясение или внезапную остановку сердца. Чего он добивался, так это того, чтобы умерщвляемые им шли в смерть, как в необходимость: без проклятий, ни даже покорности, а с любовью; «я люблю тебя, смерть, и надеюсь, что это взаимно»; тогда, верные ему при жизни, они хранили бы ему верность и после смерти, позволяя использовать себя, скажем, как психогенно управляемые ресурсы для «бурных нескончаемых аплодисментов». На этой церемониальной магии и держалась коммунистическая идея, которую так по–хлестаковски, а главное, против воли, слепо, сдуру профукал Хрущев. (Путаник, затерявшийся в послесталинской бездорожице и принявший себя по ошибке за Горбачева, хотя нет сомнения, что, при известном раскладе, он был бы гораздо более адекватным Горбачевым, чем его поздний по времени оригинал. Разница между обоими перестройщиками — разница их жизненных миров. Хрущев копошился еще в монументальной тени Сталина. Горбачев подкупал отсутствием вестибулярных расстройств. Хрущев, оставаясь советским, насаждал антисоветское. Горбачев, став антисоветским, цеплялся за советское. Хрущев настолько был пленен еще нашими художниками–халтурщиками, что пустил под бульдозер халтуру ненаших. Горбачев мог уже дружить с Терминатором и рекламировать по немецкому телевидению пиццу.)
Потом стал догорать день Брежнева: праздник логопеда, почувствовавшего вдруг свою государственную востребованность. По сути, не было никакого застоя, а была никем не замеченная перестройка, вялотекущая в Брежневе, зато быстро набравшая темп в отторжениях послебрежневских трансплантатов и кое–как адаптированная в Горбачеве. Горбачев — оспаривать это стал бы едва ли кто–нибудь еще, кроме него самого — не инициатор перестройки, а её логорея, или, собственно, гласность. Он её просто огласил. Ей понадобились повод, зацепка, «английская соль», и ничего лучшего она по тем условиям и не могла себе придумать. По той же логике, по которой не болезнь является причиной смерти, а смерть, чтобы умереть, подбирает себе болезнь, как предлог. Искать перестройку правильнее было бы с Хрущева, а датировать уже каким–нибудь застойным годом. Скажем, ленинским 1970‑м, когда страна затряслась от смеха над своим отцом–основателем. Это было невероятно. Смешной Ленин — всё равно, что смешной Чикатилло; над этим смеяться нельзя.
Ведь для того и убивали сотнями, тысячами — каждый день, чтобы не смеялись. Коммунизм — это совсем не смешно, а если смешно, то — не коммунизм. Достаточно было на мгновение перестать убивать, сделать передышку, чтобы всё разом покатилось к чёрту. Передышка — перестройка. Как всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Уход был на редкость бесцветным, в подражание строке: не взрыв, а всхлип. «Если мы уйдем, — грозился Троцкий, — мы так хлопнем дверью, что вся Европа содрогнется». В августе 1991 года они не были способны просто прикрыть за собой дверь. Даже Хрущев впечатляет величием по сравнению с заморышами ГКЧП, а в Ельцине с его повадками отпиаренного кингконга или спившегося богатыря и вовсе улетучились последние пары государственной вменяемости. Решающей оказывалась, однако, не профнегодность вождей, а коррозия аппарата. В какой–то момент власть (невесть откуда взявшиеся молодые люди вокруг ряженого демократа Ельцина) принялась с такой же лихостью раскручивать гайки, с какой они закручивались их дедами; власть — «хорошие мужики» — пристрастилась к митингам и тусовкам, народ готов был вот–вот полюбить своих избранников, «наших» Бориса Николаевича с Русланом Хасбулатовичем; посередине затаил дыхание эквипотенциальный аппарат чиновников, всё еще подчиняющихся, но не знающих толком кому. Распад системы зависел от распада аппарата, а разложить аппарат можно было не иначе, как путем его рационализации, равнения на европейские образцы. Тут и в самом деле не обошлось без шестидесятников, начитавшихся Макса Вебера и верящих, что в России возможен интеллигентный, очеловеченный Маркс, а стало быть, и гражданское общество, фундированное этикой профессионального призвания. Не то, чтобы они ошибались — в России возможно и не такое, — но начинать надо было бы тогда не с марксизма, а с замены православия кальвинизмом. Шестидесятники, по оплошности порожденные Хрущевым, породили, в свою очередь, Горбачева: путь от уютной философии московских кружков и кухонь, где позволено было оторачивать Маркса Альтюссером, а то и вовсе цитировать его на одном дыхании с Вебером и Трёльчем, вел к демонтажу, а после и развалу системы. Русский Маркс, очеловечиваемый в плоской, как саксонский анекдот, этике протестантизма, стал разлагаться на глазах. Его надо было или совсем убирать, или вообще не трогать, как в случае запущенной карциномы. И уж ни в коем случае не напоминать ему о его молодости со всякими там рукописями и гегельянскими причмоками. Шестидесятники не поняли одного: если Маркс вообще чего–нибудь стоил, то не иначе, как в русской, ленинской, редакции, реализовавшей самое прибыльное в нем. Марксизм Ленина был лишь осознанной формой бессознательного ленинизма Маркса.
Окидывая взором короткий послесоветский период, трудно отделаться от впечатления некой хорошо продуманной бестолковости. Параллель с петровской перестройкой хоть и бросается в глаза, но больше как различие, чем как сходство. Власти — тогда и теперь — захотелось вдруг не просто людей, а граждан. «Хрусталев, граждан!» Только Петр начинал не по второму кругу, Петр не плясал под дудку либералов, а сам, при надобности, дул в неё свои причуды, Петр был непредсказуем: артист власти, подчинявшийся свирепым вывертам вдохновения и, если выигрывавший, то не там, где хотел, а где и не догадывался: скажем, хотел, чтобы «каку голландцев», а стало как ни у кого, или: хотел столицу, а получил русскую литературу. Мы тщетно стали бы отделываться от откуда–то взявшегося в голове вопроса: какой из Петербургов подлиннее: Петербург Петра или Петербург Андрея Белого? Превращение в Ленинград было, несомненно, последней причудой этого самого фантастического из городов. Нынешние демократические хозяева, переименовавшие Ленинград обратно в Санкт—Петербург, продемонстрировали не только отсутствие вкуса и чувства реальности, но и абсолютную литературную бездарность: к Санкт—Петербургу этот город имеет не большее отношение, чем сталинский староста Калинин к резиденции прусских королей.
В этом–то и заключается специфика так называемой перестройки с последующим сыр–бором: эпоха реформ была, по сути, эпохой переименования вещей и сообразной им мимикрии. Надо было в самом деле быть покинутым всеми демонами адекватных реакций, чтобы, сменив костюм и визитную карточку, а также пообтесавшись немного в Чикаго или Лэнгли, уверовать в свою неузнаваемость. Если отвлечься от плакатных смыслов «перестройки», то можно будет оценить её как основной факт советской жизни после смерти Сталина. Горбачев лишь перевел её с режима standby на отключение. По существу же, не было вообще никакой перестройки, а были лишь акустические перемены: слух, измученный левитанскими интонациями, отдыхал на всех этих брокерах, рокерах, спикерах, префектах, мэрах, губернаторах, сенаторах, реформаторах. За сменой декораций и табличек неизменной оставалась, однако, движущая пружина петровской (она же первая и последняя) перестройки, в добольшевистском ли или уже послебольшевистском исполнении: догнать и перегнать. Догонялась сначала Европа: в духе. Потом Америка: по производству мяса и молока. Наконец Европа и Америка, вместе: по части свобод и прав. (Вон бюргермейстер Берлина, гарант либеральных ценностей, открыто, а главное, как политик, бахвалится своим мужеложством, — а у нас!…) Когда совсем еще молодой человек, ну почти что «русский мальчик», только в карме не «Карамазовых», а «Судьбы барабанщика» (добарабаненной, кстати, где–то в Чикаго), берется вывести страну из хозяйственного тупика и обещает уложиться в 500 дней, то это никакое не ребячество или слабоумие, а просто–напросто очередная «загадка русской души», в которой сходятся не противоположности, а противопоказанности: философ Бердяев, философствующий о последнем, не имея и понятия о предпоследнем, шахтер Стаханов, всегда только перевыполняющий, но никогда не выполняющий, и, last, not least, эсхатолог Хрущев с незабываемым мотто: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Парадокс госслужащего: Сила и эффективность государственного аппарата в России лежит не в его оптимальной функциональности, а в его абсолютной уязвимости; чиновник в России хорош, не когда он просто выполняет свои обязанности, а когда он делает это в режиме повышенной опасности. Чиновник в России всегда немножко чужероден, немножко оккупант, нечто среднее между чужаком и врагом. Как вышедшему из «Шинели» Гоголя, ему известны только два состояния: когда он унижен и когда он унижает. Чиновник в России — это меньше всего функция, скорее — псевдоморфоз, может быть, некая остаточная аберрация татаро–монгольского ига, мимикрирующая под европейские поведенческие нормы. Справиться с ним, добиться от него ожидаемого можно, лишь сделав его уязвимым. Чиновник в России должен не просто знать, что он смертен, а что он внезапно смертен, причем не биологически внезапно, как все, а как у Кафки… Короче, чиновник в России — это не макс–веберовский санкт–бюрократ, а — судьба. Как судьба, он способен на невозможное: служить верой и правдой. Мы ошибемся, назвав это страхом, и ошибемся вдвойне, назвав это не–страхом; но если это всё–таки страх, то как ровный пульс, как расписание, часовой график, образ жизни; ничего удивительного, если гарантией жизненности российского государственного аппарата могло быть всегда только цистерцианское memento mori. У сталинских министров, даже членов Политбюро, стоял наготове чемодан с бельем и дорожными необходимостями; на этом чемодане им надлежало отучиваться от вкуса и тяги к неадекватным телодвижениям. Чиновник с распакованным чемоданом знаменует в России конец сословия; он готов (потенциально всегда, а актуально при возможности) на всё–что–угодно: этакая карамазовская вседозволенность в размахах, и не снившихся Достоевскому. Уже с начала 90‑х гг. это стало бросаться в глаза. После Беслана не видеть этого может разве что слепой или мошенник: России недостает не свобод и прав (их здесь больше, чем во всех странах Западной Европы, порознь и вместе взятых), а чиновников, день которых начинался бы с оглядки на чемодан, потому что чемодан этот мог бы пригодиться им каждый день.
Нужно будет уяснить себе, наконец, буддистский коан: что же такое демократия по- русски. При условии, что вопрос будет не заболтан ответом, а отвечен как есть. Из напрашивающихся вариантов выберем, как нам кажется, решающий: демократия по–русски — это государственно гарантируемая возможность совершать преступления без наказания. Абсурд по российским меркам настолько превосходящий воображение, что спасаться от него можно, пожалуй, только шуткой: виданное ли дело, чтобы власть в России не наказывала провинившуюся челядь! Демократия по- русски — час челяди, опьяненной своей безнаказанностью. Разница с 1917 годом впечатляет изяществом симметрии: тогда это была уголовщина, вытянувшаяся до государственности, теперь это стало государственностью, опустившейся до уголовщины. Если Брежнев в памятном анекдоте оказывался начальником лагеря (социалистического), то Ельцин — уже не в анекдоте — главный пахан, capo di tutti capi. Абстрактные интеллигентские мечтания еще раз вывели Россию за черту абсурда: хотели гражданского общества — получили общество уголовное; хотели протестантски вымуштрованных чиновников — получили крупное и мелкое ворье; хотели бизнеса — получили (такое вот энергичное словцо) кидняк. В эйфории митингов и раскупоренных бутылок даже не подумали о том, что гражданское общество — это всё–таки общество, состоящее из граждан, и что граждане в России составляли во все времена дефицит. Давно было замечено, что русскому человеку легче быть святым, чем честным. По этой же логике вещей ему легче быть человеком, даже всечеловеком, чем просто гражданином. Пробел гражданственности приходилось компенсировать государству, и оно делало это как могло. В этом смысле идея насадить в России демократию была далеко не из числа тех, мимо которых мог бы равнодушно пройти психиатр; похоже, и здесь не обошлось без любимца вождей Лысенко, смогшего–таки повторить на людях то, что он с такой изобретательностью проделывал с овощами.
Результат оказался донельзя эффектным: никакой гражданственности, конечно же, не получили, зато государственность потеряли. Ибо то, что в сегодняшней России носит название властных структур, имеет к государственности не большее отношение, чем коэффициент интеллектуальности к уму. Горбачевский (и ельцинский) лозунг об инициативе на местах они восприняли как указание. И сразу же принялись разгадывать какой–то коварный подвох начальства. В скором времени выяснилось, однако, что никакого подвоха нет. Как нет и никакого начальства. Удав начальства обмяк перед интеллигентными кроликами, начитавшимися немецких и прочих книг и еще раз, только теперь по собственному почину, захотевшими, чтобы «как в Голландии». Демократия в России: обалдевший хозяин и захозяйничавший балда. У него уже начали убивать детей, в первый школьный день, а он всё еще талдычит о свободе слова и правах человека. Я, мол, не согласен с тем, что вы говорите, но я отдам жизнь за ваше право сказать это. В самом деле? Вы бы лучше сказали, кто оплачивает это право. А заодно и другие… Вот Запад, твердыню демократии, уже трясет от этих прав. Здесь додумались даже требовать прав для крыс, собак и свиней. А там, того гляди, парламенты примут конституционную поправку: право на свинство! Что ж, только ленивый не станет здесь террористом, если, конечно, не станет прежде свиньей, потому что террорист в мире демократии работает в режиме наибольшего благоприятствования. Бороться с ним, разумеется, борются, но в рамках законности. Он, вот, кучно стреляет в наших детей, а мы ему грозим диктатурой закона. Представленного чиновниками, продажность которых выглядит чуть ли не единственным абсолютом в мире сплошных относительностей. Посетовал же неугомонный Басаев, что «дошел бы до Москвы, да денег не хватило».
Ну вот и доехали. Кажется, еще ни один террорист не назначал вознаграждения за голову главы государства. То, что голова Путина оценена объявленным вне закона бандитом, есть чисто знаковый ход стирания границы между легитимностью власти и иллегитимностью террора. Похоже, Басаев больше годится на роль Моби Дика, чем Путин на роль Ахава. Очевидно одно: если с властью можно вести себя так, значит это не власть, а симуляция власти. Власть наказывает. Власть — это прежде всего неотвратимость наказания. В присутствии власти даже иное молчание может показаться слишком громким. «Государь, — сказал однажды Людовику XVI маршал Ришелье, свидетель трех царствований, — при Людовике XIV не смели проронить ни слова; при Людовике XV говорили очень тихо; при Вашем же величестве говорят громко». Вот и при Путине что–то раскричались. Даже пенсионер Бжезинский забрызгал из Америки слюной о «московском Муссолини». Кремль–де сжимает кулак. Но кулак мало сжать, кулаком надо еще и ударить. Вот Муссолини им и ударял, да так, что в сицилийском Корлеоне шепотом разговаривали. А здесь впечатление таково, будто за пять лет правления молодого, энергичного президента не провинился ровным счетом ни один чиновник. Их вообще не наказывают. Их даже не снимают. Их — перемещают. А они наглеют. Ну и чего же стоит взведенный курок, если свело палец! Неужели всё идет к концу, который, чтобы не стать концом, должен повторить начало? «Земля наша богата и обильна, да порядка в ней нет. Придите и володейте нами». Только вот как бы не пришлось, за отсутствием варягов, обратиться к чеченцам. Использовать сумму, назначенную за голову Масхадова, на его пиар и просить его взять в свои руки судьбу России. В надежде, что его–то уж не смутит готовность Гайдара и его команды отдать свои жизни за право журналиста Бабицкого наслаждаться зрелищностью отрезываемых солдатских голов. Единственным условием было бы: голова Басаева.
Базель, 14 октября 2004 года.
Ничейная власть
Опубликовано в бернском журнале «Gegenwart. Zeitschrift fur Kultur, Politik, Wirtschaft», Nr. 3/2005. Русский перевод (с изменениями и дополнениями) вышел в журнале «Политический класс», март 2006
Наше время имеет все основания гордиться своими достижениями. Оно расточительно празднует победу над властью. Похоже, ни в одном другом столетии власть не возносилась на такие высоты, но и ни в каком другом не опускалась до столь низкого уровня, как в ушедшем ХХ-м. Мы сопоставляем обе половины названного века и делаем выводы. Если первая половина изобилует шедеврами тоталитаризмов и диктатур, то вторая стоит под знаком продуманной и систематически осуществляемой деструкции всякого рода вертикального господства. В политической теологии стран–победительниц 1945 года родине Гегеля и Гёте отводилась роль парадигмального зла. «Убей немца!» — под этим знаком миролюбивый мир viribus unitis усмирял осатаневшую Германию; вместе с немецким злом полагали выкорчевать сорняк зла как такового. Богопослушные потомки кромвелевских roundheaded инсценировали библейские сцены, обрушивая с воздуха огонь и серу на нечестивые германские города; мы бы не удивились, узнав, что, нажимая на спусковые кнопки, они распевали псалмы. Понятно, что в этом походе праведных против среднеевропейских гуннов годились все средства: в разнемечиваемом мире Ялты и Потсдама душеприказчики Локка и Джефферсона сидят за одним столом с коммунистическими наследниками Орды. По существу, убийство Германии — с воздуха и суши — было абсолютной миротворческой акцией, в проведении которой западные гроссмейстеры успешно перенимали опыт сибирских шаманов и кавказских ведьмаков. «Жить стало лучше, жизнь стала веселей»: после встречи на Эльбе будущее казалось основательно умещенным в настроение «веселых ребят» из Одессы и Гарлема.
Но уже в следующее мгновение — параллельно с политическими казнями в Нюрнберге — мир снова начал становиться немецким, что значит: мыслимым и идеируемым, а не просто рефлекторно подергивающимся. Мир стал снова гегелевским, в подражание рассветным раздельным движениям мысли в самом начале Большой логики, которой, после того как ею перестали интересоваться философы, заинтересовались политики. Нужно будет представить себе логологический фокус двойного небытия, инструментализируемый дипломатами и спецслужбами, чтобы воспринимать события не в одноразовости сцен, а в оптике сценария. Сценарий: небытие полагает себя как бытие и вместе как небытие, потому что только по контрасту с небытием оно может быть воспринято как бытие. Похоже, сценарий списан с теологического Бога, который, чтобы быть у дел, да и просто быть, нуждается в дьяволе не меньше, чем в опекающих его теологах. Сначала это был немецкий дьявол, а после его устранения вакансия досталась русскому, в миру «советскому». (Последний оттого и стал советским, что, выбирая между Ксерксом и Христом, умудрился отдать предпочтение одному гегельянскому перевертышу.) Нужно ли говорить, что в смене дьявольских парадигм Бог неизменно оставался Богом праведников и пуритан.
Нельзя достаточно надивиться чутью карикатуриста, в угаре послевоенной немецкой перестройки посадившего философа Ницше на нюрнбергскую скамью подсудимых. Мы отдадим должное энтузиасту, обрамив его бульварное вдохновение репликой, сделанной в ноябре 1916 года сэром Робертом Сесилом, вторым лицом в британском министерстве иностранных дел: миссия союзников в том, чтобы заменить «волю к власти», «дьявольское учение немца» (Ницше), «волей к миру». Этот неожиданный тандем газетчика и дипломата впечатляет наглостью напора. Мы учимся понимать, что зло по необходимости исчезает всюду там, где мир начинает говорить по–английски. Мир говорит по–английски и хмурится, слыша чужие наречия. Референдум говорящего по–английски мира обобщает его совокупную волю в следующих остекленевших формулировках. Вопрос: Чего больше всего хотят люди? Ответ: Быть счастливыми. Вопрос: Что больше всего мешает быть счастливым? Ответ: Всё, что принуждает, стесняет, требует, ограничивает, направляет. Прежде же всего: заставляет мыслить.
Мышление, как фактор риска: Ареал, в котором действует власть, называется история. Если хотят покончить с властью, начинать следует с истории. История и счастье несовместимы, даже противопоказаны друг другу. О мировой истории сказал однажды немецкий национальный философ Гегель, что «периоды счастья в ней — это пустые страницы». На что островитяне (Бентам, Хэтчесон) возразили: счастье — цель эволюции. Нет спору, мир говорит по–английски, но понимает ли он то, о чем говорит. Вопрос на проверку коэффициента интеллектуальности: Могут ли все быть счастливы? В параллельной (американской) версии: могут ли все быть чемпионами? Правильный ответ: да, но при условии если им говорят это или сами они говорят это. Англичане вовсе не столь забавны, как могло бы показаться на примере их мыслителей. Совсем напротив. Нужно просто перестать рассматривать их идеологию счастья в контексте теоретической мысли, где это действительно оставляет впечатление умственной неполноценности. Английское счастье проходит по ведомству не философии, а политики. Сама английская философия — это не философия, а умственная служба (Intelligence Service). Философы в Англии, прямо или косвенно, всегда состояли на службе у Её Величества. Тексты Локка или Бентама не имеют ничего общего с текстами Гегеля или Шеллинга; это не страсти духа, а докладные записки; было бы нелепо понимать Гегеля с оглядкой на Бисмарка; понять Локка или Бентама без Питта Младшего или Дизраэли нельзя. Говоря коротко и по существу: счастье — это «воля к власти» по–английски: праводелать всех счастливыми или заставлять их быть счастливыми. Не беда, если кому–то при этом оторвет ногу или голову. Как взрослые люди, мы должны же понимать, что производство не обходится без издержек и брака. А тем более производство счастья. Другое дело, что надо заблаговременно решать, кому и при каких обстоятельствах быть браком. Но философы не опускаются до этих частностей. Философы набрасывают общие идеи, которые потом плодотворно внедряют в жизнь сотрудники умственной службы.
Протрезвление пришло уже по снесении последней советской твердыни зла. За десятилетиями жесткого противостояния и холодной войны так и не удосужились увидеть родства между бациллоносителями мира с Запада и таковыми же с Востока, и только потом спохватились, что ампутация коммунистического близнеца оказалась не без серьезных последствий для его капиталистического двойника. Элегический вздох Талейрана: Qui n'apas vecu avant 1789, ne connaitpas la douceur de vivre, в сегодняшней редакции звучал бы так: кто не жил на Западе до 1989 года, тому неведома сладость жизни. После падения Берлинской стены сладость пришлось разбавлять такими количествами горького пойла, что от неё осталось одно воспоминание. Если падение Берлина ознаменовало рождение восточнокоммунистического и западнокапиталистического мифов, то падение Берлинской стены было их концом. С чужим несчастьем выплеснули и собственное счастье. История последнего десятилетия стоит соответственно под двойным знаком: конец «империи зла», но и конец «американской мечты», причем последнюю надлежит рассматривать как релаксант первой. К посольству Соединенных Штатов в Берлине когда–то подносили цветы; теперь оно оцеплено автоматчиками. Отцы–основатели American Dream проглядели, с какой легкостью и неотвратимостью мечта переходит в кошмар, если её сновидят не все разом или если те, кто её не сновидят, не отделены от неё стеной, с которой стреляют во всех, кто стремится попасть в чужой сон.
При желании можно знать, что за концом истории скрывается лишь конец историков, тщетно силящихся объективировать свою негодность, а за концом власти её профанация и обезличенность. Если первая половина века страдала элефантиазисом личностного, то в наше время личностное узнается разве что по признаку атрофированности. Формы и институты остаются прежними; меняются лишь практика и метод. Никто не хочет больше осознавать себя венцом творения; наверное, скоро и биологи придут к выводу, к которому уже пришли люди из организации Last chance for Animals: у человеческого существа нет никаких разумных оснований считать себя выше крысы, свиньи и собаки. Человек — интерим: промежуточное звено между обезьяной и прецизионным инструментом. Если еще у Сартра ему не терпелось стать Богом, то в своем теперешнем честолюбии он, похоже, не выходит за рамки конструктора лего. Можно быть уверенным, что среди слов, чаще всего произносимых сегодня, первенство, несомненно, принадлежит слову Baby. Философы, политики, священники, продюсеры, телеакадемики, глотатели шпаг, президенты, very important, как и unimportant persons, суть в совокупности — Babiesили на пути к тому. Что удивительного, если компетенции взрослых (за отсутствием таковых среди людей) переходят нынче к инструментам. Инструменты выполняют не только технические функции, но и культурные, в перспективе, любые. Инструменты суть учителя, воспитатели, тренеры, друзья, психологи. Наверное в один прекрасный день они станут и родителями.
В мире техники интересно не то, что он бесчеловечен, а то, что он как раз человечен (бесчеловечен, скорее уж, человек). Говорят о самоорганизации, самоуправлении вещей. Это значит: вещи сами управляют своими действиями. Очевидно, за отсутствием самих людей. Самость присуща сегодня скорее будильнику, чем просыпающемуся от его звона человеку. Достаточно сравнить умственные способности какого–нибудь cruise missile с таковыми же первого попавшегося политика, чтобы ни на секунду не сомневаться в том, за кем останется последнее слово… Прибор самонаведения. Ну какому еще мистику или оккультисту могло присниться такое! «Само» прибора. Значит ли это, что прибор наводит себя «сам»? Он и делает это «сам», только без всякой чертовщины; его «сам» есть вложенное в него человеческое«Я». Прибор самонаведения означает: человеческая индивидуальность прибора. «Я сам» прибора — содержимое головы инженера в приборе. Технический прогресс оценивают односторонне: в нем видят умные вещи и не видят глупых ленивых себя. Зачем напрягаться и вспоминать, если можно пользоваться собственной памятью нажатием нужной кнопки! В каком–нибудь холодильнике или сливном бочке унитаза интеллигентности больше, чем в головах, набитых рейтингами, маркетингами и консалтингами. Человеческое «Я» чувствует себя в металлическом кожухе надежнее и адекватнее, чем в черепе. Мы говорим всё еще по инерции: я делаю то–то и то–то. Между тем, правильнее было бы сказать: не делаю, а делается, потому что я (хотя я не могу даже этого) — сплю. Сплю, лёжа или стоя, видя сны или сидя в кабинете, принимая решения или читая лекцию в университете. Кто же бодрствует? Ответ можно прочитать на табличках, прикрепленных к воротам многочисленных частных домов Запада: на табличках изображена собака, а под ней надпись: Здесь бодрствую я (Big Dog is watching you!). Как же обстоит дело с «моим» собственным телом? Но и здесь нет нужды беспокоиться. Говорят же о мозге с такой уверенностью, словно бы речь шла о ноутбуке в голове. «Intel inside». Какая славная обновка! Всё, над чем со времен Платона ломали себе голову: проблема человека, человеческого существования, сводится как раз к двум компьютерам. К тому, что на столе, и к тому, что в голове. При этом тот, что в голове, тщится во что бы то ни стало уподобиться своему завидному творению. Когда мы понимаем это, мы понимаем, что означает (говорящее по–английски) счастье.
Швейцарская модель: О том, что недавнего министра иностранных дел Швейцарии звали Йозеф Дейс (в 2004 году он отбывал свой президентский срок), догадываются далеко не все швейцарцы. Можно смело держать пари, что из пяти случайно спрошенных об этом трое или все пятеро пожмут плечами. Кстати, о Дейсе было сказано лучшее слово из всех когда–либо говорившихся о политиках: «Господин Дейс лжет, даже когда он лжет». Это потенцированный вариант классически–лагарповского: «Жан—Жак Руссо лжет, даже когда он говорит правду». Политики не говорят правду, поэтому им приходится лгать, когда они лгут. Министру Дейсу повезло, впрочем, не только в этом. Ему посчастливилось изобразить собственной персоной первофеномен власти будущего. Правда, случилось это в жанре сатиры, но действительность едва ли заставит себя долго ждать. Некий талантливый юморист, томящийся в своей Швейцарии по действительности, надумал стать террористом и поделился своими планами с читателями. Речь шла о похищении министра Дейса с последующим требованием выкупа. Некоторая сложность заключалась в том, что злоумышленник терпеть не мог насилия, но выход, найденный им, впечатлял простотой и изяществом решения. Он решил дождаться политика у его оффиса в Берне и обратиться к нему со следующими словами: «Господин Дейс, если Вы хотите, чтобы о Вас сегодня сообщили по CNN, Вы должны дать себя похитить». В трамвае, отправляясь на место происшествия, он разговорился с пассажирами, которые в целом одобрили план, хотя и выразили сомнение в его целесообразности. Камнем преткновения стала сумма выкупа.
Назывались различные цифры, пока в спор не вмешалась какая–то дама, заметив, что ничего из этого не выйдет, так как ни один дурак не даст за похищенного министра больше 20 раппов (копеек). Это настолько убедило юмориста, что он в крайнем смущении вернулся домой и попытался отыграться, рассказав случившееся в газете. Конечно, Швейцария — это не Англия, ни даже Германия или Италия, где можно было бы еще поторговаться, чтобы сохранить лицо. Но несомненно одно: политикам придется привыкать к мысли, что скоро им не останется иного выбора, как постепенно становиться швейцарцами.
Современная власть анонимна, а значит автономна. Она облекается всё еще в старые понятия, как–то политика, дипломатия, война, олигархия. Разница в том, что для этих понятий ей не требуются больше никакие политики и дипломаты. Современная власть — это Андерсен наизнанку: не голый король, а платье без короля, или политика без политиков. Политика обходится без политиков. Как прибор самонаведения, при котором политики если и существуют, то не иначе, как обслуживающий персонал. Где прежде были персоны, нынче налицо персонал. А где персонал, там и сокращение персонала. Нужно посмотреть, с какой непримиримостью они обрушиваются на всё, что обнаруживает черты личностного. Личностью в политике, как и в философии, быть нельзя, разве что дурачась — на пьяную голову (по–ельцински) или «дискурсивно» (по–лакановски). Личность в политике (по–серьезному) приговор. Рано или поздно её убирают: политически (как австрийца Хайдера) или физически (как голландца Фортейна). У кого же повернется язык сказать личность, глядя на этих пубертатных господ, всё еще зовущихся — официально, а не в домашней обстановке — Биллом, Тони или Йошкой! Газетный весельчак достиг почти что уровня первофеномена, опубликовав фотографию совсем молодых еще Билла и Хиллари (оба веснушчатые, откормленные, нагло ухмыляющиеся) с вопросом к читателю: «Посмотрите на эту пару и ответьте честно, доверили ли бы Вы им на уикэнд ключи от Вашего загородного дома?» Мы не смеемся: не потому что нам не смешно, а потому что за историю обидно.
Политика сегодня свершается не в истории, а в объективе камер. Это отрасль шоу- бизнесса. Политиков раскручивают как звезд эстрады. Разница в том, что среди звезд встречаются и одаренные. «Политик, — говорит Эмиль Фаге[4], — это тот, которому нечего делать, кроме как заниматься политикой, и который, не сложись у него политическая карьера, умер бы с голоду». В старом анекдоте о Брежневе, как политическом деятеле эпохи А. Пугачевой, нужно заменить Брежнева Ельциным, чтобы сделать из глупой шутки острую. Быть и петь при Брежневе было счастьем Пугачевой. Нынешние российские политики счастливы жить при ней, быть её современниками. Но российским политикам еще учиться и учиться демократии у западных. Что за люди! Извозчиков и лакеев не столь давнего еще прошлого передернуло бы от этих господ с их абсолютным иммунитетом ко всему, что представляет достоинство, порядочность и честь. Немецкий гансвурст Вестервелле, шеф свободных демократов, влезает в телевизионный контейнер передачи Big Brother и готов даже хрюкать, лишь бы не показаться старомодным. Социал–демократ Воверейт, бургомистр Берлина, публично гордится тем, что он педераст, в то время как бургомистр Гамбурга, христианский демократ Оле фон Бойст, тоже гордится этим, но молча. Определение политика: Политик сегодня — это не тот, кто делает историю, а тот, кого могут забыть собственные телохранители, или кому могут влепить пощечину избиратели. Самолет министра обороны Германии Шарпинга уже набирал высоту, когда один из телохранителей удивленно спросил: «А где, собственно, Рудольф?» Выяснилось, что министра забыли взять на борт… А вот его другу–канцлеру и соратнику по партии Шредеру в Маннгейме без долгих рассуждений влепили оплеуху… Таковы предупредительные («швейцарские») сигналы, приводящие в чувство надутые ничтожества, если за своей надутостью они перестают воспринимать свою ничтожность. На казнь или изгнание тут нечего и надеяться. Казни и изгнания остались в прежней, упраздненной истории. В новой истории, делающейся неопрятными молодыми людьми с камерами, политики — это кадр, фокус, оптическое увеличение, дигитальный спецэффект. Они возникают, когда на них наведен объектив, и исчезают с концом съемки. Комичность и жалкость их положения в том, что они путают власть с витриной власти, а себя, кукол, с кукловодами. Можно избирать их раз в несколько лет, но можно же и знать, что, отдавая голос тому или иному из них, всё равно, правому, левому или никакому, голосуешь не за людей, а за образчики компьютерной графики: накануне Великого переселения народов в www.
Базель, 8 июня 2005 года
Россия: мысли вслух
1.
Некоторая философская восприимчивость подсказывает нам, что, когда мы говорим «Россия» и не перестаем при этом думать, мы имеем в виду некую идею. Идея для мысли есть то же, что цвет для глаза или тон для уха. Мысль — орган восприятия идеи, которая в момент восприятия становится проблемой. Проблема — плоть идеи. Идея, не ставшая проблемой, оставалась бы призрачной. Если плоть изъязвлена болячками, то проблема являет себя как парадокс. Парадокс — это жало в плоти идеи. Россия, как идея, есть вместе: проблема и парадокс. Парадокс России сродни парадоксу кантовской вещи в себе в формулировке философа Якоби: без идеи мы не можем войти в Россию, с ней мы не можем там оставаться. Не можем войти, так как без идеи сюда некуда входить. Не можем оставаться, так как с идеей здесь негде оставаться. Вопрос необыкновенной важности: можно ли говорить об идее (русской и уже какой угодно) и не быть при этом ни платоником, ни антиплатоником![5] Tertium datur. Платоник мыслит идею ante rem, антиплатоник отождествляет её со словом, но идея не хочет быть ни госпожой восприятия, ни служанкой восприятия. Чем она хочет быть, так это самим восприятием. У платоника она трусливый бог, не осмеливающийся быть телом; антиплатоник культивирует трусливое тело, не способное быть богом. И если идея, для которой тело — это гроб (сома–сема), говорит по–гречески, то родной язык тела — английский. Англичанин, говорящий по — (древне) гречески, едва ли менее нелеп, чем (древний) грек, говорящий по–английски. Если есть авторы, которых следовало бы читать в переводе, так это прежде всего английские платоники от Кэдворта до Пейтера, оставляющие в оригинале впечатление неадекватного перевода с немецкого. Но вот отрывок из письма Томаса Джефферсона Джону Адамсу об одном из диалогов Платона[6]: «Одолевая причуды, ребячества и невразумительный жаргон этого произведения, я часто спрашивал себя, как могло случиться, что мир в течение столь длительного времени считался с такой бессмыслицей?» Нужно обратить внимание на тон, которым это говорится. Это тон победителя, навязывающего миру другую бессмыслицу (по сути, всё ту же, только с другого конца). Когда–нибудь поймут, что Локк, отец- основатель либерализма и gentleman, — это вовсе не антипод Платона, а всего лишь заговоривший по–английски и соответственно ставший невменяемым Платон.
2.
Идея физична и незрима. Идея — лес, в котором находишься физически, но который не видишь за деревьями. Можно сказать и так: деревья мы видим глазами, а лес умом, но умом мы видим (или как раз невидим) и Россию, которая есть в той мере, в какой её мыслят, и есть то, как её мыслят. Представлять себе дело так, будто сперва и прежде всего есть какая–то «загадочная русская душа», над которой потом ломают себе голову литераторы и уже кто попало, значит переносить на душу представления, полученные из физики твердых тел. Если русская душа «есть» и «загадочна», то как раз в той мере, в какой она помыслена, поволена, пережита. Парадокс души: её может и не быть, если её не живут и считают несуществующей. «В человеческом сердце, — говорит Леон Блуа, — есть места, которых нет; тогда туда входит страдание, чтобы они были»[7]. Душа не вещь, которую живут, потому что она есть; но она есть, потому что её живут. Вопрос в том, как и какой её живут. Философ, если он мужчина, а не гендерно сбалансированное существо, скорее всего предпочтет беседовать о душе с физиологом, чем с метафизиком, наверное потому что от физиологии легче прийти к метафизике, чем от метафизики к метафизике. В последнем случае приходят, как правило, к апокалиптическому кокетству, получившему в свое время, с легкой руки западных журналистов, гордое название «русская философия».Вопрос: вычитана ли загадочность из русской души или она вчитана в неё? Кардинальной чертой нашего времени является, как известно, говорение, в котором мысли отведено не более заметное место, чем иголке в стогу сена. Философы не составляют исключения. Скорее напротив: демонстрируют правило. Философы не просто говорят, а говорят о говорении. Когда–то они мыслили о мышлении, и говорили об этом. Теперь они говорят о говорении, и ухитряются при этом вообще не мыслить. Они комбинируют слова и называют это мышлением. Но слова комбинируют все. Значит ли это, что и мыслят — все? Скажите кому–нибудь, что он не умеет играть в футбол или шевелить ушами. Он лишь кивнет вам в ответ. А теперь скажите ему, что он не умеет мыслить. Это будет воспринято как оскорбление. Мыслить могут все, потому что все могут — говорить. Стать философом сегодня такой же пустяк, как стать художником. Некоторое время назад в одном из городов Германии была продана картина, нарисованная обезьяной. Речь шла о дебюте, и полотно оценили в 21000 евро. То, что обезьянам не приходит в голову дебютировать и в философии, объясняется, очевидно, чисто техническими причинами. Они не умеют говорить. Догадываются ли об этом философы? Проверить это можно, спросив их, понимают ли они вообще, о чем речь. Философы, после того как их стали лупить в комедиях Мольера, слышат лишь то, что сами и говорят. Абсурдному cogito, ergo sum, они предпочли сначала более практичное dico, ergo sum, а после и dico, ergo est. Говорю, следовательно, существует. Иначе: существует, потому что говорю. Или даже: пока говорю. Si tacuisses…
4.
Механизм действия формулы исключительно прост и экономен. Сначала какой–то ловкий психиатр расписывает душу как эдипову, после чего к нему ломятся пациенты, обнаружившие в себе названный комплекс, который реален не потому, что он есть, а потому, что назван и вмыслен. Врачу вовсе не обязательно читать Канта, чтобы быть кантианцем; достаточно того, что он не знает иных болезней, кроме тех, которые сам же и вкладывает в больного. Наивный человек ищет болезнь в себе, в собственном организме, тогда как искать следовало бы в диссертациях и научных публикациях, откуда она (продуманно и гарантированно) попадает в организм. Кантианец Форлендер, называя вещь в себе «досадным пережитком средневековья», имел в виду метафизику; отчего бы и не медицину! Разве не очевидно, что средневековье исчезает из медицины столь же бесследно, как оно исчезло из потребительской жизни. Каждому ясно, что вещь хотят не потому, что нуждаются в ней, а потому что увидели её на витрине. Это значит: сначала создается вещь (шариковая ручка, которая в то же время есть часы, будильник, штопор, зубная щетка, диктофон, дезодорант и отвертка), а потом, по вещи, и потребность в ней. На этой незадачливой схеме держится сегодня ритм жизни. Вещи называются, чтобы быть. Когда же они есть, они есть то, как их назвали. Например, Уинстон Черчилль естьвеличайший из всех когда–либо живших англичан, потому что большинство опрошенных англичан назвали таковым именно его. В Германии аналогичная затея потребовала оговорок. Из страха, что публика могла бы вспомнить опыт одного всенародного голосования 1933 года, к вопросу: величайший из всех когда–либо живших немцев? — добавили: кроме Адольфа Гитлера. Ретивые потомки хотели, конечно, за упокой, а получилось за здравие. В финал вышли Гёте, Аденауэр и какой–то эстрадный педераст. И хотя большинство решило в пользу Конрада Аденауэра, оговорка продолжала оставаться в силе: кроме Адольфа Гитлера.
5.
Россия — мысль, имя. Известно, что в коллекции причуд бывшего российского президента нашлось место и русской идее. Ему захотелось вдруг русской идеи, совсем как сказочным царям своих сказочных красавиц. Красавиц добывали царям витязи; поиск идеи был поручен интеллигентам. Витязи влюблялись сами и метались между страстью и долгом. Интеллигенты не влюблялись и не метались, а просто вернулись с пустыми руками. Старые неисправимые платоники марксистско–ленинской закалки, они и в самом деле добросовестно искали, вместо того чтобы находить. Искать было нечего, а чтобы найти, им не хватало умения самим найтись в новых условиях дискурса и усвоить роль компрадоров между заветшалым отечественным рынком идей и — новинками«постмодерна». Можно было, правда, порыться в бердяевской барахолке и извлечь на свет старых испытанных ублюдков вроде эсхатологии или апокатастасиса, но атеистическая прививка, слава Богу, оказалась сильнее. Короче: прежние философские суггестии (типа 10 вопросов референту) уже не помогали, а деконструктивизмы еще не срабатывали. Ельцину впору было пригласить японцев или шведов. Они бы уж точно нашли ему русскую идею. От тайги до британских морей. Или в ином геополитическом макияже: от острова Чукотка до клуба Чэлси.
6.
Если идея для мысли есть то же, что цвет для глаза или тон для уха, то искать или изобретать её не менее бессмысленно, чем искать или изобретать цвет и тон. Идею мыслят. Или видят. При условии что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит. Слепой глаз не есть глаз художника. Как же могло случиться, что по слепой мысли узнают философов? Наверное, потому, что глаз заменить нечем, а мысль легко подменяется — словом. Но подменить мысль словом, всё равно что подменить себя собственным отображением в зеркале. Или: считать отображение оригиналом, а себя копией. Философы, как и нефилософы, говорят о мире вовне и мысли внутри. Или: они говорят о реальных вещах, которые в мире, и о мыслях, понятиях, которые не в мире, а в голове. Как будто сама голова не в мире! Как будто мир — это всё, кроме головы!
Философ находит мир в своей голове, но никак не голову в мире. В мире он находит какие угодно вещи, скажем, цветок на лугу. Чего он в нем не находит, так это понятия цветок, потому что (объясняет он) цветок в мире, а понятие в голове. От этого слабоумия путь ведет затем к экологическим заботам о природе, которую тщетно охраняют от загрязнения, не видя, что корень зла не в выхлопных газах автомобилей, а в выхлопных мыслях ученых голов, так называемых интеллектуалов, от которых единственно и следует защищать природу, историю, жизнь. Мы скажем: цветок, как и понятие цветка, — в мире: один раз в той части мира, которая называется природой, другой раз в той части, которая называется головой. Мысль, как раз в своем качестве мысли о мире, есть — мир, причем в самой высокой точке эволюции. Но мысль может быть видящей или слепой. Видящая видит идеи, слепая выдумывает их. Истина, становящаяся уже едва ли не банальной, но именно оттого и нуждающаяся в регулярном напоминании: прежде чем мир, в котором мы живем, стал реальным, он был выдуман. Остается выяснить лишь: кем. Мы отслеживаем и отлавливаем отцов–основателей нашего мира, от Декарта и Локка до Маркса, Эйнштейна, Чаплина и Фрейда. Но и этот мир стареет на глазах, так что не только нашим детям, но отчасти уже и нам приходится осознавать себя в смене декораций и осваивать новую технику адаптации: в свете невыносимо легкого узнания, что мир, идущий на смену вчерашнему, выдуман уже не философами, физиками, теологами, ни даже лицедеями, а всего лишь небритыми и неопрятными молодыми людьми, представляющими «четвертую власть» и воспринимающими мир не иначе, как в перспективе замочной скважины.
7.
Когда–нибудь научатся понимать, что нет более мнимой величины, чем политика, и более ненужных людей, чем политики. Политика в наше время — это уже не (бисмарковское) искусство возможного, ни даже (наполеоновская) судьба, а последнее прибежище негодяев, годных самое большее на то, чтобы быть народными избранниками. По существу, негодными избранниками, если угодно, избранными негодяями. Но что за это народ, который избирает негодяев, и, наверное, оттого их и заслуживает! Все согласны в том, что правительство плохое. А что, разве народ лучше? Два сапога пара: политикам нравится быть «сенаторами» или (сказать — что сплюнуть) «омбудсменами», а народу «электоратом». Особенно после долгого сидения в наморднике «пролетариата». Шутка в том, что демократия в России и есть — раз в четыре года — диктатура пролетариата. Обещание было–таки сдержано; власть (раз в четыре года) стала на самом деле народной. Только вот за всем этим карнавалом упустили из виду одну деталь, ту самую, в которой, как говорят немцы, и торчит чёрт: чтобы власть стала народной, понадобилось, чтобы народ стал никаким. На современном жаргоне: демократия деконструктивирует «демос», превращая его в стохастическую функцию социологических или политологических дискурсов. В демократии, собственно, и нет народа, а есть некий симулякр с опцией «Константинова дара», даруемого раз в четыре года каким–то проходимцам, из тех, кому удается завоевать симпатии «народа», для чего их и натаскивают специальные дрессировщики, называющие себя политтехнологами. Полуживого Ельцина, например, шалуны заставили даже отплясать «шейк», чтобы «молодежь» учуяла в нем «своего». (Хорошо хоть, что не дали потянуть «травки».) Оглашается волшебное слово «рейтинг», после чего немногие овцы влезают в волчью шкуру, а прочие остаются в овечьей. Собирают бюллетени и называют это волей народа. Но считать народом количество людей так же бессмысленно, как считать литературным произведением количество слов, а то и букв; народ — это не толпа на митинге, не улюлюкающая шпана на улице и не голосующая масса; народ — это репрезентативное понятие, получаемое не суммативно, а креативно. Как из букв алфавита может сложиться сквернословие, а может и молитва, так и из количества людей может получиться толкотня, электорат или народ. Видя в народе статистическую данность, находят только толпу в очереди, которой сбывают негодных политиков по той же схеме, что и палёную водку. Случай нередкий в истории, когда большинство принимает губительные для себя решения, так что становится необходимым спасать народ от народа. «Мы нуждаемся в слове, — говорит Гёте[8], — которое выражает отношение народности к народу, подобно тому как детство относится к ребенку. Воспитатель должен выслушивать детство, а не дитя; законодатель и правитель — народность, а не народ. Народность постоянна в своих свидетельствах, она разумна, устойчива, чиста и истинна; народ же, одержимый сплошными желаниями, никогда не знает, чего он хочет. Закон именно в этом смысле может и должен быть всеобще выраженной волей народности, волей, которую никогда не обнаруживает большинство, которой, однако, внемлет рассудительный, которую умеет удовлетворить разумный и которую охотно удовлетворяет настоящий правитель». Основной дефект демократии даже не в том, что она антинародна, а в том, что в ней не может быть места народу. Достаточно сравнить сегодняшнюю демократию в России с вчерашним тоталитаризмом, чтобы согласиться, как минимум, с тем, что вероятность преображения в народ так называемых «совков» превышала аналогичную возможность рыночного поколения приблизительно во столько же порядков, во сколько возможность понять это у умного демократа превышает ту же возможность у демократа глупого. Нигде не явлено это с такой обреченной ясностью, как в Европе. Шутник- художник, предложивший заменить надпись на портале немецкого рейхстaгa«Dem deutschen Volke!» (немецкому народу) надписью «Der deutschen Bevolkerung!» (немецкому населению), попал, сам того не ведая, в точку. «Народ» — категория истории, а немецкая история до сих пор буксует между 1871–1945 гг. Преимущество «населения» в том, что, находясь в истории, оно ничего не знает об этом и не хочет знать. Демократический «шеф» не говорит: «мой народ»; он говорит: «мои избиратели» (в идеале: «мое население»). Короче, старая рейхстаговская надпись не только архаична, но и опасна, потому что — и здесь демократический инстинкт проявил себя на редкость верным образом — где народ, там и вождь, а где вождь, там нечего делать населению. Идеальным вариантом было бы даже не: «Der deutschen Bevolkerung!», а: «То the German People!», потому что, в отличие от Bevolkerung с затаившимся в нем коварным Volk, у people едва ли можно даже заподозрить возможность осознать себя однажды «народом».
8.
Пока философы не научатся мыслить подвижными понятиями, они будут, стоя лицом к лицу с реальным, заслоняться от него словами и обосновывать — номинализм. Что останется от народа, если отвлечься от слова и понятия «народ» и сосредоточиться на его реальном содержании! Наверное, не больше, чем страничка из справочника демагога: плакатные реминисценции с обязательным «всякой твари по паре». Социологии не повезло; она родилась мертворожденной; зато повезло тем, кто ничего не знает об этой смерти и оттого как ни в чем не бывало занимается социологией. Момент её рождения пал на эпоху «Бернаров» и «хрустальных дворцов», когда всё интеллигентное равнялось на науку, а наука равнялась на математику: с похвальным рвением неофита, стремящегося получить право на стул в университетском парадизе. Ирония заключалась в том, что сама математика, страдавшая в названное время жесточайшим кризисом, сбрасывала с себя прежнюю кожу и была уже другой: не старой математикой количеств и счета, а новой математикой качеств и гештальтов. На эту старую математику и равнялась социология в своем рвении стать наукой. Результатом стало неизбежное вырождение в статистику, в голые столбцы человеческого поголовья, выдаваемые за волю и выбор. Но подсчитывать голоса и выдавать полученную сумму за волеизъявление народа — не наука, а мошенничество. Числообразует сложение, а не образуется сложением; если 10 — это десять раз единица, то чтобы десять раз сложить единицу, надо уже иметь 10. Равным образом и слово слагается из букв только оттого, что предшествует буквам и организует их должным образом. Вопрос: кто же организует количество людей, индицируемых по общности территории, языка, крови, нравов, обычаев в народ, соответственно, в массу, толпу, сборище? Мы скажем: внешние обстоятельства: случай или, если угодно, судьба. Тысячи и тысячи людей сводятся воедино и принимают до неузнаваемости различные формы, некоторые из которых могут быть народом. Следует отличать сырье, или исходный материал, от получаемых из него фигур и композиций. Толпа, ревущая на стадионе, — это не народ. Пролежни людских тел на вокзалах или в часы пик на остановках — тоже не народ. Но они в любое мгновение могут стать народом, если этого хочет случай, судьба и вдохновение момента. Амплитуда раскачки отмечена полюсами от «сброда» и «быдла» до «братьев и сестер». Демократы, как и аристократы, связаны одной ошибкой: они путают народ с сырьем народа, и смотрят на него один раз снизу вверх, другой раз сверху вниз. Ошибка в том, что они мыслят не подвижными и сообразными действительности понятиями, а логическими самоклейками. Иной знатный римлянин мог, конечно, презирать толпу, падкую до «хлеба и зрелищ». Но разве не перехватило бы у него дыхание при виде жителей осажденной Нуманции, которые, приняв вынужденное решение сдать город, все до одного покончили с собой, чтобы жутким величием жеста омрачить врагу радость победы!
9.
Политика — служанка философии. Политика — это всегда насаждение некой философии, кнутом ли, пряником ли, всё равно, — насаждение тем более эффективное, чем меньше догадываются об этом сами садовники. Александр мог еще знать или догадываться, что он распространяет по миру греческую идею, которой стало тесно в пределах аттического мира. А Наполеону пришлось бы дожидаться Шпенглера, чтобы узнать, что он (французской кровью) утверждал на континенте английскую идею. Политики фотогеничны и любят шум. Философы вытеснены абстракциями. Но не увидеть философа за идеей, всё равно что не увидеть художника за произведением искусства. Греческая идея — это Аристотель, а английская идея — это Локк: в том же точно смысле, в каком Высокая месса hmoll — это Бах, а автор модного тезиса о смерти автора — это некий француз, не отказавшийся за свой тезис от авторского гонорара. И если география стран узнается по карте, то их идею мы опознаем по немногим именам. «Когда мне было восемнадцать, — говорит однажды Гёте[9], — Германии тоже едва минуло восемнадцать». Нужно только спросить: кто смог бы сказать такое о себе и о России? Русская идея — сверстник России: некто потеп nominandum, по самосотворенной единичности которого можно было бы идентифицировать русское, как таковое. Совсем по–флоберовски: «Госпожа Бовари — это я». И только потом уже: текст, знаковая система, структура, интерпретация, что угодно. Пример заразителен. Когда–нибудь и в философии откажутся говорить о «русской идее» иначе, чем считывая её с того, кто мог бы сказать: Россия — это я. Или, отрешеннее: о ком можно было бы сказать: Россия — это он.
10.
Особенность «русской идеи» (её прежних и нынешних двойников) в том, что она не русская. Россия с Петра — день М, гон спозаранку, сжатая до countdown рекапитуляция западного тысячелетия, если угодно, метаморфоз, но только в знаке не Гёте, а Овидия. Час недоросля, который горазд рассуждать обо всем, не желая ничему учиться. «Запад прошел школу, а мы только плохо учились у Запада, тогда как нам нужно пройти ту же школу, что проходил Запад. Нам учиться всегда недосуг, вместо схоле у нас асхолия. За азбукою мы тотчас читаем последние известия в газетах, любим последние слова, решаем последние вопросы. Будто бы дети, но на школьной скамье, мы — недоросли. Такими родились — наша антиномия — от рождения, вернее, от крещения: крестились и крестимся по–византийски, азбуку выучили болгарскую, книжки читаем немецкие, пишем книжки без стиля» (Густав Шпет). И умудряемся при этом считать себя наследниками. «Москва — третий Рим». Но почему же только Рим? Почему не Иерусалим, Париж, Флоренция или, перспективнее, Вашингтон, Пекин, Киншаса? Похоже, былинный Стаханов, задолго до того как стать забойщиком, успел побывать в интеллигентах: едва стали прорезываться зубы, а уже заговорили о собственных Невтонах. «Отчего эта фатальная спешка? — недоумевал Жозеф де Местр[10]. — Можно подумать, перед нами подросток, которому стыдно, что он не старик. Все прочие нации Европы два или три века лепетали, прежде чем стали говорить: откуда у русских претензия на то, что они заговорят сразу?» И как заговорят! «Мы давно уже философствуем о последнем», грозился Бердяев[11]. В этом «мы» и в этом «давно» ключ для диагностика. Вождя революции трудно заподозрить в способности к юмору, тем более травестийному, но трудно и отделаться от впечатления, что философский корабль 1922 года снаряжался не без аллюзии на Себастьяна Бранта.
11.
Бердяевская гасконада имеет продолжение: «под знаком Достоевского». Тут вся разгадка. Они просто спрыгнули со страниц Достоевского в «сюда» и представились — философами… «И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время». А всё от недостатка адекватности и вкуса; русская философия, как бы она ни маскировалась Кантом, Гегелем и Ницше, берет свое начало не в трактатах, а в трактирах, и шокирует почти неприличным максимумом жизненности. Чтобы быть философами, им нужно было не углубляться в проблемы, а раззвучивать их аварийными сигналами. Особенности национального философствования вполне умещались в рамках правила: quand on prend du galon, on n'en saurait trop prendre, что в вольной русской передаче могло бы означать: одна рюмка — в самый раз, две — слишком много, три — недостаточно. О последствиях можно было не думать. Там, где философия равнялась на жизнь, жизни не оставалось иного выбора, как равняться на философию. В некой воображаемой истории «русской идеи» все эти Бердяевы, Шестовы и Эрны соперничают с героем–забойщиком, нарубившим своим отбойным молотком за 5 часов 45 минут 102 тонны угля. Что ни книга, то одиннадцатиметровый, выпуливаемый в вечность: «Смысл творчества», «На весах Иова», «От Канта к Круппу», «Самопознание», «Опыт эсхатологической метафизики». Наверное, им и в голову не приходило, что возможен какой–нибудь иной опыт, кроме эсхатологического. Они и стали реальными теоретиками этого опыта и ipso facto отцами–основателями советского эксперимента; недаром же юность некоторых из них помечена посвящением в марксизм, которому они впоследствии лишь по видимости предпочли эсхатологию; на деле речь шла о центрифугировании марксизма, слишком буржуазного в своем европейском оригинале, чтобы быть идеологией жизни, как исключительного состояния. Если опыт эсхатологической метафизики где–то и оказывался реальным, то уж никак не в самих философиях, а в срезах жизни, не имеющих к философии никакого отношения и даже противопоказанных ей. Бердяевское «мы», стоящее «под знаком Достоевского», обнаруживает почти универсальную пропускную способность: можно наверняка подставить сюда не только хтонического божка Стаханова, показывающего трудоголикам–гномам «кузькину мать», или кукурозософа Хрущева, обгоняющего Америку по производству мяса, молока и яиц, но и нынешних чикагских мальчиков–реформаторов с их «дефолтами» и «500 днями». История русской идеи, от «детей страшных лет России» до «веселыхребят», есть некий паралипоменон к Достоевскому, где место богомольцев занимают комсомольцы, а мужик Марей, начав с грабежа и поджога усадеб, кончает тем, что становится кулаком (или — при ином раскладе — раскулачивающим).
12.
В самом деле: «мальчики» Достоевского, в романах, то есть, в оригинальной версии, не просто философствуют, а только в паузах между своими безобразничаниями. Какой–нибудь Раскольников был бы смешон, взбреди ему в голову пером, а не топором, доказывать себе, что он не «тварь дрожащая». Он ведь и начал было с «пробы пера», но быстро отложил его в сторону и схватился за топор. Русские философы пера не откладывали, зато пользовались им как топором. Маргарита Волошина рассказывает, как ей пришлось однажды знакомить в Париже Мережковских с Рудольфом Штейнером. «Когда мы с Максом рассказали им о присутствии Рудольфа Штейнера, они пожелали познакомиться с ним. Мы пригласили их вместе с другими русскими. Об этом вечере, который мог бы стать для нас праздником, я вспоминаю с ужасом, так как Мережковский явился с целым грузом предубеждений против Рудольфа Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на диване, надменно лорнировала его как некий курьезный предмет. Сам Мережковский, очень возбужденный, устроил Штейнеру нечто вроде инквизиторского допроса. „Мы бедны, наги и жаждем, — восклицал он, — мы томимся по истине“. Но при этом было ясно, что они вовсе не чувствуют себя такими бедняками, а, напротив, убеждены, что владеют истиной.
„Скажите нам последнюю тайну“, — кричал Мережковский, на что Штейнер ответил: „Не раньше, чем Вы скажете мне предпоследнюю“»[12]. Эта зацикленность на «последнем», которой они не переставали гордиться даже в эмиграции, производит гнетущее впечатление. Особенно когда в «последнем» не находишь ничего другого, кроме сплошных приправ. Достаточно было взять какую–нибудь немецкую или французскую мысль и переперчить её до той степени, после которой её уже не мыслят, а чихают, чтобы внушить себе и другим, что это и есть «последнее». В России, как известно, легче выполнить пятидневную норму за пять часов, чем пятичасовую за пять дней, и не секрет, что русскому человеку легче дается сердечность и отзывчивость, чем вежливость. Это бытовые проекции русской философии: своеобразное состояние души, при котором, как заметил однажды Поль Валери [13], уединяются в комнате, чтобы играть на тромбоне. Соль ситуации не столько в том, что судьбам России предшествовали всегда мысли о России, сколько в том, что русскими были не мысли, а именно судьбы. Мысли были чужими, но чужесть настолько переперчивали и пересаливали, пока она не становилась «своей». Русская идея (в галерее её двойников) чужеязычна: она говорит по–гречески, посильно чурается латыни, вытягивается в немецком, млеет от французского, дегенерирует в английском. «Иванушки интернэйшенел». Это уже та грань растяжки, после которой пружина не возвращается обратно. Очевидно, в одержимости «последним» есть предел, когда последнее и впрямь оказывается последним. Высланная русская философия ошеломила Запад по тем же каналам воздействия, что и «русская рулетка»; но милости выстрела они всё же так и не удостоились, и умерли (совсем как у Платонова), прежде чем успели нажать на курок.
13.
Конец жанра. В нозологическом диагнозе русской идеи последнего десятилетия имя «Александра Сергеевича Пушкина» произносится на одном дыхании с «Аллой Борисовной Пугачевой». Похоже, из всех европейских Хлестаковых, выдумывавших со времен Петра Россию, нынешний англоязычный оказался наиболее удачливым. Идея, едва заговорив по–английски, сошла с ума. Не то, чтобы она не сходила с ума и прежде, на иных наречиях, но решающим оставалось не то, что сходила, а то, куда именно сходила. И если раньше местом схождения были разного рода византизмы и харизмы, то теперь это было БЛАТНОЕ. Блатное, помеченное всегда индексом differentia specifica, оказалось вдруг родовым признаком, genus proximum. Достаточно бросить беглый взгляд на английскую историю в аспекте нравов и быта (непревзойденно описанную Тэном в третьем томе его «Истории английской литературы»[14]), чтобы оспорить у российского беспредела его патент на исключительность. Сидней Смит, побывав в 1826 году в Кале, удивлялся французскому вежеству: «Such is the state of manners, that you appear almost to have quitted a land of barbarians. — I have not seen a cobbler who is not better bred than an English gentleman» (Уровень нравов таков, что почти кажешься себе прибывшим из страны варваров. — Я так и не увидел сапожника, который не был бы более породистым, чем какой–нибудь английский джентльмен). Да, но и Англия не была бы родиной номинализма, если бы решающая роль в различении вещей оставалась не за номинативной, а за реистической функцией; в сопоставлении сапожников и джентльменов последнее слово принадлежит не делу, а — слову, даже если на деле сапожники — «граждане Кале». Номинализм — это специфически английская одаренность, породившая в области мысли философию Локка, а в будничной жизни, скажем, следующее: группа людей останавливает случайного прохожего, сплющивает ему нос и выдавливает ему пальцами глаза до тех пор, пока они не вылезают из орбиты. Вы скажете: это хулиганы, и будете неправы. Это джентльмены (члены одного из самых аристократических лондонских клубов, клуба могикан, времен философа Локка и королевы Анны). Неважно, что они делают и что говорят; главное, кто они есть, а есть они то, как они называются; номинативно–моральная техника, позволяющая хулигану с такой спокойной совестью иестественностью представляться джентльменом, что он в самом деле оказывается джентльменом, есть английский патент для исключительно английского пользования, потому что, только будучи англичанином, можно почти на онтологическом уровне вжиться в эйдос респектабельности. У других это просто не получается, и если другие мечтают тем не менее стать англичанами, то становятся они просто посмешищем. Наверное, в русском случае, как ни в каком другом, аберрация и достигла того предела, после которого пружина как раз теряет свою пружинность.
14.
Мы просто сопоставляем оба первофеномена, русский и английский, и получаем абсурд несовместимости, или, иначе говоря, полярность правдивости и лживости, где, с одной стороны, правду мучительно ищут, потому что сидят по уши во лжи, а с другой, сидят во лжи, потому что даже не сомневаются в своем патенте на правду. Этот последний случай обозначается непереводимым словом cant. Макс Шелер [15] в острейших анализах вскрыл психологию английского cant. «„Cant“ — это самобытное состояние сознания, позволяющее говорить и делать всё то, что другие, которым оно недостает, могут говорить и делать только в форме лжи и с „дурной“ совестью, без этой формы и не просто с честным и добропорядочным видом, что под силу и обыкновенным лгунам, — а с „чистой совестью“ и прочувствованной убежденностью в сказанном и содеянном. […] Cant — это „эквивалент лжи с чистой совестью“». Можно сказать и так: cant — это ложь, настолько усвоившая повадки правдивости, что для устранения её пришлось бы устранить саму правдивость. Понятно, что первое, с чем сталкивается здесь иностранец и с чем в иностранцах сталкивается англичанин, — это проблемаадекватности. Можно хорошо знать английский, но плохо понимать англичан, как, с другой стороны, ничто не мешает англичанину знать, скажем, французский и считать, что на нем нельзя говорить, без того чтобы лгать; когда Тэн [16] ставит под сомнение возможность перевести на английский Лафонтена, мадам де Севинье, Вольтера, Монтескье, Курье, он имеет в виду те импликации и нюансы французской стилистики, в которых язык перестает быть медиумом общения или сообщения и функционирует на уровне мышечного рефлекса. Можно было бы расширить область аналогий и спросить, как это выглядело бы в случае русских импликаций? Скажем, у Розанова или у Достоевского, говорящих на языке cant! Или у знаменитого лепидоптеролога из швейцарского Монтрё, которого по той же логике считают великим русским писателем, по которой сам он считал Ходасевича непревзойденным поэтом XX века. Надо обладать почти трансцендентным чувством юмора, чтобы пересадить этот, говоря вслед за Шелером, «душевный нарост, который в отдельных своих элементах […] хоть и встречается всюду в мире, но в своей неповторимой цельности и в своем ни с чем не сравнимом аромате процветает только в Англии», на русскую почву. Речь идет здесь уже не о лжи, въедающейся в правдивость, а о правдивости, старательно усваивающей опыт и навыки лжи. С переходом на режим языка и ео ipso психологии cant в русской идее произошли непоправимые сдвиги. Убить царя в России — это совсем не то, что убить его в Англии. Цареубийство по–английски: короля скидывают с трона, но вскоре снова сажают на трон. То, что в промежутке его укорачивают на целую голову, — мелочь, заметить которую не позволит себе ни один джентльмен. Король — это привычка (в Англии, если верить Юму, привычка даже «Я»), а отказываться от привычек хлопотное дело. Потребовалась еще одна — «славная» — революция, чтобы и волки были целы, и овцы сыты. Некоторое время назад можно было узнать из газет, что премьер–министру Блэру как–то позвонила королева. Господин Блэр был в вертолете и, очевидно, занят, потому что его секретарь, ответивший на звонок, попросил Её Величество перезвонить позднее. Это абсолютно верифицируемый, фантомный, рецидив одной ампутации 1649 года. — Совсем иначе, и банальнее, обстоит дело с цареубийством по–русски, где работающая английская модель «с царем без головы» оборачивается параноидальным состоянием «без царя в голове». Никакой «славной революции» в России не было и не могло быть по определению, а могла быть (и была) единственно «разборка», начавшаяся в Ипатьевском доме и продолжившаяся в московских процессах, хотя стрелку при случае могли забить и в Мексике. С Горбачева — диадоха, просадившего корону, — «английский сценарий» выходит на новый виток. Горбачев — недаром же выпрямлялся он в присутствии Тэтчер до своей прежней аватары тракториста — это еще один «унесенный ветром», но удавшийся Керенский, а «перестройка» — рекапитуляция февральско- мартовских событий с модуляцией в «бархатный» октябрь. Точка наводки находилась на этот раз не в людях, из которых «делаются гвозди», а в одном из них: карнавальном Ельцине, единственном прирожденном большевике не только среди окружающего его «авторского коллектива», но и на фоне деградировавших ГКЧП- истов. Ему просто хорошенько внушили, покружив его сперва несколько раз вокруг статуи Свободы, что — «свет с Запада», после чего он с таким азартом врубился в западную роль, что выходить из неё к «настоящему себе» ему удавалось больше через винные пары и более натуральные дурачества. Рожденный стать «генсеком», он очнулся вдруг «президентом», и эта знаковая перестановка стала для него (как и для Горбачева) роковой. «Президенты» в России были и при генсеках, скажем, Калинин при Сталине; но от генсека Сталина, и даже еще от генсека Брежнева, ближе было дотянуться до былых ханов и царей, чем до сподручных Калинина с Подгорным. Президент в России — это всё равно, что королева в Англии, только без английской монополии на правдивость и чистую совесть. Оба репрезентируют не власть, а индекс (номен) власти, под легитимной вывеской которой и расположилась настоящая власть: члены клубов (вроде названного выше клуба «могикан») в Англии и нацепившая на себя английские знаки отличия шпана в России.
Эффект демократии в Ельцине превзошел все ожидания. Наверное, он насаждал её с таким же рвением, с каким, будучи обкомовским секретарем, выполнял пятилетки. Но в том, русском, своем, карнавале он чувствовал себя как дома; отторжение началось с вживления карнавала заморского. 'Удивительно было наблюдать на этом последыше меченосцев замашки власти в условиях абсолютной неадекватности; Хрущев, тяготясь послесталинским фантомным чувством, мог еще стучать ботинком по столу, что, хоть и вызывало смех у тех, на кого он стучал, но смех, больше походивший на тик, чем на смех собственно; никто не знал, как среагировал бы непредсказуемый скиф, подвернись ему под руку вместо ботинка — (та самая) кнопка… Над Ельциным смеялись уже не нервно, а громко; он и был смешон: мужик, посвящаемый в мальтийские рыцари, медведь, играющий в теннис или спьяну дирижирующий каким–то духовым оркестром; памятная, заснятая, сценка встречи двух президентов, американского и русского, где американец (Клинтон) неприлично долго хохочет над Ельциным, свалявшим какого–то очередного дурака, достойна самого серьезного внимания: так смеются после десятилетий воздержания, когда позволили, наконец, смеяться над ультразавром, лезущим из кожи вон, чтобы показаться «о'кей». Эффект клинтоновского смеха своеобразно скликался с эффектом laxans purgativum в только что преставившемся советском обществе. Можно было лишь дивиться находчивости интеллигентных проходимцев, умудрившихся назвать прорвавшийся гнойник страха «реформами». Страх — еще с горбачевских обещаний и призывов — сменялся настороженностью; дело было не в либерализме лозунгов, а в их феерической топике: как если бы заматеревшие людоеды заговорили вдруг о необходимости вегетарианства или даже раздельного питания, а обслуживающие их интеллектуалы подвели этот бред под графу «новое мышление». Поверить в то, что людоеды, а тем более отечественные, заделались либералами, мог только дурак, что, впрочем, ничуть не означало провала предприятия, а свидетельствовало, напротив, о необходимости нового экспериментального витка в его проведении. Если только дурак мог в России поверить в демократизацию страны, то дело понятным образом упиралось в обеспечение нужного количества дураков. Притом, что само «количество» было вполне регулируемой величиной социологических технологий… Для всего, что началось потом, трудно подобрать иное слово, чем облатнение. Дело было не в бандитах в обычном расхожем смысле; они- то как раз оставались на своих местах. Блатным оказывался СТИЛЬ ЖИЗНИ, после того как жизнь стала ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ, соответственно: вчерашние чиновники, комсомольцы, журналисты, политики, писатели, профессора, интеллигенты и уже кто попало — ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ.
Всё выглядело аккуратно срисованным с западных оригиналов; да и мыслимо ли было рассчитывать на гражданское общество без презумпции предпринимательства, без откупоривания всех бутылок рынка и выпускания на волю разом всех демонов коммерции! — но вот только за всем не учли одного: абсолютной несоразмерности цели и средств. Если уж так приспичило сделать из России Г олландию, то не на голландский же манер! На голландский манер это, худо ли, хорошо ли, сделали сами голландцы; в России, раз уж голландская идея не давала ей покоя, пришлось бы браться за дело по–русски: в память об одном «медном всаднике», как раз с этой целью и вздернувшем её на дыбы. Перестройщик Петр, хоть и безумец, но не смешной, заставил–таки Россию вздрагивать в такт европейскому метроному, да так, что в скором времени родоначальникам её сознания и речи приходилось, в часы вдохновения, выбирать между русским и французским. «Насилу мил не будешь» — это, конечно, не для России, где «милое» только и насаждалось, что силой. Главное: в России, одним из столбовых мифов которой стала «непредсказуемость» и «бесшабашность» русского человека, ничего в государственных масштабах — по крайней мере, начиная с Петра, — не делалось «на авось». Достаточно уже сравнить русскую политическую историю XIX века с одновременной французской, чтобы невооруженным глазом опознать всю солидность российской государственности на фоне сплошных дерганий государственности французской, которой, после долгих и кровавых колебаний между монархией и республикой, довелось–таки быть отданной на милость голосования и стать республикой преимуществом в один голос. «Бесшабашность» русской государственности впервые внятно проступает в «перестройщике» Хрущеве, гудит всеми аварийными сигналами в Горбачеве и завершается упразднением государственности в Ельцине. Ничто не характеризует эпоху Ельцина адекватнее, чем случай с двумя пьяными озорниками, поспорившими, кто кого переплюнет в лихости; один, взяв электропилу, поднес её к свободной руке и отхватил себе палец, после чего другой, окинув соперника презрительным взглядом, вырвал у него из руки электропилу и полоснул ею себя по горлу… Конечно же, «Борис Николаевич», сподобь его судьба на такое осуществление своих амбиций, проявил бы лидерство и здесь; он и отхватил–таки голову тысячелетнему чудовищу («чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй»), отдав страну — случай беспрецедентный! — на разграбление собственному населению (об этом неповторимом времени скажут впоследствии, что деньги валялись на земле, и только ленивый не наклонился бы, чтобы поднять их).
16.
Еще раз: дело было не в перестройке (неизбежной, поскольку однажды уже начатой антисталинистом Хрущевым), а в абсолютной негодности средств её осуществления. Она и началась (как всё в России) сверху вниз, но несчастьем её было, что осуществлялась она не как ВОЛЯ инициатора, а как малокровное ПРЕДСТАВЛЕНИЕ шестидесятника, которому в свое время более умные (начитанные) товарищи внушили парочку–другую импортных макс–веберовских идей… То же, но в гигантском увеличении, повторилось с демократией и реформами; инициатива вертикали была окончательно передана низам, сиречь, гражданам, после чего одуревшие от сказочной «халявы» низы (граждане) взялись не за вилы, а за калькуляторы, ежедневно подсчитывая прибыль в масштабах, о которых не мечтали и во снеdramatis personae веберовского капитализма. Конечно, это был всё тот же русский бунт, бессмысленный и беспощадный, только на сей раз в непривычной для бунтовщиков семиотике «бизнесменов» и «менеджеров»; но кто бы, при наличии ушей, могущих слышать, не услышал бы старого свиста волжских ушкуйников «сарынь на кичку» за сплошными англицизмами напряженно учтивых «кидал»!… Еще раз: Россия — мир, которого нет, но который ежемгновенно чувствуется и мыслится, чтобы быть. Главное, увидеть её, сегодняшнюю, с точки перепутья, откуда равным образом просматриваются стороны, справа и слева: тьмы практиков, тактиков, спикеров, хакеров, брокеров, рокеров, джокеров, с одной стороны, и коммунистических, православных или уже чуть ли не языческих ностальгиков, с другой, — две стороны единой медали: «За выдающиеся заслуги в насаждении бессмысленности», именно: двойной, реверсивной бессмысленности, где одни оборотни сначала заводят в один — сегодняшний — тупик, а другие потом выводят из него в другой — вчерашний; расчет, что и говорить, блистательный, потому что как же не возопить от всех этих эстрадных бацилл, блатных «генеральных директоров», писательско–издательской «братвы» и выстаивающих всенощную докторов «научного коммунизма» к блаженным временам Колымы и Соловков!… Дело совсем не в демократии, которую сегодня (гласно) поносят, как вчера (негласно) поносили коммунизм; демократия — это тот же коммунизм, только в более изощренном, извращенном виде; о демократии неплохо обмолвился однажды (к сведению шестидесятников!) Макс Вебер в полемике с Людендорфом[17] в 1919 году. После того как Вебер возложил часть вины за немецкое поражение на Верховную Ставку, а Людендорф парировал удар, назвав своего собеседника «демократом» и совиновником революции, спорщики заговорили вдруг как по писаному. Вебер: «Вы, что, думаете, я считаю демократией свинство, которое мы имеем сегодня?» Людендорф: «Что же тогда понимаете Вы под демократией?» Вебер: «В демократии народ избирает себе вождя, которому он доверяет. После чего избранник говорит: „Теперь помалкивайте и по- винуйтесь“. Ни народу, ни партиям не дозволено больше перечить ему». Людендорф: «Такая „демократия“ мне по душе». Без сомнения, она была бы по душе и нынешним почитателям отечественных «Людендорфов». Вопрос в том, где найти вождя, смогшего бы сказать избравшим его: «Теперь помалкивайте и повинуйтесь». А там безразлично, как бы всё называлось, застоем или перестройкой. Или, если угодно, демократией. Свободно по Достоевскому: вождь — заяц, демократия — заячье рагу; чтобы получить заячье рагу, надо вождя. А вождя–то и нет. И не в одной России: в мире. Вожди нынче играют в теннис или на саксофоне. Когда несколько лет назад по юго–западному немецкому радио (SWR‑2) объявили о смерти Пол Пота, за объявлением последовала трансляция отрывков из «Дидоны и Энея» Пёрселла — такова была программа часа, которую подобрала себе для самооглашения смерть последнего людоеда–харизматика. Можно отгадать с первого раза, какую музыку подберет себе в сопровождение смерть друга «Бориса» или друга «Билла». «Пять ушей — и ни одного звука в них. Мир стал нем» (Фридрих Ницше).
Базель, 27 февраля 2006 года
Дискурс, террор, еврейство
1. Терроризм дискурса
1.
Усваивая азы конкретного мышления, мы начинаем едва ли не с того, что отучиваемся на скорую руку априоризировать понятия и привыкаем пользоваться ими сквозь окуляр различных «жизненных миров».У рыночных торговок в Афинах, судачивших о Демосфене и Изократе, отнялся бы язык, приведись им однажды услышать слово идея в более поздней семантике, скажем из уст Локка или Канта. Равным образом: никому не придет сегодня в голову выразить свое восхищение собеседником, сказав ему: «Вы, просто, ну какой–то психопат!», что еще в конце XIX века, после того как усилиями литераторов и модных психологов выяснилось, что страдают не только телом, но и «душой», могло бы вполне сойти за комплимент. С другой стороны, едва ли, живя в XIX веке, мы засвидетельствовали бы свой восторг перед кем–нибудь в словах: «какой обалденный человек!», хотя в наше время лучшего комплимента при случае и нельзя придумать. Некоему лексическому демону было угодно, чтобы «психопат» стоял сегодня в том же ряду значений, в котором вчера стоял «обалденный» (от балда = балбес, болван). Слова — «адские машины». А значит, пишущему или говорящему следовало бы брать пример не с коллег по цеху, а, скорее, с сапера, передвигающегося по минному полю. Каждый знает, что в последнем случае малейшая небрежность может разнести его в куски. Тем неряшливее ведут себя в первом случае, надеясь прослыть не психопатом, а всё еще балбесом.
2.
Можно допустить, что ни в одно из прежних времен требование это не казалось столь категоричным, как в наше время. Ибо никогда еще понятия не подвергались большему риску, чем сегодня. Их судьба разыгрывалась всегда в логическом вакууме, где они могли быть точными или неопределенными, противоречивыми или свободными от противоречий и оттого не заслуживали иной участи, кроме чисто логической. В теологии понятий всё решала правильность или неправильность их употребления; во всяком случае в более ранние времена ухитрялись еще уберечь их от непостоянства вещей, которые они выражали, изгоняя всё непокорное, логически несговорчивое в вещах в психологию или мифологию. Понятие считалось тем стабильнее, чем надежнее оно было охранено от вируса вещей. Оттого подведение вещи под понятие отнюдь не означало еще понятности вещи, а только её социаль–ность, включенность в систему неких договоренностей и абсолютную подчиненность логике, по правилу: понятие без вещи хоть и пусто, но есть, тогда как вещь без понятия даже не ничто и даже не абсурд (поскольку ничто и абсурд суть уже понятия). Парадокс западной логики лежал, впрочем, не в том, что она гордилась своей «чистотой», а в том, что ей всегда приходилось обслуживать более удачливых коллег по факультету: сначала богословие, потом этику, наконец естествознание, причем без намека на«комплекс неполноценности», напротив: с неожиданными в её случае пафосом и лиричностью (Кант, рассуждая об этих материях, обнаруживает наплыв чувств, который скорее выдержала бы скрипка, чем дискурсия). Вещам, обработанным в понятиях, надлежало быть добрыми и злыми, причем не здесь-и- теперь, а вообще. Сами понятия этой обработке не подлежали никак. Одна единственная йота могла после 325 года стать судьбой христианства и оспаривать у носа Клеопатры его всемирно–историческое значение, но никому не взбрело бы в голову на этом основании заклеймить «йоту» или даже «нос», как таковые! Наверняка только детской фантазии «от двух до пяти» было бы под силу объявить злым само понятие злого. В XX веке это делают уже не дети, а компетентные клерки. Совсем идеальные образцы оставил в этом отношении большевизм, enfant terrible гегельянства, идеализм которого зашел так далеко, что он попросту табуизировал некоторые понятия, после чего риск пользования ими уравнялся риску потери головы. Если атеизм и был объявлен здесь воинствующим и обязательным для всех, то он тем очевиднее являл свою одержимость Богом, который, как это знал еще Достоевский и уже чувствовал Блок, скорее узнал бы себя таким в ненависти, чем никаким в вере. Некоторое время после 1917 года существовали даже пролетарские трибуналы над Богом, где за отсутствием персонального Бога судилась идея Бога (своеобразный респонсорий заключительных аккордов «Феноменологии духа», где дух, грезящий до этого о Голгофе, как о своей реальности, вырывается из–под наркотической опеки метафизики и обретает реальность в «смертной казни через расстрел»). Зачитывался длинный список преступлений, после чего объявлялся смертный приговор: специальное подразделение вскидывало винтовки и по команде палило по небу. Всесилие цензуры в советские времена дублировало всесилие тайной полиции; цензор нагонял такой же страх в «умном месте» Платона, какой человек «6 кожанке» нагонял в повседневном пространстве. Непрерывная чистка проводилась и там и здесь по принципу проверки на верность и преданность. Некоторые понятия напоминали снятые скальпы идеологических противников, другие порождали условные рефлексы страха и подполья; шкала подозрительности помысленного колебалась между нежелательными и запрещенными понятиями; встречались и льготные понятия, так сказать, понятия «по блату» (диалектика Гегеля под покровительством Маркса). Эта полиция мысли была позже mutatis mutandis скопирована национал–социализмом, который, в свою очередь, обогатил index verborum prohibitorum некоторыми характерными новинками. Нельзя достаточно надивиться факту, с какой виртуозностью победоносный номинализм пользуется в XX веке средствами давно забракованного реализма. Понятия — nomina, flatus vocis, — над которыми ученая публика потешалась в предложениях типа: «понятие собака не кусает», обнаружили тем временем поразительную живость и, так сказать, «кусачесть». Внезапно они предстали более реальными и действенными, чем вещи, и ничего не страшатся в XX веке сильнее, чем понятий и слов. Может быть, нашему погрязшему в номинализме времени сподобится еще осознать себя как время величайшего триумфа понятийного реализма. Нужно будет лишь осмыслить однажды технику этого парадокса: хотя понятия и существуют до вещей (ante rem), но не как метафизически–гипостазированные сущности, а как человеческие соглашения путем регламентации и договоренности. Памятная интрижка американского экс–президента войдет еще в будущие учебники логолингвистики. Речь шла вовсе не о том, что бойкий господин Белого дома на деле вытворял со своей послушной практиканткой, а единственно о том, как это квалифицировалось юридически. Известно, что ему пришлось бы, как лжецу, досрочно сложить с себя президентство, будь его подростковые шалости оценены как раз по баллу полового сношения. Мы знаем, к какому выводу — случаю было угодно, чтобы это совпало по времени сstrikes against Yugoslavia — пришли осведомленные эксперты. То, что поседевший озорник практиковал с юной девушкой, столь же мало подпадало под определение полового акта, как одновременные бомбежки Югославии под определение войны (они шли по разряду «миротворческой акции»). Вывод: ни одна вещь не называется, как она есть, но всякая вещь есть, как она называется. Ведьмы в прологе Макбета уславливаются, что прекрасное безобразно, а безобразное прекрасно (fair is foul, and foul is fair), после чего вещам не остается ничего иного, как вести себя сообразно этому соглашению!
3.
Реализм номинализма лучше всего проясняется на примере понятия войны, криминализацию которого в послевоенный период выразительно описал Карл Шмитт. Как известно, в XX веке объявляют войну войне, точнее: понятию войны, отчего последнее полностью криминализируется и объявляется противоправным. Но война, криминализированная в понятии, оказывается (по–кантовски) трансцендентально криминальной, что значит: криминальной на все времена и при всех обстоятельствах. Следует лишь не упускать из виду ближайшее реальное следствие из этой монументальной акции по перевоспитанию мировой истории: за невозможностью упразднить войну, как деяние, её иллегитимируют как понятие, вследствие чего она должна стать беспределом, чтобы не впасть в противоречие со своей логической изгойностью. Какие бы возможности растяжки ни представлял смысл старой фразы a la guerre comme a la guerre, было бы в самом деле нелепостью напоминать мужам, сшибшимся на поле боя, о шестой заповеди или об их праве воевать в присутствии своих адвокатов. В то же время едва ли может быть оспорено, что каждый миг войны (до того, разумеется, как она очутилась под опекой борцов за мир), был, несмотря на ярость уничтожения, чреват такими прорывами великодушия и человеческого достоинства, о которых в мирное время мало кто мог бы догадаться. К понятию войны, пока оно не было еще криминализировано, принадлежало, очевидно, не только низменное и злобное, но и рыцарское и благородное, временами едва ли не на самый невероятный лад, как об этом свидетельствует, к примеру, восхитительный эпизод битвы при Фонтенуа 11 мая 1745 года, когда фронтально столкнувшиеся противники, лорд Хэй, капитан английских гвардейцев, и француз граф д'Отрош, пытались насмерть перещеголять друг друга по части куртуазии. «Велите Вашим людям открыть огонь!», сказал один, на что другой возразил: «О нет, сударь, только после Вас!» Хотя то, что началось после этого обмена любезностями, трудно было бы назвать иначе, чем мясорубкой, нет сомнений, что именно вдохновению войны были оба названных солдата обязаны сценкой, украсившей бы трагедии Расина или Корнеля. Эти люди знали еще, что война, поверх всякого пацифистского красноречия, принадлежит судьбе и есть судьба, и что судьбу эту осиливают не тем, что указывают ей на дверь или даже объявляют её несуществующей, а тем, что сопровождают жестокость душевным величием и благородством. По степени недовольства, которое последняя фраза способна вызвать у читателя, могла бы быть оценена вся запущенность и неприкаянность проблемы в современном сознании.
4.
В феноменологии терроризма смерть лишь проводит черту под лингвистической эмфазой. Когда Кромвель осознал неизбежность стать цареубийцей, его заботой оказалось не столько то, что придется отрубить голову королю, сколько то, чтобы приговор был составлен со всей юридической и метафизической безупречностью. Что, впрочем, мешало терроризму достичь логической чистоты, был его досадно личностный характер. Наше время оказалось и в этом отношении достойным себя. Терроризм дискурса, значительно сдерживавшийся или маскирующийся еще в первой половине XX века персональной харизматикой вождей, врывается в послевоенное пространство объявлением войны всему личностному и, стало быть, непредсказуемому. Модные структуралисты (или постструктуралисты) от Фуко и Барта до Деррида лишь трансформируют естественнонаучный атеизм в атеизм литературоведческий, где лапласовская ненужность Бога вселенной деградирует до ненужности автора литературного текста. Пространство мира, как и пространство текста, очищается тем самым от транскаузальных скачков вдохновения и родовых схваток и переключается на режим «автопилота», при котором некто ученый Барт довольствуется скромной ролью пресс–секретаря, камердинера или даже охранника. После «смерти автора» права и привилегии личностного переходят к самому дискурсу. Понятию войны следуют и другие понятия, криминализация которых в истекшем веке кажется едва ли уже не доведенной ad absurdum. Для сознания, настоянного на популярном манихействе голливудского толка и способного различать вещи лишь по черно–белому признаку, ужасы недавнего прошлого — известные на Западе под именем национал–социализма — заменены ценностями демократии и свободы мнения. Что названные ужасы, будучи состояниями сознания, могли быть в конце концов не заменены, а только видоизменены, об этом, в силу необходимости думать о вещах, а не просто говорить о них, не желают сегодня и знать. Но нежелание знать влияет на события не больше, чем нахождение под наркозом на ход хирургического вмешательства. Было бы нелепостью утверждать, что национал–социализм сегодня — это исторический призрак. Напротив, сегодня он актуален, как никогда, актуальнее даже, чем в пору своего оригинального господства. Вопреки ожиданию, время не сглаживает его, а укрупняет; журналисты, политики, писатели, теологи, бездельники с каждым днем говорят о нем так, как если бы время текло вспять и мы с каждым днем приближались к прошлому, а не отдалялись от него. При этом забывают лишь выяснить, где он, собственно, находится? Где его искать? Не в кучке же бритоголовых юнцов, которые, обезьянничая, позорят его во всех отношениях негативный, но абсолютно не смешной оригинал! И нечего ссылаться на социологически сконструированное и опрошенное большинство. Большинство опознается во все времена среди прочего и по тому, что оно проглядывает оригиналы и вдохновляется подделками. Если горланящим скинхедам вкупе с их интеллектуальными застрельщиками милостью public opinion (или, по Черчиллю, published opinion) вменяется в обязанность представлять современный национал–социализм, то рассчитывать здесь на эффект не менее потешно, чем ожидать от хлопушек и петард, взрываемых в новогоднюю ночь, эффекта массовой паники и спешной эвакуации города. Коротко и ясно: современный национал–социализм впору искать не в неуклюжих попытках реанимации разложившегося трупа, а в «юрском парке» его превращений. Когда сегодня в месте происшествия Берлин, как раз в эпицентре бывшего рейхстага и фантомной рейхсканцелярии, где в свое время раскатывались взрывы эндемической истерии при явлении некоего mortal god, ежегодно проводятся так называемые парады любви, во время которых у более чем миллиона подростков отключается их (виртуальное) сознание и подключается к пандемониуму сверхмощных усилителей, то только мошенничество или слабоумие откажутся опознать в нынешней форме этой dementia juvenilis метаморфозу вчерашней. Ибо сводить националсоциализм к массовым убийствам значит всё еще быть агитатором, а не интеллигентом (не путать с представителями интеллигенции). На такой лад он не только не объясняется, но и крайне примитивизируется, что, несомненно, идет в разрез с намерением агитаторов представить его этаким уникальным злом, не имеющим аналогов в истории. Чем же еще изобилует история со времен царя Гороха до Пол Пота, если не массовыми убийствами и злодеяниями! Уникальность национал–социализма, которую он благоговейно разделяет с русским первенцем своей музы, лежит, скорее, в философских корнях обоих; оба слепо вбирают в волю то, на что философы покушались только в мысли. Что философы, мыслящие абсолютное, лишь дразнили волю и подстрекали её к непредсказуемым поступкам, стало очевидным на трагическом примере обеих стран, демонстрирующих гетерогенность разумной, но безвольной «интеллигенции» (в перспективе её неизбежного нравственного вырождения, как об этом свидетельствует послевоенное и нынешнее немецкое и российское время) и волевого, но абсолютно неразумного «народа». Однажды на родине Фихте и Макса Штирнера должно было случиться случившееся: узурпация оставшегося вакантным немецкого Я слепой и магически направляемой волей. Решающее значение остается при этом не за заговоренным двенадцатилетием немецкой истории, а за его жизненным миром, силою которого (его неизменного присутствия) названная вакантность Я (вакуум Я) заполняется всё снова и снова, сообразно сценарию и особенностям лицедейства. Национал–социализм, как таковой, не может иметь иной альтернативы, чем сознательность, индивидуально вбираемую в волю. Если названная альтернатива не вступает в силу, то мы имеем лишь смену декораций и статистов при всё той же оскорбительно ясной, но не замечаемой большинством игре. Левые горлопаны справа и правые горлопаны слева могут лопаться в потугах взаимного очернения; разница между ними не большая, чем во вкусе и в выборе — между Адольфом Гитлером и каким–нибудь боксером, кинозвездой или эстрадным певцом. Определяющим и примиряющим в том и другом случае остается то, что обе стороны в одинаковой степени хотят быть нокаутированными.
5.
Что лингвистический терроризм сыграл в структуре тоталитарных государств, типа большевистского или национал–социалистического, решающую роль, стало уже, кажется, общим местом. Число публикаций на эту тему растет изо дня в день. Любопытно лишь, что исследовательская зоркость оборачивается подчас слепотой, даже бесчувственностью, стоит только взору перенестись из прошлого в настоящее. Критики и аналитики злободневности напоминают в этом пункте классических филологов, которые хоть и умеют ценить всякого рода античных подонков, но считают ниже своего достоинства уделять внимание современной сволочи. Между тем, если наше время, в особенности последняя треть XX века, может быть охарактеризовано по какому–либо одному, но объемлющему признаку, то здесь пришлась бы кстати парафраза философски знаменитой метафоры: язык, как бездомность бытия. После того как современная философия на поминках по Дантовой Donna Filosofia пришла к выводу, что мыслить можно не иначе, как говоря; после того, стало быть, как коренные философские проблемы, от Гераклита до Гегеля, были объявлены болезнью языка, с обязательным курсом лечения, предусматривающим вытеснение мышления в дискурс и передачу полномочий первого последнему, тема Закат Европы ищется уже не в одной сенсационной и по–своему спорной книге, а в злобе дня. Что сохранилось от мышления, опущенного в щелочной раствор лингвистики, было даже не заменой: мыслю, следовательно существую, на: говорю, следовательно существую, а дальнейшим потенцированием этого картезианского эрзаца до утроенно онтологического argumentum ad hominem: существую, 1) ибо говорю, 2) ровно столько, сколько говорю, 3) что говорю. Тоталитаризм большевистского или национал–социалистического образца рубил собственный сук, полагая, что можно совместить культ личности с господством дискурса и даже подчинить дискурс точечным вдохновениям оратора. Между тем: если дискурс, как таковой, означает исчислимое и предвидимое, то личностное опознается как раз по своей непредсказуемости и спонтанности. Личностное и есть всегда лишь некий досадный осколок в безответной, как труп, простертости языкового континуума. Извлечение этого осколка удачнее всего запечатлено в оглашенной Фуко смерти человека: человек умирает, осознав, что, когда он говорит и, стало быть, существует, он говорит и существует не сам по себе, а милостью фундаментальных парадигм, в мощном дезинфекционном пространстве которых его воля и судьба длятся не дольше следов, оставляемых им на прибрежном песке. Эта смерть не имеет уже ничего общего с архаической и отхозяйничавшей смертью, наступление которой характеризуется, между прочим, и тем, что перестают говорить; новая смерть наступает как раз с говорением, есть говорение и трансцендентально возможна не иначе, как в непрерывности говорящегося. Очевидно, что первенцами этой смерти должны были стать «притворяющиеся непогибшими» философы, богословы, гуманисты, литераторы, журналисты и прочие интеллигентные говоруны. (Напротив, неумерших, в прежнем, индивидуально–различимом смысле слова, следовало бы поискать там, где личностное — в каких угодно формах и разведениях — осмеливается еще бросаться в глаза, стало быть там, где вообще не говорится, а если и говорится, то дискретно и при надобности: скажем, среди спортсменов, канатоходцев, глотателей ножей, кутюрье, топ–моделей, мошенников, бонвиванов, казанов, актеров, престолонаследников, мисс и мистер Вселенная и прочих homunculi из книги Гиннеса.) С устранением личностного вносится фундаментальная поправка и в сформулированную выше онтологию; теперь это называется не: существую, 1) ибо говорю, 2) поскольку говорю, 3) что говорю, но: существую, поскольку принуждаю других говорить о себе. В окончательной редакции: обо мне говорят, следовательно, я есмь. Соответственно: я есмь, что, как и сколько обо мне говорят. Пример: некто двуногий пользуется своими гражданскими правами, своим правом самореализации. Средь бела дня ему угодно реализовать себя, ну, скажем, как — художника. С этой целью он, первым делом, говорит себе: а я и есмь — художник. После чего он говорит это и другим. В-третьих, он изготовляет визитные карточки, на которых под его именем проставлено художник[18]. В-четвертых, он раздает их повсюду и кому попало. Лишь после этого он приступает к делу: берет большой кусок белого полотна, изгаживает его сперва по всему набору нечистот, от мазков кисти до экскрементов, выплевывает на него свою жевательную резинку, растирает её острием носка, протыкает полотно ножом, вывешивает его на стене, приписывает название Make Love Not War и усаживается у двери в ожидании первых поклонниц и покупателей. — Не то, чтобы эта модель непременно сулила успех; человеческое общество равняется здесь пока еще на природу, которая, несмотря на провозглашенные права икры, всё–таки не до такой же степени либеральна, чтобы первая попавшаяся икринка всерьез рассчитывала стать рыбой. Но если случится, что проворные репортеры вынюхают новичка и станут превозносить его, — как знать, может он и дотянет сначала до местных премий, а там, гляди, и до мировых. Также и от смешного до великого всего лишь один, к тому же оплеванный шаг.
6.
Смерть человека, смоделированного профессиональными дрессировщиками прошлого, как–то: священниками, нравоучителями, наставниками, исповедниками, правозащитниками, вахтмейстерами, массовыми агитаторами, и как бы они ни назывались, оказалась, как ни странно, не просто концом, а лишь концом начала. Очевидно, с инаугурацией лингвистического абсолютизма началась новая эпоха:«после смерти человека». В ослепительно стерильном мире сигнификатов посмертный человек — это уже не прежнее непредсказуемое и по природе своей дивергентное существо, а аббревиатурный и дистанционно управляемый знак, включенный в некое множество флексибельных и контролируемых порядков (программ). Если в классической парадигме человека тон задавали всё еще чувства и прочие переживания, которым он — по языковой палитре, от банального до несказанного, — подыскивал имманентные слова, то в сегодняшней парадигме случай явлен, как говорится, с точностью до наоборот. Теперь тон задают уже не чувства и переживания, а слова, к которым, после того как они были сказаны, приходится подбирать чувства и переживания. Именно: не словам приличествует уже равняться на мысли и чувства, демонстрируя свою ущербность и беспомощность в их выражении, а мыслям и чувствам положено подлаживаться к словам и не выходить за пределы сказанного. Легко увидеть, что отправной пункт упирается как раз в выбор слов. Минимум слов гарантирует минимум чувств, соответственно минимум стрессовых состояний. Говорят: о'кей! и чувствуют себя о'кей; можно представить себе степень отчаяния миллионов людей, которых обрекли бы на немоту, отняв у них это волшебное слово. Образцовыми оказываются прежде всего политические термины. Говорят: демократия, если желают положительно воздействовать на настроения избирателей; другой раз, с целью негативной переориентации слушателей, говорят: популизм. Что оба слова означают одно и то же, мало кого волнует. Пробил час слабоумного, оспаривающего у Творца мира его Творение и уверенного, что он сделает всё «лучше». Было бы опрометчивым видеть в политической корректности просто набор курьезов, а не мегаломанию пуританского выродка, полагающего, что насаждаемому им повсюду раю как раз недостает райского языка, некой универсальной linguapostadamica, на которой могли бы изъясняться обитатели рая. Поучительным в этом эксперименте является, пожалуй, не его непреднамеренный и оттого столь обезоруживающе действующий идиотизм, а монументальность, с которой здесь бросается вызов Творению. Впервые со времен 1 Быт. 2–4 мы имеем дело с вызывающе новым и универсальным актом имятворчества, которое, по сути, хочет быть и есть не что иное, как переименование, а значит, и переоценка первозданных вещей. Судя по опросам и всяческим статистикам, две трети электората не прочь вменить в вину Творцу мира то, что в усилиях назвать вещи своим именами Он хватил через край и, так сказать, завинтил гайки, отчего вещи не только требуют больших мыслительных усилий, чем это предусмотрено коэффициентом интеллектуальности, но и противоречат Конституции. Над чем же жаловались и что во все времена упрекали в мире больше, чем непонятность самого мира? — Философская шутка, что непонятны не сами вещи, а только мысли о вещах, читай: слова о вещах, оказалась вдруг внесенной в университетские программы и возведенной в ранг эпохального открытия. Следствием её стала потребность в упрощении, инстинкт последовательного самооглупления как наиболее надежного гаранта понятности вещей и — возможности быть счастливым. Упрощение вещей есть сокращение слов. Прежде всего негативно заряженных слов, с устранением которых устраняются и негативные вещи; отношение к миру и судьбе определяется в таком случае дюжиной слов, функционирующих по типу: «Сезам, отворись!». Нужно лишь вслушаться однажды в эту подкорковую родную речь, после которой нет уже никакой надобности в изучении иностранных языков, разве что афроамериканского; «душа» откликается на неё с такой же безошибочностью инстинкта, с какой собака реагирует на командные окрики хозяина. «No problem!», «О'кей!», «Супер!» — вот некоторые парадигмы будущей интерлингва, по которой современный человек способен будет опознавать меру и апофеоз собственной человечности. Некий драгоценный образец этой языковой гигиены показательным образом берет свое начало в военной области и называется collateral damage (что–то вроде побочного ущерба, или попутных разрушений). Collateral damage — это лингвистическое слово–плева, некий лелеемый еще Оккамом verbum nullius linguae, из числа тех, которыми философы впечатляют простаков, а простаки других простаков. Подобно тому как физики отказываются обсуждать реальное содержание, скрывающееся, скажем, за терминами «волновой пакет» или «черная дыра», так и политики, вкупе с поддерживающими их гуманистами, обходят молчанием вопрос, а что же есть на деле collateral damage. Очевидно, что вопрос могли бы разрешить философы, указав на то, что денотaтомcollateral damage являются вовсе не (наивно–реалистически) разорванные в клочья или обугленные человеческие тела, а то, что оно означает, именно: издержки, мелочи, брак, импондерабилии миротворчества, без которых так же невозможно обойтись при насаждении рая, как без синяков в борьбе за мяч у ворот противника. — Забивая гол, форвард трижды был сбит с ног, сам сбил с ног судью, засадил защитнику ногой в промежность, раздробил, принимая мяч головой, вратарю передние зубы и отреагировал непристойными телодвижениями на вой болельщиков. Да, но какой гол! — (Postscriptum после 11 сентября 2001 года: накануне дня Дрездена Америки по всему Нью—Йорку были развешены плакаты нового боевика с ужасающими террористическими актами и — happy end. Аннулированный до греческих календ фильм носил название Collateral damage.)
7.
Еще раз: врожденный идиотизм корректности не должен смущать. Только её преждевременностью можно объяснить шокирующее действие, которое она производит на незрелые умы. Между тем, она лишь дистиллят уже сегодня прорезывающейся речи; в ней нет ничего, что не было бы взято из повседневного языка, а главное, из образа жизни западного человека, и если последний всё еще потешается по инерции над ней, то оттого, пожалуй, что он даже мысленно не дорос еще до своей цели и не способен представить себе своего будущего совершенства. Вопрос в том, как именно или чем именно воспринимают этот язык будущего — ушами, сросшимися с уокменом, или ушами, избалованными, скажем, Шекспиром и оттого никак не переучиваемыми? Можно проверить реакцию на следующих образцах: в будущем идиотиконе идиоток и идиотов это будет называться уже не short person (в случае человека с коротким ростом), a vertically challenged (что–то вроде вертикально озабоченного или того, кому брошен вертикальный вызов). Вместо (клинического) кретин вынуждены будут говорить: differently abled (альтернативно одаренный), в то время как магазинным ворам будут предпочтенынетрадиционные покупатели (unusual shoppers). Что уже сейчас характерно в этих games альтернативно одаренных, при всех насмешках традиционно–одаренных, так это, пожалуй, необратимость, с каковой они вырождаются в реальное. В этом видении некоего бастардного будущего, знамения которого множатся изо дня в день, язык присваивает себе, наконец, компетенции, которые в обратимые (старые добрые) времена числились единственно по ведомству спецслужб. В едином евгеническом процессе лингвистической корректуры Творения реальность распадается, с одной стороны на политически дезинфицированные слова, с другой стороны на слова диссидентствующие, иначе: на сверхслова и недослова; в итоге, повсеместно искореняемый расизм изгоняется как раз расистскими средствами, причем этой рафинированной форме расизма угодно выдавать себя (как раз антонимически) за антирасизм. Языковой континуум уподобляется некоему заповеднику, или охотничьему угодью, оснащенному высокотехнологическими средствами для ловли и отстрела стаи нелояльных или даже нелегальных, криминализированных слов. Едва ли кто–нибудь рискнет сегодня на скорую руку утверждать возможность некой глобальной — планетарной — системы прослушивания (по типу оруэлловских телескринов). С другой стороны, очевидна ущербность и уже существующей системы. Прибор, способный узнавать индицированные слова и брать говорящего на мушку, может, с технической точки зрения, быть бесконечно совершенствуемым. Тем досаднее бросается в глаза его коренной, метафизический, так сказать, дефект. Он может реагировать только на запрограмированные образцы, а не на асимметричные нюансы и оттенки. Слова отлавливаются лишь по их лексическим уликам; между тем: за сплошными словами не слышно языка, который, между прочим, может же быть и «эзоповым», когда говорящий из хитрости заменяет микроэлектронно узнаваемые слова синонимами или даже метафразами. Этот недостаток является хоть и серьезным, но никак не неустранимым. Бывалые скептики могли бы помянуть Гёделя и с пеной у рта доказы–вать несводимость человеческой психики к прецизионным инструментам. Без сомнения. Тем очевиднее, напротив, напрашивается обратная возможность, именно: адаптация не инструментов к психике, а психики к инструментам. Если инструменты не способны отлавливать «эзопово» в языке, то не инструменты следует совершенствовать (куда еще!), а язык делать более инструментальным. В мире откорректированных басен Эзопу и в голову не придет послать Ксанфа «выпить море». Язык регламентируется не случайностями вдохновения, а опционными оговорками программ. В качестве пробы можно будет исследовать возможности соматического приспособления, скажем, на термометре, который сначала устанавливал бы температуру тела по собственной заданной программе, а потом, но и только потом, показывал бы её на теле. С психикой дело должно обстоять гораздо легче. Психика всегда была полигоном суггестий, и опознавала в себе только то, что вкладывала в неё психология. Не то, чтобы западному обывателю так и не терпелось улалакать своего отца и уложить в постель свою матушку, но после того как ему внушили это домашние психоаналитики, он поверил в это с такой же непреложностью, с какой верил в свое происхождение от обезьяны. Психика упряма и надежна только у психов; нормальные люди обладают ею в той мере, в какой она прописана психотерапевтом или руководствами по снятию стрессов. Если, стало быть, причина срыва совершенной техники лежит в умных, находчивых, просто непредсказуемых клиентах, которые, говоря словами, говорят не слова, а против слов, ну и что же из того! Придется тогда браковать не приборы, сворачивая программу будущего, а скорее уж самих умников. Человек, как животное, изготовляющее орудия (a tool making animal), принадлежит в наше время к мифологии. Сегодня правильно говорят об орудиях, когда видят в них оригиналы, по образу и подобию которых изготовляется человек: человекобудильник, человекотелефон, человекосканнер, человекочип, обретающий заодно и смысл своего существования — в случае названной системы прослушивания ровно в той мере, в какой этого требуют стандартно–технические параметры приборов. Нынешнее, выдрессированное на love parades и talk shows поколение достигло уже сегодня уровня, который вынуждает иных либералов требовать наряду с правами человека прав и для обезьян, крыс или свиней. «Нет никаких разумных оснований считать, что человеческое существо обладает особыми правами. Крыса — это и свинья, и собака, и подросток. Все они — млекопитающие». Так судит об этом госпожа Ингрид Ньюкирк, основательница организации People for the Ethical Treatment of Animals. Важно лишь не проглядеть, чтобы названный «подросток» рос именно среди крыс, свиней и псов. Тогда он и станет «подростком» будущего, без подпольных непредсказуемостей Достоевского. Требуемый здесь дневной рацион говорения насчитывает с несколько дюжин вокабул, состоящих приблизительно на три четвери из ублюдочных слов, междометий, повторов и тому подобного.
2. Salus ex Judaeis est?
1.
Среди всех слов, рейтинг которых в табели о рангах современного языка достиг рекордовых отметок, слову еврейство принадлежит почти трансцендентное значение. Семантическое магнитное поле этого слова излучает такую силу, что представляется уместным говорить об искривлении общеязыкового пространства — в том же точно смысле, в каком это делает физико–математик. Стоит лишь какому–либо другому, нейтральному или даже гетерономному, слову оказаться в сфере его воздействия, как оно приобретает совсем иной, чтобы не сказать неузнаваемый, вид и просвечивает значениями, которые раньше не заподозрила бы и не обнаружила в нем ни одна синонимика. Всё выглядит так, как если бы одно единственное слово бросило вызов языку и вынудило его к самообороне, даже и не скрывая своего намерения сделать язык лишь в той мере нормативным и вменяемым, в какой он позволяет эксплицировать себя в его присутствии. Напряжение, вносимое этим присутствием, уникально во всех отношениях; можно было бы сказать, что старая дилемма между добром и злом, как и уже едва ли не весь нынешний миропорядок, меняются на глазах по мере приближения к хтонической энергетике этого слова. Но тем самым упраздняется сама возможность непредвзятого подхода к теме; никто, приди ему сегодня в голову размышлять на тему еврейства, не станет строить себе иллюзий объективности, делая вид, будто ему не известно, чем он собственно рискует. А рискует он, между прочим, умом, которому надо вдруг решать относительно своего «быть или не быть»: или быть, но тогда с диагнозом «антисемитский», или, если без диагноза, то и вовсе не быть. Еврейский парадокс — парадокс интеллектуализма, который не может не быть, так как без него не было бы и самого еврейства, но и не может быть, так как с ним оно вовлеклось бы в стихию самоотрицания. Если бы шанс быть верно понятым хоть на йоту опережал путающиеся под ногами недоразумения, можно было бы сказать, что интеллект (интеллект — не познание вещи, а её подгонка под дискурс) означает здесь метафизически то же, что кровь — физически. Интеллектуал, безразлично: сионист или антисемит, воплощает тем самым (если и не как «представление», то уж наверняка как «волю») еврейство per se. Очевидно, именно здесь следовало бы искать объяснение того недоказуемого, но и неоспоримого «факта», что евреев больше, чем их есть. Евреем являешься дважды: один раз как еврей, другой раз и как интеллектуал. Как интеллектуал, еврей может и должен понять, что, пугая интеллект жупелом антисемитизма, он рискует и сам оказаться антисемитом. Конечно, политика упрощения всегда имеет на своей стороне большинство. Кто мало думает, дольше живет! И всё же рано или поздно придется ощутить на себе эффект бумеранга, если уж до такой степени упрощают интеллект, что идентифицируют малейшую волю к непредвзятости в анализе еврейского вопроса с антисемитизмом, как таковым.
2.
Первофеномен еврейства обнаруживает себя как реляция. Иудейство различают по его осознанному и поволенному отношению к юдаизму. Особой судьбой «избранного народа», в котором, как в никакой другом народе, присутствовала воля достичь не индивидуального, а именно народного бессмертия, было: метафизически полностью изойти в физическом, но так, чтобы отсутствие автономной метафизики полностью компенсировалось мистикой телесного. Люциферической роскоши греков и уже позднее христиан: изживать духовное в отрыве от телесного и даже в конфликте с телесным, евреи никогда не могли ни понять, ни тем более себе позволить. Их заботы были заботами не Платона, а Иова. Иов — если и не идеал иудейского, то во всяком случае его прообраз — метафизик плоти. На Иове, этом Прото—Фаусте из земли Уц, Творец мира вычерчивает, пожалуй, самые непроницаемые складки человеческой души, освобождающейся от своей плотяности и учащейся бестелесно изживаться в телесном. Увиденный так, случай Иова оказывается некой феноменологической редукцией sui generis: от «естественной установки» его доксической убогости («Похули Бога и умри!») до чисто идеируемого эйдоса покаяния и благословенности. Иов — это, пожалуй, первое свидетельство человеческого, осознающего себя как неадекватность, именно: неадекватность реакции; человек в Иове проходит испытание на человечность, учась вытеснять биологическое слюновыделение асимметричностью моральной фантазии. Эту разность, различность, несоизмеримость культурных физиогномий мы воспринимаем и на параллельно возникающей аттической трагедии, отличающейся от своего иудейского подобия просто иначе направленным вектором смысла: там душа испытует на себе возможность унять свою неразумную или даже бессмысленную судьбу эстетически, чарами Аполлона; здесь, пораженная проказою от подошвы ноги по самое темя, она учится, между прочим, благоговейно замирать перед неисповедимостью своей судьбы. Обе — иудейская, как и греческая — параллели слагают совокупность позднеантичной, в перспективе европейской культуры; решающим (и фатальным) для последней остается её бинарный и диспаратный характер, заостренная несовместимость её врожденных господствующих способностей, где Иову так же мало дано оттачивать у Платона силу своей мыслительности, как Платону учиться у Иова дару стоять «на коленях сердца». Возникает вопрос, а могут ли вообще скреститься эти линии? Идеи, лишенные телесности и оттого обреченные на (призрачную) бессмертность, и смертные тела, если и жаждущие бессмертия, то не иначе, как телесного. Другими словами, можно ли, и если да, то как, когда и где представить себе человека, дух которого не витал бы как призрак вокруг его плоти, а был бы её жизнью? Что христианство (исторически) коренится как в иудействе, так и в язычестве, не вызывает сомнений. Гораздо менее очевидно то, что оно (астрально) предшествует обоим, порождая их как свою историю и свое становление. Эту увиденную истину духовной науки энергично предвосхитил еще Шеллинг[19] в следующих словах: «Евреи были избранным народом, поскольку они понимали Христа уже в пришествии и даже как бы уже пришедшим. Не оттого родился среди них Христос, что они были избранным народом, а оттого, что Он был уже в них. […] Иудейство существовало только потому, что должно было существовать христианство. Поэтому, чтобы понять иудейство, нужно прежде увидеть христианство». Мысль Шеллинга в равной степени относится и к гречеству, в котором уже и древние отцы видели латентное христианство (Гераклит, Сократ и Платон — христиане до Христа). Христианству предстояло свести оба полюса к их исконному единству, скажем так: явить идейную роскошь Платона на гноящейся плоти Иова. Если христианству и удалось вообще что–либо, то никак не это: исторический христианин — это некий называющий себя христианином гермафродит, языческий персонализм которого иррационально дополняется семитской соборностью. Гётевский вопрос на засыпку: «Кто же нынче христианин, каким его хотел бы иметь Христос?»[20], лишь подводил черту под этим всемирно–историческим срывом. Для нас сама возможность такого вопроса (слух улавливает его, задолго до Гёте, еще у христианских изгоев, от Юлиана до puer Apuliae, швабского Фредерико II) оттого не лишена интереса, что здесь, пожалуй, впервые завязывается узел еврейско–немецкой судьбы. Иов, разочарованный греческими друзьями идей, которые могли воздавать должное идеальному бытию не иначе, чем отворачиваясь от мира становящегося, испытует свою любознательность у немецких мейстеров; экзистенциалист Иов учится у немецких мейстеров не замуровывать свой исключительный опыт в стене плача, ни тем более облекать его в гипс или мрамор (некий еврейский Лаокон sui generis), а сущностно идеировать его. Эпиграф к Иову — абсолютно антигреческий — проставлен отныне у Мейстера Экхарта: «Ибо и Бог становится и преходит»[21]. Еще раз Экхарт[22]: «Страдание — быстрейший зверь, доносящий нас до совершенства»; нельзя отделаться от дивинаторского искуса подвести проблему Иова под мерцающий свет, падающий на неё из позднейшего бёме–шеллинговского «темного начала Бога». Заключительный акт («Препояшь, как муж, чресла твои; Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне») выглядит уже как некая элементарная theosophia deutsch. В Нюрнберге 1945 не нашлось ни малейшей воли узреть в одиозном антисемитизме «узурпаторов немецкой совести» (Карл Баллмер) лишь изнанку германофобии. Ведь только эти два народа — в отцах–учредителях Иове и Мейстере Экхарте — связаны одинаковой судьбой: быть ненавидимыми именно как народы.
3.
Иудейство, ориентирующееся на юдаизм, характеризует еврейский народ, как таковой, в его преемственности и непрерывности. Приверженность к Торе с её культивированной и проверенной в тысячелетиях системой кровных совместительств, прежде же всего необыкновенная закрытость и как бы трансцендентность жизненного уклада, перед которым чужой при любых обстоятельствах должен чувствовать свою чуждость, — всё это свидетельствует о некой этноврожденной неартистичности и инстинктивной неспособности к античному carpe diem. Иудейство, как никакой другой этнос, — серьезно; еврейский юмор — это никогда не юмор висельника или просто жизнелюба и балагура, а некое удвоение серьезности; еврей шутит не для того, чтобы отвлечься от серьезности, а чтобы сильнее привлечься к ней: когда, скажем, серьезность притупляется и воспринимается не с должной серьезностью; иначе: он шутит, чтобы было не до шуток. Серьезность иудейства — его судьба между ассимиляцией себя и ассимиляцией в себя. Если чужой, очутившийся в греческом культурном пространстве, ощущал себя и был чужим именно по языку (Овидий: «Barbarus hic ego sum, quia non intelligor ulli»), то отчуждение в еврейском жизненном пространстве выглядело несравненно сложнее. Стать греком значило участвовать в греческой культуре, то есть, прежде всего уметь говорить и мыслить по- гречески. В сравнении с этим, с этой придуманной и продуманной предпосылкой, стать евреем — сегодня, как и три тысячи лет назад, — значит стать некой «вещью в себе». Если греческая идентичность гарантируется культурой, то еврейская определяется единственно религией. «Мы являемся, — говорит Авраам Иошуа Хешель, — уникальным примером народа, отождествленного с религией». Оттого значение понятия «еврей» измеряется не только обычными этническими критериями, как, скажем, в случае «француза» или«испанца», но исключительно по признаку религиозного, совпадающего с демотическим. «Еврей», по понятию, означает вовсе не то же, что «француз» или «испанец»; мы должны были бы, по существу, гово–рить: «франкохристианин» или «испанохристианин», чтобы найти более соответствующую параллель к «еврею». Оттого есть французские евреи, испанские евреи, русские евреи, но нет еврейских французов, еврейских испанцев, еврейских русских. Этническая принадлежность совпадает с религией уже и по знаку слова; еврей, заполняющий анкету, пишет одно и то же в графе национальность (на послевоенном немецком это называется: подданство) и в графе религия. Взаимная зависимость той и другой лучше всего проясняется на старой парадигме души и тела, а именно таким образом, что юдаизм (религия) есть тело, в котором иудейство (национальность) обитает как душа. Можно лишь догадываться, сколь нелепой, если не извращенной, выглядит старая орфическо–платоническая апофтегма soma- sema (тело, как гроб души) в еврейском восприятии; еврейское тело — не гроб, а отчий дом души, её синагога, что означает: бренная душа живет здесь лишь телом, в теле, милостью тела, которое — бессмертно. Следует при этом помнить, что под телом имеется в виду никак не habeas corpus вот этого вот одного человека, а народное тело, в ощутимой непрерывности которого отдельные тела граждан так же объединяются в тысячелетиях, как чувственные восприятия в трансцендентальной апперцепции кантовского механизма познания. Юдаизм, как тело иудейства, олицетворяет тем самым еврейское Я, или еврейскую идентичность. Характерно, что эта религия, несмотря на свой подчеркнутый национальный характер, имеет значимость мировой религии — факт, который по сравнению с другими мировыми религиями, не мотивируется ни с качественной, ни с количественной стороны. Мировая религия означает здесь не безродное и метафизическое самообретение в человечестве (христианство), ни даже в–себе–замкнутое обретение себя в своем Боге (ислам); юдаизм хочет относиться к миру, как дрожжи к тесту: «There will be по humanity without Israel», так гласит это еще и сегодня в устах выдающегося раввина и профессора Авраама Иошуа Хешеля. Воля к выживанию, являющаяся в случае любого другого народа биологической необходимостью, оказывается в еврейском случае необходимостью экуменической и католической: еврей выживает не индивидуально, а народно, потому что его народ репрезентирует человечество. — Здесь и обнаруживается своеобразие и как бы необратимость ассимиляции: чем труднее для еврея стать неевреем (в силу ставшей кровью и плотью религиозности, которая ipso facto утверждается не метафизически, а абсолютно физически, телесно–физически), тем легче и беспрепятственнее может, напротив, нееврей, которому заказан экзистенциальный доступ к еврейскому, эссенциально (= интеллектуально, культурно) стать евреем. Через это, по–видимому, и объясняется упомянутая выше двойная оптика, по которой евреев в мире больше, чем их есть. Иудейство, осознающее и формирующее себя в юдаизме, представляет собой, поэтому, некую сеть изоляторов в гетерогенных культурных пространствах. Понятие гетто, которому после 1945 года принадлежит видное место в списке криминализированных понятий и о котором нельзя уже, очевидно, не только говорить, но и молчать, так как, говоря о нем, впадают в антисемитизм, а не говоря, этот же антисемитизм замалчивают, оказывается лишь исконным и, прежде всего, добровольным понятием еврейской оседлости, неким становищем еврейства в самой сердцевине чуждого мира, в котором оно умудряется жить, не живя в нем. При этом сами пространственно организованные гетто, как и еврейские кладбища или еврейские кварталы, являются лишь архитектоническим выражением еврейского первофеномена: гетто — это как раз урбанистический символ души, в огражденности которой и под протекцией которой тело сохраняет свою неприкосновенность. Тем невыносимее вызвучивается диссонанс, когда к названной тенденции присоединяется другая: попытка обрести себя за пределами гетто. С новым человеком Павла (Кол. 3,11), который «обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея […], но всё и во всем Христос», еврейство стоит перед испытанием, от которого зависит его судьба, а вместе с ней и судьба мира. Еврейская судьба явлена здесь расщелиной между иудейством, как юдаизированной волей, и иудейством, как секуляризированным представлением. Иными словами: между Израилем, как религией, и Израилем, как нацией.
4.
Некий хасидский мастер определяет еврейский грех: «Величайший грех еврея — забыть, что он царский сын». Мы читаем тавтологичнее: «Величайший грех еврея — забыть, что он еврей». После походов Александра, этого первого всемирно–исторического синопсиса региональных культур, выясняется, что быть евреем означает: проблему. Проблемой называется (с Платона и присно) modus vivendi идеи, её мы слетело, по–христиански: жало в плоти, — соответственно: еврейская проблема совпадает с самого начала с идеей еврейства, как такового. Люциферически–метафизическим льготам греков, как и позднего христианского Запада, противопоставлены здесь заботы экзистенциальные; в позднем антиплатонизме Сартра, где экзистенция предшествует эссенции, явлены скорее всего лишь метафизически осмысленные осадки «жизненного мира» еврейства. Если инстинкт самосохранения у других народов осуществлялся преимущественно через традицию, историю, нравы и обычаи, короче, через верность прошлому, то стоило лишь традиции поблекнуть, а нравам и обычаям привлекать внимание лишь этнологов, как инстинкт этот неизбежно ослабевал и притуплялся. Характерная черта еврейского инстинкта самосохранения выражается, напротив, в том, что этот последний не обнаруживает ни малейшей тоски по прошлому, а всегда соотнесен с настоящим. Культа прошлого, силою которого другие народы влачат своё фантомное существование, препоручая своё настоящее музейным гидам, здесь нет и в помине; еврейское прошлое — это не совершенное прошедшее, отданное на милость туристам, а просто–напросто прошедшее в настоящем. Если, таким образом, реальность прочих давних народов, то, что заставляло бы считаться с ними и сегодня, состоит из минувших дней, спиритически вызываемых в настоящем, то еврейское настоящее есть непрерывное осознание себя в своей отождествленности с прошлым, некое перманентно осовремениваемое прошлое, стало быть не воспоминание из настоящего о бывшем, а ежемгновенное утверждение бывшего в настоящем и как настоящее. По этой причине еврей не говорит: «Когда Моисей вывел наших предков…»; он говорит: «Когда Моисей вывел нас…» Ибо гарантией перманентности оказывается здесь, как отмечено, не (абстрактный) дух, а (непрерывно ревитализирующее себя) народное тело. Тщательность и филигранность, с которой это народное тело тысячелетиями выделывалось раввинами, позволяетmutatis mutandis сравнить себя, пожалуй, только с техникой средневековых докторов при шлифовке логических понятий; раввин — это схоласт тела, которое он тематизирует не менее старательно, чем схоласт свои amplius, adhuc, item, praeteria и т. п. Вопросы, сколько ангелов уместились бы на кончике иглы, или: сколько гребцов было в лодке Улисса в такой–то песне Одиссеи, образуют некое логологическое подобие талмудических наставлений ad hoc: скажем, относительно условий, при которых можно, соответственно, нельзя совокупляться или, скажем, ковырять в носу — в том и другом случае на потеху мирянам и профанам. Достаточно лишь сравнить эту интравертную, шокирующую, лунатическую физиологию со ставшей общим местом сверхтрезвостью еврейского интеллекта, чтобы очутиться лицом к лицу с причудливым парадоксом, в котором лишенный корней, скептический, иссохший в рассудочности дух уживается с тертуллиановски абсурдной мистикой плоти. Еврейский оптимум и первофеномен обнаруживается, таким образом, не в присутствии духа, а, скорее, в присутствии тела, где телу придается такое же трансцендентально универсальное значение, что и духу в арабски (аверроистски) разведенной мысли Запада.
5.
Если, таким образом, величайшим грехом, на который вообще способен еврей, является забыть свое царское, читай: еврейское происхождение, то спасение от греха может лежать в некой телесно усвоенной и усовершенствованной мнемонике, при которой исключалась бы сама возможность утраты памяти об иудейском генезисе (берешит). Очевидно, что подобная изолированность и эксклюзивность, лишенная к тому же (со времен Адриана до 1948 года) всякой возможности быть пространственно локализованной — еврейское чудо: ubi sum, ibi Israeli (где я, там Израиль!) — никак не могла навлечь на себя легкую судьбу. Антисемитизм, с которым в настоящее время может соперничать разве что ненависть к немецкому, следует повсюду за еврейством словно тень, то в форме эндемических взрывов ненависти толпы, то в образованных головах всякого рода местечковых массовых подстрекателей. В антисемитизме заслуживает внимания не столько то, что он сам по себе есть (его «сам–по–себе» полностью выдыхается уже в префиксе «анти»), сколько то, как именно он воспринимается и используется своими отрицателями. Что антисемитизм в настоящее время выступает, как правило, в качестве пугала, которого остерегаются больше, чем того, что он отпугивает, свидетельствует лишь о первобытно–примитивном и поздне–декадентском характере нашего времени. Количество граждан, способных по слову антисемитизм определять степень своих нервных срывов, растет изо дня в день. При этом на придурковатый антисемитизм бритоголовых показательным образом реагируют рассчетливее, даже снисходительнее, чем на требование видеть в нем проблему, которую следовало бы не заглушать рыком, а брать умом. Бедные перевоспитанные немцы, столь единодушно ненавидящие себя в заколдованном круге своей двенадцатилетней любви к Гитлеру, не могут, даже будучи антропософами, преодолеть посленаркозный паралич и справиться с проблемой Гитлер, не впадая в истерику. Нужно лишь обратить внимание на шум, не смолкающий в антропософской периодике в связи с рядом высказываний Рудольфа Штейнера о еврействе[23]. Будущим историкам придется, без сомнения, ломать себе голову и над этой разновидностью легендарной германской верности, именно: над смысловым вывертом, что евреев в нынешней Германии любят столь же невменяемо, как их ненавидели в эпоху национал–социализма. Что вокруг темы еврейства шумят как раз интеллектуалы, более чем понятно. Им не терпится быть больше евреями, чем сами евреи, хотя они и знают, что к столу их всё равно не пустят, разве что в прихожую… Вопрос формулируется иначе, пусть несколько неожиданно, но имманентно: а способен ли интеллигентный еврей испытать благодарность при чтении заклеветанной антропософскими и прочими интеллектуалами статьи Штейнера «Тоска евреев по Палестине». В конце концов ведь не только же sub Jove frigido воздается должное дельфийскому оракулу Познай самого себя, но и в Иерусалиме!
6.
«Еврейский вопрос» освещается не блуждающими огоньками одного немецкого мифа XX столетия, а светом НЕМЕЦКОГО ДУХА. Только так может, наконец, быть положен конец этому взбесившемуся дискурсу под именем антисемитизм. Если номиналистически эвоцируемый и семиотически опекаемый антисемитизм post rem играет роль нечистой силы еврейства, то антисемитизм ante rem, стало быть не как номен, а как реальность, есть необходимость еврейства. Подобно тому как теологический Бог Библии не может обойтись без Супостата, так и еврейство не способно существовать без юдофобии. Сказанное, безусловно, имело бы больше видов если не на понимание, то хотя бы на относительно сдержанный прием, будь сказавший это сам евреем. Но, с другой стороны, если никому не хочется быть сказавшим это евреем, то отчего бы не стать им как раз нееврею!… Феномен еврейской самоненависти хорошо известен. Отчего бы не рассчитывать и на еврейское самопознание! Если еврей познает себя как еврея, то познает он себя наверняка не как еврей. Там, где познаваемый — еврей, познающий — никто: лессинговский «Ich bin dieser Niemand», ни эллин, ни иудей, а наблюдатель, способный наблюдать и исследовать еврейство — всё равно, в себе самом или в ком угодно — sine ira et studio. Скажем, на примере следующего пробного пассажа: Si I'antisemitisme п'existaitpas, ilfaudrait l'inventer (если бы антисемитизма не существовало, следовало бы его выдумать). Именно: выдумывают себе ненавистника, за отсутствием любящего. Ненависть, хоть и тягостна, но перспективна; в Адольфе Гитлере, соединившем в немецкой душе два абсолютно не–немецких понятия, национализм и социализм (оба французского происхождения), перспектива эта превзошла все ожидания; если Гитлер и по сей день гипостазируется как абсолютное зло, то, очевидно, не из теологических или прочих теоретических соображений, а как (всё еще!) беспроигрышная карта в игре за мир. Враждебность мира вовсе не страшна, если, конечно, заранее отнять мир у непредсказуемых харизматиков и отдать его на милость либералам; тогда враждебность можно даже пустить в оборот, выжимая её до самой точки, после которой она не годится даже для устрашения малолетних. Недавняя перебранка вокруг сдержанно умного намека поэта Мартина Вальзера («инструментализация зла»[24]), остается памятной именно как симптом, на котором лишний раз убеждаешься в правоте замечания Жозефа де Местра, что деликатность чаще наносит делу больший вред, чем неосторожность [25]. Возмущение, вызванное вальзеровской речью, покоилось в конце концов на недоразумении. В намерения poeta laureatus никак не входило каким–то образом противостоять еврейству; напротив: что им (сознательно или подсознательно) двигало, так это, скорее, стремление прозелита чище, а главное искреннее послужить делу. (Поэт Вальзер не упускает повода напомнить о себе, как о первом немце, трансцендентализировавшем Освенцим, что хоть и верно, но не совсем честно, раз уж поэт Вальзер не перестал после Освенцима писать стихи.) Романтик Освенцима обличает брокеров Освенцима, призывая изгнать их, торгующих, из храма, что значит: исконно еврейская проблема решается на исконно германский лад — так, романтический католик Лютер запротестовал однажды против инструментализации таинств и стал протестантом, к вящей злобе «римского клуба»; что же удивительного, если Вальзеру по–лютеровски захотелось стать большим католиком, чем папа! Инструментализированное зло (Освенцим) не недостаток, а лишь некое фактическое a priori, которым замазывается действительный недостаток. Можно проверить это на старом ренановском правиле: «Наиболее энергичное средство понять значимость какой–либо идеи, это устранить её и показать, чем мир сделался без неё»[26]. Итак: мы устраняем антисемитизм из еврейского мира и видим, что от этого мира тогда остается. В то время как оболваненные либерализмом европейские народы горят желанием упразднить национальное во имя человеческого; в то время как названные народы во имя этой возвышенной цели не брезгуют никакими средствами, ни даже поощрением свального греха и содомии, евреи остаются (Бубис счел нужным демонстративно заснуть при этих словах. Проснувшись, он обвинил оратора в антисемитизме и призвал его извиниться за сказанное) единственным народом, способным блюсти верность себе, своему прошлому и будущему. Необратимость антисемитизма оказывается, таким образом, условием его вступления в силу; антисемит сегодня — это тот, кто относится к еврейским святыням так же, как и к своим собственным. Когда в Нью—Йорке на выставке современного искусства выставляется образ Божьей Матери, изгаженной слоновьими экскрементами (католику Джулиани так и не удалось запретить показ гадости, нашедшей страстную защитницу в лице либеральной дамы Х. Клинтон); когда в немецком Хейльбронне инсценируется американская пьеса под названием «Поцелуй Иуды», в которой предательство Иуды интерпретируется как ревность гомосексуалиста (некая мусульманская община пригрозила режиссеру смертью, если он не откажется от постановки, оскорбляющей пророка Ису); когда против всей этой мерзости там и сям повышают голос, то протестующие автоматически зачисляются в ряды недобитых нацистских свиней. Написал же однажды остроумный автор «Еврейского парадокса», что верность — это нацистское понятие[27]. Любая верность, кроме, разумеется, верности святыне Холокоста. С этой святыней шутить нельзя, хотя свирепость, с которой она культивируется, в скором времени начнет лопаться анекдотами. Совсем как в случае Ленина, столетней годовщиной которого в свое время переелись до такой степени, что ничто уже не могло остановить хронические отрыжки всенародного анекдототворчества. — Аккуратность, с которой старая Европа проводит свою деевропеизацию и ipso facto африканизацию, не в последнюю очередь коренится в недостатке защитной реакции; если потомкам В. фон Гумбольдта или доктора Ливингстона нечего уже дать своим черным собратьям, то тем похвальнее выглядят их старания уподобиться им вплоть до внешнего вида. В конце концов антисемитизм — это факт, и лишь как таковой он есть и теория. В чем факт единственно нуждается, так это не в том, чтобы быть объясненным, того менее интерпретированным, а — быть увиденным. Но видеть факты значит, правильно их расставлять. Фактом является, что государство Израиль было зачато в Базеле 29 августа 1897 года. Фактом является и то, что оно увидело свет 14 мая 1948 года в Тель Авиве. Оба эти факта лишь в том случае слагаются в первофеномен, если от взора не ускользает третий промежуточный факт: беременность и родовые схватки, вызванные родовспомогательным вмешательством акушера по имени Адольф Гитлер.
7.
Еще раз: «еврейский вопрос» — это выбор между юдаизированным еврейством и еврейством секуляризированным. То, что вопрос этот обернулся «еврейским парадоксом», образует некий узел, который — сегодня это режет глаз больше, чем когда- либо, — не может быть ни распутан, ни разрублен. Очевидным образом еврейский парадокс сегодня — это уже не расовый парадокс оставшихся чистыми полукровок, а парадокс еврейского государства. Парадокс Агасфера, получившего вид на жительство; остается лишь вспомнить старую еврейскую поговорку: «Кто не верит в чудеса, тот не реалист», и — вопреки двум тысячелетиям непреодолимо центробежной судьбы — отдать должное сжатому кулаку государства Израиль, этому чуду сионизма. С тех пор чудотворцы вынуждены ограждать себя от исполненных ненависти братьев, требующих от них того же, что сами они раньше требовали у мира, и забрасывающих камнями их творение; любопытно, что читателям Библии не хочет прийти в голову сравнение с юным интифадистом Давидом, который пращею и камнем поражает Филистимлянина! — Возникновение сионизма, как и его небывалый успех в эпоху мировых войн и «осуществимыхутопий», относится к наиболее значительным парадигмам политической теологии, в которой политика рассматривается и практикуется уже не как искусство возможного, а, скорее, как искусство невозможного. Значение Герцля для еврейства сравнимо со значением Лойолы для католицизма: в опасную пору распада и разложения жизненных миров обоих. В том и другом случае речь идет о реанимации: один раз опустившегося и погрязшего в языческом дерьме христианства, другой раз распадающегося и рискующего утратить свою народную идентичность еврейства. (Характерно, что оба раза надувать меха в этой игре довелось как раз немцам.) Сионизм — реванш еврейства, его романтизм и опоздавшая на тысячелетия юность. Это — мечтательство практиков, химера здравомыслящих. Трезвые и взвешенные современники смеялись над сновидцем Герцлем, пытающимся реализовать невозможное. Невозможное Герцля — мир, в котором мы живем. Даже не столько об основании государства Израиль приходится думать, говоря о достижениях сионизма, сколько о некоем паравертебральном чувстве опасности, которого сегодня едва ли может избежать тот, кто — безразлично, как именно, — высказывается на еврейскую тему. Евреи, бывшие всегда в опасности, в разгар либерализма сами стали опасностью! История Творения делится на две эры: до Освенцима и после него. Последней предпосылают затем, как некое мотто, призыв одного интеллектуала, так и не усвоенный поэтом Вальзером: «Никаких стихов после Освенцима!» Отчего же только стихов? Отчего и не мыслей? Допустив, что мысль: «Никаких мыслей после Освенцима!», могла бы сама оказаться никакой… Освенцим — the Unthinkable: нечто не уплотняемое ни в стихи, ни в мысли, абсолютная несказ^нность, аналоги которой можно было бы искать в апофатическом богословии, или в гностической Плероме, или в каббалистическом Энсофе, или уже в немецко–мифическом Ungrund. В абсолютно релятивизированном мире современности, где любая другая святыня может быть опоганена со ссылкой на свободу мнения и право на творчество, этот абсолют предстает абсолютом как таковым. Освенцим — единственный санктуарий, которому не должно угрожать никакое святотатство. Вера в Освенцим — единственное, что способно еще предохранить деморализованную публику Запада от окончательного нигилизма. Мы присутствуем при инаугурации новой мировой религии, затеняющей прежние и присваивающей себе право на иммунитет против всякого рода freedom и frivolity современности. Что при этом особенно бросается в глаза, так это темпы, которыми здесь за считанные годы осуществляется то, что иначе потребовало бы столетий, если не тысячелетий. Освенцим — хронотоп, в котором весна веры уживается с осенью скепсиса. Нужно будет представить себе по аналогии христианскую одновременность Вольтера и св. Франциска, крестовых походов и салонов, целибата и венчания в церкви однополых пар, чтобы быть готовым к всякого рода неожиданностям и в этом случае. Романтическая природа сионизма обнаруживается уже в том, что он не в состоянии контролировать последствия своего вдохновения. Увлеченность, с которой антисемитизм разоблачается даже там, где им и не пахнет, напоминает увлеченность психоаналитика, видящего во всех вещах замаскированные гениталии. Следовало бы помнить, что религия — это никогда не только–религия, но всегда и ересь, кощунство, гетеродоксия, атеизм. Оттого уже в самом начале обращения в шоа Запада здесь то и дело появляются кощунники и ересиархи, которые осмеливаются усомниться в чуде или даже отрицать его. Их, правда, не сжигают и не четвертуют, а лишь выгоняют с работы или сажают в тюрьму; так или иначе, но невозможно не увидеть здесь рекапитуляцию религиозных практик. Напрашиваются параллели с разложением христианства, вплоть до торговли индульгенциями. Индульгенция, этот поздний шедевр креативного католицизма, есть лишь либерализация и тем самым как бы рыночная легализация греха, так сказать, маркетинг греха; достаточно вспомнить технику, с которой у виновных стран (включая Швейцарию) изымались и до сих пор изымаются миллиарды откупных, чтобы понять тревогу некой части еврейской интеллигенции, которая, обеспокоенная ростом shoa–business, предостерегает от курьезов и обратных эффектов. Случай М. Вальзера относится как раз сюда.
Не без основания страшатся и в этом случае непредсказуемых фокусов кустарнокоммерческой креативности, не ведающей, как известно, иных святынь, кроме тех, из которых выжимаются деньги. Главное, внушает нам мистер Money–love из пуританской утопии Беньяна[28], быть религиозным, а для этого годятся любые средства — в частности (или как раз вообще) стать богатым. После того как однажды (один пример из сотен) добрые христиане сочли возможным наслаждаться вином, от одной этикетки которого они испытывали уже легкое христианское опьянение: Lacrimae Christi, что может помешать находчивым евреям, да и уже кому угодно, производить и продавать, скажем, пудру марки: Ash of Holocaust? Под прикрытием, так сказать, старого бонмо: всё может быть, потому что всё уже бывало.
8.
Salus exjudaeis est? Очевидно, что со сменой времен меняются и опасности, которым подвержены времена. Если истекшее столетие еще в первой своей половине страдало от излишка истории, то позже, очнувшись после клинической смерти в реанимационном блоке США, оно страдает исторической недостаточностью. Опасность Европы, которая еще у Ницше диагностицировалась как «вред истории», называется сегодня: идущее из Америки распоряжение о finis historiae. Представление отменяется, актеры забыли роли! Это еще только начало, когда потомки Гердера оповещают о своей unlimited solidarity с Америкой; конец наступит тогда, когда они научатся понимать, с кем они, собственно, солидаризировались. Что Америка — это не этнос, а, скорее, этос, некая экранизация библейских эпизодов глазами пуритан, всё больше и больше становится общим местом. Подобно тому как роком старой просветительской Франции было навязывать миру Pax Britannica, даже и там, где она противостояла этому «миру»(трагическая судьба Наполеона, насаждавшего, по Шпенглеру, «французскою кровью английскую идею на континенте»), судьбой и предназначением Соединенных Штатов Америки является глобальная карикатуризация иудейской избранности под опознавательным знаком American Dream. Американец, носящий майки с надписью «Proud to be an American», не был бы столь смешон, играй он собственную посредственность, а не пародируй он чужого величия. Величие Америки — величие её каскадеров. Но размахом затрат на комбинированные съемки Апокалипсиса едва ли удастся скрыть дурной мелодраматический вкус, настоянный на «Унесенных ветром» и Чарли Чаплине. Американец — это дезертир какой угодно национальности, мечтающий стать евреем, каковым он, за молодостью лет, никогда так и не станет. Скорее уж иной еврей станет американцем, но тогда это будет впавший в детство еврей… Они способны еще смести с лица земли полмира, взрывая атомные и какие угодно бомбы, но нелепость их положения в том, что никто при этом не будет принимать их всерьез. Когда недавно духовный лидер талибанов предложил решить конфликт не военными действиями, а один на один с Бушем и Блэром (все трое с автоматами Калашникова), ему, по–видимому, и в голову не приходило, насколько стилистически аккуратен этот вариант решения проблемы. Молчание обоих западных вождей стояло под знаком «молчания ягнят»; куда адекватнее было бы отреагировать на выходку сумасшедшего муллы согласием, при условии что местом поединка оказался бы один из съемочных павильонов Голливуда. Откуда же было знать не читавшему книги The End of History мулле, что в историю нынче можно попасть не иначе, как в съемочном павильоне! В этом и состоит единственный шанс Америки — прекратить историю за неумением чувствовать себя в истории. Если американец нелеп в истории и велик в экранизации истории, то его прагматическое чутье подсказывает ему единственно верное решение: умещать не свою нелепость в истории, а историю в своем величии. Больше того, заставить всех понимать под историей то, что свершается не как судьба, а как роль, о которой после можно узнать из прессы, насколько она удалась. «Сегодня я веду бой, — признается генерал, главный герой фильма «Буря в пустыне», — а завтра узнаю из новостей CNN, выиграл ли я его или проиграл». Этот бой Америка будет вести до тех пор, пока даже умным людям ни станет ясно, что других боев уже нет и не может быть. Человек будущего узнается, между прочим, уже и сейчас не по хорошему или плохому, а единственно по американскому настроению. Музыкантская шутка, согласно которой публика в зале делится на три группы: тех, кто кашляет во время концерта, тех, кто не кашляет, и американцев, наверняка перестанет в скором времени быть шуткой. Американцы и в самом деле внушают миру (даже после предупреждения богини Клио 11 сентября 2001 года), что кашлять, как и не кашлять, можно было еще в истории, тогда как после истории никому не остается уже иного выбора, как быть американцем. Нет ничего удивительного, что конец истории провозглашается в стране, где история толком даже еще и не начиналась, но, с другой стороны, было бы опрометчиво интерпретировать эту суггестию как очередную отрыжку пресыщенного общества развлечений, а не как столп его истеблишмента. Конец истории равнозначен потере чувства истории. Старый мольеровский простак, не знавший, что он всю жизнь говорил прозой, уступает место своему американскому двойнику, не знающему, да и не желающему знать, что он живет в истории. (Молодой солдат, прослуживший несколько лет на американской военной базе недалеко от Мюнхена, не знал, что он находится в Germany.) Если Европа преклоняется сегодня перед Америкой, то оттого лишь, что именно Америка стала идеальным полигоном и триумфом её пораженческих теорий, от женевского цыгана Руссо до кёнигсбергского китайца Канта. Разве случайно воодушевление, с которым сегодня говорят о Канте; даже зеленый министр иностранных дел Германии (он прославился, как молодой человек, тем, что буянил на улицах и поколотил однажды полицейского) сказал, что нынешняя объединенная Европа — Кантово детище. Увы! Европа чествует Канта, в то время как со дня на день растет количество европейцев, которые хоть и знают, что началось новое тысячелетие, но не совсем уверены, какое именно. («Кто станет миллионером?» — в российской версии, кажется, «О, счастливчик!»: — тот, у кого при вопросе, в какое тысячелетие мы вступили, не пробежит мороз по коже.) — За отсутствием мужчин, делающих историю (Трейчке), рассказываются истории. Рассказчики — репортеры и вуаёры, которых за последние войны погибло едва ли не больше, чем солдат. Смерти какой–нибудь случающейся с кем попало принцессы, или кашлю её любимого мопса, или очередной случке какого–то еще эстрадного мутанта уделяется сегодня больше внимания, чем иному путчу или даже переделу мира. Государственные мужи почитают за милость пожать руку футболистам, а прыгающие по сцене и визжащие обезьяны посвящаются в рыцари и величаются «сэрами»… «Пора смириться, сёр!» — Стресс, этот отец погибели западного мира, олицетворяет сегодня всё, в чем сохранились еще признаки жизни и истории, и оттого в борьбе со стрессом протекает нынешняя фаза западного слабоумия. Стресс — это вовсе не война, революция, голод, террор, судьба; стресс — это когда вам звонят во время сиесты или когда опаздывает прислуга… Присяжным историкам не остается ничего другого, как еще глубже зарыться в прошлое и существовать милостью умерших; лишь те, кто умеет бодрствовать и во сне, навостряют уши при номинации конца истории, чтобы не упустить внезапностей, которыми разгневанная история в самый разгар её упразднения дает о себе знать. Ибо либерализм и демократия подлежат сегодня ведению уже не историка, а исключительно демонолога. На что они, пожалуй, еще годятся, так это на то, чтобы раздражать и доводить до бешенства других бесов, которые тем свирепее тоскуют по вчерашней изнанке вещей, чем бешенее культивируется сегодняшняя изнанка. Видящему это не поможет уже ничто, кроме знания, или даже догадки, что Дух, не старый гегелевский Дух, которого так легко было спутать с одним героическим всадником, а новый, еще не узнанный, ввиду тупика, грозящего Творению, прибегает к хитрости упразднения Себя из мира, чтобы продемонстрировать одуревшим двуногим, чем мир сделался без Него. Одним словом: еще остаются евреи, современники пророков и Иова, на которых и мог бы рассчитывать Дух в своей хитрости. Желая быть реалистами, мы верим–таки в чудо: в то, что расслабленный европеец расчихается–таки в самый торжественный миг поминок по себе. Хотя слово: вы — соль земли, и относится ко всем сынам Земли, но евреи, кажется, и здесь составляют исключение, которому рассудительный Эмиль Людвиг подыскал однажды несколько драстическую формулу: «Я хоть и не считаю евреев солью земли; но наверняка они являются перцем Европы».
Базель, 16 октября 2000 года.
Науки о духе: без науки и духа
Попытка анамнеза
Опубликовано в кн.: Kultur, Bildung oder Geist? Skizzen zur Gestalt der europaischen Humanwissenschaften im 21. Jahrhundert, Innsbruck—Wien‑Munchen—Bozen 2004, SS. 205–222
1.
В начале современных наук о духе (humanities, moral philosophy, sciences d'esprit и т. п.) была… природа. Та самая природа, которая, до её инаугурации в физике Нового времени, слыла метафизически неполноценной или даже ненужной, оказываясь, таким образом, не неким нейтральным и вневременным объектом в калейдоскопе научных парадигм, а порождением самих парадигм. Спор факультетов лучше всего считывается с противостояния естественных и гуманитарных наук, берущих начало в средневековой двойной истине и настолько запутавшихся позднее в постоянной смене места и кулис, что адепты humaniora даже и по сей день едва ли догадываются о «естественных» истоках своей специальности: о том, что в начале их наук о духе был никакой не дух, а та самая грешная и аскетически затерзанная natura naturata, которой, после отпущения ей физикой её грехов, сподобилось сделать головокружительную карьеру и даже оспорить у Священного Писания его единственность. Трудности понимания, как всегда, связаны с обманчивостями терминологии, так что размеченность понятий при случае не только не способствует ясности, но лишь больше размывает границы зримого. Понимание начинается не с отделки понятий, а с превратностей их допредикативного метаморфоза. Терминологически можно было бы предположить, что более поздние гуманитарные науки, от Вико до Фуко, привязаны к пуповине средневековой теологии, вплоть до отсечения её в филологической интерлюдии Ренессанса. В действительности же, наследником прежней теологии (и филологии) оказались не гуманитарные, а как раз естественные дисциплины. Физика Нового времени настолько же далека от физики парижских или оксфордских номиналистов, насколько она близка средневековой теологии. Смена парадигм — метаморфоз междисциплинарных парадигм. Именно физика наследует в XVII веке теологический диспозитив власти и осознает себя госпожой всякого возможного знания, тогда как дух разделяет участь средневековой природы: теперь уже ему суждено ощущать себя в присутствии физики столь же неполноценным (ненаучным), каковой в пору его господства ощущала себя природа. На фоне levee en masse юных и пышущих силой естественных наук логологии Нового времени оставляют впечатление неповоротливого рыцаря, на которого со всех сторон обрушиваются мужицкие дубинки. И хотя эпоха Барокко, как время рождения дипломатии и этикета, способна еще оказывать им уважение, но не иначе как с оглядкой на их почтенный возраст и немощь; им даже гарантируется вполне привилегированное существование, при условии что они не станут претендовать на научность. Век Галилея и Ньютона согласен признать их царственность и терпеть их в любом оперении, если только они откажутся от амбиций текущего момента и удовлетворятся ролью экспонатов с табличками ad majorem gloriam philologiae.
2.
Судьбы метафизики, в самом начале Нового времени, прослеживаются, таким образом, не в старческих причудах схоластических высочеств, а в дезактивации всякой метафизики, у которой отнимается обременительная приставка meta в угоду богоподобной физике. Для современников и непосредственных виновников случившегося это было всем, чем угодно, но только не очевидностью; не увидеть этого сегодня означало бы умысел или слепоту. Мы тщетно стали бы искать конфронтацию теологических проблем у теологов; теология (со всеми её бывшими ancШae)нaходится в наше время в компетенции физики, тогда как сами физики, успешно выстояв кризис оснований своей науки и вновь оказавшись у дел, с головой погружаются в области, традиционно подлежащие ведению метафизики. «Хрустальный дворец» науки, воздвигаемый учеными оптимистами XIX века, предстал вдруг «лабиринтом», или даже «Вавилонской башней»: неким универсальным смешением языков и интенций, где можно было находить то, чего не искали, и искать то, что уже нашли. Историки всё еще ориентируются по парадигмам, новещи осмысливают, когда говорят не о парадигмах, а об их смешении, и когда видят в дискурсах не культуру, а симптомы её болезни. Дискурсы — трещотки, ступор смысла; вещи понимают, когда говорят, чтобы приглушать слова и слышать крик вещей. Пренебрегать этим правилом, значило бы содействовать умножению хаоса. Хаос, прикидывающийся структурой и порядком, разоблачается с помощью спонтанно–асимметричных и лишь с непривычки кажущихся парадоксальными суждений — когда, скажем, духовные и моральные реалии воспринимаются не там, где о них говорится, а там, где им не положено быть verbaliter, именно: на возрастающей кривой физики, а не в гуманитарных экстемпоралиях. Решающим оказывается при этом не совещательный голос наук о духе, а вотум точных наук, пусть даже от точности в них осталось не больше, чем от царственности в сегодняшних королевах и королях. Уже к началу XX века гордые естественные науки оползают в философию als ob и смиряются с участью быть фикциями. Через считанные десятилетия старомодными становятся уже и фикции. Гастон Башляр [29] фиксирует перелом в лапидарной формуле: «За старой философией как если бы, в научной философии, следует философия почему бы нет». Такова цена, которую современной физике приходится платить за вторжение в покои прежней philosophia prima. Остается лишь гадать, как обстоит дело с науками о духе, после того как они, в эпоху дарвинизма и единоличного господства эмпирических наук, приняли трудно вменяемое решение равняться на последних.
3.
Этому решению предшествовали, конечно, афронт и абсурд. Когда падуанский профессор Кремонини заявил, что он не станет смотреть в телескоп, так как это опровергает Аристотеля, он лишь пополнил тезаурус ученых курьезностей, эталон которых задал флорентийский остряк, сказавший однажды о знаменитом гуманисте Микеле Марулло, что тот, возможно, и великий мудрец на латыни и греческом, но на вольгаре он большой дурак. «Этот сорт людей, — пишет Галилей Кеплеру, — полагает, что философия есть книга, подобно Энеиде или Одиссее, и что истина может быть найдена не в мире или природе, а (таковы их доподлинные слова) в сравнивании текстов»[30]. Интересно, что против засилия книжных ученых пускаются в ход их же средства; и природа есть книга, только написана она не по–гречески и не по- арамейски, а, как гласит об этом знаменитое место из галилеевского Il Saggiatore, на языке математики, in lingua matematica, что и делает её иммунной к червям филологии. В междоусобице растущего математического эксперимента с доминирующей всё еще догматикой зеркально отобразилась схоластическая комплементарность logica naturalis и logica fidei. Но если старая, метафизически обесцененная природа должна была подчиняться не собственным законам, а неисповедимостям Бога, то новоприобретенному духу humaniora надлежало снискать милость как раз у вольноотпущенницы — физики, для которой отныне принималось в соображение только то, что могло быть взвешенным, сосчитанным, измеренным, разложенным и расставленным. Кантовский аподиктум [31]: в любом частном учении о природе можно найти науки в собственном смысле лишь столько, сколько применяется в нейматематики, был лишь прелюдией наступающего тоталитаризма математики, перенявшей у теологии её господские замашки и переведшей все без исключения науки в статус служанок. Математика, которой в её платоновско–пифагорейском прошлом возбранялось снисходить до мира чувственных вещей, подчиняет себе теперь все области знания, которым, в свою очередь, надлежит усваивать математические навыки, чтобы не дискредитировать себя призрачными спекуляциями. Мыслить, значит считать; фра Джордано да Пиза уже в 1303 году употребляет оба слова как синонимы, характеризуя флорентийских купцов, которые «денно и нощно думают и считают»[32]. Применение математики к миру чувственного, задолго до того как оно было узаконено у Галилея и Декарта, практиковалось, таким образом, предпринимателями и торговцами (равным образом, политиками и зодчими). Зомбарт не находит для двойной бухгалтерии Луки Пачиоли лучшего сравнения, чем с будущим математическим естествознанием[33]. XVII век стоит уже целиком под знаком математического делириума. «Молодые люди, — жалуется Вико[34], — выходя из академий, находят мир полностью геометрическим и алгебраическим». «Для репутации утонченного джентльмена, — говорит Маколей[35], — было почти необходимым умение поддержать разговор о воздушных насосах и телескопах, и даже светские женщины […] посещали на каретах, запряженных шестеркой, Грэшемские диковинки, крича от удовольствия, когда магнит притягивал иголку, а микроскоп делал из мухи воробья». Journal de Savants от 4 марта 1686 года резюмирует случившееся в следующих красочных обобщениях: «После того как математики открыли тайну проникновения в салоны и через Mercure galant ввели в обиход в дамских покоях термины столь солидной и серьезной науки, как математика, утверждают, что могуществу галантности настал конец, что там только и говорят, что о проблемах, короллариях, теоремах, прямых углах, тупых углах, ромбоидах и т. п.; рассказывают также, что недавно в Париже нашлись две барышни, которым этот вид знаний так затуманил мозги, что одна из них и слышать не желала о замужестве, если тот, кто добивался её руки, не обучился бы прежде искусству шлифования стекол, о котором столь часто шла речь в Mercure galant, в то время как другая отказала одному в высшей степени достопочтенному мужу, так как он в течение отведенного ей ему для этой цели срока так и не смог придумать чего–либо нового о квадратуре круга»[36]. Это вздорожание естественных наук надо наблюдать параллельно со снижением курса гуманитарных дисциплин, прежде всего историографии, на негативном отношении к которой точные науки, казалось бы, лишь сильнее утверждались в своей исключительности. У Декарта[37] историк подобен путешественнику; как последний, из–за постоянных странствований, делается чужим в своей родной стране, так и первый за сплошными tempi passati не видит настоящего. Для Мальбранша история не больше, чем глупость[38]. Популярный в свое время анекдот о сэре Уолтере Рейли выразительно иллюстрирует ситуацию. Рассказывали, что ученый муж предал огню рукопись второго тома своей Всемирной истории, после того как уличное происшествие, которое он наблюдал из окна, было рассказано ему другим очевидцем совершенно иначе, чем видел его он сам[39]. Нет сомнения: тысячелетняя гегемония духа шла на убыль, и заботой духа было уже не удержаться у власти, а удержаться вообще. В культурном ландшафте, где право на научность было оставлено только за наблюдением и экспериментом, духу, взыскующему научности, не оставалось ничего иного, как предаваться искусству мимикрии и старательно подлаживаться под новую тональность.
4.
Коротко и ясно: теологи не учли, что проблемой духа (Бога) было не просто быть, а быть научно удостоверенным. Между тем, его совершенство хоть и имплицировало (милостью онтологического аргумента) бытие, но никак не научность в собственном смысле слова, по той очевидной причине, что в то время не было еще никакой науки: в собственном смысле слова. Была scientia (даже scientia experimentalis), но от последней легче было дойти до магии, чем до современной science, или науки, как «некой сообразно принципам организованной совокупности познания»[40]. Эта наука (наука собственно) возникла позже, и возникла из того самого духа, которому в ней не оказалось места. Что естествознание стало последним (и губительным) творением теологии, свидетельствует о странной, почти что невменяемой причуде старого метафизического духа. Именно: духу причудилось отделить от себя природу (естество!) и отдать её на попечение атеистическому естествознанию. Разлад между духом и природой, задающий тон западной философии, заведомо исключал возможность соглашения между ними, вопреки усилиям пантеизма, который при случае лишь усугублял водораздел. Дух не мог или не хотел избавиться от своей платонической аллергии на всё телесное, а тело продолжало оставаться гробом духа. Грань, отделяющая контемпляцию от наблюдения, лежала не столько в умозрительном, сколько в сословном sui generis, и если мирским подобием визионерства могла быть куртуазия, то эксперимент уже никак не отличался от мужицких повадок. Что в этой несовместимости оставалось незамеченным, так это её обусловленность одним звеном противостояния, именно: духом. Если близорукость могла сочетаться с упрямством, то как раз в этом пункте. Философы начинали с оппозиции: дух–природа, как с некой абсолютной данности, тогда как начинать следовало с осознания, что сама эта оппозиция была лишь порождением духа, который сперва разложил себя на идеальное и материальное, чтобы затем, отождествив себя с идеальным, послать материальное — буквально! — к чёрту. Этот дух, Бог христианства, всегда хотел быть только мыслящим и никогда воспринимающим: только духом и никогда телом. Понятно, что телу, которому он назначил быть скверной, не оставалось ничего иного, как терпеливо дожидаться своего часа. Нелепость заключалась в том, что не языческий философ Платон, в котором ранние отцы церкви видели христианина до Христа, был обращен в христианство, а христианский Бог в платонизм: христианская мысль по всей линии, от Августина до гуманистов, как бы и не знает более высокой инстанции, чем греческий симпосион (у Марсилио Фичино Платон уподоблен Богу—Отцу, а Плотин Сыну). Соответственно: мир чувственного (в христианской редакции: земной юдоли) препоручался метафизически второсортным дисциплинам philosophia naturalis, или physica experimentalis, a себе дух зарезервировал место в царстве «вечных истин». Фатальной оказывалась при этом его нечувствительность ко времени; еще мог он мыслить время в себе, но уж никак не себя во времени; в последнем случае ему пришлось бы только царствовать, передав времени (этому министру Бога, как называет его, вслед за Жозефом де Местром, Гегель) бразды правления. Час физики пробил, когда почтенные entia per se схоластики стали уступать место галилеевским bruta facta (более поздним petits faits позитивизма), а метафизически надменная ненаучность (= ненаблюдаемость) духа обернулась внезапно дефектом в перспективе ближайшего самоупразднения. За сплошными visiones divinae essentiae старый метафизикус не видел качающихся ламп и падающих на землю яблок; он всё еще нежился во вневременном, косясь на физику в XVII веке с той же брезгливостью, что и в ХШ-м, хотя уже в XIII веке ему следовало бы вспомнить предостережение Суллы против Цезаря: «Берегитесь, в этом мальчишке таятся десять Мариев!» Когда он, наконец, пришел в себя, было уже поздно; «мальчишка» прочно сидел в седле, монополизировав право на научность. Последний гвоздь в крышку гроба artes liberales был вбит Кантом: если наука — это опыт, а опыт — это всегда только чувственный опыт, то духу, чтобы быть научным, а не спиритическим, надо пройти карантин абсолютной формализации и даже не мечтать об ином содержании, кроме того, которое поставляет ему физика. Образцом такого духа остается математика, как руководство по эксплуатации: «Я определяю некоторые знаки и даю правила, по которым они комбинируются, вот и всё»[41]. Механизм обратной реакции срабатывал безошибочно: с одной стороны, дело шло (так Кант) о высоких метафизических башнях, «около коих обыкновенно бывает много ветра», с другой, о «плодотворной глубине опыта»; посередине повисали понятия, которые, чтобы быть научными, должны были быть заполнены чувственным опытом; в противном случае (соблазненные «трансцендентальной иллюзией») они влеклись бы к идеям, пытаясь их познать, и по необходимости оборачивались бы ложью и обманом. Парадигма «грезящего духовидца» (Сведенборга), выставленная Кантом как предупредительный знак на пороге, подвела черту под двухтысячелетней историей западного духа;«духовная наука» оказалась не чем иным, как contradictio in adjecto. «Дух» не может быть эмпириком, соответственно: «наука о духе», чтобы быть научной, не должна забывать, что она имеет дело не с реальным, а с фиктивным «духом». Последний отчаянный демарш немецкой идеалистической философии, изъясняющейся тайными знаками Плотина и Прокла в мире, начинающем говорить по–английски, останется в памяти поколений неким духовным подобием Фермопил. Они и в самом делестояли насмерть. Немецкий идеализм кружит голову непрекращающимися attaca subito своих озарений, морфологическое подобие которых можно было бы найти, пожалуй, лишь в неистовстве наполеоновской или бетховенской Eroica. Дух ведет себя здесь так, словно бы он был всё еще верхом на коне и говорил по–гречески. Ничто не характеризует этот дух ярче, чем анекдот о Гегеле, который, когда ему указали на то, что описания его «Философии природы» не согласуются с фактами природы, ответил: «Тем хуже для природы». Если возразят, что Гегель не говорил этого и что ему это приписали, на это можно было бы ответить: тем хуже для Гегеля. Значит тот, кто выдумал это, и был «Гегелем». Это поза люциферика, которому, несмотря на протестантские отложения, осталось памятным его католическое прошлое. Здесь глаголет некий дух, неспособный справиться с природой Галилея, зато срывающий злость на засахаренной природе Руссо, к которой он хоть и испытывает непреодолимое презрение, но которая нужна ему в качестве контраста и противообраза его собственной (как «свое другое» увиденной) природы. Достаточно вчитаться в некоторые пассажи гегелевской «Философии природы»[42], чтобы понять, отчего более поздние пришельцы позитивизма багровеют уже при одном упоминании имени её творца. Со второй половины века, в царствование Гельмгольца и Вирхова, немецкий идеализм стоит уже не под знаком Фермопил, а тех памятных сцен из «Дон—Кихота», из которых явствует, что оборотной стороной рыцарства в неисповедимых судьбах Запада суждено было стать мечтательству, положительно оцениваемому как идиотизм.
5.
Можно догадаться, что в сложившихся обстоятельствах духу оставался единственный шанс избежать участи стать факультативным, и что шанс этот он не упустил. Теме «Бог» в эпоху дарвинизма и либерализма выпала та же участь научной маргинальности, что и теме «природа» в эпоху высокой схоластики. Если научное тождественно с естественнонаучным, то очевидно, что дух может выглядеть научно, лишь переняв и как–то усвоив естественнонаучный метод. В этой оптике заметный подъем наук о духе на исходе XIX века видится как путь в Каноссу, который должен проделать престарелый и оказавшийся вне закона экс–суверен, чтобы выговорить себе право собирать крохи со стола своей бывшей служанки. Одержимость математикой, носившая поначалу спонтанный и спорадический характер, становится теперь всё более методичной; с какого–то момента физика — это математическая физика, и любая попытка излагать её физически[43], а не математически, автоматически квалифицировалась как ненаучная, или околонаучная. Наукам о духе не оставалось, проходя натурализацию, иного выхода, как держаться естествознания либо прямо равняться на математику (по примеру, скажем, Гербарта, объясняющего психику с помощью дифференциальных уравнений). Интересно, что из этих починов подчас могли выходить и шедевры; Тэн предваряет свои монументальные исторические полотна предупреждением, что будет рассматривать свой предмет (возникновение современной Франции) по аналогии с метаморфозой насекомого[44], а Шпенглеру для его морфологии культуры достаточно просто ботаники. Возражения против этой натурализации духа способны были скорее привлечь к проблеме внимание, чем решить её; в качестве punctum saliens оставался вопрос об объекте дисциплин, желающих стать наукой, как–то истории, психологии, теологии или‑last, not least — философии. Понятно, что по сравнению с наличным объектом естественных наук (в классическую эпоху) объект наук о духе имел едва ли лучшие шансы на существование, чем сто воображаемых талеров перед ста действительными талерами в кантовском опровержении онтологического доказательства. Что здесь особенно бросается в глаза, так это абсолютная инконгруэнтность обеих областей, заведомо обрекающая на неудачу всякую попытку уместить их в единой оптике: науки о духе начинают равняться на естественные науки как раз в тот момент, когда последние стоят перед кризисом оснований (foundational crisis) и нуждаются сами в решительном metabasis eis allo genos, чтобы не развалиться изнутри. Примечательно, что решение Дильтея придать наукам о духе собственный имманентный статус, как и усилия Риккерта провести водораздел между науками о природе и науками о культуре, приходятся как раз на то время, когда математически ведомые естественные науки начинают ломать себе голову над мрачной дилеммой Гегеля: не есть ли каждое доискивание до оснований (Zu–den–Grunden—Gehen) по необходимости и гибель (Zugrundegehen)? Нетрудно увидеть, что в том и другом случае кризис вызван именно путаницей в определенииобъекта; как раз там, где метафизика под знаком разделения «номотетического» и «идиографического» намерена строжайше отграничить свой объект от объекта физики, физика теряет неожиданно свой (классический) объект. Ситуация выделяется игровым характером sui generis: если науки о духе чем–то вообще страдали, так это отсутствием (генетически: потерей) объекта, от которого им пришлось отказаться по причине его абсолютной научной непригодности. Дух не умещался ни в наблюдении, ни в эксперименте. Мейстер Экхарт предостерегал из XIV века против желания «видеть Бога глазами, как видят корову». «Простаки полагают, что могут видеть Бога, как если бы Он стоял там, а они тут»[45]. Эта аберрация тем нетерпимее бросалась в глаза, чем отчетливее вырисовывался объект с противоположной — научной — стороны. Когда впоследствии науки о духе стали приспосабливаться к более счастливому партнеру–противнику, дело шло о том, чтобы устранить названный недостаток и измыслить себе объект, пусть и не столь осязаемый и убедительный, как в мире наблюдения классической физики, но, по меньшей мере, такой, который мог бы теоретически привлечь внимание. Фридриху Альберту Ланге принадлежит заслуга разрубания этого гордиева узла: в блистательном прецеденте психологии без души, ставшем своего рода инструкцией по выходу из тупиков познания. Психология без души вовсе не означала беспредметности, как могло бы показаться на первый взгляд; речь шла не об упразднении предмета, а только о переводе его из догматического статуса quo ante в новый, критический, диспозитив. Подобно тому как ребенка не выплескивают с водой, так и не упраздняют психологию, устраняя душу. Было бы опрометчивым поставить под сомнение такую почтенную науку, как «психология», только потому что мы не знаем, что есть (и есть ли вообще) «душа»! Прецедент, созданный Ланге, имел далеко идущие последствия: в скором времени новый метод, известный под техническим наименованием неокантианство, стал приносить богатейшие плоды во всех областях культуры. Решающим моментом стала замена понятия, под знаком которого стояли различные и столь разные во всем другом философии: классическая субстанция (causa sui) должна была уступить место функции. Срыв прежней попытки фундировать науки о духе более наукообразными объектами, чем энтелехии и эссенции, коренился в смещенности основных понятий; еще до того, как философы решились робким шагом двигаться к смене парадигм, естествоиспытатели были уже при деле. При всей односторонности и тенденциозности историко–научных изысканий Марбургской школы за ней нельзя не признать одного: как никакое другое идейное направление, она способствовала освобождению философского мышления от мистических, мифических и оккультных атавизмов. В конце концов, вызов Ф. А. Ланге представлял собой лишь перенос испытанной естественнонаучной процедуры в совершенно новые измерения; старую душу постигла участь флогистона или vis vitalis — популярно говоря, того занимательного ножа, который хотел оставаться ножом, после того как его лишили рукоятки и лезвия. Насколько безосновательным было в свое время опасение, что с устранением флогистона у Лавуазье исчезнет и химия, как наука, настолько же преувеличенным было бы думать, что с упразднением души научная психология подрубает сук, на котором сама же сидит. В «Логических основаниях точных наук» Наторпа (1910), как и в «Понятии субстанция и понятии функция» Кассирера (1910), тенденция достигает окончательного выражения, по формуле: «Мы познаем не „предметы“ — как если бы они были уже прежде и независимо определены и даны как предметы, — а предметно, создавая в равномерном протекании содержаний опыта определенные ограничения и фиксируя определенные длящиеся элементы и контексты связи»[46]. Через этот tour de force устранялись досадные остатки веры в «вещь в себе», а наукам о духе обеспечивалось их легитимное место в пределах mathesis universalis. В науках о духе милостью Канта дело идет, таким образом, не о том, что познается, а только о том, что познается; предмет растворяется в методе, а метод сам становится предметом. Короче говоря: если наука не преднаходит свой объект эмпирически, то она не мучает себя его поиском, а сама устанавливает его. Еще короче: не душа определяет научную психологию, а сама психология решает, что есть душа. Психология без души означает, таким образом: сначала психология (психиатрия!), и только потом уже — после освидетельствования со стороны психолога (психиатра!) — душа. Ибо научно удостоверенная душа тем и отличается от живой, что её (в обычном смысле) вовсе не существует, а если и существует, то не потому, что она есть, а потому, что её теоретически мыслят и клинически лечат. По аналогии со звездами на небе, которые (говорит нам Герман Коген) находятся не в небе, а в учебнике астрономии… По этому камертону и настраиваются революционные новшества всяческих «модернов», «постмодернов», «неопостмодернов» и «постнеопостмодернов»: теология без Бога, антропология без человека, физиогномика без лица, наука без знания, теория познания без познающего субъекта, филология без Логоса, философия без философов, искусство без гения, шекспироведение без Шекспира или, говоря коротко и грубо: сплошное масло, из–под которого снят хлеб (lauter Butter, der das Brot genommen ist).
6.
Будущему историку культуры в этой позиции бросится в глаза, пожалуй, не столько её понятийное лукавство, сколько невозмутимость, с которой здесь добиваются признания: своего рода sancta simplicitas,хотя и с противоположного, неожиданного, конца, — как если бы не Ян Гус сказал это с костра невежественной крестьянке, подбросившей вязанку хвороста в костер, а бедная женщина мученику, раздосадованная безыскусственностью его эксегез… Святая простота, с которою духовнонаучные дисциплины со времен Дильтея разжигают под собой костер, особенно режет глаз на фоне жесточайшего кризиса оснований в соседних и задающих тон естественных науках. Дело представлялось так, словно бы тупик, в котором очутилась физическая наука, оборачивался с противоположной, духовнонаучной, стороны перспективой; вдруг оказалось, что беспредметность наук о духе вовсе не дефект, как это выглядело еще вчера, а преимущество. По сравнению со зримостью и осязаемостью мира физики, в эпоху, когда всё решали опыт и эксперимент, миру духа и не оставалось ничего иного, как свыкаться с собственной неполноценностью. Но после того как мир физики сам стал вдруг проваливаться в незримое, теряя свой предмет и растворяясь в математических референциях, иллюзионизм которых не способны были смягчить уже никакие парадигмы, ущербному духу с его солидным стажем по части спекуляций на тему «кота в мешке» было самое время делать из нужды добродетель или, что то же, хорошую мину при плохой игре. Иными словами: кризис оснований, где физику, страдающую физической недостаточностью, настиг старый метафизический призрак ti esti, соответственно quidditas, пришелся как раз на время, когда науки о духе покорно и прилежно подлаживались под естественные науки и рьяно изобличали и изничтожали всякую метафизику. Путанее и нельзя было ничего придумать: дух старательно отнекивался от себя и равнялся на материю, в то время как сама материя, потеряв свою прикосновенность, стала всё больше предпочитать эксперименту столоверчение. Физики, столь недавно еще и слышать ничего не желавшие о философии, вдруг стали проявлять интерес к её вчерашнему и даже позавчерашнему дню, так что теперь уже философам приходилось отвыкать от своей неполноценности и предостерегать естествоиспытателей от опасности отождествить физически незримое с метафизически незримым. Первым достижением возмужавших наук о духе было, поэтому, устранение старого понятия субстанция (ti esti) и замена его новым понятием функция (pros ti). Бесспорно, это было научное деяние эпохального ранга, но о решении проблемы не могло быть и речи, покуда открытым оставался вопрос: способно ли понятие функции осилить универсальное наследие субстанции. И хотя старая отхозяйничавшая субстанция не всегда отличалась логической добросовестностью и время от времени апеллировала к авторитету там, где ей недоставало интеллигентности, всё же она сводила концы с началами, пусть даже под соответствующим «индексом модальности» веры и откровения. Напротив, её наследница выступила с абсолютно научными амбициями, и что ей наиболее удалось, так это очистить имущество от хлама. Перелом в науках о духе позволяет не только формально сравнить себя с переломом в естествознании в эпоху Кеплера, Галилея и Декарта. Оба раза дело шло о «головокружении от успехов» с последующим подсчетом потерь. Почти три столетия понадобились естествознанию, чтобы отрезветь и осознать кризис своих оснований. Таким сроком не располагали уже науки о духе, подъем которых как раз совпал с кризисом на соседнем факультете. Свою весну им пришлось одолевать одновременно со своей осенью: в перспективе воскресения или уже совсем без перспективы. Речь и здесь шла о кризисе оснований, или, иначе, об отсутствии «согласия философствующего сознания с самим собой» (Р. Штейнер). О необыкновенно сильном заострении философской судьбы свидетельствует тот факт, что в самом начале книги, критикопознавательно и научно обосновывающей духовный опыт, можно было прочесть следующее заключение: «Философия современности страдает нездоровой верой в Канта»[47]. Кант, авторитет которого в философско–научном мышлении со второй половины XIX века не уступал авторитету Аристотеля в XIII веке, ограничивает сферу действия научного мышления наложением вето на всяческое переступание границы чувственного опыта.
§ 30 «Пролегомен» статуирует: «Оттого и чистые понятия рассудка совершенно лишены значения, если они отказываются от предметов опыта и хотят быть отнесенными на вещи в себе (noumena). Они как бы служат тому, чтобы читать явления по складам, чтобы суметь читать их как опыт»[48]. Возникает вопрос: что же можно почерпнуть из книги, если читаешь её по слогам? «Философия символических форм» Кассирера, этот монументальнейший памятник мысли репрезентативного академизма в эпоху «Заката Европы», дает недвусмысленный ответ на этот вопрос, скромно, хотя и не без достоинства постулируя свою задачу как «своего рода грамматику символической функции, как таковой, посредством которой охватываются и в общем определяются её особенные выражения и идиомы, каковыми мы имеем их в языке и искусстве, в мифе и религии». Другой вопрос, а таится ли нечто еще за грамматикой и идиоматикой, объявляется не относящимся к компетенции науки и поэтому оставляется открытым. Но ведь и естественные науки, которым пришлось компенсировать утрату своего классически–физического объекта неукротимым математизированием всего–что–ни–есть, попадают в аналогичную ловушку, когда в увлеченности математическим колдовством полностью пренебрегают чувством действительности[49].
Противоположности сходятся и здесь. Фикционализм философии (als ob), на котором науки о духе должны были оборвать свою долгую и мучительную карьеру, поразил в сердце и гордое естествознание, после чего у наук о духе отпала всякая надобность и в дальнейшем брать пример с точных наук. Приходилось заботиться о собственной — специфической — недействительности. По типу следующей шутки: Дайте газированной воды. — А вам с сиропом или без? — Без. — А без какого? — А без какого у вас есть? — У нас есть без вишневого, яблочного, апельсинового. — Нет, я хотел бы без малинового. Шутка не в том, что это смешно, а в том, что это может быть и не смешно. Что бы ни говорили о мужах науки, в одном им нельзя отказать: в искусстве делать смешные вещи несмешными. Они просто заменяют сироп более солидными симулякрами…
7.
Европеец, узнавший на исходе XIX века от почтенного философа Дильтея, что он homo historicus, был лишь иначе и в ином жанре оповещен о том, что в прочиевремена осуществлялось в жанре комедии. Сообщить современнику Дарвина, что он находится в истории и свершается (man sei in der Geschichte und — geschehe), значило потрясти его не меньше, чем в свое время сообщением о том, что он говорит, а, главное, всегда говорил — прозой. Но говорить прозой не утешение, если не знать что и о чем говоришь. Равным образом: быть в истории — это далеко еще не всё. Надо знать еще, отвечает ли «история» требованиям, необходимым для конституирования её «предмета». Что есть история? Есть ли она просто некая fable convenue (Фонтенель) или же, скорее, «масса глупостей» (Гёте)? В иной формулировке: что свершается в истории? Для ответа надо вспомнить сказанное Августином о загадке времени и перенести это на историю: мы знаем, что такое история, когда не спрашиваем об этом, но стоит лишь нам спросить, как мы не знаем ничего. Вывод: хороший историк — это не тот, кто ищет quid juris истории, а тот, кто верит вместе с Карлейлем, что и история — поэзия, и что нужно лишь уметь рассказывать, или тот, кто вместе с Ранке потакает наивному реализму, сводя задачу историка к пересказу событий «как было». Как же в самом деле — было? Поль Валери[50] вспоминает обмен реплик с Марселем Швобом перед портретом Декарта, написанным Франсом Хальсом: «Он находил его похожим. — На кого?, спросил я». При таком настроении можно, конечно, поднять на смех любого историка, но едва ли удастся писать историю самому. Что, стало быть, желательно для изложения истории, нежелательно для осмысления истории; остряк–нейрофизиолог, сказавший однажды, что с объяснением мозга не было бы никаких проблем, если бы не мешало сознание, мог бы найти сочувствие у историков, которым мешает быть историками история. Совсем как в случае того берлинского художника[51], который, путешествуя по Швейцарии, пожаловался однажды: «Всякий раз, как только хочешь увидеть что–то красивое, перед тобой торчит гора!» Оставалось сносить горы, что значит: упразднять дух, ввиду решения заниматься науками о духе. Мы оказываемся перед дилеммой: история или историческая наука, дальше: культура или наука о культуре, summa summarum: дух или науки о духе, и мы делаем свой выбор… По образцу ставрогинской реплики: «Чтобы сделать рагу из зайца, надо зайца. Чтобы верить в Бога, надо Бога». Но как раз в альтернативном варианте: Чтобы сделать рагу из зайца, не надо никакого зайца. Чтобы верить в Бога, не надо никакого Бога. Соответственно: чтобы заниматься науками о духе, не надо никакого духа. Именно эта ахиллесова пята и оказалась вдруг самым неуязвимым местом в корпусе научности. То, что прежде бросалось в глаза как недостаток, стало внезапно преимуществом. Что представители гуманитарных наук должны были всегда чувствовать свою неполноценность по сравнению с более везучими естественнонаучными коллегами, проистекало не в последнюю очередь из того, что объект их исследования был явлен им не столь телесным и ощутимым образом, как (по определению, да и по слухам) в случае естествоиспытателей. До природы подать рукой; духом пугают детей и впечатлительных малых. Дух в любом словаре соседствует с призраком, привидением, иллюзией. О дух уже обломились целые духовнонаучные карьеры. Приди студенту наук о духе в голову бедовая мысль запретить себе всяческий дискурс о духе и говорить о духе не иначе как в духе, он был бы без колебаний высмеян коллегами и поставлен на место. Даже у аутсайдеров и отравителей академических колодцев (типа Людвига Клагеса или Вальтера Ратенау), которые чувствуют себя неуютно с обеих сторон, дух выглядит до такой степени скомпрометированным, что они, метаясь между бездуховной природой и неестественным духом, делают ставку на душу, что, впрочем, не только никак не решает проблему, а, скорее, компрометирует их самих, очутившихся вместо бойкотируемого университета в «лазарете для неудавшихся поэтов» (Новалис). Интересен уже не спор факультетов, а переполох факультетов; интересны материалисты, не знающие, что такое материя, и идеалисты, верящие во всё что угодно, но только не в реальность идей. Сама природа естествоиспытателей уже никакая не природа, а, выражаясь с абсолютной точностью, чёрт знает что. Во всяком случае, в ней можно обнаружить больше духа, чем природы в собственном смысле. Не секрет, что именно гуманитарные мужи оспаривают реальность духа с большей энергичностью, чем естествоиспытатели, признавая за духом не иной modus essendi, чем nomina rerum или flatus vocis, которыми, как уверяет Алкуин, язык сечет воздух. Исходной точкой служит при этом убеждение, что дух (Бога) можно только мыслить, но никоим образом не воспринимать, потому что и сам дух (Бог) может только мыслить, но не воспринимать. Но дух, лишенный способности восприятия, упраздняет себя: сначала в обезболенных грезах «действительности, истины и достоверности его престола, без которого он был бы безжизненным и одиноким»[52], а после уже и в нагрузке учебных заведений. Характерно, что в упомянутой нагрузке не предусмотрено никаких обязательных часов не только для знакомства с духом, но и для прощания с ним (самоосмысление духа, как панихида по духу), и это лишний раз свидетельствует о том, что старый Бог не только умер, но и знать ничего не хочет о своей смерти, в чем может убедиться каждый трезвый боговерец, хоть раз столкнувшийся с тем, что преподается в сегодняшних университетах под рубрикой науки о духе. — Пароль академиков: науки о духе существуют не потому, что есть дух, а дух есть потому, что существуют науки о духе.
8.
Желая расчистить духу научный путь, тем решительнее сдвинули его в тупик. Оптимистичный и парадный у Дильтея, он бредет уже у Хайдеггера путями, ведущими в никуда, впрочем, нисколько не сдавая оптимизма, напротив: ухитряясь включить и эти пути в тематический план университета, чтобы вновь и вновь делать из нужды добродетель и вдохновлять учеников знания к многолетнему высиживанию собственной убогости. Еще раз: парадоксом наук о духе был и остается парадокс отсутствующего духа, а равным образом и краха всех попыток заткнуть дыры более или менее остроумными мыслительными играми. От будущих специалистов по философской дефектологии не ускользнет, что борьба со старой метафизикой сопровождалась усвоением ее коренных мыслительных привычек, среди которых центральное значение принадлежало противопоставлению природы и духа. В автократическом пространстве университета обеим специальностям было предписано строго размежеванное сосуществование, как если бы речь шла о совершенно различных вещах. Они и были различными, но вовсе не в смысле наивного реализма, а волею духа, который, противопоставив себя материи, обрек себя на односторонность в перспективе самоупразднения. Начало естествознания ознаменовалось освобождением природы от мифологически–духовных примесей; таковым же оказалось и начало наук о духе, ищущего не мифологического, а научного понимания. В науках о духе дух находит себя там, где ему и подобает быть, именно: в человеческой форме своего существования. За этим первым шагом освобождения следует другой, роковой: человеческое отождествляется с субъективным, вследствие чего и духу предписывается иметь исключительно субъективную значимость: сначала просто субъективную, а в дальнейшем, для устранения учиненного Юмом «скандала в философии», трансцендентально–субъективную. Узел был стянут намертво, так что философам, не желающим быть висельниками, оставалось его разрубать. Если духу (как в немецком идеализме) сообщалось реально–объективное значение, то не иначе, как ценой решительного обесценения субъективного: гегелевский Мировой Дух реализует самого себя как мир и историю, но никак не хочет вспомнить, что он имеет «самого себя» как раз в философствующем сознании Гегеля. Тупик оказался двойным: один раз для субъективного человеческого духа (всё равно, в юмовском или кантовском варианте), без выхода в реально–объективное, другой раз для объективного Мирового Духа, лишенного всякой субъективности. Это означало, что дух способен был защищаться от номинализма только в своей внечеловеческой (теистической) форме. Стоило лишь ему проявить мужество и предпочесть теологии антропологию, чтобы являться людям на глаза уже не в качестве слова, знака, idolafori, а во всей конкретности, как его сразу же сводили к субъективному минимуму с выходом в беспредел релятивизма и свободы мнения. Ибо особенностью этого отсутствующего духа является то, что если он есть, то в той мере, в какой его хотят и имстановятся. Научной психологии нечем заменить ликвидированную ею «душу»; она кое–как справляется еще с представлениями (Т. Циген), с трудом осиливает чувства (Франц Брентано), но о духе ей известно не больше, чем о сне без сновидений. Соль в том, что эта научная психология, хоть и зачисленная в науки о духе, в действительности является лишь придатком физики и математики; душа ищется здесь всё еще с помощью приборов, как в физике физические реальности: оба раза с итогом быть найденными как фикция. Между тем: дух не находят не оттого, что ищут его с помощью ложного метода или в ложном месте, а оттого, что его вообще ищут. Духовное нельзя искать, его можно только хотеть. Странное условие, которое принял бы скорее страстный и честный материалист, чем иной махровый метафизик: дух, как сознание, может действовать только там, где он желаем, иными словами: дух — это присутствие духа и случай: до всяческих дискурсов и грамматологии, что значит: дискурс о духе может быть осмысленным и предметным лишь при условии, что дух предшествует дискурсу, опережает его, вызывает его (транскаузально) к жизни, даже (при случае) затыкает ему рот, чтобы не дать перекричать себя словами и оставаться слышимым. Если философы не находят этот дух (сам–дух, дух–собственно), они ищут дух либо (исторически) в прошлом, либо (теоретически) в дискурсах, каковой дух оба раза относится к оригиналу, как следы на земле к оставившему их. Следы могут быть явными или менее заметными; решающим остается то, что, пока следопыты теряются в догадках, чьи это собственно следы, их смывает, после чего сам вопрос объявляется неуместным, или ненаучным. Напротив, научным оказывается, когда гипостазируют сами следы и выдвигают их на передний план в качестве самодостаточного объекта исследования. Что речь и в самом деле идет о следах, в этом ни у кого не возникает сомнения. Вопрос лишь в том, что делают со следами.
Берут ли след, чтобы пойти по нему, или остаются у следов, мотивируя это тем, что следам не следуют, так как они существуют не для того, чтобы по ним шли, а для того, чтобы их — интерпретировали? Решись тем не менее иной энтузиаст, исходя из следов, идти дальше, его предупреждают, что он таким образом становится на путь, который ведет в ничто. (Ничто — это имя академического стража порога, которому в науках о духе со времен Хайдеггера назначена та же роль, что и демаркационному понятию (Grenzbegriff) в кантовской критике познания, именно: предпосылать Пролегоменам ко всякому будущему духоведению, могущему появиться как наука, следующее мотто: дух дышит, где ему положено дышать, или он вообще не дышит.)
9.
Вопрос, есть ли будущее у наук о духе, или, в иной формулировке: достаточно ли они еще жизнеспособны, чтобы существовать дальше, получает, с оглядкой на сказанное выше, ясный и недвусмысленный ответ: у них нет не только будущего, но и прошлого, что значит: им не привелось до сих пор даже вступить в жизнь, ибо они были уже мертвы, прежде чем до них дошли слухи об их рождении. Решающей для их мертворожденности была их изначальная (закрепленная в средневеково–схоластической альтернативе regnum gratiae и regnum naturae) отторгнутость от естественных наук, с которыми они так долго не хотели иметь ничего общего, пока между ними и не осталось ничего общего, за исключением вербально–диалектических заимствований, подражаний и покорности, перенятой от прежней служанки. Этой отторгнутости суждено было впоследствии исчезнуть в точке скрещения беспредметности обеих областей; к концу XIX века не только науки о духе, но и (возможно, даже в гораздо большей степени) науки о природе стоят перед маревной перспективой нигилизма или, иначе, перед неспособностью освободить свои основные понятия от номиналистического мошенничества, чтобы не дать мышлению безостаточно испариться в говорение. Соединить их, даже слить воедино должно было парадоксальным образом то, что их во все времена разделяло: гетерогенность их объектов. Что же и оставалось физике, после утраты своего объекта (природы!), как не перерождаться в метафизику, во всяком случае не отличать себя от неё, что лишь внешне выглядело захватывающе и будоражило умы, на деле же умножало хаос и заменяло неясное более неясным. На расплывчатости, даже размытости границ, отделяющих физическое от метафизического, наживались в XX веке многие пограничные умы; достаточно лишь вспомнить эффектное сотрудничество глубинного психолога Юнга с физиком Паули, чтобы удостовериться в степени упадка, к которому пришла мысль с обеих сторон[53]. Одному кажется, что он открыл физические последствия в психическом, в то время как другой размышляет о психических свойствах физико–математических реляций. Оба раза на основании некоего «фюсиса» и некой «псюхе», которые в этой форме явления извлекаются не из опыта, а ищутся наудачу. Напыщенное сближение физики и метафизики с билатеральными реверансами и уступками, когда, скажем, физики паломничают на «Тибет», после чего и метафизики испытывают ностальгию по этой заново открытой им физиками родине, напоминает телодвижения лунатиков, которые в своей воодушевленности перспективами забывают, что танцуют на канате, под которым открываются не перспективы, а зияет нигилизм, «самый неуютный из всех гостей» (Ницше), выглядящий то как «тело», то как «душа», то как «то и другое вместе». Приставка als ob, обнаружившая не меньшее научное могущество, чем Бог теологов, причем в пору своего расцвета, ознаменовала лишь первую точку соприкосновения, в которой потерявшее уверенность и ставшее проблематичным естествознание сошлось с изначально проблематичными и неуверенными в себе науками о духе. Путь фикционализации физического (под мантией физикалистского) лишь рекапитулировал путь фикционализации духовного; в презумпции als ob оба заядлых спорщика впервые обнаружили свое единство и неразличимость. Что последовало потом, было интенсификацией фикции от целесообразности (Г. Файхингер) до — креативности: пассивное als ob уступило место инициативному почему бы нет, после чего обеим сторонам предстояло проявить сообразительность и опознать свой исторический оригинал в сказках «Тысячи и одной ночи». Не знаешь, чему больше дивиться: физикам ли, готовым своими charmed particles и подобными математически точными привидениями избрать себе девизом старое теологическое credo, quia absurdum, или теологам, для которых Воскресение Христа есть абсурд, поскольку оно противоречит физическим законам. Отцам–основателям театра абсурда, вместо того чтобы ожидать Г одо, пристало бы изучать физику или читать богословские сочинения. Но при всем том уже налицо и симптомы, что вопрос о будущности наук о духе (и ео ipso наук о природе) решается не в разговорах за круглым столом и не на научных симпозиумах, а на местах: компетентными и наделенными полномочиями чиновниками. Следующий пример может считаться предвестником решений, которые, судя по всему, в скором времени примут глобальный характер, чтобы очистить место лучшему, чем нынешние «гуманитарные науки». При государственной дотации общей суммой в 126 миллионов франков, выделенных в 2000 году в Швейцарии на разработку десяти национальных исследовательских программ, социальным и гуманитарным наукам
28 несмотря на 85 представленных на конкурс заявок — не досталось ни копейки. Государственный советник Шарль Клейбер, подводя итоги, мотивировал решение комиссии в словах: «Социальным наукам и наукам о духе недостает единых признанных критериев для определения научной ценности их высказываний и теорий. Без таких критериев для определения качества нет и не может быть действительной конкуренции в различных гуманитарных и социальных науках». Как видим: последнее слово в споре факультетов, ввиду заболтавшихся диспутантов, остается за фискальными политиками. Таков плачевный конец истории духа, которой угодно было начаться с сокращения своего предмета, чтобы прийти в итоге к сокращению своих штатов… Если это не бросается в глаза в случае естественных наук, то оттого, пожалуй, что из обеих фикций эта другая оказалась, бесспорно, более выигрышной. Прозорливый министр Кольбер едва ли не первым осмыслил бэконовское knowledge ispower в политическом контексте мирового господства — Кольбер, который в 1666 году основал в Париже Академию наук, предоставив неслыханные льготы (государственный паек с «тринадцатой зарплатой») этим корпящим над квадратурой круга чудакам: в убеждении, что в своих математических играх они то и дело будут натыкаться на вещи вроде пороха или подзорной трубы. Очевидным образом у gens de lettres подобный шанс не лежал в круге возможного.
Basler Zeitung Nr. 296, 19.12.2000, S, 3..
О конце истории философии
Вечерняя лекция, прочитанная 25 мая 2005 года в Московском университете в рамках IV Российского философского конгресса. Опубликовано в кн.: «Вестник Российского Философского Общества», 4 (36), 2005, сс. 33 -49
1.
Нет сомнения, что говорить о конце истории философии можно, лишь имея в виду конец самой философии. Но что значит конец философии? Очевидно, некий факт sui generis, подлежащий не оспариванию или взятию под сомнение, а освидетельствованию. С другой стороны, конец философии — это вовсе не конец философствования. Скорее напротив, по оживлению последнего можно судить об упадке первой; от философствования философия отличается примерно по тем же признакам, по которым воспитанность отличается от невоспитанности, при условии, конечно, что их можно еще вообще различать. Хуже всего, когда одно выдает себя за другое: когда всякого рода парафилософский и какой угодно уже вербальный энурез выступает от имени самой философии. Скажем, когда интеллигентные литераторы начинают рассуждать о «последних вопросах», не имея и понятия о «предпоследних». В этом смысле наиболее верным симптомом конца является, пожалуй, то, что о нем не догадываются, а не догадываются о нем оттого, что лишены органа чувства философии, в том самом смысле, в каком говорят об отсутствии музыкального слуха. Ведь философ — это далеко не каждый, кто овладел понятийным инструментарием и в состоянии рассуждать о проблемах, потому что видел, как это делает его учитель. Философ — это, прежде всего, свидетель философии, не тот, стало быть, кто говорит о ней или от её имени, а кто её видит. Или именно не видит, если нечего больше видеть. Этим и отличается он от тех, с позволения сказать, «коллег», которые ухитряются не видеть её, когда она есть, и видеть, когда её нет. Конец философии (как последнее, на что она еще способна) фиксируем, поэтому, немногими, а эти немногие опознаются, между прочим, и по тому, что воздерживаются от всяких споров и воздают усопшей должное созерцательной чистотой рефлексии. Сказанное лучше всего поясняется по аналогии с музыкой или живописью. Говорить в наше время о конце музыки или живописи уместнее всего не отвлеченно, а на месте происшествия, скажем, в каком–нибудь театре или музее современного искусства. Можно, конечно, называть музыкой звуки, похожие на те, что бывают при очистке засоренного трубопровода, а живописью уже чёрт знает что, но можно же и знать, что к музыке и живописи это имеет не большее отношение, чем душевнобольной, называющий себя Цезарем, к истории Рима. Аналогии с философией бросаются в глаза, и можно допустить, что их без труда продолжит тот, для кого философия не место под солнцем, а совершеннолетие мира, что значит: выход творения из биологической самозамкнутости и осознание им себя в непрерывности риска и решений.
2.
Можно проверить сказанное и с другой, более эмпирической, стороны. Есть внешние признаки (симптомы), по которым смерть философии констатируется с не меньшей достоверностью, чем любая другая смерть. Эти признаки лучше всего было бы поискать на немецких примерах, полагая, что если рыба гниет с головы, то где же и гнить философии, как не в Германии! Нужно будет просто перелистать тематические планы и программы немецких университетов по разделу «философия», чтобы понять, о чем речь. Единственное, что напоминает здесь о философии, — это пестрота спорадических и больше ориентированных на оригинальность, чем на объективность, компиляций историко–философского толка, где, скажем, Платон соседствует с Витгенштейном, а Сартр с Григорием Нисским. Назвать прочее философией можно было бы лишь в состоянии аффекта или невменяемости. Например, такой вот блокбастер: «Текст–тело–симулякр-сексуальность–власть». Я предложил как–то в одном университете более рафинированный вариант: «Текст–тело–гиперкомплексные числа–фаллос–Лакан», и проект был встречен не без энтузиазма, хотя и с долей скепсиса (очевидно, коллеги сомневались в моей способности осилить тему). Нет сомнения, что эти неконтролируемые дискурсы отличаются от логореи единственно тем, что их оплачивают, вместо того чтобы лечить. К философии они имеют не большее отношение, чем современное искусство к искусству. Всё зависит от трендов и брендов, как это сегодня называется. По–русски: если кто–то наложит кучу в музее, как посетитель, его арестуют. Если он сделает это, как художник, ему уделят стенд. Так же и в философии. От повышенной болтливости бегут, если у неё не хватает ума подать себя как философию. Или же её сперва «раскручивают» как философию, после чего конспектируют и заучивают на зубок. Это даже не драма сатиров, пришедшая на смену трагедии, даже не «всхлип», которым вместо ожидаемого «взрыва» окажется конец мира в эсхатологии Томаса Стернса Элиота. Это вообще ничто, абсолютная никчемность и никудышность, в сравнении с которой термин «нигилизм» кажется всё еще слишком оптимистичным. Если прибавить сюда еще неписаное, но достаточно эффективное правило, по которому молодые философские аспиранты имеют гораздо большие шансы получить место на кафедре или даже саму кафедру, если в их послужном списке фигурирует стажировка в каком- нибудь американском или английском университете, то итог окажется, говоря словами Ницше, «оскорбительно ясным».Философия, говорящая по–английски, а сейчас уже и по–американски, — это своего рода путь в Каноссу, на который немецкая философия вступила после 1945 года, параллельно с политическими казнями в Нюрнберге, когда как раз выяснилось, что «немецкая вина» — это вина не только всех без исключения немцев, но и едва ли не в первую очередь немецких философов: от Гегеля и Фихте до Ницше. Победители двух мировых войн, оказавшись и философскими победителями, могли быть вполне довольны. Чего они при этом не способны были понять, так это того, что за удовольствие быть довольным в философии приходится расплачиваться не чем иным, как самой философией. Они могли бы научиться этому у немца Гегеля[54], не будь немец Гегель немцем. «По тому, чем довольствуется дух, — говорит Гегель, — можно судить о величине его потери». В свое время Вернер Зомбарт [55] потешался над философом Спенсером, полемизировавшим со своим соотечественником Мэтью Арнольдом. На утверждение последнего, что Англия философски серая и ненаходчивая страна, Спенсер возражал: это не так, ибо именно «английский дух» за последнее время, во–первых, снабдил Амстердам водой, во–вторых, провел канализацию в Неаполе, в-третьих, организовал через Continental Gas Со. поставку газа во многие страны. «Даже в Берлине, штаб- квартире философии, — не без коварства добавляет Спенсер, — приходится рассчитывать на свет, поставляемый этой компанией». Итог: «Ну и как не сказать после этого, что англичане больше привержены идеям, чем немцы». — Это напоминает рекламный анонс в одной газете, который, пожалуй, только тем и отличается от хода мыслей философа Спенсера, что его при желании можно принять всерьез: «Чтобы нести людям свет, вам нужно стать либо священником, либо электромонтером».
3.
Но довольно о факте смерти. Главное — это осмысление факта. Может быть, в каком–нибудь удавшемся будущем сказанным займутся еще дефектологи философского сознания. Нам же, сегодня, впору осмысливать случившееся в респективном обращении к истории философии. Смерть философии — это всё еще философская тема: поворот философии на самое себя и последнее усилие осознать себя в тупике, который есть не что иное, как невозможность решения фундаментальных философских проблем традиционными философскими средствами. Собственно, говорить следовало бы не о проблемах, а о проблеме; множественное число указует лишь на вариационность, или модулируемость, одной и той же ключевой проблемы в региональных топиках подхода. Ключевая проблема философии сформулирована в Греции, и называется она: единое во многом. Таков её предельно общий аспект. История философии, если позволительно прибегнуть к музыкальному сравнению, представляет собой вариации на тему, а быть философом предполагает, между прочим, умение слышать в вариациях, какими бы замысловатыми они ни были, тему. Единое во многом есть метафизическая, онтологическая формулировка, соответственно отражающаяся в логическом органоне. В аспекте теории познания она называется мышление и созерцание, или подведение единичного опыта восприятий под логически общие понятия. Вопрос о конце философии есть лишь вопрос о возможности последовательного додумывания названной проблемы до той черты, после которой она выходит из–под контроля традиционно философских средств и ищет иных и лучших. В послекантовской или, скорее, послегегелевской философии черта эта становится всё более отчетливой, так что философы уже не столько решают проблемы, сколько спотыкаются о них. Можно было, конечно, и не спотыкаться, благоразумно повернувшись в прошлое и подменив философское сегодня философским вчера. Приставка нео как нельзя лучше подходила для этого, и не случайно, что уже с последней трети XIX века начинается эшелонированное отступление философии назад: к Канту, Гегелю, Фихте, Декарту, Николаю Кузанскому, Фоме. Разумеется, и это было лишь симптомом конца, причем не лучшего, когда философия продолжала жить только потому, что не знала и знать ничего не хотела о собственной смерти. Но была же и другая, недезертирующая философия, пытающаяся любой ценой остаться в настоящем. Назовем два основных проблемных поля, в которых конец философии получил наиболее прегнантное выражение: теория познания и философская антропология. Камнем преткновения первой стала так называемая беспредпосылочность познания. Вторая кончилась, так толком и не начавшись, в проблеме человека. В дальнейшем изложении мы будем держаться этого второго аспекта, проблемы человека, помня, однако, что с первым, беспредпосылочностью познания, его связывает не только общность судеб, но и типологическая идентичность.
4.
Можно знать, что философия (не та или иная, а вся, во всем объеме своей истории) — это не произвольное, из века в век тянущееся чередование мнений и знаний, а некая биография. Скажем так: жизнь мыслей, или самоосуществление мира в его способности быть Я и продолжать свою эволюцию уже не по витальной лестнице, а в линии познания. Если, по Оригену, мировой процесс имеет целью искупление, или восстановление дотварной цельности (restitutio ad integram), где агентом интеграции выступает познание, то драматичность этой мысли заключается в том, что как раз с познания и начинается диссонанс Творения и утрата им идентичности. Познание началось как грехопадение, или, если угодно, грекопаде–ние; философия, обязанная Греции своим началом, Греции же обязана и своим падением, причем следовало бы при слове «падение» энергично отгонять всякие моральные ассоциации, чтобы не багателизировать смертельную серьезность события опереточными настроениями. Падение — это выпадение из спячки витальностей в историю, соответственно: философское падение — это выпадение мысли из мира доксы и допредикативных очевидностей и осознание себя как проблемы: в стоянии между уже потерянным миром и еще не найденной «собой». Ей пришлось прождать два с половиной тысячелетия, прежде чем она открыла глаза на «себя», чтобы увидеть себя не в зеркале рассудка, а «как есть», но миг узрения стал её последней прощальной волей: волей уйти, чтобы уступить место лучшему, чем она. Нужно будет продумать однажды эту жизнь, начавшуюся с «божественного»Платона и домыс–лившуюся до «безумного Макса» (Штирнера). Конец философии — grosso modo — это некий абсолютный обрыв в связи времен, невозможность сочетания, примирения, сосуществования Платона с Штирнером, перехода от одного к другому. Если философия — это Платон, то философу Штирнеру нет и не может быть в ней места. Противоположности не сходятся: Платон — философ идей, Штирнер — самого себя. Для Платона всё, что не идея, есть тень и видимость. Для Штирнера тень и видимость всё, что не он сам: Иоганн Каспар Шмидт, он же Макс Штирнер: ЕДИНСТВЕННЫЙ. Платон, и вслед за ним вся христианская метафизика, решает проблему духа подчеркнутым противопоставлением его телу. После Штирнера духу не остается иного выхода, как стать ТЕЛОМ: вот этим вот человеком. Либо, в противном случае, существовать милостью столоверчений или языковых игр.
5.
Известно, что западная философия опознала в Платоне своего отца. Когда потом эта философия стала называться христианской, выяснилось, что у отца нет ни малейшего желания обратиться в христианство самому. У западных философов не Платон оказывался христианином, а скорее, христианский Бог платоником. Сам Платон (у Марсилия Фичино, например) умудрился дотянуться до ранга Бога—Отца. «Всё, что еще пишется и обсуждается сегодня мыслящими людьми, — говорит Ральф Уалдо Эмерсон[56], — берет свое начало от Платона». Это замечание безусловно верно, но недостаточно: от Платона берут свое начало не только мысли потомков, но и — что особенно важно — их ощущения, их, феноменологически говоря, «жизненный мир». Наш мир — жизненный мир Платона. «Подавляющим большинством людей, — дополняет Рудольф Штейнер Эмерсона, — отношение человеческого духа к миру ощущается так же, как оно ощущалось Платоном»[57]. Это значит: мы (философы, как и нефилософы) в подавляющем большинстве платоники, не зная этого, именно: платоники ощущения. Дело вовсе не в том, верим ли мы в реальность идей или отрицаем её, а в том, что мир идей (в поздней христианской редакции, мир Божий) ощущается нами как потусторонний и внечеловеческий, в который можно верить или который можно отрицать. Грехопадение философии, пусть еще и не в столь запущенном виде как в эпоху Локка, Юма и Канта, начинается в этом пункте и носит техническое наименованиедуализм. Платонизм наших ощущений, всё равно, как идеалистов или материалистов, налицо, и суть дела вовсе не меняется оттого, что там, где одни говорят идея, другие говорят материя, скажем, священник говорит Бог, а атеист говорит природа. Это значит лишь, парафразируя известную пословицу: когда двое говорят не одно и то же, они говорят одно и то же. Достаточно пристальнее вглядеться в природу естествоиспытателей, чтобы опознать в ней математически закамуфлированное ens reale схоластиков, а в понятиях физики увидеть весь инструментарий теологии. Мир — это два мира: божественный и земной, вечный и преходящий, оригинальный и теневой, реальный и иллюзорный. Оппоненты Платона (среди них первый — Аристотель) оспаривают не дву–мирность, как таковую, а только индексацию модальностей, и, отрицая платонизм, они лишь множат его головы, как у лернейской гидры; если у платоника Беркли причиной восприятий является Бог, то для физика Гельмгольца речь идет о тончайших и невидимых, а главное гипотетических частицах, воспринимаемых глазом как цвет, а ухом как тон. Предпочтение одной из названных двух парадигм остается вопросом вкуса и социальных договоренностей, но их идентичности не увидит, пожалуй, лишь тот, кого больше интересуют слова, чем то, на что слова указуют или (чаще всего) от чего они отвлекают.
6.
Итог философского грехопадения: дух бесплотен, соответственно, плоть бездуховна. Чувственное — тень сверхчувственного или (в атеистическом раскладе) наоборот. На это ощущение навесили потом христианский ярлык. Словами Карла Барта: «Бог на небе, ты на земле». Самое интересное: не эллин Плотин пошел в школу к отцам переучиваться на христианина, а отцы в плотиновскую школу, переучиваясь в платоников. Для эллина Плотина христианство было, согласно 1‑му посланию к Коринфянам, безумием. Платон (в поздней аватаре Аристотель) стал для христианских мыслителей praecursor Christi in naturalibus. «Бог на небе, ты на земле». Иначе: Бог — начальство, а там, где начальство, не только послушание, но и конфликт. Роль посредников взяли на себя теологи и философы, позже место теологов заняли физики: философы, как обслуживающий персонал, оставались неизменно на местах. Еще раз: всё зависело от доминирующей парадигмы и приоритетности диспозиций: regnum gratiae m'egnum naturae. В «Хронике» Джованни Виллани описывается разрушившее Флоренцию наводнение 1 ноября 1333 года, после чего у ученых, философов и богословов возник вопрос: чем вызвано наводнение, естественным порядком вещей или карой Божьей (причем слабым звеном в последней было, что, как альтернатива естественному порядку вещей, она волею посредников могла оказаться не только сверхъестественной, но и противоестественной). Вопрос и по сей день сохраняет еще вчерашнюю свежесть. На богословском факультете решают, разумеется, в пользу Бога; коллеги с соседнего естественнонаучного факультета предпочитают быть лишенными жизни «естественно», хотя «природа» в их измерительных приборах выглядит не более естественной, чем «Бог». В чем те и другие сходятся, так это в подчеркивании невозможности, а, значит, недопустимости познания. Ignoramus et ignorabimus — не знай мы, что эта формула принадлежит знаменитому физиологу Дюбуа—Реймону, мы вполне могли бы принять её за название папской энциклики.
7.
Остается решительнее сгустить краски и ускорить изложение. Если у каждой вещи есть своя идея, именно, в троякой модальности отношения: идея до вещи, идея в вещи и идея после вещи, то, разумеется, правило это распространяется и на ЧЕЛОВЕКА. То есть, различению в человеке подлежат человек, как конкретный единичный индивид, и идея человека. Вопрос остается прежним: существует ли «идея»человека, или «сущность» человека, его «Я», ДО человека (умеренный вариант: В человеке), или она возникает ПОСЛЕ человека, как метка существующего. Иными словами: предшествует ли эссенция экзистенции, или экзистенция первичнее эссенции. На решение, тщетное, этой проблемы — от Порфирия до Оккама — ушло тысячелетие средневековой философии, а после уже на ней тщетно пробовала свои силы и философия Нового времени, вплоть до конца XIX века, рецидивно и в XX веке (скажем, у Жан—Поль Сартра). Во взгляде из сегодня интересно не то, чем отличаются друг от друга оба варианта (реализм и номинализм), а то, в чем они общи. Прежде всего, в чем они, каждый по–своему, логически правы. Номиналист возвращает реалиста на землю, напоминая ему, что его идей не было бы и в помине, не мысли он их здесь–и–теперь, а мыслить их он может ведь, только существуя сам. После чего реалист увлекает номиналиста в небо, указывая на то, что мыслить идеи и, соответственно, существовать он может только милостью идей. По аналогии: слова возникают из букв и после букв (номинализм), но буквы складываются в слова только потому, что слова — идеально — предшествуют буквам (реализм). Эта разность позиций уступает место их общности, когда предметом рассмотрения оказываются не какие угодно вещи, а ЧЕЛОВЕК. Ибо одно дело, когда философ мыслит вещи, назначая им быть после или до их идей, другое дело, когда этой вещью оказывается он сам, то есть, когда он мыслит самого себя и различает в себе сущность и существование. Можно сказать и так: там, где есть столы, есть и идея стола (стольность), а где идея стола, там и мыслящий её философ. Философ и стол гетерогенны; философ находит стольность (всё равно, до стола, в столе или после стола), потому что он её мыслит, но мыслит он её, отталкиваясь от конкретного стола. От чего же отталкивается он, мысля идею человека (человечность)? Тут нет уже ничего гетерогенного: мысля идею человека, философ может отталкиваться только от себя самого. От какого же «себя самого»? Очевидно, не просто мыслимого, но и мыслящего. Что такое человек, не этот и не тот, а вообще? Античные ответы, как–то: двуногое существо, лишенное перьев, оно же ощипанная курица Диогена, годятся разве что в философскую анекдотику. Человек — это то, что делает названное существо человеком. На языке немецкой идеалистической философии ИДЕЯ человека тождественна НАЗНАЧЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА. То есть, если в случае стольности исходят из любого стола, то человечность находят не в первом попавшемся проходимце, а в том, КТО ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ЭТУ В СЕБЕ ОСУЩЕСТВИЛ. Но здесь–то и зарыты все философские собаки: чтобы сделать рагу из зайца, нужно зайца, соответственно: чтобы мыслить человека, нужно ЧЕЛОВЕКА. Какого человека? Очевидно, кого–то конкретного и фактического: не измышленного. Ни один повар не станет ведь готовить заячье рагу из понятия «заяц»; только путаные философы ухитрялись столетиями подменять реальных себя собственным понятием. Номинализм — платонизм наизнанку. Еще раз: я мыслю стол, потому что вижу столы вокруг себя. Как же я мыслю себя? Очевидно, не на других, а на самом себе. На каком «себе»? Мысля стольность в столе, я не выдумываю стол, а преднахожу его. Стольность есть мыслимое общее всех столов, что значит: от индивидуальных столов мысль восходит к столу вообще. Эта логика рассыпается как карточный домик, будучи перенесенной на человека. Ибо если в понятии «стол» я свожу единичное к общему, то в поисках понятия «человек» я имею дело с содержательно необобщаемой и несводимой, так сказать, поштучностью единичного. Тут решает уже не логика, а СЛУЧАЙ: сможет ли КТО-ТО один реализовать свою единичность так, чтобы на ней или, если угодно, после неё можно было бы увидеть ЧЕЛОВЕКА ВООБЩЕ. Логика, поставленная перед этим кошмаром, предпочла остаться при ощипанной курице или более солидных бестиях дарвинизма. Любопытно, что проблема, стушеванная в логике, с необыкновенной силой дала о себе знать в естествознании. Если что–либо интересовало Дарвина и Геккеля меньше всего, так это схоластика, но, может, именно поэтому им и удалось столь энергично осовременить проблему, ставшую тупиком схоластики. Что же и есть геккелевская «Антропогения», как не биологическая рекапитуляция томизма! Геккелевский штамм (род) — это всё то же понятие логики, а в отношении биологического рода (или вида) к отдельным биологическим экземплярам явно прочитывается проблема универсалий. Иными словами: мы понимаем животное через подведение его под род. «Этот» лев и «тот» лев становятся конкретными, различимыми, понятными львами только во льве «вообще». Нетрудно догадаться, что с человеком всё обстоит как раз наоборот. Понятие «человек» обобщает его, схоластически говоря, «чтойность», но абсолютно не касается собственно человеческого, которое реагирует исключительно на вопрос КТО. Мы должны опуститься на ступень животного, вегетативного или минерального в нас, чтобы найти в себе общее. Человек в нас, напротив, есть ЕДИНИЧНОЕ. Можно сказать даже: чем единичнее, тем человечнее. Но единичное алогично, следовательно, не когнитивно, а перцептивно. Парадокс, парализующий, как вирус, философские программы: если понятие — это всегда общее, так что, мысля вещи в понятиях, мы отвлекаемся от единичного к общему, то мыслить СЕБЯ, как понятие, мы можем только, исходя из собственной единичности. Иными словами: понятие «человек», как универсалия в традиционном смысле, значимо только для биологического вида человек. Логически мы в состоянии говорить о «человеке вообще» не иначе, как мы говорим об «обезьяне вообще», то есть, там именно, где человека собственно и не начиналось. Человек, как существо духовное, не подпадает под единое понятие, а есть, в каждом конкретном случае, СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ПОНЯТИЕ. В логике добывания экстракта «человек» Шекспир или Леонардо да Винчи не могут служить материалом обобщения. Еще раз: биологически есть только одно понятие «человек» для всех людей, по типу одного же понятия «лев» для всех львов или «индюк» для всех индюков. В духовном отношении понятий «человек» столько же, сколько людей. Поль Топинар, выдающийся антрополог, указал в свое время на основной дефект геккелевской «Антропогении». Геккель, как известно, прослеживает эволюцию преобразования живых существ лишь до двадцатой ступени (антропоид), двадцать первой (человекообезьяна) и двадцать второй (собственно человек). На этой двадцать второй ступени цепь неожиданно обрывается. «Геккель, — говорит Топинар, — забывает двадцать третью ступень, на которой блистают Ламарк и Ньютон»[58]. То есть, геккелевский человек двадцать второй ступени и есть «человек» логики, который, как понятие, один для всех. Но это, по существу, никакой не человек, а всё еще вид. Человеком он становится на двадцать третьей ступени, когда перерастает свою логико–биологическую общность и утверждает свой ГОД КАК ЕДИНИЧНОСТЬ. От себя мы скажем: эта двадцать третья ступень — сущий кошмар для логики — забыта не только Геккелем, но и всей западной философией, после чего, разумеется, ей нет места и в практике социальной жизни. Достаточно лишь подумать однажды о так называемых Центрах и Институтах общественного мнения, чтобы увидеть, что если все эти социологии, политологии, политтехнологии с их рейтингами, мониторингами и электоратами имеют вообще смысл, то не иначе, как частные прикладные дисциплины при основной науке, называющейся ЗООЛОГИЯ.
9.
Двадцать третья ступень в эволюционной лестнице Геккеля — ступень Я: не логически обобщенного Я, а индивидуального. Для философии это скандал, на фоне которого юмовский скандал выглядит всё еще озорством юмористического островитянина. Нужно попытаться осмыслить проблему универсалий не на всевозможных безобидных столах и львах, а на Я, чтобы понять, что это значит. Никто не станет оспаривать, что Я, как сущность человека, или, собственно, его понятие есть в то же время всегда конкретное фактическое Я, нечто такое, что каждый человек может сказать, имея в виду только себя или, чтобы избежать тавтологичности, свою телесность. Опыт Я, ощущение Я, как лица и личности, связано именно с телом, на котором это Я себя идентифицирует и отличает от всего, что не есть оно. Как ощущение тела, Я — телесно, но оно и сверхтелесно, как принцип организации и самоидентификации тела в трансцендентальном единстве сознания (по Канту). Еще раз: Я — это всегда и исключительно только единичность, какой–то один человек. В то же время оно и понятие этого одного человека, то, в чем он и есть человек. Множественного числа Я не имеет ни в грамматике, ни в логике; человек, как Я, один, в единственном экземпляре. Но людей множество, и дело идет, таким образом, о множестве единичностей, множестве Я, которые нумеричны и не сливаются ни в какое общее, разве что ценой потери в себе всего человеческого. Но, с другой стороны, каждая единичность, сознавая себя как Я, отличное от других Я, объединена с другими Я как раз этим признаком общности. Налицо, таким образом, некое двойное понятие Я. Один раз, как единичность, в каждом отдельном случае, что нормально фактически, но ненормально логически. Другой раз, как общность, охватывающая все единичные случаи, что нормально логически, но ненормально фактически. Ибо если понятие своего единичного Я мы идентифицируем на собственном теле, то где же то ТЕЛО, на котором могло бы опознать себя понятие общего для всех Я, несущего в себе всю полноту возможных единичностей? Понятно, что философы, обжегшись об эту логику, должны были инстинктивно отшатнуться к Богу. Бог, бывший всегда для философов некой палочкой–выручалочкой, за которую они хватались, едва попав в проблемный тупик, этот Бог был спешно мобилизован и здесь, на этот раз в качестве понятия Я вообще. В обеих формулах Бога: Бог, как Я есмь Я, и Бог, как всё во всем, проблема казалась если не решенной, то по крайней мере логически защищенной от абсурдностей. Я единично в человеке и обобщено в Боге. Фихте, философ Я, не смог бы и приступить к написанию своего «Наукоучения», имей он в виду конкретное единичное свое Я; оттого Я его философии, общее для всех, абсолютное, трансцендентальное Я, компенсирует свой физический дефицит прямыми реминисценциями из теологии; начиная с 1801 года, в редакциях «Наукоучения» Я прямо идентифицируется с бытием и Богом. Всё было бы ничего, будь на дворе еще средневековье и ходи философия всё еще в служанках у богословия.
Ссылаться на Бога в эпоху Вольтера и набирающего неслыханные темпы естествознания значило, по меньшей мере, попасть пальцем в небо. Теперь уже сам Бог нуждался в помощи и поддержке философов, Бог, который в скором времени, за неимением места в сознании, будет (у Эдуарда фон Гартманна) спасаться в бессознательном, откуда ему уже не останется другого выхода, как медитировать свой анамнез в приемной психоаналитика.
10.
Абсолютно обобщенное, трансцендентальное Я Бога должно было быть в то же время и единичным, персонифицированным Я; в противном случае проблема теряла вообще смысл и почву. Сказанное можно пояснить следующим образом. Общее Я, всё равно как Бог или кантовское сознание вообще — это мысль. Мысль, чтобы быть, должна быть помыслена. Мысль не может мыслить себя. К мыслимой мысли неизбежно принадлежит и некто мыслящий: человек, не только ощущающий, но и мыслящий себя как Я. В этой точке соприкосновения ощутимого и мыслимого Я и возникает тяжелая проблема.
Выясняется, что Я (единичное, мое) мне столь же трудно мыслить, как мне легко его ощущать. Я ощущаю его идентичным с телом. Мыслить его идентичным с телом я не могу. Мыслимое Я — это не тело, а ФОРМА тела, принцип самоорганизации тела или, если угодно, НЕЗРИМОЕ НЕТЛЕННОЕ ТЕЛО. Выясняется, что о собственном «Я» я знаю не больше, чем о собственной смерти. Мне надо просто перестать о нем думать и положиться на ощущения, совсем как Августин сделал это со временем. Парафразируя Августина: Что такое Я? Если я не спрашиваю об этом, я знаю это, но как только спрашиваю, не знаю. Я ощущаю его (как себя) телесно, из чего мне известно, что оно есть. Оно, следовательно, есть не само ощущение, а причина ощущения, и, как причина, МЫСЛЬ. Мысль, чтобы не быть абстрактной, опирается на ощущение. Мыслить Я значит, опираться на ощущение Я. Но ощущение Я единично. И, значит, единично же и мыслимое Я. То есть, мысля Я, которое, как ПОНЯТИЕ, обще, я должен мыслить единичного СЕБЯ. Иначе: общее Я, чтобы не быть мозговым призраком, должно быть интенсификацией единичного, но такого единичного, которое, будучи единичным, было бы репрезентативным и для всех возможных Я. Очевидно, что мыслить его я могу, лишь став им, а стать им могу, лишь создав его. Но этого–то я, частный и мелкий собственник Я, как раз не могу. Кто же может это? Где искать такое Я, которое, будучи единичным и единственным, представительствовало бы за всех? Иначе: где найти такую единичность, которая при всей своей фактической единственности воплощала бы смысл человеческого?
11.
По аналогии: Гёте ищет в полноте растительного разнообразия перворастение, то есть, тип, в котором растения и опознаются как таковые. Философ Я переносит проблему Гёте с растительного разнообразия на человеческое. Он ищет первочеловека, перво-Я, как тип человеческого вообще. Не биологического человека двадцать второй геккелевской ступени, а — начиная с двадцать третьей ступени и в её пределах уже до бесконечности. Разница в исходных точках и топографии поиска огромна.
Хотя Гёте ищет перворастение не теоретически, а в природе, стало быть, не как понятие, а как естество, он находит его в растениях, как свою мысль, вернее как чувственно–сверхчувственный образ мысли. Перворастение — мысль Гёте, которая также принадлежит МИРУ (Гёте говорит: природе), как и сами растения, только на более высокой ступени развития мира, где мир манифестирует себя уже не просто в силах роста, а в силах сознания. Это осознание миром своей вегетативности осуществляется человеком Гёте, как органом сознания мира. Гёте — в видимом мире условностей и договоренностей единичный, хотя и единственный в своем роде человек — есть в действительности фактор мира, САМ МИР в высшей на данный момент точке своей эволюции, а перворастение — это общее всех растений, мыслимое Гёте из себя, но принадлежащее растениям. Если перенести теперь проблему с растительного на человеческое и искать первочеловека, то первое, что бросится в глаза, это необходимость какого–то нового и в неслыханной степени потенцированного «Гёте», который смог бы стать для своих сочеловеков, чем естествоиспытатель Гёте стал для растений. Скажем так: будь растения религиозны, они нуждались бы в перворастении, как Боге. Ища первочеловека, как Я, философ Я равным образом нуждается в Боге. Но растения нашли своего Бога в Гёте. Между тем философ Я находит Бога Я, как свою собственную мысль. Этому Богу, чтобы не попасть в ловушку номинализма, недостает, таким образом, самой малости: умения быть не только мыслью, но и ТЕЛОМ, то есть, преодолеть свой наследственный платонизм и стать физиком, взяв на себя ответственность и за те обширные регионы творения, которые волею его философских и богословских делопроизводителей были отданы на откуп нечистой силе («нечистая сила» — это просто мифологический эвфемизм обыкновенного философского недомыслия).
12.
Можно понять теперь, отчего попытка Фихте стать философом Я оказалась сорванной попыткой. Фихте пребывает всё еще в заколдованном круге платонизма и схоластики, но в отличие от старых философов он имеет дело уже не с бытием, а с сознанием. Этот переход от бытия к сознанию, ознаменовавший с Декарта начало новой философии, стал для философии роковым. Ибо, раз коснувшись сознания, нельзя было уже отвертеться от вопроса о субъекте сознания. С бытием схоластики дело обстояло куда проще; это бытие объективировали как Бога в формуле esse est Deus, без всякой нужды подыскивать к нему субъекта. С сознанием всё оказывалось сложнее. Сознание было субъективным по определению, и обойтись без субъекта здесь не представлялось возможным. Вопрос: ЧЬЕ сознание? грозил опрокинуть стройные философские конструкции. Тогда–то и был придуман «трансцендентальный субъект», некое модернизированное подобие старого теистического Бога, переселившегося из надежного бытия в менее надежное сознание, но сохранившего и здесь свою трансцендентность. Это создавало видимость некой гарантии. Фихте мог философствовать о Я, как о чем–то постороннем и потустороннем, то есть, говорить Я, имея в виду не себя, а что–то другое. Гегель описывал феноменологию Мирового Духа, нисколько не тяготясь вопросом, в каком отношении находится Дух Мира к его, Гегеля, духу. Это были вопросы ниже пояса: очевидности, которые философам угодно было не замечать, совсем как придворным из андерсеновской сказки наготу короля. Очевидно, философам недоставало мужества художников — отождествлять себя со своими творениями. Фихте не мог сказать: «Я Наукоучения — это я», подобно Флоберу, сказавшему: «Госпожа Бовари — это я». Что, впрочем, такая потребность была налицо, засвидетельствовано анекдотическими курьезами, вроде гегелевского, когда автор «Феноменологии духа», стоя у окна своей иенской комнатки с только что дописанной рукописью в руках, смотрел на скачущего Наполеона и думал, что видит «Мирового Духа на коне». Enfin Malherbe vint! Наконец пришел Штирнер: мальчик в гегельянской толпе, осмелившийся выкрикнуть нечто до того очевидное, что западной философии после этого не оставалось ничего иного, как испустить дух, всё равно: с оглядкой на Штирнера или без Штирнера. С оглядкой на него, чтобы уступить место лучшему, чем она. Без него, чтобы притворяться непогибшей и выдавать провалы памяти за оригинальные концепции.
13.
Штирнер — «опустившийся школяр, охальник, помешанный на Я, очевидно тяжелый психопат», таким выглядит он в любезной рекомендации Карла Шмитта[59], — подвел итог более чем двухтысячелетней истории философии. Книга «Единственный и его достояние» вышла в свет в конце 1844 года, как раз ко дню рождения Ницше и — можно было бы предположить — как подарок к этому дню. Родство обоих мыслителей настолько ошеломительно, что возникает вопрос: как бы сложилась философская судьба Ницше, найди он учителя не в Шопенгауэре, а в Штирнере. Он смог бы, по–видимому, избежать всей этой чарующей стилистики «сверхчеловека» и говорить о своих идеалах с такой же внятностью, с какой он ниспровергал идеалы чужие. Вспомним еще раз вкратце метаморфоз платоновской идеи, или Бога, от бытия вообще к сознанию вообще. Понятно, что гарантии этого сознания лежали в метафизике. С вытеснением метафизики физикой оно теряло опору и смысл. Богу, существовавшему в вере и верою, предстояло теперь выдержать испытание знанием. Ничего удивительного, что в естественнонаучно фундированном сознании Богу не нашлось вообще места; люди науки вспоминали о нем по воскресным дням либо уже никак не вспоминали. Гартманн — выше было сказано об этом — приютил его в бессознательном, и, возможно, этот отчаянный шаг был бы последним шансом метафизики в эпоху университетского атеизма, не будь само бессознательное уже переоборудовано под источник психоаналитических доходов.
14.
Штирнер философ, впервые вспомнивший о себе, увидевший за идеями себя, а в себе господина идей. В Штирнере трансцендентальный субъект философии поглощается эмпирическим, соответственно: философское бытие не хочет больше быть только мыслью, а хочет быть — бытом. Штирнер добивается философски невозможного: абсолютизации единичного, то есть, наиболее алогичного и философски непригодного фактора действительности. Для философов единичное было необходимым злом, и если они терпели его, то только в той мере, в какой оно, едва появившись, исчезало в обобщениях. (Памятные попытки Ремке, Ласка, Гуссерля и Шелера легитимизировать единичное остались именно попытками.) Если бы пришлось выбирать один из обоих, зафиксированных Кантом, дефектов познания: «созерцания без понятий слепы, понятия без созерцаний пусты», то философы, несомненно, предпочли бы — да и предпочитали — второе: пустые понятия, а не слепые созерцания. Наверное, по той причине, что легче было понимать, не видя, чем видеть, не понимая. Ничего удивительного, что логика споткнулась именно на антропологии, то есть, антропология, бывшая поначалу подразделом теологии, оказалась (со сменой мировоззренческого гегемона) аппендиксом зоологии. Зато выросший на homo logicus, человеке вообще, паразитический гуманизм стал праздновать свой триумф в конституциях и биллях о правах. Против этого паразита и повел истребительную войну Штирнер, показав всю его респектабельную абсурдность. Абсурдность философского Я лежала не в логике, а в физике: не в том, что оно было, а в том, ЧТО НА НЕГО НЕ ОТКЛИКАЛСЯ НИКТО. Оно и было никто, некой антропологической проекцией ничто. Начиная с Штирнера, старая апофатическая теология, теология Ничто, уступает место апофатической антропологии, антропологии Никто. Еще раз: дело не в том, что философы говорили Я, а в том, что им некуда было ткнуть при этом своими указательными пальцами. В конце концов, они и ткнули ими на Штирнера, как на философский курьез; в оценке сумасшедшего эгомана коллеги–философы не ушли дальше саксонского министра внутренних дел. Последний, как известно, отменил первоначально принятое решение окружной администрации конфисковать книгу «Единственный и его достояние», мотивируя это тем, что книга «слишком абсурдна», чтобы быть опасной. Книгу прочитали, повеселились и отложили её в сторону. Она и по сей день лежит в стороне. По той очевидной причине, что такие книги не читают, ими становятся, а если некому стать, то, наверное, незачем и читать…
15.
Штирнер — игольное ушко, через которое скорее пройдет верблюд, если не пройдет философ. Нельзя сказать, что философы, как те, кто заметил Штирнера, так и те, кто обошел его молчанием, остались невнимательными к его проблеме; проблема была осознана, пусть немногими, но со всей остротой. Достаточно будет назвать Гартманна, Ремке, Маутнера, Гуссерля. § 57 гуссерлевского «Кризиса европейских наук» прямым текстом статуирует идентичность эмпирической и трансцендентальной субъективности. Вот чистейшей воды Штирнер устами автора «Философии, как строгой науки»: «Полагающее самое себя Я, о котором говорит Фихте, может ли оно быть иным Я, чем Я самого Фихте?» За тридцать с лишним лет до Гуссерля и в гораздо более адекватной форме проблема поставлена Рудольфом Штейнером. Свой основной философский труд, «Философию свободы», вышедшую в 1894 году, Штейнер оценивает как философский фундамент штирнеровского жизневоззрения. На Штирнера навешен ярлык эгоиста или даже солипсиста, что в теологии логики равнозначно ереси и грозит философской экскоммуникацией. Так философия защищалась от вируса единичного эмпирического Я; единичное Я было отделено от философски–общего и помещено под рубрику эгоизм.
Но если эгоизм стал синонимом нефилософского обыденного эго, а тем самым и всего корыстного и себялюбивого, то не в последнюю очередь как раз из–за неумения философов освободиться от наследственного греха абстрактности и рассматривать мир не в зеркале отвлеченных умозрений, а как свое ДОСТОЯНИЕ, себя же как ВЛАДЕЛЬЦЕВ И СОБСТВЕННИКОВ МИРА. Вопрос настигал неотвратимо: а нельзя ли, вместо того чтобы очищать философию от эгоизма, расширять эгоизм до философии. Конечно, эгоизм — это эгоизм собственника. Непонятно только, почему собственник — это всегда собственник желудка и кармана! А что, если собственник расширит свое корыстолюбие до идей, и усмотрит собственность в отвлеченных философских проблемах, распоряжаясь ими как своими личными проблемами! Радикализация проблемы «Штирнер» Рудольфом Штейнером, особенно в контексте позднейших христологических перспектив его духовной науки, заостряется в вопрос: Не есть ли тупик платонизма в Штирнере начало действительной христианской мысли? Вопрос, более чем странный, если учесть, что с точки зрения устоявшихся христианских представлений Штирнера труднее привести к христианству, чем даже «антихриста» Ницше. Очевидно одно: такой вопрос выходит за рамки традиционной философской компетенции. Парафразируя Жоржа Клемансо, можно было бы сказать, что философия — слишком ответственное дело, чтобы доверять её философам. Философия восприняла Штирнера как курьез, а не как упразднение платонизма и гуманизма, а вместе с ними и самой себя. Чего эта философия никогда не умела, да и не хотела уметь, так это становиться человеком, ВОПЛОТИТЬСЯ, чтобы дух изживал себя не на кончике языка или пера, а как ТЕЛО. Между тем, ход её развития неуклонно вел её именно к этому: философия сужалась (или всё–таки расширялась?) до человека. От парменидовского бытия через кантовское сознание вообще до некоего Иоганна Каспара Шмидта, эксгегельянца и философского партизана, осмелившегося говорить о философском Я, имея в виду лично СЕБЯ. И дело вовсе не меняется оттого, что Штирнер оказался не тем: неудачником, банкротом, пусть даже самозванцем (ему, по крайней мере, хватило трезвости и честности вскоре после выхода в свет «Единственного…» бросить философию и стать торговым агентом по продаже молока). Он мог бы сказать о себе словами Розанова: «Сам–то я бездарен, да тема моя гениальная». Тема Штирнер, по сути: ЧЕЛОВЕК, но как ЧИН, ЗВАНИЕ, ПРИЗВАНИЕ, оказалась на деле ВАКАНСИЕЙ. Штирнер просто рискнул первым выставить свою кандидатуру и — провалился. Спустя десятилетия провалился и другой кандидат: Фридрих Ницше. В Штирнере и Ницше философия — когда–то служанка богословия, потом естествознания — решилась служить уже не абстрактному Богу или абстрактной природе, а своему непосредственному автору и творцу; момент решения стал моментом превращения её в вакуум, заполнение которого лежало уже не в компетенции традиционных решений, а в ПРАКСИСЕ вопроса: может ли единичный человек, некто N. N., реализовать себя так, чтобы его самореализованное Я репрезентировало уже не частное и личное в нем, а ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, как таковое? Но тогда это ЕГО Я принадлежало бы всем, и, наверное, ему оставалось бы ждать случая, чтобы подарить себя другим, вернуть другим их самих, как СЕБЯ. Разумеется, он мог бы сделать это при условии, что другие захотели бы — быть одаренными. Одарение растянулось бы тогда в учебный процесс, никак не соответствующий обычным философским стандартам. Нужно представить себя философского учителя, который — в строгой и абсолютно сознательной форме, отвечающей всякий раз уровню и потребностям аудитории, — давал бы своим ученикам не знания, а САМОГО СЕБЯ, чтобы и ученики смогли однажды опознать в этой подаренной им «чужой»самости собственную. То, что западная философия прошла мимо этого СОБЫТИЯ и предпо чла ему шварцвальдские кулинарные рецепты, достовернее всего свидетельствует о её конце. Конец можно было бы еще отсрочить, если бы она собралась с силами и осознала СЛУЧИВШЕЕСЯ: преображение тупика «Штирнер» в неслыханные перспективы.
Осознанию, пусть даже полемическому и критическому, она предпочла молчание: от незнания или, скорее, нежелания знать. Но нежелание знать и было нежеланием знать о конце. Можно прояснить это на следующей аналогии. Освальд Шпенглер издал в 1918 году свой «Закат Европы», где предрек европейцам неотвратимую участь стать феллахами. Не знаю, как в России, но на Западе Шпенглера сегодня не читает уже почти никто. Ну как бы совсем в подтверждение его прогноза. Феллахи не читают книг, особенно таких, из которых они узнали бы о себе, что они феллахи.
16. (Вместо эпилога)
1 апреля 1876 года некто Филипп Майнлендер, никому не известный молодой человек 34 лет, получил из берлинской типографии Грибена только что отпечатанные авторские экземпляры своей почти шестисотстраничной книги «Философия искупления». Некоторые из них он оставил в комнате, другие снес на чердак. Вернувшись, он соорудил из книг подест, взобрался на него, ухватился за заранее укрепленную петлю и просунул в неё шею. Оставалось поработать ногами, что он и сделал, упершись в книги одной ногой и резко оттолкнув свободной свежие, пахнущие еще типографской краской экземпляры… Смерть вызвала толки, но говорили немного, меньше всего коллеги–философы, узнавшие о существовании философа Майнлендера уже после того, как существование это прекратилось, и как раз потому, что оно прекратилось. Интересно, что случившееся никак не повлияло на интерес к книге, как этого можно было бы ожидать по аналогии с книгой другого самоубийцы, Отто Вейнингера. На что «Философия искупления» оказалась годной, так это на то, чтобы помочь автору дотянуться до петли. О случае вообще не стоило бы и говорить, не всплыви он случайно в памяти в связи с более поздней философской ассоциацией. Через считанные десятилетия француз Камю в письменной форме потребовал от философов лишать себя жизни, и получил за это Нобелевскую премию. (Самоубийство, по Камю, есть основной вопрос философии, по сравнению с которым все прочие философские проблемы оказываются сущим пустяком.) О Камю, как и полагается, написаны книги и защищены диссертации. Майнлендер был забыт до того, как о нем вообще узнали. Камю, насколько известно, нигде не говорит о Майнлендере. Есть основания думать, что и Майнлендер тоже ничего не сказал бы о Камю. На респонсории обоих случаев можно воссоздать некую парадигму конца истории философии. Оба философа согласно сходятся в том, что лучшее, на что способна философия, — это осознанный и добровольный конец. Просто Камю, несмотря на весь парижский антураж, застрял в средневековье; самоубийство для него — это всё еще платоновская идея, которую он мыслит регулятивно, а не конститутивно, приблизительно так же, как теолог мыслит своего Бога, а, скажем, классический филолог своих героев античности. Соотнести эту идею с собой было бы для него столь же абсурдно, как для теолога желать стать Богом, а для филолога, скажем, зажить по Плутарху. Камю, отождествляющий абсурд с жизнью, далек от мысли отождествить его со своей философией. (Совсем как идеолог модерна Адорно, который, когда вышедшие по его наветам на улицу студенты хотели ворваться в возглавляемый им Институт, просто позвонил в полицию.) Сартр оченьудачно назвал Камю «картезианцем абсурда». В расшифрованном виде это означает: мир лишен смысла, за единственным исключением: исключение — философ, лишающий мир смысла. Майнлендер не картезианец, а просто влюбленный в Шопенгауэра и смерть немец. Покончить с собой ему мешает как раз абсурдность существования, отсутствие смысла. Он и пишет свою книгу с единственной целью: придать миру смысл, чтобы иметь основания уйти из него. Детской радостью отдает от слов, которыми он завершает одну из глав своей книги: «Nun ist auf einmal Sinn auf der Welt» (Ну вот, наконец–то в мире есть смысл). Уход Майнлендера — искупление Шопенгауэра по методу Штирнера. Странным образом Мировой Воле захотелось отрицать себя в Шопенгауэре за письменным столом, но не за обеденным, и уж никак не в послеобеденной обязательной игре на флейте. Эта непоследовательность старого философа, о которой поведал его биограф, воспринималась как курьез, милая анекдотическая деталь, лучше всего годящаяся быть рассказанной за каким–нибудь еще обеденным столом. Ницше, разочарованный шопенгауэрианец, жестоко высмеял её. Молодой энтузиаст Майнлендер просто сделал её несмешной.
Базель, 14 мая 2005 года.
Жан—Поль Сартр: слепой свидетель антропософии
Опубликовано в базельском ежемесячнике «Der Europaer», Jg. 9, Nr. 8 за июнь 2005 года. Прочитанная позднее на эту же тему лекция в парижской ветви Albert le Grand французского Антропософского общества опубликована в журнале «L'Esprit du temps», 57/2006
1.
Одной из особенностей созданной Рудольфом Штейнером духовной науки является то, что она в гораздо меньшей степени (и даже в порядке исключения) усваивается с помощью традиционно–духоведческих средств, чем средств, асимметричных ей или даже на внешний взгляд неадекватных. Совсем не легко найти путь к антропософии, если читать штейнеровскую «Теософию» после, скажем, «Тайной доктрины» Блаватской. Напротив, было бы недоразумением не увидеть в «Теософии» имманентное продолжение и завершение «Антропогении» Эрнста Геккеля. Беря другой пример: с миром духовной науки Штейнера осваиваются надежнее через нигилиста Штирнера, чем через идеалиста Гегеля. От Гегеля можно скорее достать до Плотина, Платона или даже до–сократиков, чем до антропософии. Здесь открываются перспективы, неожиданность которых объясняется тем, что они возникают не из традиции, а из спонтанностей понимания и присутствия духа.
2.
Можно ли, будучи антропософом, воздать должное философу Сартру, столетие со дня рождения которого празднуется в этом году? Допустив, что быть антропософом как раз не значит: вариться в собственном (антропософском) соку, осыпая упреками, а то и вовсе обходя молчанием философов, не удосужившихся заметить Рудольфа Штейнера. Антропософ не упрекает и не замалчивает, то есть, он как раз не делает того, что по обыкновению делают с ним. Напротив, он с повышенным интересом фиксирует молчание философов вокруг мира мыслей антропософии. В понимании причин этого молчания он надеется даже узнать о философах больше, чем из их изощренных дискурсов. Молчание, которым философы обходят философские и антропософские труды Штейнера, имело бы смысл, будь названные трудычастным мировоззрением, а не вместе с тем и фактором мира, присутствие и воздействие которого не делается слабее оттого, что его не замечают или, замечая, ни во что ни ставят. Философы вольны не знать Рудольфа Штейнера. Для антропософа интересно не то, как философы — nomina sunt gloriosa — относятся к антропософии, а насколько завуалированно, деформированно, карикатурно опознается антропософия в изломах их мысли.
В заключительной главе штейнеровских «Загадок философии» («Кратко изложенный обзор антропософии») мы читаем[60]: «При рассмотрении формирования философских мировоззрений от античности до нашего времени в устремлениях и поисках мыслителей обнаруживаются глубинные течения, которые не находят у них осознанного и полного выражения, а пребывают в них сугубо инстинктивно. В этих течениях есть действенные силы, которые дают идеям направление, зачастую и форму, однако, как таковые остаются скрытыми от ищущего духовного взгляда этих мыслителей. Изложение в их сочинениях часто производит такое впечатление, будто их авторы движимы скрытыми силами, не внушающими им доверия и даже отпугивающими их. […] То, что утверждается в этих мыслительных мирах, есть выражение познавательных сил, которые — пусть неосознанно — владеют философами, не находя, однако, какого–либо сознательного развития в их идейных конструкциях».
4.
Скрытые силы, неосознанно владеющие философами и даже отпугивающие их, суть антропософия. Разумеется, не в том смысле, как её понимают всякого рода справочники и энциклопедии, а в том, как она сама понимает себя. Именно: как некий факт на называющейся познанием ступени эволюции. Иначе: антропософия — это такое самосознание мысли, в котором мысль осознает себя как «наиболее совершенное звено в ряду процессов, образующих вселенную» (Р. Штейнер). В свете этого понимания мы читаем цитированный отрывок имманентно, и обозначаем силы познания, инстинктивно живущие в философах и не находящие в них сознательного развития, как антропософские. Это заключение не имеет ничего общего ни с полемикой, ни с провокацией. Ибо: если антропософия хочет быть «путем познания, ведущим духовное в существе человека к духовному во вселенной» (Р. Штейнер), то, наверняка, путь этот открыт не только антропософам, но и не–антропософам, что бы ни думали на этот счет те и другие. Следует ясно различать антропософию, как представление о духовном, и антропософию, как само духовное. О первой можно молчать или говорить что угодно. Избежать второй — не в термине, а по существу, — нельзя. Больше того: при случае на след последней нападают скорее в ином не–антропософском молчании, чем в стреляных гильзах антропософского говорения.
5.
Особенно ярок этот след у философа Сартра (в его главном философском произведении «Бытие и ничто»). Сартр нигде не говорит о Штейнере. Наверное, он ничего о нем и не слышал. Тем напряженнее разыгрываются в нем «скрытые силы», владеющие им. Если учесть, что наряду с миром истории существует и мир кармы, и что невозможное первого является единственно возможным второго, то нам не остается ничего иного, как выследить в этом образчике инспирированной Гегелем, Гуссерлем и Хайдеггером философии, которую один гениальный француз вдохновенно набросал в оккупированном немцами Париже, некий род карикатуры на антропософию. Как если бы речь шла о том, чтобы расквитаться с победоносными соотечественниками своих Spiritus rectoresвыводом, увенчивающим более чем семисотстраничный труд: L'homme est une passion inutile (Человек — это бесполезная страсть).
6.
Сартр — несмотря на преобладающее немецкое влияние — философствует своенравно. Первое впечатление при чтении «Бытия и ничто» — это некое deja vu, или (в философском варианте) deja pense. Не будет преувеличением сказать, что гегелевское несчастное сознание переселяется здесь из гегелевской феноменологии в гуссерлевскую, чтобы искать свое счастье в последней под водительством ренегата Хайдеггера. Своеобразие Сартра лежит, между тем, в темпах его мышления и стиля. Его fagon depenser кишит парадоксами, из которых сильнее всего бросаются в глаза немецки помысленные, но французски артикулируемые ходы мысли. Словами Ницше[61]: «Было бы столь же легко перевести это сочинение [«Казус Вагнер»] на французский, сколь трудно, почти невозможно было бы перевести его на немецкий». Сартровский «субъект познания» — это какой–то французско–немецкий бастард. Что в разреженном воздухе Шварцвальда обнаруживает тягу к мистическому, параболическому, дельфически–энигматическому, дзен–буддистскому, рильке–гёльдерлиновскому, в парижском аллюре мысли выглядит до неузнаваемости иначе: здесь это скепсис, отсутствие корней, торопливость, скороговорка, элегантность, нервность, капризность, андрогинность. Можно наслаждаться даже Хайдеггером, перенесенным с одиноких лесных троп в парижские кафе и вынужденным играть роль не мужицкого старца, а сверхумного литератора: сартровский Хайдеггер обнаруживает меньше мудрости, чем «в оригинале», зато больше ума. Характерна неприветливость, с которой шварцвальдский эремит при случае реагирует на своего парижского дублера, не в последнюю очередь из–за бесшабашности, с которой его крестьянско–рунические глубокомысленности приводятся здесь ad absurdum.
7.
Тема «Бытия и ничто»: сознание. Сартр различает два типа бытия: внечеловеческое в–себе–бытие вещей и для–себя–бытие (осознанное бытие) человеческого существования. О первом можно сказать не больше чем о Deus unus богословов, именно, что оно есть, есть в себе и есть то, что оно есть. В отличие от этого заблокированного и непроницаемого бытия вещей бытие сознания оказывается не бытием, а как бы фантомом бытия. Сознание не есть, но оно хочет ежемгновенно быть. Сартр описывает его в цепи абсолютно негативных характеристик: как отсутствие бытия, недостаточность бытия, дыру в бытии. Если бытие в-себе просто есть, что оно есть, то бытие для–себя есть то, «что оно не есть, и не есть то, что оно есть». Иными словами, сознание неадекватно. Оно не просто не есть, а есть и не есть. Оно должно постоянно возникать, чтобы вообще быть. Речь идет о некой чистой функции (фикции), лишенной субстанции и сущности, как бы зеркальном отображении, обуреваемым страстным желанием выйти из зеркала и слиться с оригиналом.
8.
Сознание, говорит Сартр, ничтожится (s'aneantit). Как ничто, оно абсолютное отсутствие, но как функционирующее ничто (ничтожение) оно страстное вожделение бытия. Сознание — вакуум и horror vacui. Оно ищет постоянного самозаполнения, и полагает таким образом экзистенцию, которая тождественна с непрерывно полагаемым проектом быть чем–то, чтобы не быть ничем. Этому дефициту сознания и обязан мир своим возникновением и явлением. Не будь его, не было бы и мира как «конкретной и сингулярной тотальности», как «феномена». Сознание возникает как ничтожение, в самой гуще «нерасчлененных масс бытия», и потрясает бытие. Потрясение называется потом — миром.
9.
Говоря яснее и еще раз: сознание не есть. Но оно постоянно вызывается к жизни бытием, как чистая фактичность, чтобы быть. Перенимая от бытия бытийность, оно сообщает бытию собственную ничтожность, непрерывно ничтожась там, где ему кажется, что оно стало чем–то. Бытие самодостаточно и замкнуто в себе; сознание, как дефицит бытия, есть небытие, или ничто, вгрызающееся в самое сердцевину бытия, но, будучи трансцендирующим ничто, непрерывно выходящее за свои пределы. Это свобода в абсолютном смысле слова, к которой мы, как сознательные существа, приговорены(«condamne a etre libre», говорит Сартр). Свобода не свойство сознания, а само оно. Поскольку же сознание возникает на жизненных ситуациях, оно и реагирует на них не иначе, как выбирая их. Сознание — свобода, а свобода — свобода выбора. Сознание и есть выбор, перманентное проецирование себя на свои возможности, свои будущности. В этом смысле, говорит Сартр, человек обретает, изобретает, сотворяет свое собственное существование. Человек есть ничто, которое хочет быть. Он и есть всякий раз то, что он сам из себя делает. Его существование фиктивно в том смысле, что, существуя, он не есть, а всего лишь ничтожится, надеясь перекричать перманентностью самовозникновений пустоту своего фундаментального отсутствия.
10.
Мы видим: сознание парадоксально или даже абсурдно. Подобно мифическому герою, который превращал в золото всё, к чему прикасался, оно уничтожает всё, чем оно хочет быть. Но чем же хочет оно быть? Как раз тем, чего ему недостает, — бытием. Человек хочет быть, и быть столь же надежным, гарантированным, прочным, как вещи. В этой страстной обращенности к вещам свершается и ею исчерпывается его существование. Некой оригинальной дисциплиной, сулящей здесь богатую жатву, оказывается, по Сартру, экзистенциальный психоанализ; в отличие от фрейдовского он не знает никакого бессознательного, и не копается в прошлом в поисках замочных скважин, как немых улик былых подглядываний; он просто наце–лен на будущее. На сотнях страниц «Бытия и ничто» рассыпаны (подчас мастерские) анализы condition humaine, которая хотя и приговорена к свободе, но меньше всего способна быть свободной. Поскольку человек, окруженный случайностями и абсурдностями повседневной жизни, ежемгновенно должен принимать решения, не зная, какие из них правильны, и что вообще есть правильное, его существование превращается в сплошной страх, который удвояет его и без того абсурдную жизнь: он хочет быть, но он боится быть; оттого ему приходится постоянно избегать цели, достичь которую он единственно желает. Ключевое понятие Сартра для этой монументальной жизненной установки есть la mauvaise foi (дурная совесть, или самообман).
11.
Исчерпывающая дефиниция сознания, соответственно человеческого существования, таким образом, гласит: сознание — это «непрерывно повторяющийся проект полагать себе самому основание в качестве бытия и постоянный срыв этого проекта». Иными словами: сознание — это человек, а бытие — это Бог; сознание, как выбор, выбирает ситуации бытия, потому что оно, поверх всяких ситуаций, хочет просто быть. Но быть значит быть Богом. Сартр: «Etre homme, c'est tendre a etre Dieu; ou, si l'on prefere, I'homme est fondamentalement desir d'etre Dieu» (быть человеком значит стремиться быть Богом; или, если угодно, человек есть в корне желание быть Богом). Что же есть Бог? Гарант абсурдного. Чтобы быть, человек хочет быть Богом, которого — нет. «Человек теряет себя как человек, чтобы возник Бог. Но идея Бога противоречива, и мы теряем себя понапрасну; человек — это бесполезная страсть». (Реплика: Что в нем единственно полезно, так это то, что он способен понять свою бесполезность и объявить об этом во всеуслышание. После чего ему присуждается Нобелевская премия. Шутка или тупость? Во всяком случае, не у самого Сартра, который оказался достаточно адекватным, чтобы отказаться от этой чести. Сказать: люди бесполезны значит, не сказать еще главного, потому что главное, это сам сказавший. Если люди бесполезны, то говорящему это философу впору быть образцово бесполезным. Характерно, что люмпен–студенты 68 года, зачинщиком и застрельщиком которых довелось стать беспокойному Сартру, так и не опознали себя в последних консеквенциях его философии. «Каждый человек есть то, что он из себя делает» — это они хорошо усвоили, но пропустили мимо ушей то, что каждый человек, что бы он из себя ни сделал, остается «бесполезной страстью». Скажем, нынешний[62] зеленый министр иностранных дел Германии, сделавший себя один раз хулиганом (молодым человеком он поколотил как–то полицейского), а другой раз министром. Страсть, оба раза, налицо. Бесполезная или полезная, а может, и та и другая, скажем, в качестве хулигана, полезная, в качестве же министра, бесполезная, об этом можно еще поспорить.)
12.
Аргументация Сартра остра, как нож: Бог есть, по понятию, сущность, эссенция всех вещей, прежде всего человека. Но сущности человека не существует (il n'y a pas de nature humaine). Почему же её не существует? Потому что экзистенция предшествует эссенции (I'existence precede I'essence). Человек экзистенциален; если о нем можно вообще говорить как о сущности, то не иначе, как из условий его существования. Он возникает — то так, то иначе, всякий раз ситуативно, случайно и поновому — только отображаясь в других людях. Сущности человека (la nature humaine) не существует уже потому, что она не ситуация, а мысль. Мысль же есть лишь постольку, поскольку она мыслится. О мысли, которая не мыслится, не может быть и речи. Но чтобы быть мыслимой, она нуждается в мыслящем, который и сам, чтобы мыслить, должен же прежде — быть. Кем же надо ему быть, чтобы мыслить сущность человека? Вопрос прогоняется сквозь строй превентивных очевидностей. Что мыслит тот, кто мыслит? То, что он преднаходит: вещи мира. Человек мыслит вещи мира, поскольку они существуют и, как существующие, воспринимаются им. Но так как и сам он существующий, он воспринимает и мыслит и самого себя. С тою очевидной разницей, что себя он не преднаходит, как вещи, а всякий раз наново создает. Это значит: он делает из себя сначала того или другого, и лишь после мыслит себя как того или другого. Если же он хочет мыслить себя в своей сущности, то он должен прежде эту сущность сотворить, быть ею. Таков его первоначальный экзистенциальный проект, осуществить который он не в состоянии. Ибо сущность одна и едина для всех существований. Сотвори некто в себе свою сущность, он выступал бы тогда, как вот этот вотчеловек, от имени всех людей и представлял бы человечество. Но этого–то, по Сартру, как раз и не может ни один человек, так как, сумей он это, он был бы уже не человеком, а Богом. Не идеалистическим, враждебным всему телесному и страдающим телобоязнью Богом, а экзистенциальным.
13.
Атеист Сартр, отказывающийся верить в Бога на том основании, что этот Бог, будучи спиритуалистом, не способен быть также и экзистенциалистом, обнаруживает в то же время некую диссонирующую предрасположенность к платонически–христианской традиции, согласно которой мысли бестелесны, тела же безмысленны. И хотя сущность человека (как мысль) может быть помыслена, ей, чтобы существовать, нужен человек, тело которого было бы так же пронизано духом (сознанием), как оно пронизано жизнью; который, стало быть, был бы в состоянии без остатка эссентифицировать свою экзистенцию. Атеист Сартр всё еще достаточно платоник и достаточно католик, чтобы иметь вкус кгуманизму при отсутствии человека; гуманизм, в который он влип, отличается от одновременного хайдеггеровского гуманизма, пожалуй, только тем, что он рассчитан не на живущих уединенно, а на жизнелюбивых и политически ангажированных дегенератов. Своеобразие этого гуманизма в том, что он заочен, фантомен, беспредметен. Сартровский человек — не человек, а биологический выродок, животное, вся привилегия которого в том и заключается, что оно проходит по ведомству не Дарвина, а Платона. Но человек, по сути, в сущности, — это не animal platonisans, а тот, кто осуществил в себечеловека (религиозно: Бога). Сартровский Бог есть лишь переодетый парижанин, которому недостает мужества быть человеком. Человек «Бытия и ничто» стремится быть Богом, чтобы трансцендировать свою врожденную ничтожность, но постоянно терпит при этом неудачу. Даже слепой щенок приноравливается со временем не попадать в лужу; не то, что экзистенциальный человек, который, биясь головой об одно ничто, накладывает себе другое на голову как компресс. «История всякой жизни есть история поражения». Так и просится в требник острослова. Или в флоберовский лексикон прописных истин. Но этот лирический промах вплетен сюда искусственно. Характеристика человека: I'etre qui projette d'etre Dieu, свидетельствует ни о банкротстве, ни о пораженчестве, а есть просто некое условие. Еще раз: найдись человек, смогший бы сделать из себя человека, чтобы мыслить себя во плоти и крови как то, что абстрактно называется сущностью человека, или также назначением человека, оставался бы открытым вопрос: захотел бы он при этом так обнаружить свою фактичность, чтобы и другие люди смогли опознать себя на его человечности?
14.
Мы в преддверии антропософии. Сартровские анализы имплицируют (феноменологически) жизненный мир, или горизонт, книги Штейнера «Философия свободы», именно её второй части. Нет ничего удивительного в том, что книга эта, после бойкота, устроенного ей немецкими философами, осталась неизвестна и французскому философу. Сартр, впрочем, мог бы отчасти восполнить пробел, во всяком случае осознать импликации собственной мысли, не прогляди он другого мыслителя, знать которого он, как гегельянец, мог бы наверняка. Речь идет о Максе Штирнере. У Штирнера мы находим философию «Бытия и ничто» in nuce, причем в абсолютно радикальном исполнении, лишенном всяких соскальзываний в ненужную схоластику и лирику. Остается гадать, что бы вышло из Сартра, подсмотри он свои мысленные повадки не у Хайдеггера, а у автора «Единственного и его достояния»?
15.
На случае Штирнер можно кое–чему научиться. С тех пор как есть Штирнер, философия пребывает в состоянии повышенной боевой готовности. Дело не в имени Штирнер, которым можно так или иначе пренебречь, а в проблеме Штирнер, настигающей каждого, кто привык философствовать не словами, а умом. Очевидно, философы оттого и стараются обойти эту проблему, что легче сломать себе на ней голову, чем взять её себе в голову. Философы достаточно благоразумны, чтобы, сломя голову, протискиваться сквозь философское игольное ушко Штирнер. Г ораздо прибыльнее прикидываться Сизифами. Если они тем не менее каким- то образом оказываются на минном поле Штирнер, то сами и несут всю ответственность за собственные возможные увечья. Здесь лежит ключ к Сартру. Не в языковом затушевывании проблем, о которые он второпях спотыкается, а в скрытых подспудных тенденциях, ищущих прорыва в сознание. Сартр решается на то, от чего у других отнялся бы язык: он настолько вплотную подходит к проблеме Штирнер, что ему после этого не остается иного выбора, как: пробиваться к «событию Рудольф Штейнер» (Карл Баллмер) либо — в противном случае — с годами усугублять свою бесполезность. Что Штирнер значил для автора «Философии свободы», содержится, между прочим, в письме Рудольфа Штейнера к Джону Генри Маккаю от 5 декабря 1893 года[63], стало быть, сразу по выходе книги в свет: «Как я вижу, первая часть моей книги образует философский фундамент для штирнеровского жизневоззрения. То, что я развиваю во второй части „Философии свободы“ как этическое следствие моих предпосылок, находится, думаю я, в полном согласии с рассуждениями книги „Единственный и его достояние“». Сартровские амбиции распространяются, как было сказано, на вторую часть «Философии свободы», носящую заглавие «Действительность свободы». Для круга проблем первой части («Наука свободы») ему, по всей видимости, недостает органа. Сартровский человек осужден на свободу, или (по–хайдеггеровски) заброшен в свободу, не имея и понятия о том, что это такое. В самом деле, что за это свобода, к которой человек приговорен, на которую он обречен, которую он вынужден терпеть! Несвободная свобода! А человек невольник своей свободы! Он должен быть свободным, должен совершать поступки из свободы выбора, не зная, что и зачем. Его свобода тяготеет над ним как проклятие, вгрызается, как червь, в его сердце и ведет его в абсурдное. Абсурдность сартровского человека: он умничает и хайдеггерит (heideggert) по–французски, думая в то же время, что он в состоянии вынести атмосферическое давление мира «Философии свободы». Его беда: он живет, проникнутый страстью быть честным, бескомпромиссным и аутентичным, в мире, в котором уже есть антропософия, и он ухитряется ничего не знать и знать не хотеть ничего об этом.
17.
Последнее замечание нуждается в пояснении. Сартровский человек сам довел себя до пункта, после которого если не становятся антропософом, то становятся маоистом, чегеваристом, анархистом или уже просто отребьем. Этому человеку, выпячивающему себя у Сартра, нельзя, по крайней мере, отказать в одном: в мужестве жить в настоящем, не цепляясь за фиксированные точки прошлого. Он не может и не хочет больше быть питомцем или нахлебником ценностей, которые он уже не живет; единственное, чего он хочет, так это жить, и несчастье его существования в том, что в его жизни нет места ценностям, как в ценностях нет жизни. Тогда он предпочитает всё–таки жить без ценностей, чем быть стендом мертвых ценностей. Он сознает себя как ничто, и это свидетельствует лишь о его готовности нести свою судьбу фактически и случайно, а не покрытую патиной идеалов. Страх его экзистенции мог бы лучше всего быть выражен словами Штирнера[64]: «Все истины подо мной милы мне; я не знаю никакой истины надо мной, истины, на которую мне следовало бы равняться».
18.
Это, но и только это, выражает заостренный тезис: I'existenceprecede I'essence. Будь сущность прежде существования, человек имел бы, правда, почву под ногами, но никакой возможности быть свободным. Чтобы быть свободным, ему необходимо ежемгновенно стартовать из ничто в жизнь и верить в то, что он ежемгновенно является тем, что он из себя сам делает. Пока ему однажды не откроется, что жизнь, которую он живет, — это сплошной срыв и провал. Симптом, по которому он узнает это, — тошнота. Тошнит, следовательно существую. Такая вот деградация гордой картезианской интеллигенции, но и какое уникальное свидетельство! Философия в Сартре домыслилась до тошноты. Её стошнило от самой себя. Ну и что же из этого! Может, в этом и сокрыта её зрелость и значительность. При условии что её настигла бы однажды дружеская судьба, перенеся её из карикатурной парижской экзистенции в антропософский оригинал, где ей открылось бы, что она такое натворила, и, главное, что упустила. Можно было бы в нескольких штрихах охарактеризовать это отношение карикатуры к оригиналу — философской карикатуры к антропософскому оригиналу.
19.
Также и в антропософской оптике сознание есть ничто, каждый раз наново возникающее на внешнем как нечто. С той поправкой, что оно делается чем–то, а не делает себя само. Будь сартровский человек в состоянии делать себя сам, ему не было бы никакой нужды стремиться быть Богом, на том основании, что он был бы уже Им. Также и в антропософском смысле нет никакого повода предпосылать сознанию некую персональную сущность. Сознание — это просто зеркало внешнего мира, отражения которого (внимание!) на телесном прикидываются Я и душой, с тем чтобы они однажды стали Я и душой. Этотфакт невозможно понять иначе, как только в целостности антропософского контекста. Сартровское бытие–в–себе вещей, на котором возникает бытие–для–себя сознания и посредством которого оно ежесекундно заполняет свою пустоту, есть мир кармы. Карма (у Сартра: мой мир, мое бытие–в–мире, моя свобода) — это случай и контингенция. Конечно, французу и католику Сартру легче понимать под случаем языческо–христианскую (и тогда, если языческую, то слепую, а если христианскую, то неисповедимую) судьбу, чем художественно разыгранный в душевном пространстве педагогиум мирового процесса, в котором как человек, так и Бог, получают смысл и субстанцию. В свою очередь, карма обретает свой смысл в духовном законе реинкарнации. Приди нам в голову доискаться до корней и источника абсурда, как такового, нам следовало бы только мысленно устранить из мира карму и реинкарнацию и после последовательно домысливать мир до конца… Сартровская лицензия на абсурд слишком разумна, чтобы за литературными пряностями нельзя было видеть её философской дефективности. Об абсурдном не говорят, и уж вовсе не говорят столь блистательно, если намерены его абсолютизировать: будь абсурдное абсолютным, пришлось бы воздавать ему должное не философски, а клинически.
20.
Интересно в сартровском абсурде всё–таки не то, что он есть, а что он есть. Он есть — отсутствующая антропософия. (Под антропософией следует понимать не то, чем занимаются люди, называющие себя антропософами, а жизненное творение Рудольфа Штейнера!) Мы тщетно станем отгонять догадку, что от сартровского абсурда можно достичь до антропософии быстрее, а главное, надежнее, чем от антропософии большинства антропософов. «Сартр, — читаем мы у Карла Баллмера[65], — не должен остаться неуслышанным, ибо он дал философии XX века толчок честности». После того, как эта философия проморгала творение Рудольфа Штейнера, ей остается лишь уделить «абсурдному» центральное место в своем тематическом круге. С полным на то правом и основанием. Ибо этот мир действительно абсурден; нужно лишь не забеливать его идеалами с давно истекшим сроком годности. Если допустить, что к антропософии можно быть приведенным и в обостренном состоянии, то, похоже, что сартровский человек имеет неплохие на это шансы. Ему следовало бы лишь продумать тот нюанс, что действительно свободным в своих поступках он может быть лишь тогда, когда он действует сам, а самдействует он тогда, когда он налицо как сам. Что не так уж и очевидно, вопреки тщаниям уютнобюргерского оптимизма. Сартровское человековедение похоже на цирк: человек есть ничто, которое перманентно становится тем, что оно само (!) делает из себя. Совсем как тот свифтовский слон, которого показывают — «за отсутствием его самого». Или как «унесенное ветром» перышко, воображающее, что оно само несет себя по воздуху.
21.
В ключевом положении: «Человек есть в корне желание быть Богом», сфокусирована вся несостоявшаяся в Сартре антропософия. Следовало бы лишь вместо (расхожего) Бог говорить Дух, или(антропософски): Самодух, Жизнедух, Духочеловек, во избежание рецидивов бед, которых философия, да и обычное сознание натерпелись от слова и понятия Бог. Сартр, несомненно, прав, когда он отрицает сущность человека. Как экзистенциалист, он исходит из постулатасуществования, а под последним понимает не понятие, а тело. Между тем, в платонистически–христианской традиции Запада сущность (как дух) могла быть метафизичной, а не физичной. Атеизм Сартра — ушат холодной воды на запамятовавшую свое христианство голову. Сущности (Бога, духа) нет, потому что то, что есть, есть тело и в теле. В этом бесшабашном атеизме больше христианства, чем в самых отпетых христианских богословах. Разве Сущность Мира, известная христианам под именем Христос, — это не ТЕЛО! Именно: не паганистический призрак платонизма, а ТЕЛО. Но ТЕЛО, не просто существующее в собственных отправлениях, а до мозга костей пронизанное ДУХОМ, и потому и воскресшее как ТЕЛО. Христианский мир не понял: платонизм — это метафизика, неспособная стать физикой, тогда как событие Христа — это МЕТАФИЗИКА, как ФИЗИКА. «Мистерия Голгофы» диссонирует здесь с двумя христианскими тысячелетиями. Мы начинаем понимать и неизбежный атеизм тысячелетий: в свете следующего христианнейшего условия: или сущность человека — это ФАКТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК, или нет вообще никакой сущности человека. Атеизм — наследственная болезнь христианства, как наследственная болезнь христианства же и материализм. Человек, несущий Христа на кончике языка, а не как СИЛУ СВО-ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ К ЧЕЛОВЕКУ, — вечный проигрыш, промах, холостой выстрел, хлопушка, никчемность, чёрт знает что, потому что он хочет быть Богом (Духом, СОБОЙ) и не может им стать.
22.
Вопрос: отчего же не может? Вопрос упирается в тему судьба и перевоплощение духа. Мы находимся в тематическом поле антропософии. Он не может этого, поскольку думает, что живет только один раз, тогда как одухотворение тела никак не осуществимо в рамках одной человеческой жизни. Если жизнь одна и кончается со смертью (всё равно какой: материалистически окончательной или религиозно окончательной), то любая честная и осознающая себя философия рано или поздно утыкается в абсурд. Духовность человека (не в переносном, а в телесном смысле) столь же мало умещается в рамках одной жизни, как океан в бутылке; чтобы быть реальной, она требует будущего, не меньшего, если не большего, чем биологическое прошлое человека. Иными словами: прошлое человека было прошлым рода; его будущее может быть только индивидуальным? Атеист Сартр согласен здесь с христианским теизмом. Но если для последнего это очередной повод к воскресной проповеди, то автор «Бытия и ничто» достаточно честен, чтобы заключить отсюда к абсурдности человеческой экзистенции. Человек умирает, прежде чем ему удается хотя бы в зачаточной степени реализовать свое назначение (то, что позволяет ему называться человеком). Назначение человека (иначе: сущность человека) оказывается, таким образом, не фактом, а только помышленным идеалом, для осуществления которого странным образом НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ. Честность философа Сартра заключается как раз в неприятии им идеалов, которые только почитают, а не осуществляют. Его больше устраивает абсурдное…
23.
В учении Рудольфа Штейнера о карме и реинкарнации скрещивается и завершается (исторически, как и теоретически) несовместимое: немецкая классика и естествознание — Фихте и Шиллер, с одной стороны, Дарвин и Геккель, с другой. Характерно, что обе линии, независимо друг от друга, обнаруживают свою несостоятельность на теме человек. Немецкий идеализм оттого, что, отталкиваясь от духовного, как такового, он не способен пробиться к духовно–физическому. Эволюционная теория оттого, что она не находит выхода в духовное. В идеализме человек остается логическим понятием, в естествознании он есть биологический род. Один хоть и знает, к чему он, как человек, призван, но лишен, в силу своей конечности, времени осуществить это призвание. Другой утопает в избытке времени, но не знает, во что его употребить. Оба терпят неудачу и растрачивают силы в обоюдных контроверзах. Иначе и не могло быть, раз уж родовому в человеке предоставлены в распоряжение миллионы лет, тогда как индивидуальному надлежит уложиться в немногие десятилетия между рождением и смертью. Не удивительно, что биологически удавшемуся человеку наследует духовный недоносок. Достаточно лишь сравнить совершенство обмена веществ или пищеварения с жалкими мысленными конструкциями какого–нибудь очередного интеллектуала, чтобы понять, где следует искать действительный дух. Когда–нибудь важничающим своими «дискурсами» философам при–дется смириться с фактом, что вестественных отправлениях их организма духовности больше, чем во всех их конференциях и круглых столах вместе взятых. Вопрос: как же случилось, что венцу творения, с которым природа возилась с незапамятных времен, сподобилось как раз по достижении им зрелости познать свою бесполезность и абсурдность? То, что сартровский человек хочет быть Богом (Духом), коренится в его безошибочном жизненном инстинкте. Беда (или шутка) в том, что у него нет для этого времени. Отведенного ему на жизнь времени едва хватает, чтобы преуспеть в слепоте и самомнении. Нужно обладать действительно слепым и спесивым умом, чтобы полагать, будто Творец мира настолько непоследователен и глуп, что Он уничтожает свои человеческие творения, дав им прожить несколько жалких десятилетий, после того как ему понадобились миллионы лет для их создания.
24.
Реинкарнация и карма в учении о духе Рудольфа Штейнера проходят по ведомству не оккультизма, мистики, теософии, буддизма, а — естествознания. (Если при всем том им пришлось–таки выступить втеософском облачении, то это и было кармой, между прочим и кармой парализованного естествознания, испоганившего свои открытия абсурдными интерпретациями.) «Представления, необходимые с точки зрения современного естествознания», так означено это в одной штейнеровской статье 1903 года. Этот поразительный аспект открывает нам доступ к антропософии. Естествознание, домыслившееся до кармы и реинкарнации, и есть АНТРОПОСОФИЯ. Естествознанию (в рамках теории эволюции) известно лишь родовое; оттого, достигнув таких высот в ботанике и зоологии, оно обнаруживает полную несостоятельность при соприкосновении с индивидуальным. Права на индивидуальное остаются за теологией, филологией, риторикой, откуда оно и дегенерирует в бесполезное и абсурдное. Духовная наука Рудольфа Штейнера выводит индивидуальное из–под попечительства всякого рода гуманизмов (в том числе и сартровского‑l'existentialisme est un humanisme) и помещает его туда, куда оно и принадлежит: в линию естественной истории. Естествознание охватывает эволюцию человека от минерального и растительного до животного. Его человек — это всё еще животное, хоть animal rationale, но животное. Тема штейнеровской духовной науки — эволюция человеческого в человеке (причем местом свершения последней, «природой» её, и оказываются реинкарнация и карма). Говорить о человеке без этой эволюции, значит находиться всё еще в радиусе действия зоологии. Можно было бы с равным успехом очеловечить, скажем, чешуекрылых и насекомоядных, после чего, приговоренные к свободе, они страстно медитировали бы свою бесполезность.
25.
Сартровская философия остается неким мементо или даже панихидой по времени, предпочетшим «годам учений» паркинсонический тремор креативностей и умудрившимся бороться за права и свободы человека при отсутствии собственно человека. Иллюстрацией сказанного служит беспорядочное метание философа: от экзистенциализма к коммунизму, маоизму, анархизму, хулиганизму… Похоже, Сартр, сопротивлявшийся в 1943 году немецкой оккупации за письменным столом своей парижской квартиры, перепутал вечерний час своей жизни с её утренним часом, поднявшись в 1968 году на баррикады и став слепым вождем слепых. Всё это так, и говорить об этом можно было бы дольше и злее. Но увидеть можно и иное. Скажем, то, что он на голову возвышался над «мыслителями», которые, подстрекая буйную и податливую молодежь к промискуитету и бунту, сами тайно лакомились своим обывательским счастьем. Этого он не делал никогда; стремясь быть тем, что он мыслил, он мыслил бумерангами, возвращающими ему самому то, что он запускал в мир: абсурдность и бесполезность. Воздать ему должное значит, попытаться увидеть его в свете его собственного проекта. Чего же хочет он, этот философ–непоседа, вознесший–таки французскую мысль до немецких глубин и опустивший–таки её до слэнга какого–нибудь Кон—Бандита; дурачащийся гений или гениальничающий дурак, который, вместо того чтобы жить на проценты со своей мировой славы и, уютно усевшись в захолустье какого–нибудь французского Шварцвальда, пускать оттуда время от времени пузыри бессмертных цитат, вцепился в руль среди турбулентностей злобы дня, не зная, как и куда держать курс! Жалкое, больное, абсурдное время, когда наставниками и водителями оказываются те, кому впору было бы самим учиться и быть ведомыми!
26.
Сартр, как мыслитель и практикус, — запоздавший. Выпади ему участь жить и философствовать на полстолетия раньше, он стоял бы в одном ряду с Ницше, Банзеном, Майнлендером, Вейнингером, Леоном Блуа. Его безысходность была бы тогда обоснованной, а значит, и аутентичной. В изъявительном наклонении она надумана и одиозна. Иные биографы поспешили назвать его философом XX века, почти Вольтером. Его похороны в Париже напоминали похороны Виктора Гюго за почти сто лет до этого: словно герой или полубог, был он предан земле, и это стало, пожалуй, еще одной гримасой абсурда, которому вздумалось на такой манер отблагодарить своего гениального заступника. Так эпоха ничтожных абсурдностей прощалась с последним героем абсурдного. Наверное, случай можно будет осмыслить, когда уляжется шум и станет тише. Когда удастся расслышать следующий итог: мыслитель Сартр, современник антропософии, не стал её свидетелем. А значит: не стал свидетелем смысла. Но не став свидетелем смысла, он вынужден был стать свидетелем бессмысленного. Правда, очень своеобразным свидетелем, от показаний которого выигрывает не бессмысленное, а только проигрывает старый источенный молью смысл, которому давно пора уступить место новому и настоящему.
Базель, 30 марта 2005 года
.
Поль Валери и Гёте. Вариация на тему франко–немецкой судьбы
Публикуется впервые
Господину Тесту, этой юношеской фантазии Валери, «чудовищу понимания», которое он заговаривал и усмирял всю жизнь, пришлось однажды опробовать силу своего понимания на Гёте. Что сознание, начавшееся с «Введения в метод Леонардо да Винчи» и избравшее себе судьбой лабиринт вопроса: «Что может человек?»[66], рано или поздно должно было столкнуться с Гёте, в этом не было ничего неожиданного. Гёте — не зачитанный, а увиденный, — «убивший меня факт» (из письма к А. Жиду от 7 июня 1932 года), вынудил–таки блистательного «Боссюэ Третьей Республики» выдать открытым текстом сокровенную causa finalis своей жизни: «Он являет нам, господа смертные, одну из лучших наших попыток уподобиться Богам». Так сказано это в памятной сорбоннской речи, прочитанной 30 апреля 1932 гётевского года[67]. Если вспомнить, что автор этой речи ко времени произнесения её давно уже распрощался со своей ролью «Робинзона Крузо интеллекта», влюбленного в анонимность как в единственное средство не дать отвлечь себя от существенного, и вынужден был томиться под бременем «бессмертного», представляющего даже не Академию, a la grande nation, то «Дискурс в честь Гёте», нисколько не теряя в своей неподражаемой субъективности, расширяется до значимости более общего, репрезентативного, порядка. Среди сотен публикаций, чествующих Гёте в этот юбилейный год, на фоне литераторской продукции самого различного толка, от, скажем, покровительственных воздаяний живого классика Томаса Манна мертвому веймарскому классику до разочарования испанца Ортеги найти в Гёте что–то вроде (надо полагать, испански приправленной) судьбы, случай Валери выделяется не только редкой конгениальностью и чисто гётевской сфокусированностью характеристик, но и, повторим, репрезентативностью: поэт «Юной Парки» и «Чар», говоря от своего имени, говорит от имени Франции. Очень редкий случай, когда даваемое Богу приходится по вкусу и Цезарю; когда официальное вдруг перестает нагонять скуку и делается вдохновенным; министр Гёте, несомненно, имел в виду схожие ситуации, когда написал в одном административном отчете: «Любое предприятие движимо по сути этическими рычагами, поскольку оно управляется людьми. При этом всё зависит от личности». Случай Валери — случай какой–то вызывающей антикарьеры с эффектом обратного действия; мало кто чурался чумоносной славы столь сознательно, как он, и мало кто, как он, был славой этой так преследуем. Отдать 25 лет жизни поволенной безвестности и страсти к пониманию; начинать каждый день до рассвета, чтобы, запершись наедине с собой, наносить на бумагу мысли, о чем угодно, шлифуя их и не давая им успокоиться до тех пор, пока они не попадут в абсолютную точку прицела («я есмь […] помарки» — самое ошеломительное слово из всех когда–либо произнесенных «академиками»), да, ревниво оберегать черновики своего сознания от света и гласности, чтобы быть в конце концов настигнутым демонами публичного опроса! «Они избрали меня 3145 голосами величайшим поэтом (март 1921). Между тем я не великий и не поэт, равно как и их не три тысячи, а всего лишь четверо в каком–нибудь кафе»[68]. Смятенный Жид записывает в дневнике[69] следующие слова своего друга: «Хотят, чтобы я представлял французскую поэзию. Считают меня поэтом! Но мне плевать на поэзию. Она интересует меня лишь от случая к случаю. Только по случайности я писал стихи. Я был бы в точности тем же, не пиши я их вообще». (Это уже чисто по–гётевски: Gelegenheitsdichter, поэт по поводу, на поводу у случая, настигнутый случаем и не упускающий случая; Гёте: «Я писал любовные стихотворения, только когда я любил»; или еще: «Вертер и всё это отродье — только побрякушки по сравнению с внутренним свидетельством моей души».)
Еще раз: не он выбрал себе эту участь «великого», но после всего, что он делал и чем он был, выбор не мог уже пасть ни на кого другого, кроме него. Есть что–то атипичное в праздничной речи о Гёте, прочитанной в большом амфитеатре Сорбонны человеком, в шутку назвавшем себя в этой связи «чем–то вроде государственного поэта» (une espece de poete d'Etat); во всяком случае трудно представить себе нечто аналогичное, а именно: гениальность в ранге государственного мероприятия, в какой–либо иной стране, чем Франция. Что выглядело бы нелепым в любом другом культурном диспозитиве, вполне вписывается в стилистику страны, где вот уже три с лишним столетия сорок человек, объявляющих себя на время жизни бессмертными, совершенно официально и всерьез верят в то, что они представляют Архангела нации[70]. В попытке понять Гёте ex officio французскому академику Валери пришлось, пожалуй, как никогда ни до ни после этого, испытать на себе весь блеск и всю нищету гения своей расы. Ибо речь о Гёте не стала исключением, оказавшись и здесь, как и во всех прочих случаях, бумерангом. Знаменитые мужи, чествовавшие Гёте в 1932 или в 1949 году (год 1999 не идет в счет за отсутствием таковых мужей вообще), могли бы знать, что при всей оригинальности и даже поучительности их интерпретаций, оригинальным и куда более поучительным оказывался обратный эффект: сами они в свете, падающем на них от Гёте. Это второе дно прочтения принадлежало бы уже не миру истории с его юбилеями и академиями, а миру судьбы. Случай Валери, хоть и не составивший исключения, отличается от прочих. В свете Гёте (выражение это следует понимать не переносно, а буквально: свет Гёте — его световая теория) предстает не просто чествующий его мыслитель Валери, а мыслящая Франция.
«Мы говорим ГЁТЕ, как мы говорим ОРФЕЙ»[71]. Наверное, куда легче и естественнее было бы услышать нечто подобное не из уст француза о немце, а наоборот. В устах француза такое всегда граничит с неправдоподобностью. Аутизм французского esprit — факт, отрицать который было бы не менее нелепо, чем отрицать величие этого esprit; «француз, — заметил однажды аббат Галиани, — сколь бы умен он ни был, не способен представить себе, что существуют страны, отличающиеся от его страны»[72]. Правы те, кто ищет объяснение этой особенности во французской истории, как правы и те, кто объясняет саму французскую историю этой особенностью; если национализм, как таковой, обнаруживает и изживает себя где–нибудь на уровне первофеномена и, значит, не в превратностях идеологии, а по аналогии с обменом веществ, то именно во Франции: великой нации с тысячелетним стажем величия и явными признаками усталости от постоянной выставленности этого величия. Наверное, мольеровский Журден, к удивлению своему узнавший, что он говорит прозой, удивился бы вдвойне, узнав, что можно говорить и иной прозой, чем французская; о племяннице Вольтера рассказывают, что, занимаясь английским и безуспешно пытаясь исправить свое произношение с bread на bred, она воскликнула в сердцах: «Bread, bred! к чему так менять слова? Эти англичане действительно смешны! Отчего не сказать просто: du pain!»[73] В самом деле, отчего? — в стране, в которой даже Бог должен был чувствовать себя как дома (vivre comme Dieu en France); «Франция, — говорит Леон Блуа[74], — это ТАЙНА Иисуса, которую он не сообщил своим ученикам, потому что хотел, чтобы они её разгадали»; быть французом, значит быть привилегированным; сначала говорят француз, а там уже кем бы он ни был, потому что преимущества национального гения выпирают здесь наружу не только у великих и бессмертных, но и у кого угодно. Хьюстон Стюарт Чемберлен[75] пояснил это на случае, типичность которого подтвердит каждый, кто знает, о чем идет речь: «Когда я в прошлый раз прибыл в Булонь, я узнал к моей досаде, что мне придется целых три четверти часа дожидаться поезда на Париж; в отчаянии я заговариваю с покрытым сажей и копотью кочегаром локомотива, и, признаться, мне редко удавалось лучше проводить время, чем в этот раз; я сожалел, когда раздалось: „en voiture, s'il vous plait“. Славный малый не знал ничего, кроме Франции и французских дел; но как точно знал он их! С какой уверенностью судил он о правящих авантюристах! Он говорил на чистейшем французском, и речь его изобиловала шутками, остротами, попаданиями; ему ничего не стоило бы сойти со своего локомотива и взобраться на трибуну в Пале—Бурбон, чтобы блестяще выступить в прениях; также и в манерах, в тоне нет никакой разницы между кочегаром и Президентом Республики: вежливость, простота и уверенность, умение быть на равных друг с другом; ничего от средневековой мишуры немецких субординации и торжественностей. Всё это делает Францию приятнейшей страной в мире; оттого общество, которое обычно бывает в тягость, там одно удовольствие». Насколько явен и оглушителен факт французского влияния на других, настолько же проблематичен факт влияния других на Францию; немец, русский, итальянец, англичанин, говорящие по–французски, — норма и естественный канон культурного европейца еще в первой половине XX века, тогда как говорящий не по–французски француз производит впечатление легкого и трогательного недоразумения. И всё же история французской культуры была бы неполной и уже не совсем французской, не играй в ней эти недоразумения подчас роль движущей пружины. Особенно когда блистательному учредителю изяществ приходилось иметь дело с английским и немецким соседями. Неприязнь французов к обоим факт, не менее очевидный сегодня, чем триста лет назад; при всем том приходилось время от времени вымучивать из себя гостеприимство и выбирать из собственного дневного освещения (просвещения) между английской туманностью и немецкой темнотой, при почти одинаковой аллергии на оба случая. Началось, конечно, с Англии, от экспансии которой французский рассудок не пришел в себя вплоть до наших дней, несмотря даже на такие отчаянные меры, как введение денежных штрафов за употребление английских слов. Шутка из одной комедии Ожье вполне подходит и к этому случаю: «Мы похожи на человека, — говорит там какой–то острослов, — который в течение месяца семь раз переболел насморком и оправился от всех разов, кроме первого. Так и Франция успешно оправилась от всех своих революций, кроме первой»[76]. Можно сказать, она оправилась и от всех влияний, кроме первого, английского, настигшего её сразу после смерти Людовика XIV и сразу принявшего хронический характер[77]. Вольтеру стоило немалых усилий вакцинировать своих соотечественников от Шекспира, но Ньютоном и Локком он заразил–таки их надолго. Со времен Вольтера английская «пятая колонна» во Франции фактор, в существенном (хоть и не явно, а подчас и под флёром борьбы с ним) определяющий ход событий. — Когда потом с молодым Вертером пришла пора учиться страдать по–немецки, неприязнь оказалась гораздо сильнее, чем можно было предположить. В отличие от английского, над которым смеялись, которым восторгались, но которого никогда не боялись, германское внушало именно страх, а от страха было рукой подать до ненависти. Когда г-жа де Сталь в 1810 году издала свою книгу «О Германии», книгу умеренной симпатии к немецкому, решением министра полиции генерала Савари тираж в 10 тысяч экземпляров был уничтожен, а сочинительнице предписано в 24 часа покинуть пределы Франции. Эта свирепость настолько характерна для общей германофобии французской культурной жизни, что в ней подают друг другу руку такие во всем остальном несовместимые умы, как Клемансо и Леон Блуа. Быть здесь исключением можно было позволить себе не иначе, как достигнув неприкасаемых высот; но исключения, сколь бы значительными они ни были, оставляют на общем фоне впечатление скорее патологического, чем нормального состояния сознания. Некоторая скидка делалась еще для философов, вроде Кузена, знакомящего французскую публику с причудами германской метафизики; надо же было как–то объяснить мощь мысли, вроде гегелевской, оказавшейся возможной в стране и среде варваров; на протяжении всего XIX и еще первой половины XX века Германия время от времени устраивает самоуверенному парижскому сердцееду культурный «Седан»: то ли в пору жизни веймарского божества, о котором А. де Кюстин, посетивший его в 1815 году, сказал Рахели Варнхаген почти словами позднего лаудатора Валери: «Qu'on ne s'y trompe pas, il estplus qu'un homme»[78], то ли в музыкальном покорении Парижа, когда цвет нации, от Бодлера до Маллармэ, преклонился перед гением Вагнера и Шумана, то ли — уже позднее — в культе Ницше или — еще позднее — в паломничестве юных французов к «мэтрам» Гуссерлю и Хайдеггеру. Одинокие объяснения в любви на фоне сплошной ненависти и неприязни; можно вспомнить Гюго[79], назвавшего Германию «благородной и священной родиной всех мыслящих людей», и добавившего, что он, не будь он французом, хотел бы быть немцем[80]. Или Флобера, говорящего то же, но не в сослагательном наклонении: «Уже давно я страдаю от необходимости писать на этом французском языке, а также думать на нем. Собственно говоря, я немец»[81]. Наконец, Ренана, с неподражаемо галльской остротой демонстрирующего своим соотечественникам преимущества немецкой культуры, и — что особенно пикантно — делающего это рикошетом от уничижительной оценки культуры английской: «Une universite allemande de dernier ordre, Giessen ou Greifswald, avec sespetites habitudes etroites, ses pauvres professeurs a la mine gauche et effaree, ses privatdocent haves et fameliques, fait plus pour l'esprit humain que l'aristocratique universite d'Oxford, avec ses millions de revenu, ses colleges splendides, ses riches traitements, ses fellows paresseux»[82]. В дневниках братьев Гонкур приведена реплика Ренана с последующими возгласами негодования присутствующих: «Во всем, что я когда–либо изучал, меня поражало превосходство немецкого ума и трудоспособности. Не удивительно, что и в искусстве войны […] они достигли этого превосходства, которое, повторяю, я констатирую во всех вещах, изученных мною, известных мне […] Да, господа, немцы — это высшая раса!»[83]. Если учесть, что реплика датирована 6 сентября 1870 года, то есть, на пятый день после Седана и за тринадцать дней до осады Парижа, то случай действительно окажется экстремальным. Но Ренан (как и Гюго) — гордость нации, «бессмертный» с местом в Пантеоне; поздняя мизансцена, разыгранная де Голлем перед студенческим «коммунаром» Сартром («у нас Вольтеров не сажают») могла бы вполне подойти и к этому случаю, в расчете на то, что за громкой фразой незамеченной останется её изнанка. Вольтеров здесь действительно не сажали, зато не-Вольтеров расстреливали; 6 февраля 1945 года в Париже был расстрелян 35-летний писатель Робер Бразийак, «коллаборационист» и «германофил». На суде[84], обычном балагане, устроенном победителями над побежденными, ему особенно не могли простить слов: «Мы суть немногие рассудительные французы, которые провели ночь с Германией, и помнить об этом мы будем с нежностью». Письмо о помиловании на имя Президента Республики, подписанное 59 «Вольтерами» (среди них на первом месте подпись Валери), де Голль оставил без внимания. Очевидно, он давал им понять, что это их, «бессмертных», привилегия: безнаказанно говорить такое. Но в стране, германофобия которой началась с казни одной безобидной книги, дело и не могло закончиться иначе, чем казнью писателя, объявленного государственным преступником за любовь к чужой стране.
Таков «жизненный мир» памятной речи, произнесенной одним великим французом в 1932 году: в честь Гёте, о Гёте, но и перед Гёте, в присутствии Гёте, присутствии столь явном, что само чествование великой Тени оказалось лишь поводом для самособственного стояния в её Свете. В черновиках к выступлению это означено со всей остротой: «Гёте вызван к жизни всеми написанными о нем в этом году трудами; он участвует в собраниях, он посещает выставки, где публике явлено такое количество воспоминаний, документов; он присутствует на чествованиях, церемониях, докладах. […] Он слушает меня, быть может». Это неосторожное и нечаянное попадание в реальность, причем спровоцированное ложными посылками (Гёте, вызванный к жизни «нами»), оборачивается фатальными последствиями для всего блистательного сорбоннского дискурса; «он слушает меня, быть может» — КТО: умерший сто лет назад или СЕГОДНЯШНИЙ? — Гёте, остановленный в «прекрасном мгновении» своей почти 83-летней земной жизни, или живущий дальше? Дискурс Валери, несомненно, отмечен одним преимуществом, которое в обычном смысле сочли бы недостатком: говорящий о Гёте не знает немецкого языка и почти не знаком с трудами Гёте. Это создает ему волшебную атмосферу неотягощенности и непринужденности, о которой в большинстве даже и не догадываются филологи. Но преимущество не было бы преимуществом, и непринужденность была бы ни к чему, не будь недостаток учености восполнен присутствием духа; немецкая анима Валери изживается не эпатажно, по–французски, а незаметно; пользуясь его же сравнением, не как мякоть плода, а как его питательная сила. Он француз, решившийся домысливать вещи, то есть, совершенный француз, выходящий, как всё совершенное, за рамки своего рода. (Интересно, было ли ему известно это немецкое познание, если не через Шеллинга, то через Дневник Оттилии?) Его немецкость загадана, таким образом, в его французском совершенстве, завершенности во французском; уже молодым человеком он втянулся в немецкое (не в слово, а в суть) через Маллармэ, в котором его на всю жизнь поразило и зачаровало, очевидно, то же, что поразило и зачаровало самого Маллармэ в Гегеле: абсолютная сознательность и дословность мысли, которую слова соответственно не забалтывают, а скорее уж замаливают: на которой они возникают и на которую равняются. Очень редкий случай, когда в эту, немецкую, смерть умирает француз, причем не на манер несчастного расстрелянного Бразийака, а невольно, не зная немецкого, ни даже того, о ком ему предстоит держать речь. («По сути, я читал только Фауста и мартенсовский перевод (1837, превосходный) биологических вещей»[85].) И всё же «Дискурс» великолепен; спустя 17 лет, в связи с еще одним гётевским годом, немец Гессе оценит эту речь как лучшее, что среди потока публикаций было тогда вообще сказано о Гёте; Валери, с его гётевским девизом: «В каждом бесполезном деле, надо стремиться к божественности. Либо за него не браться»[86], занял, собственно, вакансию французского Гёте sui generis; кому–то и на родине Декарта и Вольтера ведь надо же было быть «Гёте», и лучшего кандидата, наверное, нельзя было придумать. Он записывал на французском мысли, некоторые из которых трудно назвать иначе, чем парижским рефлексом веймарского сознания; язык — и это почти невероятный случай во французском — не опережает здесь мысль, чтобы заставлять её служить своим виртуозностям, а отстает от неё ровно настолько, чтобы не дать ей замереть в невыразимом, — к потрясению еще одного бессознательного гётеанца, поэта «Дуинских Элегий» и «Сонетов к Орфею», слишком ломкого, чтобы выдержать Гёте per se, и оттого принимающего его во французском разведении… Но блеск речи о Гёте не заслоняет её нищеты. Еще раз: «он слушает меня, быть может» — КТО «он»? Веймарский небожитель, ставший с 1832 года веймарским домовым? Или всё–таки ЖИВОЙ: не в памяти о нем, мыслях, речах, годовщинах, архивах, а в ЖИЗНИ, — как МИР, не просто мир, а ПОНЯТЫЙ мир; Валери, как никто, увидевший этого «наименее сумасшедшего из людей», увидел его в кадре прожитой жизни, остановленного мгновения, прекрасного и в самой остановленности своей — негётевского. Спору нет: эта речь — самый точный из всех промахов мимо Гёте в сотую годовщину его новой жизни; чего ей недостает, так это сознания, что Гёте («один из самых удачных ходов, которые на игорном столе мира сделала судьба рода человеческого») играет дальше, и что искать его в 1932 году в его остановленном за столетие мгновении, значит культивировать своеобразный академический спиритизм, эвоцируя астральный труп и заново хороня его da capo. Финал речи — с Наполеоном, как персонажем для третьего Фауста, — демонстрирует не столько провал «академика», сколько очередной срыв немецко–французской кармы. Надо помнить: esprit не переводится на немецкий как Geist, скорее, как Witz (острота), что, кстати, в первой половине XVIII века и было узусом 9192; Бодмер, используя вольффовский термин «Witz» прямо добавляет к нему в скобках «esprit», а Мейер говорит о Баттё как об «einen witzigen Franzosen», имея в виду «un homme d'esprit» (сегодня сказали бы: «остряк» или «шутник»). Блеск речи в честь Гёте — отблеск esprit самого Гёте, умевшего при случае быть и «французом»: шармёром, заставлявшим французских гостей чувствовать себя и в Веймаре, как в Париже; её нищета — невосприимчивость к Geist, как действительности смерти. Эта разница фундаментальна. Француз находит себя в savoir vivre, и мыслит, чтобы жить. Для немца мысль идентична смерти (та и другая редуцируют свой объект до сущностного), и мыслит он, чтобы уметь жить и после смерти. Можно проверить степень собственной посвященности внемецкое (которому Мировым Водительством заповедано мыслить) — или как раз отсутствие всякой степени — на вопросе: Что делает Гёте в 1932‑м, или 1941‑м, 1945‑м, 2006‑м году? Не мы с ним, а он с нами! Остался ли он в прошедшем, как филологический скальп, или он идет к нам из будущего, как СУДЬБА? Мы тщетно стали бы искать что–либо вроде этого у Валери. Как никто, приблизившись к порогуГёте, он отпрянул от него в остроты и лакомства родного esprit. Всё это так, и принять это надлежит со всей затаенностью, на какую только способно дыхание. Но если кому–то сказанное покажется, мягко говоря, преувеличенным или вообще надуманным, то пусть он поразмыслит над следующей записью из «Тетрадей», в которой великий француз с ошеломляющей ясностью зафиксировал главный недостаток своей жизни: «Мне недостает немца, который завершил бы мои идеи»[87].
Базель, 8 ноября 1999/10 марта 2006 года
Пушкин
Публикуется впервые.
(Всё началось с неожиданного поражения. Когда я собирался писать эту статью, я поймал себя на мысли, что не могу её начать. Осознание пришло сразу и уже не уходило; была удивительная необходимость написать статью о Пушкине и была вдвойне удивительная невозможность начать её писать. Я настраивался, сосредотачивался, словом, делал всё полагающееся в таких случаях, всё от меня зависящее и… ждал начала. С души срывалось одно слово, одно только имя; я внутренне выговаривал «Пушкин» и моментально погружался в немоту. Так продолжалось много раз, пока я, наконец, не принял решения перехитрить себя и начать с описания этого поражения. По крайней мере (так говорил я себе), удастся сделать первый шаг в расчете на то, что со вторым пойдет дальше.)
Пушкин. Отбросим навыки школьной бойкости и всякую ученость. Это не шутка — произнести это имя и выдержать его последствия. К другим именам мы приходим позже, вооруженные цензом, стажем, возрастом и, стало быть, защищенные, изготовившиеся к неожиданностям, способные дать отпор «чуду» прилежной классификацией его в каталоге усвоенных понятий. Это имя застигает нас врасплох; мы слышим его с детских лет и настолько свыкаемся с ним, что ощущаем его как верх естественности, без малейшего подозрения о том «квадриллионе квадриллионов», который отделит нашу будущую (пошкольную) жизнь от этой естественности. Мы говорим: «Пушкин», как мы говорим: «мир», назначая себе звуками этих слов меру ясности и очевидности, как если бы и в самом деле не было в мире ничего более ясного, чем Пушкин, да и сам мир. Но одно дело — мир, равный детской беззащитности, и совсем другое дело — мир, синонимичный «мировой скорби». Мир, как мера, и мир, как мор. Два мира и, значит, два Пушкина; мы знали первого, и едва ли мы помним его. Знаем ли мы второго? Во всяком случае было бы опрометчиво в нашем недетском отношении к Пушкину рассчитывать на давно пережитый и давно утраченный опыт ясности. Ясность ясности рознь; есть ясность неба, раздающаяся в груди серафическим восторгом, и есть ясность неба, проваливающаяся в черноту и головокружение. Пушкин — и я, по–видимому, уже обеспечиваю себе возможность второго шага — двуясен; тысячу раз погружаешься в эту ясность, тысячу раз не зная, чем она обернется: милостью или провалом.
Только теперь, озираясь на сказанное, понимаешь: оттого и не давалось начало статьи о Пушкине, что непостижимо и неисповедимо само его начало. Кто он? откуда? как? почему? «Великийрусский поэт», «основоположникрусской литературы», но как это мало, как это мимо, когда речь идет о СВЕРСТНИКЕ РОССИИ! Что есть Россия до Пушкина? Самобытнейшая terra, удивляющая чужеземцев многообразными ликами этой самобытности; для одних она — «gente bestiale» (как назвал её один итальянский путешественник XVI века), для других — «третий Рим», для третьих — «какое–то огромное, темное, неразгаданное дитя Провидения» (Карлейль), в итоге же: миф, вещь в себе, гигантская безоконная монада. Петр (воистину «первый») положил конец мифу, умелыми жестами ремесленника вырубив выход из мифа в мир, из постгипнотических реминисценций спесивого византизма в бодрую готовность учиться, где учителями могли оказаться в равной мере голландские пивовары и… Лейбниц. Дело шло не об упразднении национальной самобытности и не о насильственном псевдоморфозе, как это представлялось позднейшим идеологам, от славянофилов до Шпенглера; дело шло как раз о культивации этой самобытности через решительное изменение форм её проявления. Фантастическая жестокость Петра («сия сарынь ничем, кроме жесточи, унята быть не может» — его слово), жестокость, отвечающая всем правилам строгого мифомышления, где через политико–просветительские меры сбривания бород и побоев за неправильное употребление немецких модальных глаголов явственно просвечивала ритуальная практика первобытно–обрядовой магии, была парадоксальным образом нацелена не на уничтожение российской специфики, а на полнокровное и универсальное выявление её; тысячелетняя иконописная несказанность, взлелеянная преизбыточествующей немотой стольких безвестных душ, сказалась–таки сверхчеловеческими усилиями царя–демиурга. Пушкин — первый сказитель–сказочник её; в нем быль российская впервые перерастает масштабы лубочной самозамкнутости и врастает в судьбы мировой литературы; ранг российской духовности отныне котируется не ребусами святоотеческих речений, а ритмами становления самосознания. И при всем том, какие темпы! Рост (в буквально сказочном смысле) исчисляется не днями, а часами; в одном Пушкине уже уравновешиваются столетия европейской культуры; через считанные десятки лет, в Л. Толстом и Вл. Соловьеве, они и перевешиваются: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик» (Гоголь). Катастрофичность петровской реформы, впрочем, определилась не прогоном русского духа сквозь строй западных эталонов, а невероятными темпами выучки и самоопределения, так что вчерашний ученик, насильственно оторванный от вирш и вокабул и под страхом розог осваивающий искусство силлогистики, в кратчайший срок грозился занять кафедру и преподнести остолбеневшему учителю незабываемый урок по курсу «последних вопросов». Учителя неожиданно осилены и обогнаны в учениках: Жозеф де Местр в славянофилах, Баадер и поздний Шеллинг в Соловьеве, не родившийся еще Шпенглер в Данилевском и Константине Леонтьеве. Но обогнанной оказывалась не только Европа; стремительная тройка русской духовности обгоняла прежде всего собственный быт, постылую российскую действительность, и восклицала уже из Европы устами Гоголя: «Италия! Она моя!… Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — всё это мне снилось». Здесь, по–видимому, и коренился источник всех срывов и трагических недоразумений петровского проекта: та самая «загадка русской души», на которой срывали и поныне еще срывают такие баснословные куши бойкие европейские мастера публицистики. Загадка — в чудовищных нарушениях баланса; культурный праксис, как бы и где бы он ни протекал, предполагает не только отдельные подвиги творчества, но и некоторое единство стиля во всех проявлениях нации. Великий поэт или великий зодчий — обязательное условие всякой культуры, но отнюдь не единственное и отнюдь не окончательное. Последнее слово всегда остается за резонансом. Данте мог быть изгнан из Флоренции, но не могли же быть изгнаны вслед за ним и погонщики ослов, распевающие его канцоны; не могли быть изгнаны жители Афин, понимающие Софокла, или жители какого–то ренессансного городка, в чумное время собиравшиеся на площади, чтобы наградить аплодисментами мастера, соорудившего врата крестильной часовни. Русская загадка свелась попросту к отсутствию резонансов либо к вовсе иным (о, до чего иным!) резонансам. Несравненные, душу захватывающие порывы «геттингенских юношей», сплошной жест Икара по всей фаланге передовых душ и — дружное извощичье «тпру!» сзади; в итоге — «Боже, как грустна наша Россия!» или еще:«Чёрт догадал меня родиться в России». Так у Пушкина в миги провала в будущую тональность Гоголя; лейтмотивам этим отныне несть конца. Нужно было, посвящая себя последнему, не упускать из виду предпоследнего; заповедь «не хлебом единым» обращена к имеющим хлеб; оглашать её среди голодных было бы глупостью и глумлением. Отсюда мучительный поиск равновесия, угадываемый едва ли не во всех, даже в наиболее неуравновешенных представителях российской словесности. Лихая раскачка крайностей: от и не снившегося англичанам преклонения перед Шекспиром до в такой же мере не снившегося англичанам лозунга: «Сапоги выше Шекспира». Но поиск отнюдь не всегда приближает к цели; чаще всего он отдаляет от неё. И здесь, наконец, и уже как бы само собой выговаривается имя Пушкина, первенца и жертвы: единственное имя, в котором сквозь бездну гениальности явственно ощущается твердая почва гарантии и надежности.
Пушкин, понятнейший и доступнейший, Пушкин сказок и хрестоматийных строк, до того прозрачный и натуральный, что смогший бы быть первым словом младенца; Пушкин колыбельный, мышечный, наизустный до и без заучивания наизусть, но и Пушкин темный, мудрый, древний, Пушкин–тайновед, обжигающий невыносимым намеком на хаос в самой ясной точке весеннего равноденствия, автор «Пророка» и «Пира во время чумы», словом: Пушкин, равный началу жизни, и Пушкин, равный риску, опережающему жизнь. И между них еще один Пушкин: истонченный рассудочник с припадками безбожного веселья («умнейший человек России»), Пушкин- пересмешник, вольнодумец и легкодум, перенявший зубоскальство Вольтера и стихийную технику Казановы; этот промежуточный (ну да, подставной) Пушкин — отличная мишень, подставленная вольтерьянскому прицелу; автор «Гаврилиады» должен был знать о последствиях подобной просветительски–скабрезной инспирации (во всяком случае это должен был знать в нем автор «Сцен из рыцарских времен»), и Наталья Николаевна Гончарова не могла составить исключения там, где под «правило» подпадали Орлеанская дева и того выше. Не мог составить здесь исключения и сам «промежуточный» Пушкин; именно в него была нацелена пуля случайно подвернувшегося бретёра, словно бы у барьера на Черной речке в то черное утро 8 февраля 1837 года стояла не сама Россия, а всего лишь какой–то очередной «невольник» офранцуженного кодекса чести. «Le diable s'en est mele» (бес попутал) — всё, что мог сказать об этом уже в старости (доживший до старости) убийца. Он действительно не знал, в кого он стрелял, но несомненно одно: стреляя, он стрелял в воплощенное равновесие русской душевности. Выстрел в Пушкина — выстрел в покой горных вершин, в гётевское «Uber allen Gipfeln ist Ruh»; следствие его — начало гигантского обвала вечных снегов (и как же назвать иначе русскую литературу!) Самые чуткие, самые зрячие души — среди них Гоголь есть первый — безошибочно фиксируют масштаб и перспективы потери. «Соотечественники! страшно!» — нет, не пафос лермонтовских строк, не боль и горечь утраты, а этот гоголевский крик и есть доподлинный реквием по Пушкину.«Погодите, скоро под–нимутся снизу такие крики, что закружится голова». И еще: «Если бы я вам рассказал то, что я знаю, вы подумали бы, как убежать из России». Из России, где нет Пушкина, где так не стало Пушкина, и где отныне тайной пружиной всех помыслов и свершений её законнорожденных сынов могло быть только открытое или немое взыскание Пушкина, от неумирающей речи Достоевского до последних блоковских строк:
Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе. Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе.В чем же тайна пушкинского равновесия? Серия ответов–загадок напрашивается сама собой. И прежде всего, по совести: на этот вопрос не может быть ответа. Ответ — молчание, не дотягивающееся до слова. Ответ — в восклицании одного из друзей дома Моцартов по поводу концерта, сочиненного четырехлетним Вольфгангерлем: «Сие было чудом». После такого ответа уже позволительны и другие. Равновесие есть равновесие крайностей; сказать, что у Пушкина нет крайностей, значит сказать неправду; он весь в крайностях («Не дай мне Бог сойти с ума» — один из его лейтмотивов), но крайности эти не предоставлены самим себе, а подчинены нормам ритма и взаимоусмирения. Придется еще раз вернуться к школьному учебнику и на этот раз оправдать сорванные когда–то «пятерки»: Пушкин — глубоко народный поэт, глубже всех до и после него бывших; «народный» не в мыслях о народе, не в поволенном народничестве, а в самонародности (самородок–самонародок). Придется, наконец, осознать всю небывалость этого факта: быть избранником (первым среди равных), душой и телом — душой, ставшей мышцами! — осуществлять идею элиты и… писать для всех. Вот, между прочим, что значит равновесие: писать для всех не в ущерб элите, а в осуществление её. Посмотрите на это вдохновение, не знающее «седьмого дня»; разве оно не равно в нем просто физиологии дыхательного процесса? С каждым вздохом — импульс, с каждым выдохом — бессмертие. Я говорил о крайностях; не нужно особой проницательности, чтобы увидеть в Пушкине самые далеко идущие возможности: как пра–вотургеневскую обсахаренную стилистику, так и лево–гоголевский языковой терроризм. Ему ведомы едва ли не все классически запретные зоны переживаний: «бесовски–сладкое чувство» Гоголя, бодлеровское «le plaisir qui tue», «бездна» романтиков и декадентов (в одной песне Вальсингема из «Пира во время чумы» вся палитра будущих декадентских с-умасхождений). Но — еще раз — он не жертва крайностей, а господин над ними; ни одну из них не воспринимает он всерьез и ни одну в шутку, а вернее сказать, на каждую серьезность есть у него щелчок по лбу, и на каждую шутку леденящая душу серьезность. Он, совместивший в себе от века не совместимое, до того несовместимое, что как–то страшно даже поставить друг возле друга эти имена — Вольтера и Арины Родионовны («два подстрочника вдохновения Пушкина», угаданные Мариной Цветаевой), магически парализует смертоносный цинизм первого голубиной простотой второй и виртуозно приобщает вторую к тяжкой стезе культуры первого. Что перед такой крайностью все раздвоения Достоевского! И что позднейшая декадентская пресыщенность перед этим вот (в одной строке) свидетельством безысходно барского нигилизма:
Мне скучно, бес!Так в адрес века Просвещения, залитого непотребно плоским, во все углы сующимся светом. На него у Пушкина всегда найдется противовес живительной тьмы: до вздрога уютнейший кот Греймелкин, «кот ученый», разделяющий свою ученость не с энциклопедистами, а с детьми.
Пушкин в теме равновесия, воистину «нерукотворный» Пушкин, остается нам разгадкою, быть может, глубочайшей русской разгадкой, данной наперед, до всяческих загадок, разгаданных в ней наперед, до их появления. И, может быть, самой светлой вестью этой разгадки оказывается то, что с неё и ею началась Россия, русский смысл, небывалыми путями несущийся к встрече с собою — в обетованной культуре Самодуха.
И долго будет тем любезен он народу, что пребудет на этих путях — до исполнения сроков — увещеванием против бесов.
Ереван, 1987
(P. S. Эти беглые странички были написаны в 1987 году для пушкинского юбилейного альманаха в Москве и тогда же отклонены каким–то редактором–пушкинистом. Отклонены — тут нет никакого подвоха — не без основания. Подвох оказывался скорее всего в том, что и написаны они были — не без основания. Я хотел довспомниться до Пушкина, воспринятого однажды телом: мышечно, рефлектор но, витально; Пушкина, на которого — прежде всяческих анализов и закрытых чтений — реагируют однажды мурашками по коже, чтобы потом, забыв это, разместить пережитое в диспозитивах словесных неадекватностей; было бы тщетным занятием искать в написанном какой–то «концепции» или «общей мысли» и, не найдя таковых, вернуться к редакторскому вердикту пятнадцатилетней давности. Их нельзя найти, потому что их нет, а нет их, потому что так этого хотел написавший их. Набрасывая эти заметки, я меньше всего думал о словесности, больше всего о том, что до слов, допустив, что до слов могла бы оказаться некая «музыка»; честолюбием замысла было, таким образом, не сказать что–то о Пушкине, а сыграть это, используя слова как клавиши… Основание основанию рознь: можно вполне понять чувства редактора–пушкиниста, которому вместо ожидаемого куска гранита подсунули прустовское печенье «мадлен»; но можно же понять и тех, кому вместо забытого с детства вкуса неизменно суют под нос меню с единственным блюдом: «гранит».)
Базель, 24 мая 2003.
Достоевский и несть ему конца. К 100-летию со дня смерти
Доклад, прочитанный в Ереванской Государственной консерватории 30 марта 1981 года. Опубликован с сокращениями в журнале «Новая Россия» 4/1995
Достоевский — современник. Сейчас, отмечая 100-летнюю годовщину его смерти, мы, как никогда, должны проникнуться этим чувством: он современник. Редким из окружавших его людей был он современником, но нам, во второй половине этого века, знаем ли мы это или нет, хотим ли мы этого или нет, отдаем ли мы себе отчет во всей головокружительности этого или нет, нам он современник — всем, и тем даже, кому никогда не приходилось читать его, — современник, а вовсе не веха истории литературы. Книги его претерпели за это столетие почти мифическую метаморфозу, обстав нас чудовищными событиями; переплет его творений обернулся нынче переплетом событий души и быта. Кто есть Достоевский? о чем он? к чему? — вот вопросы, тяжесть которых придавливает сердца и умы всех тех, у кого есть сердце и есть ум. Рассказ о Достоевском начинается с его литературного дебюта, а дебют начинается с бреда, достойного его же пера. 24-летнего автора «Бедных людей» открыл не кто иной, как Белинский. «Вот от этой самой рукописи, которую вы видите, не могу оторваться второй день, — вспоминает захватывающую речь Белинского Анненков. — Это роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров, которые на Руси до него и не снились никому». — «Давайте мне Достоевского! — кричит тогда же Белинский Некрасову, — приведите, приведите его скорее!»
Тридцать лет спустя свою первую встречу с Белинским вспоминал сам Достоевский. «Да вы понимаете ли сами–то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая, по своему обыкновению, — что это вы такое написали?… Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили вы сами–то эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уже это понимали».
Экстаз «первого русского критика» и литературного законодателя вкусов не мог сойти бесследно. Уже через несколько дней новоявленный гений становится притчей во языцех литературного Петербурга. Вот некоторые выписки из писем Достоевского к брату, датированных тем счастливым временем; выписки эти интересны не только с историко–литературной точки зрения, но и с точки зрения характерологии: «Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство на счет меня страшное. […] Все меня принимают, как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский что–то сказал, Достоевский то–то хочет делать. Белинский любит меня, как нельзя более. […] Откровенно тебе скажу, что я теперь почти упоен собственной славой своей». И здесь же настоящие перлы этого упоения: «Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. […] Эти господа уж и не знают, как любить меня: влюблены в меня все до одного». — «Эх, — восклицает он, — самолюбие мое расхлесталось! У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие», — он прав: неограниченное самолюбие и честолюбие граничат здесь с невменяемостью. — «Мой роман произвел фурор». — «Я чрезвычайно доволен романом моим, не нарадуюсь».
— «Гоголь […] не так глубок, как я». — «Первенство остается за мною покамест, и надеюсь, что навсегда».
После всех этих свидетельств неуемного провинциального чванства, открывающих нам некоторые из безблагодатных сторон душевного мира будущего каторжника и страстотерпца, вовсе не удивителен второй — на внешний взгляд представляющийся неожиданным — акт описываемого водевиля литературного выхода в свет. Не удивителен, но… страшен. Нам сегодня страшно подумать, как мог этот будущий провидец наиболее запутанных и чудовищных душевных закоулков, этот безошибочный диагностик неслыханных болезней души, как мог, повторяю, этот палеонтолог страстей человеческих, сердцевед, которого Фридрих Ницше назвал «единственным психологом, у которого я мог кое–чему научиться», попасть в такую нелепейшую ситуацию, попасться на такую нелепейшую удочку, с такой беспозвоночностью клюнуть на червяка славы и восторга, когда и последнему «прагматику» ясны последствия и изнанка этого восторга? И вот: вчерашние поклонники и почитатели оборачиваются пересмешниками. Я повторяю в бессилии как–нибудь постичь этот очевидный факт: как мог он не учесть, проморгать закон рокировок сознания и подсознания? Здесь и начинается бред, клубок гадостей в стиле тех, которые сам он впоследствии с таким омерзительным смаком живописал в омерзительном рассказе своем «Бобок». Тургенев — «красавец, аристократ и богач» (по первоначальному впечатлению Достоевского) — Тургенев, «мастер на эпиграмму» (по характеристике близко знавших его современников; Анненкова, Григоровича), — берется проучить этого «юного прыща», слишком далеко зашедшего в своем захолустном самомнении. Надо лишь пристальнее вглядеться, вчитаться в слог сочинений этого «аристократа», о котором с необыкновенной адекватностью отозвался впоследствии Толстой в словах: «Я ненавижу его демократические ляжки», надо, говорю я, основательнее вглядеться в самый стиль тургеневских пленэров, чтобы представить себе, как мог измываться он над «юным прыщом» (его слова) Достоевским. Вот эпизод: Тургенев в присутствии Достоевского, но обращаясь не к нему, рассказывал о каком–то ничтожнейшем человеке, возомнившем себя гением и оказавшемся шутом; Достоевский трясся, бледнел и выбегал из комнаты, не дослушав. «Аристократу и богачу» составил компанию Некрасов, и «юный прыщ» становится теперь «курносым гением». Сохранились стишки о Достоевском, написанные совместно этими вчерашними хвалителями автора «Бедных людей»:
Хоть ты новый литератор, Но в восторг ты всех поверг: Тебя знает император, Уважает Лейхтенберг.Вот еще живой снимок: Достоевский, бледный и дрожащий, выбегает из кабинета Некрасова и от волнения не может попасть в рукав пальто, которое подал ему лакей. Наконец он вырывает пальто и выбегает с ним, так и не надев его. И другой случай: жуткий. Представленный однажды какой–то великосветской барыне, расточавшей ему комплименты, Достоевский вдруг побледнел, зашатался и упал в обморок (уже начиналась падучая). Его вынесли в соседнюю комнату, облили одеколоном, привели в чувство, после чего он постыдно бежал. Но и здесь его настигли вирши Тургенева—Некрасова:
…когда на раут светский, Перед сонмище князей, Ставши мифом и вопросом, Пал чухонскою звездой И моргнул курносым носом Перед русой красотой, — Как трагически–недвижно Ты смотрел на сей предмет И чуть–чуть скоропостижно Не погиб во цвете лет.Надо обратить внимание: гуманист и «певец горя народного» Некрасов вышучивает обморок, падучую. Следовало бы для баланса печатать этот стишок в школьных хрестоматиях, скажем, после «Железной дороги». Но даже Белинский, зачинщик бреда, радикально меняет свое отношение. Вот его слова: «Повесть „Хозяйка“ — ерунда страшная!… Каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о „Бедных людях“. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским–гением!… Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате».
Сказал Шер—Хан и затявкал Табаки. Иван Иванович Панаев, автор злобного пасквиля на Достоевского: «Кумирчик наш стал совсем заговариваться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт. […] Бедный! Мы погубили его, мы сделали его смешным!»
Так усилиями «первого русского критика» и его «верных Личард» был выхвачен из мрака неизвестности, освещен самыми яркими прожекторами восторга и вычеркнут из русской литературы тот, на которого станут впоследствии равнять саму эту литературу. Достоевский, спустя годы, отквитался за пережитый бред. Тургенева он улалакал в «Бесах», а «неистового Виссариона» назвал «самым тупым и смрадным явлением русской жизни». Дело вовсе не в самом факте случившегося; ошибиться мог любой критик. Дело в размерах этого факта, в его патологическом колорите, прямо–таки тропически–оранжерейной раскраске, на которую всегда в пределах цивилизованного изумления глядели (и поглядят еще!) европейцы. Где, спрашивается, могло случиться такое? В Англии, отвергнувшей своего Байрона, во Франции, травящей своих импрессионистов, в Германии, глухой к своему Рихарду Вагнеру, в Норвегии, советующей высечь своего Ибсена розгами, — да, казусы, курьезы, безобразие, жестокость, но казусы без ужимок, но жестокость без «хихиков», без «фиги в нос», без бреда, без «достоевщины». Деловитая Европа, чьим отличительным признаком, по формулировке Макса Вебера, было рациональное жизненное поведение на основе идеи профессионального призвания, привыкла решать подобные проблемы аналитически трезво и, так сказать, more geometrico; художнику здесь прямо указывалось на дверь; в многовековой одиссее европейских литературных изгнанничеств, от Данте до Виктора Гюго, разыгрывается трагически–разнообразный карнавал масок — любых, кроме одной: типично русской, сначала, у Гоголя, малороссийской, а потом, с Достоевским, всероссийской: хари. Я не обеляю европейских мерзостей — и Европа могла устами Вольтера называть Шекспира «дурачком», а устами герцога Йоркского плевать в лицо Мильтону, — я лишь констатирую факт: на европейских мерзостях при всем их разнообразии почила классицистическая печать трех единств — времени, места и действия; ограничительные санкции «Поэтики» Буало и грамматики Пор—Рояля оказались действенными и здесь. Известен факт: Расин, испрашивающий у Буало позволения заменить в такой–то строке слово «горестный» словом «злосчастный» и позволения не получающий. Теперь представьте себе отказ Буало, сопровождаемый… фигой в нос. Или — представьте себе Расина, вцепившегося зубами в ухо почтенного теоретика, совсем как тот небезызвестный двойник шекспировского «принца Гарри» из русского городка Скотопригоньевска. Вы, конечно, знаете дидактическую притчу о «чуть–чуть», с которого начинается искусство. Ну, так вот с этого «чуть–чуть» и начинается Россия. Без этого «чуть–чуть», ну, чем не Европа она: пылкие «русские мальчики», заслушивающиеся в Мюнхене Шеллингом и штудирующие в кружках Гегеля, прекрасные «геттингенские души», исполненные романтики, старинного французского вежества и лучших выблесков европейской духовности; разве не таков, ну, скажем, «Мишель» (Бакунин) — за вычетом этого вот «чуть–чуть»! ну, чем же уступает он лучшим юношам Европы: Китсу, Шелли, Клейсту, Альфреду де Мюссе?
«— Сударыня, — не слушал капитан, — я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя, — почему это? Я, поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лохани, почему, почему? Сударыня! По–моему, Россия есть игра природы, не более!
— Вы решительно ничего не можете сказать определеннее?
— Я могу вам прочесть пиесу „Таракан“, сударыня!
— Что–о–о?
— Сударыня, я еще не помешан! Я буду помешан, буду, наверно, но я еще не помешан! Сударыня, один мой приятель — бла–го–роднейшее лицо — написал одну басню Крылова, под названием „Таракан“, — могу ли прочесть её? […]
Жил на свете таракан, Таракан от детства, И потом попал в стакан, Полный мухоедства…»Странный факт, но, вслушиваясь в бред описанного выше литературного дебюта Достоевского, не можешь отделаться от впечатления, что читаешь какой–то из его романов. Он и сам был героем своих романов, прежде чем стать их автором.
* * *
Есть слово, которым, как ключом, открываешь себе доступ к творениям Достоевского. Это слово страсть. Он весь вздернут на дыбы страсти, но страсти не в обычном, а в совсем не обычном смысле слова: эта страсть — страсть идей. Никто до Достоевского — по крайней мере, в словесности — не изображал такой чудовищной страсти к идеям. Герои его, все до одного, влюблены в идеи, убивают и убиваются из–за идей, бредят идеями; какие–то Вертеры платонизма, или, иначе: платонизм средствами французских романов, от Шодерло де Лакло до Мопассана. Философ снисходительно пожмет плечами, зная, что язык, на котором традиционно общаются с идеями, есть язык бесстрастия, и что страстями идеи можно лишь отпугнуть. Достоевскому посчастливилось: с традицией этой он знаком не был, и вообще писал о себе: «Шваховат я в философии». В какой философии? Десятилетиями вынашивала осторожная душа Иммануила Канта таможенные запреты на мир идей; посмотрите, с какой осмотрительностью и основательностью заколачивает Кант вход в область идей гвоздями чистого рассудка; ахнули философы и ученые перед этой заколоченностью; седьмой дверью Синей Бороды стало им царство идей, ну, а если и находился среди них смельчак, вроде Шеллинга, нарушающий запрет, то дружным кланом обрушивались они на него, вписывая его имя в проскрипционные списки догматики или мистики. Так вот, у Достоевского нарушение этого запрета становится жизненным делом и призванием всех его героев. Какое там Шеллинг! Самый последний российский пьянчужка и оборванец расколачивает здесь «Критику чистого разума»; неверной и небрежной походкой приближается он к седьмой этой двери, не обращая внимания на предупредительные немецкие знаки, и тянет ту дверь и так и этак, и, вконец, отчаявшись от попытки отворить её подобающим способом, с разбегу вышибает её лбом, да так, что искры сыплются из глаз, и оттого первое знакомство его с миром идей полно всяческих аберраций — косоглазо вперяется он в «умное место» Платона, и мерещится ему поначалу вместо идей чёрт знает что. Но одно он усваивает твердо и непреложно: «Если Бога нет, то какой же я после этого капитан?» — чем же это онтологическое доказательство уступает аналогичным доказательствам у Ансельма или Декарта. Но Ансельм и Декарт, те
— «доктора», кончали университеты и не были пьяницами; впрочем, это различие вряд ли обеспокоило бы бурбона–капитана, по следующей логике: если я капитан, то, стало быть, Бог есть, а если есть Бог, то перед Ним все равны.
Жуткая разрушительная страсть! Редкий философ выдержал бы её напор. Философу пристало усваивать идеи в кабинете и оглашать их с кафедры; но вообразите себе: рухнул мир платоновских идей с серых философских небес; идеи разорвали переплеты книг и разбежались по свету; где их здесь только не встретишь: в каморках, в меблированных нумерах, в полицейских участках, в вонючих трактирах за рюмкой водки и под звуки «Уймитесь волнения страсти» — какое там! уже не уймутся: никогда, нигде, ни за что! Обратите внимание на одну особенность романов Достоевского: с какой легкостью сводятся в них знакомства, и с какой легкостью понимают друг друга его герои, хотя бы при этом и были они аристократами, плебеями, мещанами, купцами, подростками, кем еще! А между тем, разговоры не из легких; иному образованному философу понадобились бы усилия, чтобы хоть что- то понять в сложнейшей орнаментовке этих разговоров, которые любой из героев Достоевского понимает тотчас же, с полуслова. Я снова должен подчеркнуть этот удивительный факт: миру Достоевского чужд и неведом феномен непонимания, и это, наверное, единственное, от чего герои его не страдают. Не оттого ли, что все они словно бы начинены идеями, заражены и заряжены ими, ужалены, наконец, и вот от этой самой ужаленности и мечутся, ополоумевшие, в поисках друг друга, а, находя, отбрасывают всякие формальности, немедленно заговаривая о главном: на улице, в трактирах, на поминках, где попало. Очень странный мир. Замечали ли вы, что идейная маниакальность, одержимость на почве идей присуща не только мужским героям Достоевского, но и женским? Присуща до того, что слово страсть, полностью теряет здесь, наконец, свое расхожее, французское, значение, прокаляясь и очищаясь до исконнейшего смысла своего: страдания. Ни одному мужчине у Достоевского и в голову не приходит, даже когда он остается наедине с женщиной, мысль о том, что она женщина, ну а он, в конце концов, «мужчина». Вы скажете: а Рогожин? а Дмитрий Карамазов? Мираж, сон, иллюзия — их чисто «мужские» страсти. Как! но ведь сходят с ума, взрываются в потугах животного вожделения! Остается спросить: и это называете вы животным вожделением? Подумаем: с кем из страстных любовников и любовниц мировой литературы позволительно было бы сравнить «мужчин» и «женщин» Достоевского? И что спасает их от комизма, когда, сходясь в уединенных местечках, они исступленно изживают свою страсть в… разговорах, пресуществляя эти самые «местечки», где незадолго до того «побывали», быть может, Вронский с Карениной Анной или Эмма Бовари с городским своим обольстителем, в места умные и осмысленные… Я знаю, вы можете возразить на это другими примерами: Свидригайлова или, скажем, Карамазова–отца. Но во–первых, не на их плечи взвалено идейное бремя мира Достоевского; они суть контуры, тени, двойники, необходимый фон, на котором и разыгрывается действие. И во–вторых, по существу: я и здесь не осязаю плоти. Омерзительные сюсюканья старшего Карамазова о «мовешках» и «вьельфильках» всё еще слова; эрос у Достоевского подернут странной двоящейся дымкой призрачности и фантастичности; если он реален, то не реальнее города Петербурга, который, как известно, самый фантастический город в мире: таким видел его Достоевский. Даже эпизод с девочкой из исповеди Ставрогина транспарирует этой призрачностью; реальный случай? да, но реальность та маревная, сновидческая; мы знаем, что она есть, но мы её не ощущаем; как ребенок глотает горькое лекарство в обсахаренных капсулах, так и нам преподносит Достоевский редчайшие случаи обычной эротики своих героев в фокусе призрачности и неосязаемости. Вот Сонечка Мармеладова, Грушенька, Настасья Филипповна — род их деятельности слишком даже подчеркнуто дан в фабуле повествования, и тем не менее, они не воспринимаются таковыми; читатель, зная с самого начала кто они (в призме французских романов), относится к ним и воспринимает их совершенно иначе. Нет ощущения плоти, прелестей, и при том же вовсе не бесплотны они, но то иная плоть — мне трудно выговорить сейчас, какая именно, но за точность восприятия я ручаюсь. Отчего это так? Откуда этот парадокс? Вы припомните пушкинское стихотворение «Бедный рыцарь» (Аглая читает его князю Мышкину); там есть строки:
Он имел одно виденье, Непостижное уму.Так вот: это же «виденье» имели и герои Достоевского; и они выбивали запретную «седьмую дверь», замирая перед открывшимся «виденьем» в неописуемом восторге «минут вечной гармонии», после чего грузно и неуклюже грохались с пеной у рта и высунутыми языками в припадках падучей: мрак, тупость и идиотизм оказывались изнанкой непостижного уму виденья. Но даже во мраке несли они в себе память об увиденном; ну, и как же было им, неся эту память, оставаться «мужчинами» и «женщинами» на манер героев и героинь Мопассана! Им не до плотских утех; им нужно сейчас же, сию же минуту решать вековечные вопросы; всё буйство неизжитой плоти, весь заряд нерастраченной похоти, повторяю, переключается ими на идеи, после чего разыгрываются такие страсти, перед которыми испаряется всякий академизм. Достоевский не философ; он слишком жив для этого; говоря не без крупицы соли, можно было бы повторить о нем фразу графа Делянова, министра просвещения, о Владимире Соловьеве. Министр отклонил предложение назначить Соловьева профессором, а отказ мотивировал словами: «Он человек с идеями». Что означало: с идеями ему бы не в профессора, а в романы Достоевского!
У этой страсти есть одна отличительная черта, делающая её невыносимой. Она прогрессирует к безумию. Достоевский — величайший мастер диссонансов; возможно, фонды мировых безобразий значительно пополнились после него; беспредельна его изобретательность по части душевной инквизиции; героев его не устрашишь загробными муками, потому что все они, как один, знают, что «хуже не будет». Откройте «Бесы». Голова идет кругом от этих адских выдумок; автор не дает передохнуть, опомниться; уродство лезет на уродство; в каких математических знаках можно было бы изобразить степень этих уродств! Сплошные диссонансы, геометрическая прогрессия диссонансов, на которые нет и не может быть консонансов; вселенная сошла здесь с ума; вот с этой вот черты. До черты — иной мир, и его знает Достоевский, и чего бы только не отдал он за право, ну, хоть минутной передышки в мире том, мире Шиллера и прекрасных «геттингенских душ»! Но нет пути обратно. «Геттинген» — мечта, сон, неумирающая иллюзия прошлого; закроешь глаза, зажмуришься до боли, до красочных вспыхов, и вспыхнет на сновиденное мгновение ясное–ясное небо над аккуратными черепичками старинных немецких домишек с вырезывающимся на тихом фоне шпицем старинного собора, и проплещет в ушах миротворящая немецкая речь, и уютнейшие старушки в чепчиках и с корзиночками фиалок и незабудок ласково протянут букетик, и тут же кучка студентов, покатывающихся со смеху над какой–то озорной проделкой товарища; вдруг они замрут и почтительнейше склонят головы перед проходящим мимо герр профессором; прошепчешь неслышно «Геттинген», и сдавит горло, и полоснет по горлу брамсовский виолончельный мед:
Годами когда–нибудь в зале концертной Мне Брамса сыграют, — тоской изойду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, Прогулки, купанье и клумбу в саду, Художницы робкой, как сон, крутолобость, С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, Улыбкой, огромной и светлой, как глобус, Художницы облик, улыбку и лоб. Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся. Я вспомню покупку припасов и круп, Ступеньки террасы и комнат убранство, И брата, и сына, и клумбу, и дуб. Художница пачкала красками травы, Роняла палитру, совала в халат Набор рисовальный и пачки отравы, Что басмой зовутся и астму сулят. Мне Брамса сыграют, я сдамся, я вспомню Упрямую заросль и кровлю и вход, Балкон полутемный и комнат питомник, Улыбку и облик и брови и рот. И сразу же буду слезами увлажнен И вымокну раньше, чем выплачусь я. Горючая давность ударит из скважин, Околицы, лица, друзья и семья. И станут кружком на лужке интермеццо, Руками, как дерево, песнь охватив, Как тени, вертеться четыре семейства Под чистый, как детство, немецкий мотив.Так, с закрытыми глазами. Но зажмуренность равна мгновению. Миг, сказочно подмигивающий уютнейшим Оле—Лук-Ойе, но открываешь глаза и…
«Я хочу изругать… — пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. — Я хочу изругать.
— Подпишите: Vive la republique, и довольно.
— Браво! — почти заревел от восторга Кириллов. — Vive la republique democratique, sociale et universelle ou la mort!… Нет, нет, не так. — Liberte, egalite, fraternite ou la mort! Вот это лучше, это лучше, — написал он с наслаждением под подписью своего имени.
— Довольно, довольно, — всё повторял Петр Степанович.
— Стой, еще немножко… Я, знаешь, подпишу еще раз по–французски: „de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde“. Ха–ха–ха! — залился он хохотом. — Нет, нет, нет, стой, нашел всего лучше, эврика: gentilhommeseminariste russe et citoyen du monde civilise! — вот что лучше всяких… — вскочил он с дивана и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил за собою дверь».
Да, это уже не Геттинген; такое в Геттингене невозможно. Это иной, параллельный, мир. Если назвать автора творцом и богом этого мира, то надо будет признаться, что это неслыханно жестокий бог: бог–экспериментатор, выводящий новые душевные вирусы, но, как и всякий бог, экспериментирующий на себе. Я говорил о диссонансах; невыносимы его диссонансы; еще невыносимее их протяженность; десятки, сотни страниц, кишащих абсурдом и бредом — да что же это такое? это новый опыт души, отвечает нам автор, души, исчерпавшей свои «геттингенские» возможности и замершей на пороге… Но я забегаю вперед; об этом я буду еще говорить. Возвращаясь к теме «диссонансов», скажу еще: я не знаю писателя более не музыкального, более чуждого музыке, чем Достоевский. Для проверки могу предложить сравнение. Рассказывают, что однажды сыновьям Баха вздумалось подтрунить над отцом. Услышав, что он спит в соседней комнате, и удостоверившись в том, что сон достаточно глубок, они подошли к клавесину, тихо наиграли на нем какой–то отрывок и оставили его неразрешенным. Из укрытия увидели они затем, как открылась дверь и появился заспанный отец. Он подошел к инструменту, немедленно разрешил диссонанс и так же бесшумно удалился снова в комнату продолжить нарушенный сон. Так вот: случай Достоевского не просто иной, а активно иной. То есть, я хочу сказать, что Достоевский проснулся бы, чтобы превратить консонансы в диссонансы. Такова его идиосинкразия; он ненавидит«хрустальные дворцы», вкладывая в уста одного из Карамазовых пылкое неприятие мира, решительный отказ от участия в мировой гармонии, если в её фундаменте покоится хотя бы одна слезинка замученного ребенка. К чему бы ни прикасался он, всё рушится в прежнем смысле. За каждым новым шагом его обсыпается и проваливается путь; словно бы он говорит нам: «Это называете вы душою — прекрасным, ценным, нравственным в душе? Так глядите же…» — и из вчерашних устоев души выползают уродцы кисти Босха: сладострастные насекомые (припомните бред Ипполита в «Идиоте»). Мы же цепляемся за соломинки в этом потоке безумнейших метаморфоз; страшно, почти непосильно отказаться от всего, что еще вчера составляло самое основу жизни. «Пусть так, — отвечаем мы ему, — пусть всё это в нас, съевших яблоко; но дети, дети… Уж не посмеете ли вы посягнуть и на детей; в какое страшное противоречие впали бы вы тогда с самим собою, если верить в искренность ваших же слов о безвинно мучающихся деточках!» И тогда повеет на нас от него ледяною ставрогинской бездною; да, и на детей посягает он, как никто до него; вот заскрежещет зубами и извратит детей в «Сне смешного человека», или явит нам больного ребеночка, снедаемого желанием кушать ананасный компот при виде мучений другого ребенка; тут мы припомним, что и турки, по его же словам, спускающие курок прямо в лицо младенца, весело ухватывающегося ручонками за дуло, тоже любят сладкое, да, мы припомним это и испытаем головокружение от невозможности осилить такое, и вскрикнем, быть может, невольно и безотчетно (тут и неверующий вскрикнет): «А вечность?!» — Он усмехнется и подсунет нам вместо наших балаганных представлений о вечности вечность в образе «бани с пауками». Я неслучайно отметил, что тут и неверующий возопит о вечности. «Мерзавцы, — читаем мы у Достоевского, — дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. […] Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое перешел я». Это вам не плоско–механистическое неверие просветителей, не канто–лапласовская клоунада научных опровержений идеи Творца мира, — это бездна неверия, искушенного во всех тонкостях «бунта», нигилизм такой силы, которая и не снилась барону Гольбаху и от которой, доведись ему испытать её хоть раз, он прекратил бы свои атеистические чистописания и, сломя голову, бросился бы в ближайшую церковь, вцепясь клешнями души в обрывок пресной проповеди какого–нибудь лютеранского священника. Ибо нешуточное дело: выдержать шигалевщину. Последней черты неверия коснулся Достоевский и подвел нас к этой черте. Назад уже нет пути, как нет его и дальше. Но путь появляется, если идти дальше; не путь, на котором мы делаем шаги, а шаги, с которыми только и возникает сам путь.
* * *
Много писали и пишут о технике письма Достоевского; замечу: техника эта как бы впаяна в мировоззрительную ткань романов его; причуды содержания доподлинно имитируются в превратностях стиля и слога, и оттого Достоевский труднейший писатель для глаза, привыкшего к однотонной художественной форме. Пестрота и многосложность стилей в нем вызывает порой раздражение; читателя смущают внешне кажущиеся немотивированными скачки вкуса: от бойко–газетного слога к театральным выспренностям, от пошлой болтовни к нестерпимым красотам, от техники полицейского романа к высокому ужасу античной трагедии. Достоевский–стилист — явление не менее загадочное, чем Достоевский–мировоззритель, и потому именно, что стиль здесь функция от мировоззрения. Ничем не брезгует он в слоге и стиле своем; перед читателем проходит уникальнейшая галерея писательских масок: Достоевский–романтик, Достоевский–сострадатель, Достоевский–циник, Достоевский–маразматик — бывает, перевертываешь страницу за страницей, и не видишь ничего, кроме сплошных «фиг»; омерзением несет со страниц, да таким омерзением, что хочется зажать нос, и вдруг, на следующей странице, замираешь от потрясения: глаза, привыкшие к «харе», зрят «лик»; дивная, нерукотворная, почти евангельская красота пронизывает душу; не успеешь опомниться, как снова «фига» и «зловоние», и так до конца. Вообразите себе контрапункт двух голосов, из которых один баховская ария, ну, а другой — цыганский романс; я подчеркиваю: именно контрапункт, то есть, полифоническая одновременность вещей (в данном случае) несовместимых. Что такое стиль? Он зависимая переменная смысла, плоть смысла, и если мы говорим о диссонансах идейного содержания, то мы, по сути, лишь имеем в виду содержание, самый вид которого дан нам в преломлении композиционно–стилевых особенностей. Иначе говоря, стиль — мимиограф смысла, его идеограмма. Стилистический спецификум Достоевского таков, что значимость его не поддается однозначным оценкам. В некотором роде, Достоевский, как стилист, явление отвратительное. Таким его чувствовал, например, Бунин, и это можно понять, как можно понять, что и для Достоевского русский писатель и нобелевский лауреат Бунин был бы не больше, чем более или менее удачным клоном с Тургенева, больше озабоченным проблемами своего климакса, чем апокалиптическим временем, в котором ему сподобилось жить. Одно очевидно: вкус, настоянный на классике, испытывает нечто вроде эстетического шока при соприкосновении с формой стиля Достоевского. Таковым, беря музыкальную аналогию, было отношение современников к Вагнеру и Брукнеру; не случайно, что наиболее рьяный гонитель этих композиторов, умнейший критик Ганслик, был воспитан на классической традиции; питательнейшее моцартовское молоко тотчас же скисало в нем при малейшем контакте с формой композиции у Вагнера или Брукнера. Аналогия эта видится мне более существенной; я предчувствую какую–то связь, некое коррелятивное единство между формой у Достоевского и формой у Брукнера; во всяком случае, читая монументальный труд о Брукнере Эрнста Курта, я не мог отделаться от впечатления, что, будь Курт литературоведом и пиши он о Достоевском, он написал бы нечто подобное. Говорили о недостатках формы Достоевского: неряшливости слога, растянутости композиции и т. п. Еще раз: с известной точки зрения, толки эти не лишены оснований. Достоевский должен выглядеть этаким монстром в призме отточенной новеллистики Бунина или, скажем, Мопассана. Известно, как он писал романы. Всегда впопыхах, в денежном и издательском цейтноте: набрасывался на работу и уплетал её громадными кусками, часто не пережевывая их. Обратить внимание на эту сторону дела, значит не видеть ничего, кроме неряшливости и прочих недостатков; Флобера, неделями мучающегося над каким–нибудь ассонансом или эпитетом, хватил бы столбняк от такого отношения к письму; но дело не ограничивается этою одною стороною, и если оценивать стиль Достоевского не ювелирными мерками, а в ином ракурсе, то отвратительный стилист, приводящий в бешенство брезгливого академика Бунина, окажется стилистом ослепительным и несравненным (сравнимым разве что с музыкантом Брукнером и живописцем Босхом). Композиционная стилистика романов Достоевского: он всегда начинает крупными, размашистыми, кажущимися небрежными мазками; восприятие читателя повержено поначалу в некий хаос содержания; читатель теряется в многословности, как бы растрачиваемой впустую, на, казалось бы, ничтожные и второстепенные детали; таковы начальные несколько десятков страниц у Достоевского: периферия без сколько–нибудь ощутимого центра — вот выюркнуло какое–то лицо, потом другое и другие: бессвязно, неинтересно, утомительно — словно присутствуешь при выделке безвкусной ткани: некий ткацкий станок, беспрокоткущий лица, события, фактики ничтожной значимости — что дальше? Читатель, скользя по внешнему бесцветию ткани–текста, подавляет в себе ростки нарастающей скуки; он видит станок и беспрокость работы; чего он не видит, так это напряженнейших расчетов и воли творца, терпеливо выжидающего исполнения сроков. И когда сроки исполняются, мигом меняется горизонт восприятий; миг, и утомительная периферия ничтожнейшего и нелепейшего многословия спрессовывается в чудовищно напряженное магнитное поле, от которого отныне не оторвать расширенных читательских зрачков; всё, что казалось хаотичным, случайным, второстепенным, разбросанным по краям, вдруг начинает пульсировать смыслом; ткацкий станок оказывается прялкой судьбы, а бесцветие ткани — ослепительными выблесками трагизма. Композиционную технику Достоевского мог бы я сформулировать в терминах расширения и нарастания. Сначала он растягивает фабулу до пределов читательского терпения, до грани, за которой начинается деформация всякого смысла, и вот на этой- то грани, имея перед собой максимум места действия, начинает он углублять и интенсифицировать детали, беспорядочно разбросанные тут и там, так что каждая деталь напрягается до центра и сопрягается с прочими; нет единого классического центра в мире Достоевского; мир этот — мир ритмического многоцентрия; некий орган, чьи меха надуваются всячиной многословия и фактов, надуваются до… ощущения надувательства, которое в чуде игры органиста пресуществляется в «громовой вопль восторга серафимов» (выражение Достоевского). Или еще сравнение: вы знаете картинки в занимательных книжках; некая абракадабра штрихов и пятен — глядишь, и рябит в глазах, но, вглядываясь дольше и пристальнее, видишь вдруг в хаосе запутаннейших линий — лик. Такие вот штрихи и пятна — страницы гигантских циклопических романов Достоевского; фабула их по сложности, запутанности, головокружительной многопластовости не имеет себе равных; всё в ней двоится, мерещится, вспыхивает наваждениями; она сама — фантастична и призрачна до впечатления отсутствия её; но в ней нет ни одного лишнего штриха; гигантские рукописи, взвешиваемые пудами, предисчислены с математической точностью; Достоевский–стилист — инженер, управляющий своими сооружениями сверху вниз, в перспективе целого. Не до ассонансов и выделки фраз было ему; он, по изумительному выражению Андрея Белого, не выписывал текст, а «пёк» — главами; чудовищная гипертония идей съедает его, как съедает же она и героев его; в этом ракурсе он идентичен своим творениям, и себя обрекает на смерть он; но он и творец — не ученик чародея, а сам чародей; он — сумма всех героев своих, доведших его до «падучей», плюс демиург, мастер (с дипломом «инженера»), но и мастер в нем имеет Мастера над собою: «Мейстера Иисуса», оправдывающего все бунтарства героев его и дающего бунтарствам этим будущность в мистерии сворота времен: Он… тронулся к Иордани.
Проблема стиля Достоевского существенным образом вписана в его «идеологию», и оттого — тщетны все попытки структуралистского её разрешения. Структуры, как таковой, не существует; структура, как таковая, всегда структура «чегото»; без этого «что–то» разговоры о ней пустая болтовня. Переходя теперь к наблюдению этого «что–то», будем помнить: структура романов Достоевского — сплошная рана, кровоточащая идеями; Достоевский мог бы сказать о себе словами Брукнера: «Я сделал композицию делом жизни, а это тоже большая нагрузка для нервов». И — ни слова больше: просто «большая нагрузка»; не нам судить о степени этой нагрузки; и «структуралисты» пройдут свой квадриллион квадриллионов километров в сгущаемой структурной тьме, чтобы на каком–то отрезке пути ощутить вдруг всю невыносимость этой столь бесхитростно засвидетельствованной нагрузки.
* * *
Вопрос, который я собираюсь представить вашему вниманию, может показаться странным в силу своей непривычности, и тем не менее это вполне естественный, с философской точки зрения даже несколько тривиальный вопрос, именно: «Как возможен Достоевский?»
Аналогичный вопрос был, как известно, поставлен Кантом в «Критике чистого разума»; речь идет у Канта о синтетических априорных суждениях, но в персонифицированной форме вопрос его мог бы гласить: «Как возможен Ньютон?» Иными словами, философа интересует не факт математического естествознания, а логическая возможность его. И вот, ставя вопрос: «Как возможен Достоевский?», я думаю в ответе своем коснуться — летуче, вкратце, ибо время теснит меня, — начал его творчества. Не «философствование о последнем» и не «структура» интересуют меня, а, если угодно, самавозможность такого философствования и такой структуры.
Как возможен Достоевский? Будем исходить из факта единства всех его романов; музыкально выражаясь, некой темы, вариациями которой они и являются; ближайшее рассмотрение открывает нам не одну тему, а ряд тем; контрапункт тем, или параллельных голосов, причудливые модификации которых ставят нас перед небывалой целостностью некоего сооружения; сложность последнего слагается из суммы сложностей отдельных романов плюс то нечто — качество, гештальт, благодаря которому сумма эта перестает быть просто суммой и является нам как целое. Есть разные типы писателей, с различными, так сказать, «господствующими способностями»; об одном писателе мы говорим, что он тяготеет к музыке, о другом, что в нем сильна живопись, третий обнаруживает большую тягу к пластике; так, условно и символически, сигнализируем мы смежными сферами для более внятной квалификации сферы предлежащей. Случай Достоевского и в этом не похож на другие. Он изживает в писательстве профессию, полученную им в Петербургском Военно—Инженерном училище; его романы суть сложнейшие чертежи, каждый в отдельности, а вместе — удесятеренно сложные; но именно вместе их и надо брать, как некий чертеж чертежей, в котором соотношение тем и вариаций дано в подвижности сооружения, так что «нечто», выглядящее темой по отношению к варьирующей его фабульной арабеске, становится в другом ракурсе вариацией по отношению к более высокому «нечто», формально не данному в романе, но просвечивающему его откуда–то свыше, из глубин авторского провидения. Фиксация этого сквозного единства, запечатленного в ряде тем, позволяет нам говорить о творчестве Достоевского в целом; здесь и открываются нам импульсы этого творчества. Одна из таких тем — idee fixe Достоевского — тема раздвоения личности. «Я тысячу раз дивился, — говорит Подросток, — на эту способность человека (и кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и всё совершенно искренно». То же в «Записках из подполья»: «Человек любит созидать и дороги прокладывать. Но отчего же он до страсти любит также разрушение и хаос?» — «Правда ли, — спрашивает Ставрогина Шатов, — что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения? Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою–нибудь сладострастною зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества?» — «Я пробовал везде мою силу, — признается сам Ставрогин в предсмертном письме. — Я всё так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие». Нет сомнения, что эта идея — соприкосновение «идеалаМадонны» с «идеалом содомским» — является движущей пружиной творчества Достоевского. «Раздвоение всю жизнь во мне было», писал он сам в одном из предсмертных писем. Мы не удивимся, если встретим многие мысли его героев в «Дневнике писателя» и письмах, причем часто в буквальном повторении. Не было писателя более предвзятого, более предубежденного, но его предвзятость не парциально–партийна, а опытна; это реальный опыт. Реалистом называл себя Достоевский; как понять это признание? о какой, собственно, реальности может идти речь там, где налицо бредовые фантазии? И отсюда же вырастает второй вопрос: если герои его романов суть проекции или, так сказать, «аватары» авторского Я, если, стало быть, в героях этих позволительно видеть персонифицированный распад авторского Я, то о каком, собственно, Я идет здесь речь? Вспомним еще раз: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога… И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую в Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же чёрт». Обратите внимание на два момента в этом признании. Во–первых, на уровень самосознания. «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было» — я говорил уже и повторю еще раз: перед безднами неверия, открытыми в том же Инквизиторе, завопит и неверующий; поистине, никогда еще Европа не знала такого мощного атеизма (характерно, что то же самое говорит о себе и Фридрих Ницше, младший современник Достоевского). И во–вторых, обратите внимание, что крайность атеизма коррелируется здесь с умоисступленною верою в Христа, и что засвидетельствована нешуточность этой веры цитатой из чёрта. Реализм Достоевского — не тургеневско–бунинский реализм ароматной сигары, выкуриваемой после сытного обеда, а пророческий реализм. Он не отражал в своих героях современных ему людей, он накликивал ими будущих. Современники, не узнавая себя в этом зеркале, отказывались признавать реализм. «Где это видано, чтобы в России были такие люди!» Через два- три десятка лет даже газетные листки повторяли: «Русского человека понять можно только по Достоевскому». Выдумка стала бытом, но выдумка была не бредовой, а пророческой: он выдумал бесов до того, как они пришли; он и писал «Бесы», опережая их появление на свет, наверное, в надежде заклясть их в романе. Пророк — прорицатель рока, или: гностик, как диагностик и прогностик. Это гнозис нисхождения Я в кромешную тьму подсознаний. Мы возвращаемся к вопросу: о каком, собственно, Я идет здесь речь? Представьте себе круг с точкой в центре; если точка символизирует Я, то круг, радиус которого равен бесконечности, есть символ мира бессознания. Я может оставаться точкой и напыщенно мнить себя величиной; цена этому мнению грош, ибо точка величиной быть не может; точка есть точка, то есть, математическая фикция, и фиктивность её не исчезает оттого, что она находится в центре. Такого рода Я Фридрих Ницше на своем неподражаемом языке называл «blauaugig–verlogenes», что буквально означает: «голубоглазо–пролгавшееся». Точка, самоуверенно провозглашающая себетождественность в акте формального утверждения Я=Я, обречена на нечестивый оптимизм в море обстающего её периферийного мрака. Я, если оно исполнено воли к самообретению и не желает оставаться пустой формальной фикцией, должно отказаться от оптимизма центра в акте решительного самоотречения и в расширении себя до объема круга. Это и есть нисхождение Я в глубины бессознания. Вопрос: «Как возможен Достоевский?» получает в свете сказанного прояснение: «Возможен, как процесс погружения Я в бессознательное», или: «Возможен, как центр, расширяющийся до объема».
Процесс погружения — но об этом рассказывают все романы Достоевского. Потрясающий миг, когда Я, переставшее уже быть самим собою (в прежнем смысле) и не ставшее еще самим собою (в смысле новом), распинается тьмой глухих двойников. Кто все они, эти Раскольниковы и Свидригайловы, Мышкины и Рогожины, Ставрогины и Карамазовы? Я говорил уже: сумма их равна эпилепсии их творца. Точка не выдерживает расширения в круг и корчится в припадке падучей. Точка без круга — ничто, фикция, но не менее ничтожен и круг без точки в центре: это — нуль. Вы представьте себе водолаза, отваживающегося погрузиться на самое дно океана. Что его ждет под водой, он не знает пока, но предчувствует… И вот же: в ясный солнечный день, на веселом и беззаботно шумном пляже XIX века, среди множества передовых и образованных культуртрегеров, патетически резвящихся на водной поверхности, ну да, в этот ясный и не предвещающий ничего дурного день, на всеевропейски–пест–ром пляже, украшенном величественными очертаниями «хрустального дворца», вдруг вскрикивает невнятицей жутких символов какой–то Генрик Ибсен, и проваливается в безумие невыразимости базельский экспрофессор классической филологии Фридрих Ницше, да дико чудит в потугах не меньшей невыразимости странный, неузнанный, знающий Владимир Соловьев, и рокочет уже подземными прозрениями блистательный автор «Войны и мира», и тяжелеет бременем увиденного пристальный взор писателя русского, бывшего каторжника, автора «Записок из Мертвого дома». Резвящимся на глади морской «мерзавцам» предпочли они нелегкое ремесло водолаза; «мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога» — и дальше: «Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога»; это значит: они и не догадываются, что могла бы таить под собой безмятежная водная гладь. Гёте в «Годах странствия» обронил удивительное признание: «О многом, — говорит Гёте, — я молчу, так как не хочу сбивать людей с толку». Достоевский — антипод этого признания. Он с таким же азартом сбивал людей с толку, с каким играл в рулетку, проигрывая последнее… Здесь и коренится источник его диссонансов. Диссонансы — неизбежная и почти инстинктивная реакция Я, тонущего в море бессознания. Один из таких диссонансов — упомянутая мной idee fixe Достоевского: тема соприкосновения «идеала Мадонны» с «идеалом содомским». На неё я и обращаю ваше внимание.
* * *
Расширение точки до круга связано с раздвоением точечного, «голубоглазо–пролгавшегося» Я. До контакта с миром бессознания Я изживает себя половинчато и альтернативно; оно мнит себя добрым илизлым; во всяком случае альтернативой добра или зла определяется вся его жизнь; символически выражаясь, эта жизнь стоит под знаком выбора между высшим и низшим, между служением небесному и служением земному. Что есть зло, и что есть добро? эти вопросы здесь и не возникают, за ненадобностью. Первый симптом расширения сигнализируется вопросом: «Действительно ли ты добр, или доброта твоя лишь следствие твоего бессилия быть злым?» Открывается, что так называемая доброта есть ущербная половинка некой неопознанной цельности, вторая (подводная) половинка которой чревата чёрт знает чем. Во всяком случае, прежняя незыблемость нравственных твердынь раздается трещинами гнозиса самопознания. Я раздвояется; теперь оно уже не способно выбирать между прежними добром и злом. Альтернатива между добром и злом оказывается альтернативой между двумя ущербностями; подумаем: чем обусловлена странная связь между князем Мышкиным и купчиком Рогожиным? Что притягивает их друг к другу в самом начале романа? И что скрепляет их связь? Ничего более противоположного, чем эти два характера, и нельзя себе представить; Достоевский даже не заботится о том, чтобы придать их встрече и взаимному влечению сколько- нибудь «реалистический» фон; внешне встреча стоит под знаком случайности, и странно: с первых же страниц случайность пульсирует в читательском восприятии роковыми предчувствиями. Князь Мышкин… Давнишняя мечта Достоевского создать реально положительного героя; сколько было потрачено критических усилий на то, чтобы вырельефить эту положительность; а между тем, срыв авторского замысла бросается в глаза: полнейшая неудача в осуществлении первоначальной цели и неожиданная удача в ином: в создании иного типа. «Русский Христос» — исконная цель Достоевского — не удался; удался… «Идиот»; это до того очевидно, что стоит только обратить внимание на титульный лист романа, где «положительность» главного героя дана в коррекции своеобразного модуса: «идиотизма», не фигурального, а буквального. Черты святости в Мышкине поддерживаются фоном его идиотизма; святость эта ущербна; Мышкин кажется святым от неумения изживать противоположный святости полюс; его жизнь до романа умещена в пределах швейцарской веранды и неподвижного глазения в плоский дневной свет; что–то порою брезжило князю в этом дне, мучительное какое–то предчувствие стесняло его грудь, и он долго плакал, выплакивая ручьи «невыразимости». Предчувствие оказалось вещим, и с первого же мига российской действительности приняло реальный облик в странной, такой случайной встрече князя с темным типом Рогожиным; поразительно, как они тотчас узнают, опознают, признают друг друга, без лишних слов и более правдоподобного «литературного» антуража; так химики говорят нам об «избирательном сродстве», когда частица водорода с жадностью набрасывается на частицу кислорода, чтобы восполнить свою и чужую ущербность. Ущербность Рогожина полярна ущербности Мышкина; один — идиот, детски лепечущее, дневное сознание, точка без круга; другой — сын сладострастья и хаоса, сплошной неохватный круг, мечущийся в поисках своей точки; здесь объяснение жадности их встречи: точка чувствует себя точкой в круге; круг — «спасательный круг», брошенный точке, чтобы спасти её от математической фиктивности; швейцарское предчувствие князя оказалось предчувствием собственного бессознания; но и бессознание, мытарствующее по России и прожигающее жизнь, мучительно искало свое Я, паралитически застывшее где–то на веранде с видом швейцарского ландшафта. Рогожин — ночь Мышкина, звериное его сладострастие, неузнанное им в плоскости идиотизма и лишь предчувствуемое в тихом плаче; но Рогожин же — потенциальное спасение Мышкина от клейма «идиот» в мучительной мистерии приобщения к полноте. Обратно: Мышкин — просветление рогожинского хаоса. Оба суть половинки некой распавшейся цельности, данной в романе образом Настасьи Филипповны. Половинки влекутся к своей цельности; есть темное рогожинское начало в Настасье Филипповне, есть и «девочка» в ней, но полнота эта не пресуществлена третьим качеством, эмерджентомсобственной несводимой специфики, той самой, чудесная зарисовка которой уже удавалась Достоевскому в последнем неоконченном романе, в образе младшего Карамазова. Оттого и эта полнота оказывается ущербной; Настасья Филипповна изживает себя в нескончаемых «рокировках» обоих начал: то она имитирует «мышкинское», и тотчас же «рогожинское»; дразнящий фарс звучит трагическими нотками и заостряется в трагедию убийства; у тела зарезанной Настасьи Филипповны снова сходятся побратимы, её половинки: бредящее бессознание и гладящее его (убийцу) по голове идиотическое сознание.
Гностический азарт Достоевского: растянуть человека, как пружину, до предела, за которым начинается деформация, и накалять полярные начала. Так ищется им полнота. Поразительный аналог этому я нахожу в гётевском «Учении о цвете»; здесь, думается мне, сокрыто парадоксальное родство этих столь чуждых друг другу и даже несовместимых умов. Остановиться в двух словах на этой параллели вынуждает меня не только соблазнительность её, но и существенность; мне многое прояснилось в Достоевском через Гёте. Цвет характеризует Гёте как страдание, или страсть, возникающую в конфликте света и тьмы. Первичные цвета — первофеномены — по Гёте, суть синий, образуемый при прохождении света сквозь тьму, и желтый, возникающий при ослаблении света тьмой. Синтез синего и желтогодает зеленый цвет, но возможен и иной синтез, получаемый не через нейтрализацию первофеноменов, а через их интенсификацию. Именно; синий и желтый не погашаются в зеленом, а, оставаясь каждый на своем месте и сохраняя полярность, начинают углубляться и интенсифицироваться. Тогда синий темнеет вплоть до красных вспыхов и перехода в синекрасный, или фиолетовый; темнеет и желтый дожелтокрасного, или оранжевого. И уже здесь, в соединении этих первичных полярностей, возникает пурпур. Пурпур определяет Гёте как цвет, который частично актуально, частично потенциально содержит в себе все остальные цвета. То есть, пурпур и есть полнота, и достигается эта полнота не через сглаживание полярных начал, а через их нарастание. На языке Достоевского это значит: расшириться до взаимоисключающих крайностей, дать каждой из крайностей право на самостоятельность и наращивать их, а там видно будет… «Широк человек, — восклицает Митя Карамазов, — слишком даже широк, я бы сузил». Так уж и сузил бы! Мы не верим Карамазову, как не поверили бы мы ни одному из героев Достоевского, случись им сказать такое. Сузить человека — веление здравого смысла, а этот последний — злейший враг их; припомните признание чёрта Ивана Карамазова, который в тот единственный день был там, на Голгофе, и, потрясенный увиденным, готов был вот–вот присоединить свой голос к «громовому воплю восторга серафимов»: «Уже слетало, уже рвалось из груди, но здравый смысл — о, самое несчастное свойство моей природы — и тут удержал меня в должных границах». И припомните еще слова Ставрогина, ставшие путеводной звездой жизни капитана Лебядкина: «Нужно быть действительно великим человеком, чтобы суметь устоять против здравого смысла». Что же значит: устоять против здравого смысла? Я снова подчеркиваю: расшириться до взаимоисключающих крайностей и накалять их, а там видно будет. Лихая, чисто русская обрубленность фразы, замирающей на отточии. Конкрет этого отточия — «ужас, и петля, и яма тебе, человек». Волимый синтез оказывается «баней с пауками». «Я не верю в будущую жизнь, — сказал Раскольников. Свидригайлов сидел в задумчивости. — А что, если там одни пауки или что–нибудь в этом роде, — сказал он вдруг. — Это помешанный, — подумал Раскольников. — Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что–то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится. — И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников. — Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и знаете, я бы так непременно нарочно сделал! — ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. Каким–то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе». Не таким ли холодом охватывало и читателей этого отрывка; что это? очередной уродливый каприз «жестокого таланта»? И неужели, — готовы вскрикнуть и мы, — вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — Вдумаемся, однако, убрав эмоции: а почем знать, может быть, это и в самом деле есть справедливое. Разве справедливее иные представления о вечности, в которой праведные души наслаждаются всем тем, отказ от чего и сделал их при жизни праведными? Ответ Свидригайлова действительно безобразен, но есть в этом безобразии зерно реального опыта, который, впрочем, не чужд и Раскольникову, как и прочим героям Достоевского, и если они подчас чураются его, то причину этого следует искать в остатках непобежденной гордыни и в неподготовленности сознания к такому опыту. Опыт здесь испытание, и даже он есть пытка; расширение до крайностей и нарастание к полноте ознаменовано поистине банной пыткой; доступ к полноте и цельности, как подлинной вечности, лежит через баню, как первое узнание вечности; Свидригайлов мог бы оформить свое безобразное представление более эстетическим символом чистилища; а будь он теософом, он заговорил бы о «Кама—Локе», где души проходят через очищение, прежде чем заслужить «минуты вечной гармонии» (впрочем, на этот раз уже не «минуты», ибо минуты чреваты эпилепсией, а века…). Но что же такое «баня», как не место очищения, место, где моются и отмываются! Испытание этих людей в том, что они опережают сроки и попадают в «баню» еще при жизни; запретная «седьмая дверь», сулящая «умное место», оказывается «банным местом», и каким! Высокая справедливость кроется в этом жутком сюрпризе; разве не сами они поволили эту «баню»? разве не их зачаточное самосознание приняло из глубин расширенной периферии героическое решение очиститься от карамазовщины, от достоевщины? «Ты этого хотел Жорж Данден!» Но одно дело — принятие решения; другое — осуществление его. Здесь и восстает ад. Решение забывается; забывается добровольное принятие ада; начинается бред; начинается бунт. Теоретические разглагольствования о высоком значении страдания сереют в парном праксисе этих разглагольствований. Нешуточное дело: выдержать такое очищение. Бунтует Раскольников, бунтует Ипполит, возмущается сознание Подростка, бунтует Иван Карамазов. Глава «Бунт» в «Братьях Карамазовых» — сильнейшая и, по–видимому, опаснейшая из всех сцен Достоевского. Эти надрывы о загубленных детях, о безвинных детских слезах прошибают душу, да так, что читатель, захваченный силой их, почти ослепленный болью бьющих наотмашь слов, готов присоединиться к рассказчику и повторить вслед за ним нестерпимо изумительный жест «возвращения билета». Красота жеста, несравненная его безысходность, я бы сказал его фотогеничность захватывает дух, парализует мысль и чувство; воистину, «в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было», такой силы, что, загипнотизированные ею, мы уподобляемся тому самому генералу, что затравил мальчика псами: «Ату его, ату!», и спускаем с цепи собственных разогрето душевных псов, только уже не на мальчика («мальчик» — наш козырь в этой травле), а на самого Бога: «Ату Его, ату!» — никогда еще в этом выкрике затравщика «Его» не произносилось с прописной буквы, и это заставил нас сделать Карамазов. Впрочем, заставил ли?… Остановимся, замрем на мгновение, и сотворим тишину в жутком лае душевных псов–богодавов. Тишину ясноглазой мысли над одержимою сворою чувств. Да, затравленный мальчик! сцена онемевшего ужаса! заскрежещем зубами! переживем черное мгновение абсурда! но задержим мгновение в горле и не дадим ему захлестнуть сознание; поймем: мгновение двояко: с одной стороны, оно ангел скорби, клокочущий в горле невыплаканным сердцем, и как прекрасен тот ангел! с другой стороны, ускользающей от внимания, оно хладнокровный рассудочный бес, козыряющий, за ангельской маскировкой, «мальчиком» против смысла жизни. Здесь надо быть не психологом, а демонологом, чтобы раскусить эту изощреннейшую диалектику мгновения: понять, что боль о реальном мальчике — наркоз, усыпленные которым мы не замечаем другого мальчика, не реального, а карточного, притом краплёного, которым один из Великих Шулеров Вселенной (их двое; первый — наш анестезиолог) намеревается выиграть Мир у Бога. Если мы это поймем, мы остановим игру и попросим жулика вон; но для этого надо поначалу справиться с первым Шулером: не дать ему усыпить нас болью, ибо боль должна пробуждать, а не усыплять. К чему же пробудит нас боль? К гнозису «карамазовщины». Будем благодарны Ивану за искренность его рассказа, но уличим его в выводе бунта. «Вы, милостивый государь, не на баррикадах, а в бане. Извольте не бунтовать, а мыться». Да, весь бунт, вся эстетика его обиднейшим образом разоблачается проблематикой «Мойдодыра»: за котурнами страсти и рыками богоборчества просто — нежелание мыться. Так, немытая карамазовская романтика начинает смердеть Смердяковым; Смердяков — четвертый брат — прямой резонанс «бунта», выявитель и проявитель эстетического негатива; в Смердякове козырной «мальчик» становится отцеубийцей… И мы, восхищаясь хищной патетикой «бунта», трактирным философствованием о последнем, не замечаем смердящего праксиса его: «возвращение билета» на словах оказывается на деле — преступлением. «Возвращение билета» — нулевой градус, испытание пустотой, душа в режиме лозунга «всё позволено». Через несколько лет этот карамазовский лозунг повторит Фридрих Ницше. И опять же: лозунг раздвоен. В нем, с одной стороны, манифестируется высший принцип свободы. «Всё позволено», значит: никаких заповедей, догм и принудительных канонов, никакого рабства на острове обворожительной Цирцеи. Так, с одной стороны, и сторона эта — свобода от…От канонов, от запретов, от рабства, от «свинства», навеянного чарами Цирцеи. Прекрасная сторона, но за нею молотом бьющий вопрос; для чего? Что делать с этой свободой? во что её употребить? Странно, что не только самим Карамазовым и Ницше слова «всё позволено» казались верхом антихристианства, но и многочисленным критикам, усматривавшим в этом лозунге сильнейший довод против религии Христа. И вдвойне странно, что не был замечен первоисточник; «бунтарь» Карамазов и «антихрист» Ницше буквально воспроизводят место из 1‑го Послания к Коринфянам (6, 12; также: 10. 23): «Всё мне позволительно», говорит апостол, и добавляет: «но не всё полезно». И дальше: «Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Ибо если я добиваюсь предельной свободы и уже считаю себя обладателем её, это значит: обладать свободой я могу в том лишь случае, если ничто не обладает мною самим. Без этого поправочного коэффициента дело попахивает чертовщиной: сходит с ума Фридрих Ницше; начинается «Кошмар Ивана Федоровича» — как же можно решиться на фразу «всё позволено», не отмывшись предварительно от смердящей карамазовщины! Я снова возвращаюсь к теме «бани». Слова «всё позволено» не истинны и не ложны сами по себе; они истинны или ложны там, где и кем они произносятся. Ложны они до «бани», и героям Достоевского, упоенно их произносящим, скажем мы: слова ваши прекрасны, но ужасен их «дух», запах, идущий от вас; вы мните себя сверхчеловеками, вы можете одурманить наш разум, наше сознание и наши чувства, но вы не проведете нас за нос, ибо нос наш — свидетель вашей мнимости; ибо вы, при всем блеске ваших аргументов, дурно пахнете («Высшие люди дурно пахнут», говорит Заратустра), и, стало быть, не философствовать о последнем ваше дело, а «баня» — очистительный ад. «Всё позволено» после бани, а после бани исчезает многословность (ужасно много говорят герои Достоевского) и наступает молчание и чистота — «schweigen und rein sein» Фридриха Ницше, — и, чистые, вы, будете способны только на нравственное, не принудительно–нравственное, а инстинктивно–нравственное, где мораль станет в вас фантазией и творчеством. После «бани», и ни в коем случае до неё, а может, и в самой «бане», в то самое мгновение, когда она перестанет быть адом и станет «водной баней» апостольского гнозиса, высоким символом крещения истиной в свободу. — Это скажем мы им, Карамазову и Раскольникову, Кириллову и Ставрогину, скажем во исполнение заветнейшей воли самого Достоевского; и скажем еще, что без этого исполнения, без учета этой воли, в факте пассивного упоения раздвоенностью, не ведущей к полноте, упоения «бунтом» в «бане» стираются прекрасные черты лика Достоевского и начинается Достоевский–оборотень, Достоевский–соблазнитель, Достоевский–эпилептик, отвратительный сочинитель гадостей в стиле рассказа «Бобок», Достоевский, сожранный своими героями, богом которых он является и которые на этот раз делают окончательный и бесповоротный выбор в пользу атеизма.
* * *
Бросая последний взгляд на творчество Достоевского, мы лишь сильнее подчеркиваем сказанное. Романы его, говоря его же словами, «горнило сомнений», через которое проходит его вера. Велик соблазн застрять в этом горниле, отдаться удушливому бреду «достоевщины», опутать себя диссонансами и культивировать в себе то, что Гоголь называл «бесовски–сладким чувством». Велик соблазн, ибо сильнаэта сторона Достоевского; «крупным планом» дана она, заслоняя другую, фоновую, сторону. Ведь не случайно последний роман свой Достоевский считал жизнеописанием Алёши Карамазова, как не случайно и то, что именно образ Алёши остался фоном этого романа, на котором разыгрываются буйства других Карамазовых. Но у младшего Карамазова есть будущность и, судя по всему, неслыханно яркая. Кто Алёша? Конечно, с одной стороны он Карамазов; этому монастырскому послушнику присущи чисто карамазовские страсти; Достоевский и здесь верен теме раздвоения. Алёша, с другой стороны, в линии князя Мышкина, но вовсе он не «идиот»; он, говорит Достоевский, был «статный и краснощекий»; тема Алёши — тема апостола Павла: быть «всем для всех», и посмотрите: всюду Алёша, со всеми Алёша, и все тянутся к Алёше; последняя сцена романа, на могиле умершего мальчика, одно из прекраснейших созданий Достоевского. Вся сцена — живой реалистический рисунок, и в то же время ослепительный символ. Окруженный подростками, сам еще юноша, приносящий клятву будущности над могилой мальчика (как знать, не того ли самого, что стал в руках Ивана «козырным»), Алёша весь в свете, о котором сказано в романе: «Сие и буди, буди!» Алёша — спасение Достоевского, исход его из мегаполисного Скотопригоньевска в град новый и обетованный. Нет в других романах Достоевского такого образа; нет в «Записках из подполья», в «Преступлении и наказании», в «Бесах», в «Идиоте»; один лишь «Подросток» намекает на младшего Карамазова. Но и эти романы можно же читать в духе созидания и исхода, наперекор их течению. «Горнило сомнений». Никогда не прошла бы через это горнило вера писателя, не опирайся она на… Я касаюсь здесь, наконец, темы тем Достоевского, и эта тема тем любовь. Не увидеть её, значит проморгать будущего Достоевского и остаться со шлаками его, с «достоевщиной». Перечитайте главу «Кана Галилейская», перечитайте «Великого Инквизитора»: в них ключ к будущему Достоевскому. Вы спросите: к кому обращена любовь Достоевского? и я отвечу прекрасными словами Августина: «Я еще не любил, но любил любовь. Искал, чтобы полюбить, любя любовь». Вспомним еще раз Николая Ставрогина; наверное, это ближайшая (после Алёши) ипостась авторского Я, причем (в отличие от Алёши) завершенная. В романе «Бесы» Ставрогин играет роль самого Достоевского; все персонажи вращаются вокруг него; он их творец, их бог, их солнце. Кириллов, Шатов, Лебядкин, Верховенский — его порождения; я цитирую: «„Ставрогин, вы красавец! — вскричал Петр Степанович почти в упоении. — Знаете ли, что вы красавец! В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу!… Вы мой идол! Вы ужасный аристократ!… Вы именно таков, какого надо. Мне, мне именно такого надо, как вы. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк… “ Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал свою руку». Теперь другая сцена: с Шатовым: «Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня… Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!» И вот ответ «бога»: «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов, — холодно проговорил Николай Всеволодович». В этом ответе ключ не только к «Бесам», но и к самому Достоевскому. В свете этого ответа мы по- новому понимаем жуткую интуицию Хромоножки, опознавшей сущность Ставрогина в слове «самозванец». Он и есть самозванец от Достоевского, присвоивший себе все дары и таланты творца, все чары и обольщения его, кроме любви. И оттого говорит ему в лицо сам Достоевский устами Тихона: «Я пред вами ничего не утаю, меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость». Подумаем: не так ли и мы сказали бы самому Достоевскому, издай он «Бесы» без второго эпиграфа, спасающего роман от жанра протокольно–клинической патологии! «Бесы» — весы: на одной чаше роман, на другой несколько строк второго эпиграфа, и несколько этих строк не только уравновешивают, но и перевешивают толщу бесовских наваждений. Бес, в демонологии Достоевского, — это тот, кого все любят, и кто сам никого не любит. Поразительно, что в одном только случае Ставрогин на мгновение избавляется от беса; сцена всё с тем же Тихоном (она не вошла в роман!): «Знаете, я вас очень люблю», говорит ему Ставрогин. «И я вас, — отозвался вполголоса Тихон». Признания эти вырваны ощущением равенства; Тихон — единственный соперник, достойный Николая Ставрогина; он и есть сам Ставрогин, переживший «Дамаск», и в этом смысле он первый среди равных. Любя его, Ставрогин любит себя, впервые, по–настоящему себя, свое восстановленное из распада Я. Без Тихона, без «мгновения» любви к нему, он — сплошной нуль, оборотень, великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость, и такому Ставрогину говорит вещая Хромоножка (как бы невольно сравнивая его с Тихоном): «Похож–то ты очень похож, может, и родственник ему будешь, — хитрый народ! Только мой — ясный сокол и князь, а ты — сыч и купчишка!» И — «успела ему еще прокричать, с визгом и с хохотом, вослед в темноту:
— Гришка От–репь–ев а–на–фе-ма!»
Перечитывая Достоевского, я всегда поражался возникающему у меня при этом почти зрительному ощущению: огромное инженерное сооружение, что я говорю, гигантская фабрика лязгающих кошмаров и наваждений, повисшая в воздухе и готовая вот–вот сорваться, раздавив неисчислимые жизни, ибо висящая на волоске. Но не срывающаяся, хотя глядеть на неё страшно: как же выдерживает эту дьявольскую махину один–единственный волосок! Никакая сила в мире, никакие плечи Атлантов не выдержали бы её, — и вот чудо: единственный волосок. «Знаете, я вас очень люблю, сказал Ставрогин. — И я вас, отозвался вполголоса Тихон».
* * *
И напоследок, притча из Мейстера Экхарта: «Был однажды человек, целых восемь лет просивший у Бога послать ему человека, который мог бы указать ему путь к правде. Однажды, когда его охватило особенно сильное желание найти такого человека, был ему голос от Бога, который сказал: „ступай к церкви, там найдешь человека, который укажет тебе путь к правде“. И он пошел; и увидал бедного человека с ногами израненными и покрытыми грязью, вся одежда его не стоила трех грошей. Он поклонился ему и сказал: „Да пошлет тебе Бог доброе утро“, а тот возразил: „У меня никогда не было худого утра!“ Он сказал: „Да пошлет тебе Бог счастья! Почему ты так отвечаешь мне?“ Тот возразил: „Никогда не было у меня несчастья“. И опять он сказал: „Ради блаженства твоего скажи, почему ты мне так отвечаешь?“ Тот возразил: „Я никогда не был не блаженным“ Тогда он сказал: „Да пошлет тебе Бог спасенье! Разъясни мне твои слова, потому что я не могу этого понять“. Тот молвил: „Хорошо. Ты мне сказал: да пошлет мне Бог доброе утро, а я возразил: у меня никогда не было плохого утра. Случится мне голодать, я хвалю Бога, и потому у меня никогда не было плохого утра. Когда ты сказал: да пошлет мне Бог счастья, я возразил, что у меня никогда не было несчастья. Ибо что бы ни послал или ни назначил мне Бог, будь то радость или страданье, кислое или сладкое, я всё принимал от Бога как наилучшее, — поэтому никогда не было у меня несчастья. Ты сказал: ради блаженства моего, тогда я заметил: я никогда не был не блаженным, потому что всецело отдал свою волю воле Божьей. Чего хочет Бог, того хочу и я, потому никогда я не был не блаженным, ибо только и хотел одного — Божьей воли“.
— „Ну, милый человек, а если бы Бог захотел бросить тебя в ад, что бы ты тогда сказал?“ Тот отвечал: „Меня! бросить в ад? Посмотрел бы я, как бы Он это сделал! Но даже и тогда, даже если бы Он и бросил меня в ад, у меня нашлись бы две руки, которыми я бы ухватился за Него. Одна, это — истинное смирение, и им я обвился бы вокруг Него; моя другая рука — любовь, и ею я обхватил бы Его“. Потом он сказал еще: „Я хочу лучше быть в аду с Богом, чем в Царствии Небесном без Него“».
— Эта притча о людях Достоевского: так ощущали бы и они, выйдя из «бани» и вынося из неё полноту и восстановленность, в которой с творца их было бы снято проклятие их прежней сотворенности.
Ереван, 23 марта 1981 года
Г. Г. Шпет
Есть странный парадокс восприятия, так или иначе неизбежный для каждого, кто ставит себе целью изучение русской духовности начала века: парадокс психологической неувязки между количеством сорванных календарных листков и качеством самого переживания мерцающей за ними реальности, когда ничтожный интервал в несколько десятилетий вырастает в оптике восприятия до гигантских и уже почти что проваливающихся в миф масштабов. Мы знаем, что это было, и было совсем недавно, совсем близко, но вот дотянуться до этого «близко» оказывается делом вовсе не простым, а то и мучительно непростым; привыкшие к благополучным трафаретам ньютоновского времени, мы оттого и замираем в столбняке невероятного, что сталкиваемся с неожиданно иной, до головокружения иной реалией времени, где несколько календарных десятилетий вполне умещают в себе психологический отсчет на тысячелетия, где стереотип «глубокой древности» как бы срывается с насиженных представлений о Египте или Греции и оборачивается совсем недавним, совсем близким и почти что нашим прошлым, требующим, однако, от нас не меньшей ретроспективной напряженности, не меньшего пафоса дистанции, чем век Перикла или, скажем, досократиков. Ошеломленные, мы начинаем понимать, что, да, в каком–то другом, нефизическом и, значит, более реальном отсчете времен эти наши почти современники, еще почти вчерашние и позавчерашние (и даже еще… сегодняшние[88]), эти просветленные и боговдохновенные подвижники русской и уже вселенской культуры, авторы диковинных книг, одни заголовки которых скликаются, скорее, с рукописями Мертвого моря, нежели с книжными обозрениями современности, ближе стоят к расхожему стереотипу древности, чем к нам. Словно бы за несколько названных десятилетий и случилось то самое, что по обыкновению называют катаклизмом и счет чего в истории идет на тысячи, а в природе и на миллионы лет: потоп, геологические псевдоморфозы, великое переселение, хаос, страшно подумать, новый генетический код… Теперь, когда, очнувшись от полувекового и безоглядного штурма будущего, мы виновато приходим в себя и начинаем вспоминать о прошлом, а главное, извлекать это прошлое из толщи беспамятства по всем правилам археологических раскопок, выясняется, что налицо явные признаки мифа.
Нормы жанра требуют от пишущего эти строки биографических сведений о Густаве Густавовиче Шпете; я открываю 50‑й том Энциклопедического словаря Гранат (7‑е изд., стб. 378) и нахожу дату рождения — 1879‑й; минутою позже заглядываю в Литературную и Философскую энциклопедии и наталкиваюсь на 1878‑й. Разночтения продолжаются и дальше: так, начало профессуры в Московском университете помечено в одном случае 1910‑м, а в другом 1918‑м; равным образом и вице–президентство в Государственной академии художественных наук (ГАХН) восходит то к 1923‑му, то к 1924‑му. Скажут: это случайность, опечатка, небрежность составителей. Возможно, но как быть с тем, что психологически такая случайность, или небрежность, вполне вписывается в общую тональность восприятия! Достоверно, во всяком случае, следующее: родился в Киеве, окончил историко–филологический факультет Киевского университета, переехал в Москву, где преподавал на женских курсах (педагогических и курсах Герье), а потом и в университете, жил в Германии и Англии, защитил диссертацию у Гуссерля, после революции был действительным членом и вице–президентом ГАХН до 1929 года; остальное уже в фатальном отчуждении от личной судьбы и в созвучии с общими скоповыми гекатомбными судьбами эпохи: запрет на публикации, борьба за существование в качестве переводчика («Феноменология духа» Гегеля — шедевр философского перевода), катастрофически диссонирующая неперевоспитуемость в контексте уже не той, уже этой действительности, арест (по всем правилам индуктивной логики) и смерть, уже и вовсе растворяющаяся в гигантском анонимном мифе–конвейере по производству мертвых масс, как движущих сил истории. Дата смерти обозначена с подозрительной точностью: 23 марта 1940 года[89], с точностью — больше того — глумливой и как бы дезориентирующей сознание от реальности бреда в сторону якобы порядка и осмысленности случившегося; у философа Шпета — будем уверены — нашлось бы для такой точности достаточно умного презрения; скажем так: когда бы ни наступила эта смерть, безликая, хтоническая и уже анахроническая, меньше всего ей пристало бы рядиться в какую–нибудь дату[90], в осмысленную и исторически укрощенную метрику европейского календаря. В конце концов нам оттого и столь мучительно дотянуться до этого недавнего мига нашего прошлого, что промежуток разделяющих десятилетий оказался неким обмороком времени, чудовищной воронкой анахронизма, всосавшей в себя распавшуюся связь времен — не только славное, овеянное глорией начало века, но и нашу память о нем, — и значит (страшно подумать!) всё еще грозящей поглотить и конец века, если мы, первенцы его конца, не сотворим в себе таинство памяти и не восстановим живую наследную связь с первенцами его начала.
Вот портрет, скорее ракурс портрета, или беглая зарисовка, принадлежащая гениальному современнику и другу, Андрею Белому [91]: «Самым левым в тогдашнем „паноптикуме“ мне казался Густав Густавович Шпетт, только что переехавший к нам из Киева. […] Он только что выпустил свою книгу „О проблеме причинности у Юма“; он в юмовском скептицизме, как в кресле, уселся с удобством; это было лишь формой отказа его от тогда господствовавших течений; он особенно презирал „нечистоту“ позиций Бердяева, и с бешенством просто издевался над ницшеанизированным православием; он показывал едко на помаду Булгакова, изготовленную из поповского духа и воспоминаний о своеобразном марксизме; более, чем кто- либо, он видел бесплодицу когенианцев и риккертианцев. […] В своих выступлениях он собственной позиции не развертывал вовсе; он ограничивался протыканием парадных фраков иных позиций: рапирою Юма; когда его просили высказать свое „credo“, он переходил к бутылке вина; и развертывал перед нами свой вкус, свою тонкость; он и нас понимал, как никто; и, как никто, отрицал в нас философов, утверждая: философы мы, когда пишем стихи; а когда философствуем, то питаемся крошками чужих кухней. […] Никогда нельзя было разобрать, где он шутит, где — всерьез: перед зеленым столом; или — за бутылкой вина в три часа ночи… Передо мной возникает лицо Густава Густавовича: круглое, безбородое и безусое, принадлежащее — кому! Юноше иль — старику! Гладкое — как полированный шар из карельской березы; эй, берегись: шибанет тебя шар! Как по кеглям ударит!» И здесь же забавный эпизод: «[…] шутливо грозил, если еще раз приду я во „фрейбургском“ фраке, то он при всех разорвет на мне этот фрак… И угрозу свою он однажды исполнил; я читал доклад у Морозовой; за зеленым столом сидели: Северцев, Лопатин, Хвостов, Трубецкой, Кистяковский, Булгаков, Кубицкий, Эрн, Фохт, Ильин, Метнер, Рачинский, Савальский и многие прочие; Лопатин, не нападая, мне вкрадчиво предлагал вопрос: в чем же спецификум символизма, как направления, если и Шекспир символист? После него говорил Трубецкой; и ставил вопросы случайные Северцев; только трудновразумительный когенианец, Савальский, поставил мне трудный вопрос, став на длиннейшие терминологические ходули; я ответил ему, став на такие же ходули, но выструганные в правилах философии Риккерта. […] Во время этого труднопонимаемого обмена мыслей о деталях методологии символизма увидел я: шпеттово юное и безусое личико; он пробирался по стенке, легко, с полуулыбочкой; но вкладывая в шаг свой пуды; а мышиные носики, ерзая затаенным ехидством, уже торчали из дырок зрачков; отвечая Савальскому, я косился на Шпетта; вот он вкрадчивым голосом попросил слово; и рапира его, передо мной заблистав, закружила сознание; „трах“: я был — проткнут».
Зарисовка, что и говорить, не только изумительно живая, но и точная; достаточно уже немного вчитаться в любую из книг философа, чтобы опознать в ней именно эту субъективную импрессию очевидца: некий Давид, облаченный наготою скептицизма и зашибающий кегельбанными шарами многодумных и тучных мыслями Голиафов академической философии. Во всяком случае, философ, никак не укладывающийся в расхожую оценку философа; скорее уж игрок, фокусник, эпатёр идей, некий прожигатель философии, использующий её как клавиатуру для виртуознейших импровизаций на любую — умозрительную или просто бытовую — тему. Вот еще один эпизод — на сей раз в стиле «драмы сатиров»: «По окончании докторского экзамена (у Гуссерля, кажется) он устроил в маленьком городишке немецком пирушку, по немецкому обычаю пригласивши экзаменаторов и друзей; но перепутал и дни, и часы; явившися в ресторан и увидевши убранный, но пустующий стол, он бросился бегать по городу, нанимая извозчика за извозчиком; их всех собравши, уселся на первого; махая рукой, в сопровождении десятка пустых пролеток, летел с шумом и гиком по улицам провинциального городка; профессора, их супруги, доценты с недоумением наблюдали из окон, как перед роем летевших пролеток пустых новоиспеченный герр доктор Шпетт летел в черном цилиндре и белом крахмале; все извозчики города принимали участие в манифестации этой; и принесясь к ресторану, приняли участие в пире вместо герров доцентов и докторов»[92].
Случайные шалости? Скандальные причуды? Но откроем книги, чтобы убедиться в единстве стиля и характера — как в конкретностях жизненной эмпирики, так и в высоких отвлеченностях Эмпирея. Любую, по сути, книгу; вот например, огромная, в 70 страниц большого формата и мелкого шрифта рецензия на книгу В. Ф. Эрна «Философия Джоберти» — настоящее философское избиение во всей гамме приемов, от дубинки и рапиры до щелчков по лбу, и, главное, с постоянным равнением на атмосферу озорства и веселого подмига, как бы намекающая всем своим контекстом, что и она, ну да, того же рода и жанра, что и инцидент с «извозчиками». Или скандальный «Очерк развития русской философии», настолько скандальный, что уже и не дописанный и не перешедший за первую половину XIX века. Очерк, мало сказать, скандальный — просто уникальный в замысле и в исполнении, где историко–философский метод работы органически трансформируется в своего рода философские «Записки охотника», а материал предстает не иначе, как философской дичью, подстреливаемой меткими указаниями на… источники плагиата, так что в конце концов и сам очерк развития выглядит гигантским капканом или, в другом ракурсе, неким химическим реактивом для проявки в письменах отечественной философии симпатических чернил философии немецкой или французской. Словом, всё та же выходка с извозчиками, на сей раз, впрочем, без путаницы и недоразумения… Что ж, оценки так и напрашиваются сами собой. Скептик, нигилист, логикогносеологический декадент, некое подобие философского Оскара Уайльда! Ну, положим, русское начало века едва ли можно было удивить по части декаданса и вообще богемной пиротехники; тут изобиловало и не такое. Скажут, да — но не в философии же, тем паче когда философией занимается не какой–нибудь очередной «мистический анархист», а, с позволения сказать, профессор, ученик и последователь строжайшего из строгих, Гуссерля, родоначальника феноменологии и автора манифеста «Философия как строгая наука». Здесь автоматизм привычного клише срабатывает моментально — мы говорим: или–или. Или строгость, и тогда тяжесть, вескость, солидность, серьезность (ну да, «гримасничающая серьезность совы», по слову Гёте), или легкость, которая непременно ассоциируется с легкомыслием, и, значит, прощай строгость, а вместе с нею и настоящая философия. Очень удобная схема, а главное, очень нелепая применительно к Г. Г. Шпету, с одинаковым блеском выдерживающему экзамен как у «наших», так и у «ваших», как по части строгости, так и по части легкости (легкомыслия, если угодно). Да и что это за ущербная логика, по которой шарму воспрещено быть основательным, а основательности чарующей! — сущая правда то, что философ Шпет вскруживал головы своим слушательницам на курсах Герье, так что многие из них носили на груди медальончики с портретом Густава Густавовича, но сущая же правда и то, что делал он это не в ущерб философии, а — почему бы не сказать прямо? — во славу её, потому и во славу, что философия (да, да, та самая, забытая, дантовская «Госпожа Философия») представала в переливах его отточенного ума уже не пыхтящей и аж взопревшей особой под бременем несения всяческих–де солидностей, а самим танцем и грацией — Мудростью, в которую впору бы влюбиться каждому новичку, вознамерившемуся стать философом, то есть любящим.
Но я как будто уже подошел вплотную к «лица необщему выраженью» Г. Г. Шпета, к загадке его философской родословной. Что ж, фасад легкости мы уже видели, готовые вот–вот заключить к легкомыслию — скептик, с удобством усевшийся в кресле юмовского скептицизма; давайте же заглянем и в интерьер, в зону так называемой «солидности». Фантастическая эрудиция (и отнюдь не только философская), эрудиция, от которой тем более делается боязно, что она никогда не распускается всуе и в угоду досужему тщеславию, но всегда припрятана и, стало быть, внезапна — настоящая эрудиция философского детектива, скрываемая во всем личном и настигающая только «с поличным». Непререкаемая воля к мастерству и профессионализму (ибо «дилетантизм — всегда непристойность»[93]), вплоть до знака равенства между мастерством и самой философией: «Вот подлинно европейская идея софии — мастерство в том, за что берешься, и это — подлинно европейская добродетель». Отсюда резкая неприязнь ко всякого рода псевдофилософиям, синтезирующим демиургический (и, значит, буквально ремесленный, мастерский) разум Запада с ленивой мудростью Востока («Платон, Эсхил, Данте, Шекспир, Гегель — с раскосыми глазами — мотив из Гойи»[94]). Отсюда же позитив собственной установки, и это уже не скептик в юмовском кресле, а феноменолог во всеоружии строжайшего метода, автор фундаментальных книг «Явление и смысл» и «История как проблема логики», книг, содеявших бы в Европе эпоху, но захороненных российскими событиями в кредит будущих… археологических раскопок. Герменевтик, не признающий за философией иной доблести, как доблести видеть: сами вещи, и как они есть. «Нужно углубление в само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в пыльные или покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры древесных ветвей, в тени, в изгибы и неровности поверхности любой вещи, везде — миры и миры»[95] — вот именно, философия, равняющаяся на Леонардо, а не на «алогическую белиберду […] белибердяев» (еще одно протыкающее «трах» рапиры)!
Говорить о шпетовской философии по существу — задача, никак не умещающаяся в рамках настоящей статьи. Будем надеяться, что в сотрясающей нынче нашу культурную жизнь репатриации русской философии вернутся на свои круги и книги этого оригинальнейшего философа, что сама дидактика возвращения окажется двоякой: не только в памятной линии «что было», но и в назидательной линии «как надо». Как надо философствовать, чтобы в центре внимания были сами вещи, а не призраки промозглых абстракций, чтобы мысль ориентировалась на смысл, а не на капризы избалованного вкуса, чтобы философ представал не специалистом по эксплуатации чужих соображений, а прежде всего и через всё — умницей, во всем профессионально размытом и жизненно четком значении слова, чтобы философа, наконец, не вышучивали здравомыслящие обыватели (у Мольера — припомним — и вовсе пускающие в ход кулаки), а почитали в его лице «знающего», словом, чтобы философия была сообразна самой действительности, а не уходила в решение терминологических кроссвордов, — вот короткий и далеко не полный ракурс дидактики шпетовской философии. Линией «что было» еще займутся исследователи, реставрируя духовный облик одного из самых утонченных мыслителей века; я же подчеркиваю здесь именно линию «как надо», ибо философия в шпетовском понимании — это не только личное творчество философа, но и воспитание мысли, имеющее первостепенную значимость в судьбах становления нации и культуры как таковой. Оттого и столь трудно подвести мысль самого Г. Г. Шпета под привычную философскую рубрику. Сказать, что он феноменолог, — значит, не сказать еще ровным счетом ничего: разве мог этот философский бретёр и весельчак остепениться хотя бы и под сенью столь ценимого им гуссерлианства! Еретик, охочий до парадоксов, он и здесь готов учинить каламбур с «извозчиками», и разве не пахнет уже скандалом утонченнейшее сближение Гуссерля с Платоном, сближение, от которого отнекивался сам Гуссерль, оказавшись, как ни странно, в этом вопросе менее дальновидным в отношении самого себя, чем его ученик! Разве и не вовсе скандальным выглядит поклон гуссерлианца и, значит, почвенника Шпета апологету беспочвенности Льву Шестову, поклон, шокировавший столь многих, но бывший на деле бесстрашным погружением строгого методолога в кромешные кошмары шестовской проблематики и как бы уже предвосхищением не только схожих опытов Макса Шелера, но и странной привязанности к Шестову самого Гуссерля! Да, лишь углубляясь в поверхность, начинаешь понимать, что, в сущности, скрывается за этим эпатирующим скепсисом и нигилизмом, за шокирующей легкостью этого гала–философа: только утонченная тактика и стратегия очищения сознания и культуры. Чисто моцартовская умность озорства или ницшевская «веселая наука», знающая, что ни одна вещь не удастся, если в ней не примет участия излишек веселости. «Поистине вовремя начал философствование молотом классик Ницше!»[96] Ну так вот, понять классика Шпета — нелегкая затея, если уровень понимания и общий ценз образованности (какой угодно) не войдут в сговор с «нечистой совестью» музыки, музыкального восприятия вещей. Пусть не пугает нас экстерьер отсутствием положительных разглагольствований и нередкими гримасами цинизма — нужно, повторим эту формулу, углубление в само внешнее, чтобы распознать за маской скептика и весельчака чудовищную серьезность задачи, неуемную философскую скорбь — «что видно? […] видна ли звезда нового Вифлеема?»[97] — «Никто не знает, как долго и откуда в нем накопляется энергия, которая вдруг производит оглушительный взрыв. Мы живем этими взрывами, — тут истинное начало „нравственного“, — и где не расходуется накопившееся в мелких вспышках, там „взрывы“ поражают наше воображение. Пример — уход Толстого».[98]
Еще раз: понять феномен Шпета — нелегкая задача, тем более нелегкая, если брать его вне духовного и культурного контекста, в котором он сказался. Несравненный, небывалый в масштабах всей мировой культуры контекст. Культура, сжатая в неправдоподобно короткие сроки и успевшая–таки оттиснуть на этом мгновении самую высокую из проб Вечности. Есть души, о которых сызмала шепчутся старые ведуны: «не жилец он на этом свете»; что–то такое в облике или взоре выдает тайну их скоропостижности. Есть, очевидно, и культуры–нежилицы — потрясающий факт, когда, как бы угадывая близость своего преставления, целая культура — гениальная отроду, с первых же младенческих жестов — торопится наверстать объем и свершает себя «на разрыв аорты», успевая в чем–то почти всё, а в чем–то и больше, чем всё. Ликующая розовоперстая пушкинская аврора и холодное огромное закатывающееся блоковское солнце — между ними подчеркнуто единственный, по- джойсовски растянутый и всё–таки единственный серебряный день русской культуры. Настоящий этюд трансцендентной трудности на нескольких всего страничках (но каких!) — от сумасшедших темпов, заданных Петром, до невообразимой, сверхгоголевской аварийной модуляции в знакомый до ужаса акцент: «пашутили, и хватит». Нужно ли говорить о том, в какую чудовищную амплитуду взлетов и падений, светлейших восторгов и беспросветных окаянств должны были вылиться эти темпы — доподлинная, чистопробная, непотемкинская стахановщина юной души, в считанные десятилетия выполняющая, а то и перевыполняющая норму европейского тысячелетия, — и уже в архангельском Ломоносове тягающаяся с«быстрымиразумом Невтонами», а в Пушкине — с самим Гёте, уже в чудотворце Гоголе обгоняющая фокусы капельмейстера Крейслера, а в славянофилах — покойного Жозефа де Местра и не рожденного еще Шпенглера, уже в Достоевском и Л. Толстом диктующая вкус европейской словесности, а во Владимире Соловьеве и вовсе вещающая в кредит совсем уже далекого будущего. Есть у Фридриха Ницше страшная формула, выведенная по иному поводу, но максимально соответствующая как раз этому: он говорит о «роковой одновременности весны и осени» (подумаем: МАРТ и ОКТЯБРЬ, гоголевско–волошинский агглютинин «мартобря»). Как это понять, да и можно ли понять это: нарушение всех классических единств, времени, места, действия, чудовищная свертываемость культурных форм, слипание, спекание задач, целей, средств, ролей, перспектив, пятый акт, разыгрываемый параллельно с первым и на той же сцене! Давайте пофантазируем на европейском материале: представим себе современниками Гераклита и Гольбаха, Савонаролу и Фарадея, Рафаэля и Пикассо, Вальтера фон дер Фогельвейде и Маринетти, св. Франциска и Уайльда, Фому Кемпийского и Андре Бретона, Добротолюбие и Капитал, Отче наш и Марсельезу — на одном дыхании! Подумаем снова, и попытаемся в этом свете увязать, осмыслить, вынести ослепительные гибриды гениальности, сложившие, не ведая того, «загадку русской духовности»: лишь бы успеть, лишь бы вобрать, лишь бы охватить — проштудировать Шеллинга и Сен—Мартена, раскромсать бритвою лягушек, порассуждать о четвертой ипостаси, основать подпольный кружок, заодно вникнуть в секреты стихотворческой техники Маллармэ, как бы мимоходом и в кредит задать темы будущим Сартрам и Камю, ну и, разумеется, разнести на куски какого–нибудь великого князя или губернатора. В этой весенне–осенней единовременной панораме роль Густава Густавовича Шпета обретает контуры более адекватного понимания. Прежде всего, это очень поздняя, решительно поздняя роль (какой символический склик: spat и значит по–немецки поздно). По складу ума, строю души, стилю восприятий он современен Европе, как раз современной ему Европе; без малейшей натяжки и даже с запасом веселости вписывается он в наиболее зрелые полосы европейской культуры начала века. Эта зрелость, чуть- чуть уже тронутая осенним тлением, многое объясняет в прирожденной надменности Шпета–европейца, особенно в позе его сидения в юмовском кресле — поза типичного горожанина, очутившегося среди провинциалов и щедро проучающего их вполне дидактическими щелчками вытрезвительного скепсиса. Он и Шпенглера готов «выдрать за уши»[99], не то что «русских мальчиков», еще так недавно бунтовавших (у Достоевского) в трактирах и возвращавших билет Богу, а нынче перебравшихся в первопрестольную Москву и щеголяющих в кантианских фраках. «Столичные мальчики громко заявляют о своем существовании» — временами кажется, что особая резкость шпетовских нападок на Канта и кантианство связана не только с чисто философской стороной дела, но и со своеобразно педагогическими («айдотическими», в его собственной терминологии) соображениями: причудливый тандем «великого китайца из Кёнигсберга» (формулировка Ницше) с богоискателями из Скотопригоньевска («сей град, — по слову Андрея Белого, — должно внести в географию России после Достоевского») не мог не приводить в бешенство этого тонкого взыскателя стиля, который оттого и слыл нигилистом, что откровенно презирал любую идею, израсходованную на мелкие плакатные (пусть даже апокалиптически плакатные) вспышки, молчаливо копя в себе энергию самой идеи — для будущих взрывов и уходов. «Мои идеи — мои распутницы» — эту фразу Дидро он, надо полагать, повторил бы с особым удовольствием.
Но вот характерный эксперимент, на который стоило бы рискнуть ради понимания природы шпетовской зрелости. Эксперимент — вопрос. Отчего он с такой злобной изощренностью терзал умственные отправления ряда своих современников, скажем, Бердяева? Могло бы показаться на поверхностный взгляд, что речь идет об антиподах: пламенный религиозный мыслитель, сгорающий в «последних вопросах», и холодный иррелигиозный ум, облекшийся в брезгливый скепсис. Ничуть не бывало! Увидеть и услышать в Шпете только это — значит, увидеть и услышать его только глазами и только ушами; между тем (и здесь я снова цитирую его самого), «не нужно особенно много размышлений, чтобы убедиться, что дело здесь вовсе не в „глазе“ и „ухе“, а в уме»[100]. В каком–то более глубоком смысле они не то, что не антиподы, но единомышленники. А дело просто в том, что бердяевские темы никогда не могли бы стать здесь опубликованными, вообще выговоренными и, значит, в конце концов, израсходованными на вспышки; что, чем исступленно сгорать в «последних вопросах», надо бы прежде справиться с «предпоследними» — короче и по пословичному: что у Бердяева на языке, то у Шпета на уме.
В конце концов, дело шло и здесь об «оправдании человека», только без марки издательства и громокипящих слов (всё тех же мелких вспышек), а в стыдливой взыскующей умолчанности и накоплении взрывной энергии, с тем чтобы взрыв сотряс не стены издательства, скажем, «Пирожкова», а личные судьбы. «Пример — уход Толстого»…
Толстой и Шпет — какой неожиданный рикошет! Но им я, должно быть, касаюсь самого сокровенного, самого русского пласта души этого пресыщенного пересмешника и европейца. Сквозь позу скепсиса и готовность обдать ледяной струей насмешки любой чересчур программный икаровский порыв, сквозь беспощадный нигилизм эрудита, остужающий лихость несущейся стремглав «тройки» испытанными«стоп–кранами» историко–культурных разоблачений и логических выводов, — какая зоркая, какая предусмотрительная, именно тормозящая педагогика мысли! Какое тревожное предчувствие опасности в этом форсировании «последних вопросов» там, где кричаще открытыми оставались всё еще не только «предпоследние», но и азбучно «первые» вопросы! Да, он видел реальную потенцию нового, быть может, Данте в маточном растворе отечественной культуры, но он не мог не видеть и другого: опасную неожиданность, несвоевременность, преждевременность этого Данте. Культура, он знал это своим европейским зрелым опытом, никогда не довлеет себе изолированностью великих душ; она есть единство стиля во всех проявлениях нации. Канцоны Данте были культурным фактом, но не меньшей значимости культурным фактом было и то, что канцоны эти распевались флорентийскими погонщиками ослов. Оттого самым главным оставалась выработка стиля, тяжелые, многотрудные, никак не выпирающие будни подмастерья, преодолевающего упоительные соблазны досрочного мастерства.
Послушаем же очень редкое в этих устах сочетание осени и весны, вырастающее из личных судеб до судеб родины[101]:
«Этот стиль должен быть наш. Всякий стиль руководится, всякий стиль направляется избранным для того, во–своевременьи, народом. Но стиль бывает только после школы. А мы школы не проходили. В этом наша культурная антиномия. Запад прошел школу, а мы только плохо учились у Запада, тогда как нам нужно пройти ту же школу, что проходил Запад. Нам учиться всегда недосуг, вместо схоле у нас асхолия. За азбукою мы тотчас читаем последние известия в газетах, любим последние слова, решаем последние вопросы. […] Нам нужно наше собственное в Европе Возрождение, начинаемое с возрождения античности, а когда–то еще дойдем до „заката“? […] Россия теперь, как невеста:
Россия, Ты ныне Невеста… Приемли Весть Весны… Кому суждено быть женихом? Один — с востока: Глаза словно щели, растянутый рот, Лицо на лицо не похоже, И выдались скулы углами вперед… Другой „единый из вас“: …в тереме будет сидеть он своем, Подобен кумиру средь храма, И будет он спины вам бить батожьем, А вы ему стукать да стукать челом… Третий К гипербореям он В страну далекую, к северу дикому, Взойдя на колесницу, правит. Лебеди белые быстро мчатся».P. S. «Жених», конечно, спутал все карты. Схема вариантов осталась в силе, только стезями «третьего» овладели «первый» и «второй», и вместо упряжки белых лебедей «к северу дикому» потянулись«столыпинские вагоны», в одном из которых не мог не оказаться и автор «Истории как проблемы логики». Всё шло уже по щучьему велению. Единство стиля вырабатывалось в распевании не канцон, а дифирамбов, и в безымянно–вдохновенной фольклористике доносов. История вступала в соревнование с самой природой, как бы тщась побить все её рекорды по части катаклизмов. Распадалась связь времен. Гамбургский счет не действовал. Лавры первого герменевтика в европейских масштабах пожинали в Европе Хайдеггеры и Гадамеры.
Говорят[102], поезд остановился среди бессмысленных снежных пространств, и арестанты были высажены прямо в снег. Говорят и другое. Я не знаю[103]; история здесь уже никак не была ни предметом, ни проблемой логики. Одно несомненно: если это и в самом деле было так, то и этому надменно гениальному умнику и «айдотику» довелось–таки в конце концов сыграть неожиданную роль «мальчика у Христа на елке».
Ереван, 13 октября 1989 года
П. А. Флоренский
1.
В Павле Флоренском смыкается полнота и уникальность русского духа, того самого духа, которому выпало на долю стать deja vu самого себя, еще до того как он узрел свет дня. Мы учимся отдавать этому духу должное, вникая в его curriculum vitae. Поздний плод в предчувствии своего непростительно раннего ухода, дитя, впавшее в старчество, или, словами Ницше[104]: «Роковая одновременность весны и осени» — таков камертон, по которому мы настраиваем наше восприятие русского духа, чтобы не подпасть чарам его европейскости. Ибо насколько верно, что дух этот (с Петра Великого) возникает в равнении на Европу и хочет быть Европой, настолько же верно, что при такой идиосинкразии едва ли можно было избежать сильнейшего противоэффекта. Ничто так не выдает с головой поклонника и фанатика Европы, как торопливость и рвение быть больше Европой, чем сама Европа когда–либо могла и хотела быть. Что в европейской топике выглядит исключением, в русской трансплантации оказывается чуть ли не нормой и узусом. Задолго до Ницше дух этот был, к примеру, прирожденным ницшеанцем, и то, что позже он с таким восторгом приветствовал певца Заратустры, следовало бы, наверное, отнести на счет удивления, испытанного им от встречи со своим собственным пра– и прообразом в чужеземце и на чужом языке. Здесь и следовало бы искать источник срывов и провалов становящейся русской культуры: в безудержном равнении на Европу, всё равно, в западнической или славянофильской роли, проморгали «годы учения» Европы, полагая мигом перенестись в её «годы странствия». Едва посеяв семена, сразу же взялись за жатву, после чего и стали «полем чудес»: с непредсказуемым будущим и непредсказуемым прошлым.
2.
Истина — естина. Характерно, что эта фундаментальная онтология лежит в основе не только «Столпа и утверждения истины» священника Павла Флоренского, но и шестовского «Апофеоза беспочвенности», по сути всего «нового религиозного сознания» в России. Истина есть — не в смысле логически помысленного, гегелевского бытия, а как жизнь и путь жизни. Истина (в иной артикуляции, правда; по А. Белому, правда) есть жизнь, или её нет вообще; мы концентрируемся на узловых моментах русского философского сознания, и с чем мы сталкиваемся прежде всего, так это с какой–то бьющей через край витальностью, которой больше всего ненавистны форма и порядок. Наверное, буянить получается не только в кабаках, но и в «мире Софии»; в стране, в первый университет которой были, за неимением собственных, приглашены из Германии не только профессора, но и студенты, можно было поставить сапоги выше Шекспира, а в философии — на «500-сотый» день — и вовсе утереть немцам нос. Нужно было только перевести режим философии с профессионализма на допинг, стресс и исключительность, чтобы занимающимся ею не оставалось самим иного выбора, как становитьсяисключительными. Так они и философствовали: непрерывно атакуя и завоевывая миры, в которых им потом нечего было делать. Потомкам была задана нелегкая задача: разобраться в субстанции взрывчатого материала, и отличить действительные бомбы от петард. Быть философом — вообще хлопотное дело, а тем более в России. Тут даже студенты «идут на дело», начитавшись книг; старухе–процентщице в дурном сне не приснилось бы, что её зарубят топором по логике: «Аннушка уже разлила подсолнечное масло»; только «Аннушкой» в её случае доведется, как кажется, стать последнему французскому императору, Наполеону III, автору дельной книги о Цезаре, делящей человечество на «выдающихся гениев» и «посредственностей»[105]; книгу эту прочтет один полуголодный студент в романе, то есть, в России, и спишет с неё статью для журнальчика, которой, чтобы не оказаться плагиатом, придется стать quid juris умышленного убийства с отягчающими обстоятельствами. Словом, совсем как в Европе, только с точностью до наоборот: если в Европе кое–кто и додумался бы писать книги, чтобы не убивать, то здесь их как раз писали, чтобы убить. (Или — в инверсивном варианте — убивали, чтобы писать: случай В. Ропшина.) В России, которая вся вышла из своей литературы, больше, чем где–либо, всё и решала литература («учебник жизни», как–никак!); различными оказывались средства и уровень личной одаренности, так что, будь студент Раскольников столь же гениален, как полигистор Флоренский, он выяснял бы вопрос собственной избранности не с топором в руках, а «у водоразделов мысли», но и обратно: будь молодой студент–математик Флоренский, по выражению одного хваткого и умного литератора, уменьшен до заметности, как знать, может, и ему довелось бы свидеться со своим «Порфирием Петровичем». Просто для раскольниковскогоplacet experiri ему не хватало ни времени, ни сил; он должен был поспевать засвоим: «в каждом вопросе моим стремлением было углубиться в него до конца наличных возможностей»[106] — в поиске синтетического миросозерцания, того «цельного знания», краеугольные камни которого были заложены уже Вл. Соловьевым и которое задало тон духовной жизни России. Случай Флоренского оказывается и здесь показательным в масштабах не только русской, но и европейской духовной жизни. «Мои занятия математикой и физикой привели меня к признанию формальной возможности основ общечеловеческого миросозерцания»[107]. Напрашивается аналогия с Лейбницем, поставившим себе двухсотлетием раньше ту же задачу. Лейбниц — создатель «Characteristica generalis» — протягивает руку Флоренскому, автору «У водоразделов мысли»: путь оба раза ведет через математические и физические штудии к созданию формальной возможности некоего общечеловеческого миросозерцания, и оба раза математика используется не как теоретическая техника счисления, а как «анализ идей» (по Лейбницу), соответственно (по Флоренскому) как «пифагорейская музыка», summa summarum — (по Новалису) как «жизнь Богов». Понятая так, она оказывается источником самых разнообразных дедукций: надо вспомнить more geometrico молодого Лейбница, скажем, его меморандум Людовику XIV о значении Египта для мировой политики, его прогноз относительно польских наследников трона или его соображения по проблемам христианской догматики. Но вспомнить можно и о не менее удивительных алгоритмах Флоренского: от рафинированных нюансов софиологии до, скажем, теории зубчатых механизмов или исследования вечномерзлых грунтов. Речь в обоих случаях идет о том, чтобы, говоря словами Гёте, ограничить себя «всем». В России — это должно быть сказано со всей остротой — в условиях, где у иной европейской знаменитости поплыла бы почва под ногами. Из письма Вернадскому от 9 сентября 1929 года: «За долгое время моих занятий в области истории мысли […] у меня накопился значительный материал […]. Было бы нецелесообразно дать этому материалу погибнуть, так как лишь при известном, редко встречающемся сочетании интересов подобные вопросы могут быть освещаемы, а мне приходилось пользоваться для освещения не только обычными ресурсами вроде математики, математического языкознания, философии и т. п., но и прибегать к данным лингвистическим, филологическим и археологическим»[108]. Подумаем однажды над этим признанием, допустив, что можно будет еще постичь его смыслы. Немногие десятилетия отделяют его от нашего времени, в котором названная комбинация интересов не лежит уже даже в области возможного — разве что в научноисследовательских институтах, где каждый озабочен только тем, чтобы муравейно внести свой инфинитезимальный вклад специалиста в никем уже не обозримое целое. Ибо: одно дело — мыслитель, находящийся в академиях и институтах, другое дело — мыслитель, находящий академии и институты в себе. В соотношении: Лейбниц в Академии и Академия в Лейбнице, первая перспектива относится ко второй, как парик к голове… Мы говорим: Аристотель, Леонардо, Лейбниц, Гёте, и мы не сомневаемся в действенности этих имен, там, где каждое из них потенцирует–таки — поверх всяких академий и обществ — целые культурно–исторические эпохи. Имя совпадает с индивидуальностью, а индивидуальность означает мир и судьбу: высокие башни всегда вызывают на себя порывы ветра. Было бы в самом деле крайне «нецелесообразно» дать погибнуть материалу, имманентному одному из названных имен. Да и чем был бы наш мир, если бы у упомянутых мужей была насильственно отнята возможностьреализовать себя! Какое там! если бы у них была отнята жизнь!…
3.
Фауст в России непоколебимо стоит под знаком верленовской строки: Ce fut bizarre et Satan dut rire[109]. 8 декабря 1937 года заключенный Павел Флоренский вместе с другими пересланными из Соловецкого лагеря в Ленинградскую тюрьму арестантами — в общей сложности 509 человек — был расстрелян. Очевидно, казнь приурочили к празднику следующего дня, когда весь советский народ радостно шел к урнам, ликуя Сталинской Конституции и единогласно голосуя за блок всех со всеми. Можно как угодно реагировать на этот факт: немотой или междометиями. Но если мысленным порывом мировоззрителя Флоренского было до конца наличных возможностей углубиться в каждую проблему, то что же и остается ему в нынешней форме его существования, как не погрузиться в эту свою, такую, смерть, чтобы осмыслить и осилить её в духе!
4.
Странной двойственностью отмечен объемлющий дух Павла Флоренского. Некой почти манихейской противоположностью фундирован антиномизм его мышления и чувства. Этот священник, овеянный в оценке современников апокалиптическим ореолом значимости и готовый вот–вот стать «doctor angelicus» православной церкви, шел рискованными путями. Богословская диалектика в его основном труде «Столп и утверждение истины» выглядит понятийным покрывалом, за которым разыгрываются страсти в стиле Достоевского: разорванность, отчаяние, распад. Мысль Бердяева[110] о «человеческой породе, открытой Достоевским», подтверждена и здесь в полной мере. Суть, конечно, не дуализме и антиномизме его мышления, а в том, как он их мыслит. Вот несколько мест, по которым явно опознается это своеобразие: «Бессильное усилие человеческого рассудка примирить противоречия, вялую попытку напрячься давно пора отразить бодрым признанием противоречивости» (с. 157 «Столпа и утверждения истины», изд. 1914 года). Страницей дальше: «[…] чем ярче сияет Истина Трисиятельного Света, […] тем резче чернеют мировые трещины. Трещины во всем!» Еще через одну страницу: «Самый разум раздроблен и расколот». Далее, через две страницы: «Объект религии, падая с неба духовного переживания в плотяность рассудка, неминуемо раскалывается тут на аспекты, исключающие друг друга». Наконец, к концу книги (с. 483): «Антиномии раскалывают всё наше существо, всю тварную жизнь. Всюду и везде противоречия!» Трещина, как онтологический принцип? Исключительно смелая мысль. Но тогда, наверное, всё же в форме признания: где же еще и проходить мировой трещине, как не сквозь душу говорящего о ней\ При этом совершенно безразлично, о каких антиномиях идет речь: метафизических или патологических. В лекции, прочитанной священником Флоренским 11/12 мая 1918 года в Москве на тему «Культ и философия», фигурируют по соседству: Нотр—Дам и Мулэн Руж, церковь и трактир, американский инструмент для взламывания замков и заповедь Не укради, Великий покаянный канон Андрея Критского и сочинения маркиза де Сада. Ну чем не младший Карамазов, готовый опередить посмертный суд Божий прижизненным судом Линча, расстреляв садиста, спустившего псов на беззащитного ребенка!
5.
«Всюду и везде противоречия!» — Одаренный математик со всеми признаками гениального изобретателя, и вместе священник и богослов, как бы вот–вот вернувшийся в Москву с Никейского или Эфесского собора. Средневековая топика, позволяющая монаху изобретать порох, а основателю астрономии быть священником, никак не вписывается в топику современности, разве что в форме чудачества или парадокса. Коперник в сутане — всё еще норма восприятия, но православный батюшка в рясе на заседаниях комиссии ГОЭЛГО, более того: один из инициаторов электрификации России и автор объемистого труда «Диэлектрики и их применение» — это уже чересчур. Любопытно при всем, что обе крайности никак не кажутся у Флоренского несовместимыми, но они и не иерархичны. Математик не дает запугать себя священнику, но и священник не стесняется поверять литургические тонкости математической логикой. Паскаль («один из наиболее искренних людей, живших на земле»), гениальный математик, но не священник, должен был–таки отречься от математики, едва столкнувшись с богословской проблематикой. Случай Флоренского умещается в тип жюль–верновского инженера, который в полном здравии и трезвом уме облекается в рясу и даже примеривается к роли некоего Лютера православной церкви. Или еще: надо подумать о Савонароле и Фарадее, без тени смущения сошедшихся в одном лице. Как если бы в этом срезе апокалиптика и инженера не было ничего чудовищного! Ленинская формула: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны», в редакции Флоренского: «Апокалипсис — это православие плюс электрификация всей страны»: не знаешь, где этот апокалипсис ярче бросается в глаза — в проповедях на тему Откровенияили, скажем, в 127 статьях, написанных для «Технической энциклопедии». Одно несомненно: роль этого человека в русской культурной жизни первых десятилетий XX века своеобразно скликается с ролью Владимира Соловьева. Если последнего называли «философским детоводителем к Христу», то Флоренского можно было бы назвать «энциклопедическим детоводителем к православной церкви». (Наверное, из всех приведенных, или почти приведенных, или на какой–то миг приведенных им в лоно церкви «детей» — enfants terribles — наиболее трудным был В. В. Розанов.)
6.
Инженер, священник, богослов, но и… рафинированный ценитель художественных новшеств эпохи. Еще одна трещина, шокирующая взгляд с обоих концов. Да и как могло старое диккенсовское умонастроение совместиться с «style moderne»? «Столп и утверждение истины» кишмя кишит сюрпризами такого рода. Уже само оформление книги с аллегорическими виньетками достаточно сомнительного вкуса вызывает интерес; выглядит так, словно перелистываешь какой–то из многочисленных декадентских журналов начала века, скажем, «Мир искусства» или «Весы». В самом средоточии этой причудливой бижутерии мандельштамовские «горы голубого дряхлого стекла»: «опыт» — так стоит в подзаголовке — «православной феодицеи» (именно: не тео–, а феодицеи, которая с равным успехом могла бы быть иправописательной). Настоящая Вальпургиева ночь, где встречаются богословы и вольнодумцы, математики и демонологи, отцы церкви и чернокнижники, мистики и позитивисты, преподобный Макарий Великий Египетский и Кант, святой Серафим Саровский и Бальмонт. Даже Зигмунд Фрейд, shooting star неосатанизма, вносит свою лепту в опыт православной феодицеи, причем не случайно, а вполне рассчитано и положительно. — На этом последнем случае стоит вкратце остановиться.
7.
Книга «Столп и утверждение истины» не делает тайны из своей бездонной ненависти к Возрождению, той самой ненависти, которая в свое время стоила жизни неис–товому фра Джироламо Савонароле. Мишенью служит Леонардо да Винчи, совокупность «скепсиса и безбожия». На странице 174 характеризуется улыбка Моны Лизы: «В сущности, это — улыбка греха, соблазна и прелести, — улыбка блудная и растленная, ничего положительного не выражающая (— в том–то и загадочность её! — ), кроме какого–то внутреннего смущения, какой–то внутренней смуты духа, но — и нераскаянности». Цифра сноски отсылает читателя к обширному разделу примечаний и мелких заметок в конце книги, украшенному очередной виньеткой с многозначительным девизом: «Ne te quaesiveris extra» — «He ищи себя вовне». В соответствующем примечании характеристика улыбки Моны Лизы подкрепляется ссылкой на Фрейда — стало быть, именно названным образом: не «вовне», а «внутри». Я цитирую: «Еще с большею определенностью настаивает на мысли о коренном извращении души Леонардо–да–Винчи и видит в его творчестве „сублимацию“ полового чувства, не нашедшего нормальных [! — К. С.] выходов и отравившего всю личность, Фрейд». То, что православный священник заходит в своем увлечении «трещинами» так далеко, что апеллирует к авторитету психоаналитика, — факт, который надлежит не комментировать, а принять к сведению. Удивляет другое. Неужели от этого азартного богослова, заключающего пакт с Фрейдом против Леонардо, могло ускользнуть, что аппетит фрейдизма едва ли ограничится одним Леонардо? Что для такого психолога нижнего белья, как Фрейд, не менее лакомым куском могла бы при случае стать и православная церковь, причем именно в этой столь открытой и дружелюбной к нему версии феодиции.
8.
Еще одна характерная выписка (с. 483): «Есть два мира, и мир этот весь рассыпается в противоречиях, — если только не живет силами того мира. В настроении — противо–чувствия, в волении — противо–желания, в думах — противо–мыслия. Антиномии раскалывают всё наше существо, всю тварную жизнь. […] И напротив, в вере, препобеждающей антиномии сознания и пробивающейся сквозь их всеудушливый слой, обретается каменное утверждение, от которого можно работать на преодоление антиномий действительности. Но как подойти к тому Камню Веры?» Ответ ясен, как очевидность: sola fide — только верою. Читаем дальше (с. 489): «Столп Истины — это Церковь, это достоверность, это духовный закон тождества, это подвиг, это Триипостасное Единство, это свет Фаворский, это Дух Святой, это целомудрие, это София, это Пречистая Дева, это дружба, это — паки Церковь». Остается спросить: кому собственно это говорится? Если верующим, то стоит ли почти тысячестраничным текстом ломиться в открытые двери? Но, похоже, что пафос этой преодолевающей трещины и расколотости книги устремлен как раз к закрытым дверям, универсальной отмычкой которых он притязает быть. Сказано же со всей ясностью на странице 489: «Как же именно, в таком случае, ухватиться за Столп Истины?» Ответ: «Не знаем, и знать не можем. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь Вечности. Это непостижимо, но это — так». Всего три предложения, и в трех предложениях три очередные трещины, на этот раз едва ли преодолеваемые. Предложение первое буквально воспроизводит агностическое credo берлинского академика Дюбуа—Реймона: Ignoramus et ignorabimus. В предложении втором вера, сдвигающая горы, сдвигает почтенного академика в трансцендентность: сквозь зияющие трещины своего рассудка он созерцает лазурь Вечности. Третье предложение — это «каменное утверждение» Столпа Истины на рыхлом фундаменте предложения первого: «Не знаем, и знать не можем». И чтобы отбить всякую охоту к спору у дьявола, интересы которого, как известно, охватывают не только логику и диалектику, но и область диэлектриков и их применения, — последний удар по шляпке гвоздя: «Это непостижимо, но это — так».
9.
Допустим, что это и в самом деле так — для паствы и самих пастырей; как же быть с другими, и даже не просто с теми, для кого это не так, а с теми, кто хоть и убежден внутренне, что это так, но ищет утверждения не в православной теодицее, а в достоверности опыта, в котором подвиг веры оказался бы не менее надежным знанием, чем, скажем, математические истины? Антиномии действительно раскалывают наше существо, и среди них центральная и, возможно, наиболее тяжкая: между верой и знанием. А «Столп и утверждение истины» утверждает по сути не истину, а только эту фундаментальную трещину: хоть мы не знаем этого и знать не можем, зато мы можем в это верить. Но как же тогда быть со знанием, точнее: с нашей неотвратимой потребностью в знании? Приди заматерелый агностик Дюбуа- Реймон к вере, это не вышло бы за рамки его личной судьбы. Мало ли что может случиться с агностиком! Такая вера оказалась бы перед безутешным выбором: быть либо «воскресной», либо же утверждать себя и в будние дни, но тогда за счет доверовавшегося до смерти гениального математика, как в случае Паскаля. Случай Флоренского исключение: математик в нем выстоял ignorabmusпрaвослaвной теодицеи. Столп его истины оказался фактически трещиной: между математиком, опережающим свое время, и богословом, решительно не дотягивающимся до него.
10.
Еще раз: «в каждом вопросе моим стремлением было углубиться в него до конца наличных возможностей». Что значит: «наличных возможностей»? И где они кончаются? Где кончается возможноеФлоренского и начинается его невозможное? Симптомы, со всех концов, бросаются в глаза. Подумаем хотя бы о кассандрическом анализе сновидений в начале книги «Иконостас» или об удивительном толковании Данте в конце книги «Мнимости в геометрии». Симптомы заостряются в вопрос о возможности понимания, как это и формулируется в «Столпе и утверждении истины». Острота и радикальность мысли, казалось бы, нацелены на исчерпание возможного. Выясняется, что рассудок, являющийся источником всяческих антиномий, ничуть не первичен, и что в основе его лежит некая далеко простирающаяся способность. Еще шаг, и мысль ворвалась бы в очистительную зону имагинации, духовного видения. Вместо этого мысль налетает на «каменное утверждение»: «Столп и утверждение истины — это Церковь». Какаяцерковь? Если своя, то как быть с другими? С теми, что троцкистско–бухаринского уклона… Ну, конечно, там давно уже у дел Антихрист. По логике: «Православная церковь всесильна, потому что она верна!» Я сопоставляю две страницы «Столпа»: 122-ую и 568-ую. На первой богословие охарактеризовано — курсивом — как опытная наука. Курсив, надо полагать, имеет целью засвидетельствовать буквальность характеристики; «опытная наука» — это, таким образом, ни lapsus calami, ни epitheton ornons. Несомненно, автор, очень сведущий человек по части эмпирических наук, отдавал себе отчет в скандальном смысле своего утверждения. Мы воздержимся от дискуссии на тему, не есть ли эмпирическое богословие contradictio in adjecto. Спросим только: если богословие — наука, к тому же опытная, то где же и искать её отличие от естествознания, как не в различных предметах опыта: чувственном в случае естествознания, соответственно, сверхчувственном в богословии? Откроем теперь другую из названных страниц. Мы найдем там длинную (с охватом и следующей страницы) выдержку из книги Рудольфа Штейнера «Теософия», как раз того места, где речь идет о различных — в переносном смысле — цветах человеческой «ауры». Что прежде всего бросается в глаза, так это спокойный тон изложения, кажущийся почти неправдоподобным, если учесть, что имя Штейнера в русской религиозно–философской, в особенности богословской литературе начала века (в этом не изменилось ровным счетом ничего и по сей день) упоминалось с пеной у рта. Здесь же нам явлен редчайший случай, когда Штейнер цитируется не только спокойно, но и объективно. Бесспорно, этот священник шел опасными путями. Да и что могло быть опаснее опытного, стало быть, покоящегося на опыте богословия? Длинная выдержка из Штейнера пришлась в «Столпе и утверждении истины» как раз кстати; здесь дело шло именно о сверхчувственном опыте. Да, это было бы неслыханным новшеством и прорывом в перспективы, не будь выдержка заведомо предварена предостережением, после которого смелый почин опытного богословия оказывается попросту — недоразумением. Предостережение, поистине, являет образец «каменного утверждения» — я цитирую: «Не станем сейчас рассуждать о нежелательности этого преждевременного „отверзения чувств“; факт тот, что оно бывает». Вот так! Наверное, в этой маленькой оговорке можно найти больше «трещин», чем в «растленной» улыбке Моны Лизы.
11.
Начнем с конца. Признается некий факт, реальность, стало быть, онтологическая достоверность (истина–естина) какого–то явления, именно: некой нечувственной научной эмпирии. Тут же признание это трижды диффамируется, причем — на одном дыхании. Во–первых: явление объявляется «нежелательным». Во–вторых: ему приписывается «преждевременность». В-третьих: рекомендуется не рассуждать о нем «сейчас». Возникает вопрос: Что мешает богослову, намеревающемуся стать эмпириком, порассуждать о каком–то во всех смыслах уникальном эмпирическом факте? Это можно было бы еще понять, иди речь о физиках, психологах и прочих фанатиках чувственных фактов; сверхчувственное, да еще и опытно взятое, лежит вне их профессиональной компетентности. Но кому же, как не богослову, дерзающему к тому же идти опытным путем, пристало бы внимательнейшим образом остановиться на этого рода опыте? На каком основании он a priori объявляет его «нежелательным»? Можно ли представить себе ботаника, апеллирующего к нежелательности исследования лечебных растений? Не честнее было бы сказать: это нежелательно, потому что это тревожно, а тревожно это, потому что ставит под сомнение незыблемость одной из заведомо фиксированных (причем под маской «опыта») догм? Сюда относится и «преждевременность». Свободный ум наверняка сочтет излишним обсуждать эту оскорбительную предпосылку, где речь идет даже не о субъективной стороне дела («преждевременный», четырехлетний Моцарт!), а, скорее, об объективной, исторической. Преждевременным называется здесь «отверзение чувств» — что значит: какой–то новый опыт, обещающий не только избавить рассудок от общеобязательного слабоумия, но и делающий его пригодным как раз для сферы религиозного опыта. Мысль, достигнув порога возможностей, сталкивается со своим двойником, отбрасывающим «опытное богословие» обратно, в рутину рафинированной филологии. Тем временем «математик» и «инженер» продолжают — как ни в чем не бывало — разрабатывать гениальные наброски неэвклидовой геометрии в области электротехники и исследовать хозяйственное значение водорослей.
12.
То, что Павел Флоренский извлечен сегодня из небытия и снова включен в восстанавливаемую связь времен, имеет отношение, скорее, к археологии, чем к злобе дня. Его раскопали, как раскапывают рукописи, и для нас, сегодняшних, он, наверное, не менее древен, чем кумранские свитки, хотя, наверное, и не более понятен. Рукописи не горят, зато они сдаются в музей; по музею идешь, как по кладбищу, — молча и торжественно, затаив дыхание. Дышать начинаешь снова: у выхода. Но дух — дышит всегда. В рукописях он затаил дыхание. Опасность вспомненного Флоренского (вспомненных всех) в том, что, раскопанный, он еще раз попадает в нежизнь, причем на сей раз не от руки палача, а усилиями почитателей. «Предательство клерков» всё еще остается темой дня и века, а страшнее всего, как известно, предают того, кому следуют и кого почитают. Предать, значит отнять у умершего и ставшего духом человека его настоящее, повязав его прошлым и переоборудовав прошлое под спиритический сеанс, на котором эвоциру ется лжедух, он же астральный труп бывшего священника с заспиртованным в нем православием. Выйти из круга спиритизма можно, воспринимая дух не в том, чем он БЫЛ, а в том, что он ЕСТЬ. Достойное изумления литературное наследие Флоренского интересует нас в той мере, в какой мы в состоянии учиться отгадывать по нему его нынешнее существование. Дух Мира, откликавшийся на это имя в одной из своих земных оболочек, опознается не по памятке, а по своей сиюминутно проживаемой жизни, в которой он так же мало похож на названную оболочку, как мало мимика лица похожа на фотографически удержанное (пусть даже прекраснейшее) мгновение из жизни этого лица. Не следует лишь забывать: пакт мыслителя Флоренского с православной церковью нисколько не исчерпал возможностей этого русского Фауста.
Базель, 1 октября 2005 года.
Памяти друга
Публикуется впервые
Эти беглые строки были задуманы как послесловие к книге Эрика Рафаэловича Атаяна «Душа и её отображения», над которой он работал в последние месяцы жизни и которую так и не дописал. Надо было говорить о книге, а говорилось об авторе. В конце концов, послесловием эти несколько страниц не стали, а стали тем, как я их и озаглавил: «памяти друга». Хотя, наверное, при случае они могли бы сгодиться и как послесловие, если знать, что книга — это только более концентрированная и очищенная от случайного авторская жизнь. Но именно этого и не желают знать сегодняшние (современные или уже постсовременные) литературоведы, для которых автор не больше, чем досадная помеха, мешающая адекватному прочтению текста. Если в соотношении автор–читатели автора можно уподобить «богу» — deus minor, — а читателей верующим, то роль теологов–посредников берут на себя, несомненно, литературоведы. Структуралистские (как и теологические) опекуны пытаются даже избавиться от автора, который мешает–де объективному усвоению содержания; объявленная ими смерть автора (этот литературоведческий рефлекс смерти Бога), оказалась на деле лишь реверансом читателю, который в наш век взбесившегося либерализма не хочет читать ничего, чего при случае не мог бы написать и сам. Таково прямое следствие ученого слабоумия, сведшего книгу к тексту, текст к денотату, денотат к сигнификату и прочая, прочая, а под конец и вовсе додумавшегося до того, что содержание книги не вычитывается из книги, а вчитывается в неё читателем. Нет спору, что для некоторого рода книг это так и есть; тезис парижского модника Барта о смерти автора иной читатель с удовольствием отнес бы к самому Барту, после чего зачеркнул бы его имя на титулблатте его книг и вписал бы туда свое. Но книга — настоящая книга — меньше всего обращена к читателю, а если и обращена, то не как текст или структура, а как автор собственнолично, или, иначе, как текст, о котором автор говорит не: моя книга, а: я, как говорят же, показывая на себя, не: мое тело, а: я. Оттого нет ничего труднее, чем читать книгу, в которой видишь не просто мысли, а автора сквозь мысли. Начинаешь догадываться, что если книга называется «Душа и её отображения», то думать надо здесь не о той абстрактной душе, которой, после того как её дискредитировали теологи, психологи, лирики и уже кто попало, не оставалось иного выбора, как влачить свое существование в качестве функции от тела, а о душе совершенно конкретной, единственный собственник которой Мир и которая принадлежит «нам» не больше, чем воздух в легких; сказать: «моя» душа, всё равно, что сказать, «мой» воздух; но сказать: «мой» воздух, можно лишь выдыхая воздух; если «я» всерьез считаю его «своим», то мне пришлось бы для этого задержать его в легких и держать его там ровно столько времени, пока он не выдохся бы сам и уже безвозвратно… Писать к книге «Душа и её отображения» отвлеченное, объективное (в расхожем смысле) послесловие я не смог бы уже по той причине, что автор был мне другом, во всех смыслах старшим и во всех смыслах другом; очевидно, мне недостает элементарной отстраненности, потребной для такого рода занятий; читая рукопись, я всё еще слышу голос человека, который её написал, вижу жизнь его лица, и никак — вот уже третий год никак — не могу свыкнуться с мыслью, что он умер. Не в смысле: перестал быть, а как раз наоборот: впервые начал быть, став сам как книга, на этот раз не в отображенности Души Мира, а в оригинале; если верно, что после смерти меняются лица на фотографиях, то насколько же это верно и в отношении книг. Эту (незаконченную) рукопись я прочитал уже после; необыкновенно было читать её в оптике смерти, то есть, воспринимая написавшего её не в прошедшем времени, а в настоящем, его настоящем, которое отличается от «нашего» иной темпоральностью телесности: тело умершего, в котором он, нынешний, живет, есть его прижизненная мысль… Я вспоминаю наши долгие разговоры о Шеллинге, столь любимом, философски родном, Шеллинге, при одном упоминании которого у Э. А. светлело лицо, и пытаюсь продумать вместе с ним, нынешним, следующую мысль Шеллинга: «Смерть человека, — говорит Шеллинг 119120, — хочет быть не столько расторжением, сколько эссентификацией, в которой погибает только случайное, между тем как сущность, то, что собственно и есть сам человек, сохраняется. Ибо ни один человек не являет себя при жизни полностью как тот, кто он Есть. После смерти он есть просто Он сам. В этом лежит отрадность смерти для одних и её ужасность для других». Иначе: живущий — умственно отсталый; он всё еще гадает о духе, в котором умерший живет; то, что мы так часто мыслили вдвоем и вслух (reductio ad essentiam, обозначаемую как смерть), Э. А. живет теперь: гражданин страны мыслей, между прочим, и тех мыслей, которые составляют содержание его книги. Углубляясь в мысль и в необходимость её словесной выделки, автор ведь не делает ничего иного, как избавляется от случайностей душевного быта и учится сводить себя к существенному, что по–нефилософски и означает: умирать. Если так называемые живущие не воспринимают так называемых умерших, то, очевидно, по той же причине, по которой они не воспринимают существенное. «Всё полно Богов, демонов и душ». И что же! Мы глядим в упор на души и не видим ровным счетом ничего, кроме этикеток, приличия ради каталогизируемых нами в «символические формы». Привередливый Фриц Маутнер вспоминает свой разговор с Вернером Зименсом[111]: он «объяснил мне однажды […] сущность своей динамо–машины в следующих словах: „Я секу силу ровно столько времени, пока она не начинает тянуть автомобиль“. На мой вопрос, что же такое он сечет, он ответил, смеясь: „Мне абсолютно всё равно, что это такое! Главное, чтобы оно полностью выкладывалось под кнутом“». Любопытно было бы поразмыслить над этим признанием в свете следующего сообщения духовной науки. Рудольф Штейнер в Штутгарте 26 августа 1906 года: «Также и в силах природы мы должны видеть действия раз воплощенных людей». Изобретатель–весельчак сечет что–то, не имея ни малейшего представления о том, что именно; вряд ли ему стало бы веселее, узнай он, что сечет он умерших: не вообще умерших, а себе подобных, тех, которые, упустив шанс домыслиться при жизни до мыслей мира, оказались посмертно — «лошадиными силами», только и годными на то, чтобы тянуть автомобили. Но мир — не запатентованный мир инженеров и потребителей, а переживаемый мир, — есть мысли философов, как их бессмертные души. Memento mori читается, поэтому, не столько патетически, сколько практически; быть философом оттого так трудно, что быть философом значит: опознавать в своих мыслях настоящее умерших… Это неудавшееся послесловие хочет быть единственно попыткой, эскизом введения в личность. Не пересказом, ни того менее интерпретацией, а рассказом об авторе, о тех своеобразиях его души, отображением которых, как я думаю, и являются его книги. Читая книгу «Душа и её отображения», я наново общаюсь с написавшим её другом; только теперь — из случайных нужд послесловия — она отталкивает меня в прошлое, в наше совместное прошлое, чтобы, хватаясь за соломинки памяти, я мог памятными образами заполнить предметный вакуум сиюминутности. Всё это, конечно же, для читателя — в надежде, что нижеследующие памятки оригинала помогут лучше разобраться в книжной копии. Возможен и иной вариант: испытание вакуумом — до той непредставимой черты, после которой пустота начинает звенеть неумолкающими голосами…
Первое впечатление от знакомства с Э. А.: общительность его молчания. Он молчал, а тебя, говорящего, пронимало нелепое чувство, что ты перебиваешь молчащего. Самое главное: его молчание не было гнетущим; он не давил им, но и не уходил в него, как в броню, от которой отскакивали чужие слова. Он вымалчивал мысль. Очень напряженную, но, возможно, оттого и подернутую каким–то оттягивающим юмором мысль. Тайновед языка, он дичился говорения, а когда говорил, то тихо, еле слышно, чуть ли не застенчиво. Чего в нем не было и в помине, так это неотразимой ветрености французского; Э. А., редкий знаток французского, был немцем (из тех, кому для этого вовсе не обязательно было родиться немцем, скорее, как раз не–немцем), каким–то первофеноменом немецкого, не в нынешнем сгинувшем смысле, а в старом, шубертовско–шеллинговском оригинале; он мог, не переводя дыхания, с таким же упоением продумывать Шеллинга, с каким он выпевал (буквально) Шуберта; никогда не забуду: однажды, засидевшись у него, я собирался уже уходить, как он предложил вдруг спеть вместе, как бы «на посошок»; он уселся за рояль, усадил меня рядом, открыл ноты, шубертовское «Зимнее странствие», и мы (мы были одни) заголосили в полную грудь; конечно же, он был немцем, но в его немецкости не было случайностей немецкого, а была самосведенность к немецкой эссенциальности, к тому именно, что цивилизованный мир так ненавидит в немцах, предпочитающих метаболизмам романских жизнелюбов смертоносность мыслительных процессов. Страх француза и победителя Клемансо («Эти люди любят смерть») и есть страх перед мыслью: потому что, когда немец мыслит (если он мыслит), он делает с вещами то самое, что делает с ними смерть: освобождает их от случайностей презумпции c'est la vie и сводит их полностью к тому, что они суть. Блеск и нищета немца: немец всегда романтик, неважно, в какой специальности и при каком раскладе: он романтик, даже если он политэконом (как Зомбарт), юрист (как Адам Мюллер) или даже чиновник (как Вальтер Ратенау); это значит, он бодрствует, когда он спит, соответственно: спит, когда бодрствует. Нет сомнений, что такая диалектика сулит неслыханные выигрыши поэту, мистику или духовидцу; но было бы во всех отношениях опрометчивым приближаться с нею к миру политики. Представить себе политически вменяемого немца (Бисмарка мы исключаем как исключительного) столь же неадекватная затея, как представить себе английского политика, настольной книгой которого были бы, скажем, «Письма об эстетическом воспитании» Шиллера. В том, что Э. А. увлекся политикой в период перестроечного хаоса и послеперестроечного распада, не было ничего удивительного; политическая инфлюэнца не пощадила в эти годы никого или почти никого. Удивительным было другое: как он дал себя ею увлечь и как сам в неё вовлекся; глядя на его одухотворенное лицо в гипертонические моменты его политизированного сознания, невольно приходилось думать не о сознании, а о подсознании; его настолько воодушевлял сам прорыв свершающегося, что он, казалось бы, вовсе не думал о том, куда же несет эту стихию. Он и в мыслях не допускал очевидности, насколько он, единственный, неповторимый, незащищенный, был несоизмерим с толпой, выпущенной разом из всех раскупоренных бутылок послесоветского беспредела; сказать ему об этом, значило бы заставить его поморщиться и поменять индекс своей молчаливости с общительности на застегнутость; пожалуй, это был единственный пункт в наших отношениях, где он, так принявший меня в свое сердце, переставал меня любить. Совсем по–блоковски он хотел, чтобы слушали «музыкуреволюции»; он смотрел на извечный балаган обманутых и обманщиков и вчитывал в них себя, свое отображение, как если бы некто Фуртвенглер спроецировал мощь своих берлинских филармоников на уличных горлохватов и горлохваток. Прямые и опосредованные свидетельства этой аберрации можно найти и на страницах книги «Душа и её отображения»; для меня бесспорно: энтузиазм Э. А. коренился не в политических реалиях, как таковых, а в собственном отображении этих реалий; подобно герою Пруста, он влюбился в то, что сам же вдумал в псевдогаврошей и псевдокозетт митингующих ереванских улиц. Теперь уже, из респективы пережитого, можно сказать: события армянской послесоветской истории оказались недостойны Э. А. Они попросту предали его: юные пламенные создания с впалыми щеками, которые, едва заполучив свободу, ухитрились настолько раздобреть, что с трудом вылезали из реквизированных у старой власти черных лимузинов с антеннами… В то время мы много говорили о Гегеле. Я учился у Э. А. читать «Феноменологию духа» не только глазами, но и ушами. Его уроки были невероятны. Находись он в более адекватной университетской атмосфере и пиши он о Гегеле, его имя наверняка упоминалось бы в одном ряду со специалистами вроде Александра Кожева или Жана Ипполита. Когда позднее, уже живя на Западе, я написал однажды о фуртвенглеровском неистовстве гегелевского шедевра, это было отголоском наших бесед о Гегеле. Чего я, впрочем, никак не мог понять, так это его страстного желания услышать гегелевский дух говорящим по–армянски; больше, чем о вкусе, дело шло здесь для меня о метафизической прагматике; я спрашивал (себя, а не его): «Но почему?», и не мог придумать ответа. Помню, как мы смеялись, когда он однажды вслух прочитал отрывок из Гегеля по–французски, сначала на чистом французском, а потом почему–то с грузинским акцентом, со сталинскими интонациями; это было ужасно смешно. Я никак не мог взять в толк, отчего же, смеясь над французским — грузинским, украинским, румынским, каким еще — Гегелем, не посмеяться бы и над армянским! (Исключение составил бы, пожалуй, русский, шпетовский, Гегель: редчайший случай воссоздания, при котором трудно отделаться от мысли, что, пиши Гегель свою «Феноменологию» по–русски, он написал бы её слово в слово так, как Шпет её перевел.) Неадекватность момента заключалась даже не в том, что народ, веками живущий не в истории, вдруг попал в самое пекло её, а в том, что он при этом не ощутил диссонанса, за диссонансом же опасности, возникшей там, где приманкой оказалась всеобщая свобода: не индивидуально произведенная, а (словцо как раз под стать моменту) — халявная. Протрезвление наступило, когда ветры свободы, продувавшие затхлость феллахизированного сознания, утихли, и дорвавшиеся до пирога экспоненты армянского Гегеля обнаружили вдруг такой аппетит, перед которым спасовали даже бывалые желудки коммунистов. Я думаю, увлеченность Э. А. была спроецированным вовне видением; он не измышлял сродство «Феноменологии духа» с шумом митингов и уличных свобод, а ви дел или, скорее, слышал его, но видел и слышал не на месте происшествия, а в собственном оптативном отображении. И хотя диагноз Гегеля[112]: «[…] никакого положительного произведения или действия всеобщая свобода создать не может; ей остается только негативное действование; она есть лишь фурия исчезновения», относился не только к французской революции, но к революции как таковой, Э. А. ухитрился увидеть в фурии исчезновения армянской смуты «девушку, подносящую плоды» (гегелевский образ, потрясший нас); годы спустя, при очередной из встреч во время моих редких наездов в Ереван, я имел–таки такт не напомнить ему о превращении «девушки», дважды появляющейся на страницах «Феноменологии духа», в головозадую функционерку; он и сам видел это и, наверняка, страдал от этого; ведь не мог же он, дышащий метафизикой как воздухом, не знать, что партия живет лишь постольку, поскольку проигрывает, и гибнет, поскольку побеждает (Гегель[113]: «Толькопобеждающая партия называется правительством, и именно в том, что она есть партия, непосредственно заключается необходимость её гибели»); не мог же он, радуясь изо дня в день переживаемой истории, когда власть от мерзавцев ставших переходила к мерзавцам становящимся, совсем не вспомнить следующих слов Гегеля, обращенных как к тем, кто уже победил, так и к тем, кто еще не проиграл: «Можно, конечно, — говорит Гегель, — в отдельных случаях продать медь вместо золота, поддельный вексель вместо настоящего, можно налгать и многим выдать проигранное сражение за выигранное, можно на некоторое время заставить поверить и во всякую другую ложь касательно чувственных вещей и отдельных событий; но в знании сущности, где сознание обладает непосредственной достоверностью себя самого, мысль об обмане отпадает полностью»… Я пишу об этом, не сводя счеты с умершим другом, а подчиняясь, как мне кажется, его волеизъявлению. Если, мысля, мы не живем, а умираем, то, продумывая эти мысли, я перемещаюсь в ту же субстанцию, где присутствует он, и если я не чувствую этого, то оттого лишь, что нахожусь всё еще под общим наркозом жизни, тогда как он уже пробудился. Одна из особенностей нашего посмертного существования заключается в том, что, как умершие, мы питаемся мыслями так называемых живущих; христианский Запад, как и христианский Восток, осмысливая мистерию смерти, не пошел дальше церемониальных сентиментальностей оплакивания с заключительным упокоением в Боге (атеистическим, с противоположного конца, симулякром которого является исчезновение в ничто); если осмысливать смерть духовнонаучно, как результат наблюдения, то она предстает не «черной дырой», всё равно — в христианской или атеистической оптике, адиалогом: общением между так называемыми умершими и так называемыми живущими, как основным фактом социального. Исключительно важным в этом общении является ясное представление его процесса. Живые, мы мыслим, чувствуем, волим не «сами»; «наши» мысли, чувства, желания суть умершие; но качество и степень разумности, соответственно неразумия их задаем как раз мы, в зависимости от того, служим ли мы умершим органами восприятия фактического или всё еще изводим их бесплодной болтовней вокруг всякого рода дискурсов.
Я говорю о потерях Э. А., ни на минуту не упуская из виду приобретений, а значит, недовольств его духа. Сказать: он был философ, можно, лишь оговорив смысл слова «философ»: не нынешний коррумпированный, а старый настоящий: Э. А. был метафизик, чувствующий себя в тепле и уюте среди ледяных абстракций. Конечно же, при том уровне метафизической чувствительности, которого он достиг, у него были все основания стать мизантропом, но и достаточно умной воли и вкуса избежать этого; он никогда не путал логику с моралью и никогда не подставлял под major силлогизма оценочных суждений (скажем, вместо школьно–логического: «все люди смертны» нечто типа: «все люди жалкие и подлые твари»). Характерно, что внешне он облекся в маску лингвиста, специалиста–языковеда; это помогало ему отвлекать недалеких малых с философского факультета (а в идеале и «отдел кадров») на ложный след. С другой стороны, он как бы нуждался в некоторой асимметрии, своего рода смещении перспектив для более острых контемпляций; похоже, лингвистика, в которую он профессионально облекся, была лишь хитростью его духа, замаскировавшегося под идеологически более нейтральную дисциплину, чтобы тем адекватнее и полнее отдаваться риску философских погружений. Кстати, Э. А., прежде чем поступить на филологический факультет, проучился около месяца на физико–математическом, перерешив едва ли не все задачи в объеме курса и — заскучав; он оставил физику, после того как смог её и потому что смог; представить его себе физиком было бы так же трудно, как богословом; я думаю, физика отпугнула его как раз реваншем теологии, не нашедшей для христианского Бога более подходящей теодицеи, чем вогнав его в измерительные приборы физического кабинета… Он предпочел филологию, не классическую, а никакую, нашу, Луначарскую, в которой студент стоял перед своеобразным выбором: либо не научиться тому, чему учили, либо же научиться тому, чему не учили; как оказалось, именно эта филология стала ему идеальным местом для его последнего решения: быть философом. Философом par excellence, неспособным ни к какой догматике и готовым к любым поворотам и капризам мысли. Э. А. был как–то пугающе молод душою; несомненно: карма Строителя Сольнеса не была его кармою; он никогда не обещал строить высоких башен, по той причине, что и не делал ничего иного, а при случае сам не прочь был напомнить иной Хильде, что юность — это возмездие. Он мыслил весомо и стремительно. Никогда не забуду: мы шли куда–то вместе; на костылях (их оставила ему с детства скарлатина) он несся так быстро — вперед и словно бы вверх, что я едва поспевал за ним. Он втыкал костыли в землю вперед от себя и мигом перелетал размеченные расстояния, равные моим двум или трем шагам (Лишь позже я догадался, что видел его мысль, уплотненную в имагинацию.) Вообще чем грузнее и неповоротливее он выглядел, тем воздушнее и взрывчатее была его мысль. Он увешивался тяжелыми гирляндами понятий и схем, и только потом начинал выпускать джиннов из бутылки; это поведение характерно для его книг, которые, начинаясь и продолжаясь в академическом режиме, периодически нарушались сейсмическими толчками; мотто Фюстель де Куланжа: «век анализа на день синтеза» выглядело в его случае нормой стиля: чем скованнее и пасмурнее являло себя пространство книги, тем неожиданнее и ярче ошеломляло оно в отдельных местах и особенно на исходе. Представьте себе себя, как читателя, движущимся, страница за страницей, сплошь и рядом среди «гиппопотамов» и вдруг натыкающимся на «мотыльков»; после тяжелых заупокойных академизмов, на фоне которых облегчением показалась бы не только головная боль, но и зубная, вас вдруг настигает неожиданное, непредсказуемое, головокружительное, что–то вроде: «О, бабочка, о, мусульманка,/В разрезанном саване вся,/ Жизняночка и умиранка,/ Такая большая — сия». Кстати, Э. А. открыл мне Мандельштама, а точнее, те нехоженности несказанного, в которых шевелились (прежде шепота) губы автора «Грифельной оды». Рикошет несколько диковатый: от Гегеля к Мандельштаму, но надо было, в самом деле, обладать музыкальностью Э. А., чтобы услышать здесь энгармонически равные синтаксисы; философский язык Гегеля, шокировавший Шиллера и Гёте, столь же непредсказуем, как поэтический язык Мандельштама: поле смысловых притягательностей растянуто в обоих случаях до поп plus ultra. Я думаю, Э. А. не в последнюю очередь оттого так тянулся к Гегелю, что слышал в нем, за косолапостью языковых движений, «флейты греческой тэту и йоту», равным образом: в Мандельштаме его поражала асимметричность скачков смысла, столь характерная для гегелевских логицизмов. Вообще он любил тяжелое, тяжеломысленное (в противовес легкомысленному), только тяжелое должно было не пыхтеть, а нести себя легко и ломко, совсем по–мандельштамовски:
«сестры тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы»; мы часто спорили на тему, а возможны ли и нужны ли сегодня «системы», вернее, спорил я; он, как всегда, понимающе молчал, ограничиваясь двумя–тремя замечаниями; в нем не было и следа от спорщика, и если он с чем–нибудь не соглашался, то давал об этом знать, скорее, мимикой, чем словами. Может, он и соглашался с моими аргументами, что время больших философий прошло и что философствовать сегодня, значит быть не домоседом бытия, а его бродягой; но суть лежала не в аргументах, а в том, что за аргументами и что несравненно значительнее всех аргументов, вообще мыслей: в человеке. Мышление Э. А. было эфирным слепком его индивидуальности, то есть, он мыслил, равняясь не на правильности или неправильности мысли, а на особенности своей (философской) судьбы, и если судьбой его было хранить верность метафизике большого стиля в линии от Плотина до Лейбница и Гегеля, то его не смущало, что сажать мощные платаны приходилось среди сплошных пней и пеньков марксистской, и даже не марксистской, а какой–то, чёрт знает какой, философии, выделяющей мысли по рефлексу слюновыделения. В этом смысле он был очень несовременным, больше того, он не хотел быть современным, и, терпя неизбежность чуждого ему времени, мысленно уходил в минувшие, более адекватные его строю времена. Это сулило несомненные выигрыши, но гораздо труднее было осознать потери… Книгу «Душа и её отображения» я читаю в этой двойной оптике гораздо интенсивнее, чем другие его книги; очевидно, по той причине, что в этой книге я общаюсь с ним, умершим, что значит: встречаюсь с ним в новой телесности его существования, каковая есть МЫСЛЬ. Разница между нами: им, уже умершим, и мною, еще живущим, в том, что высшее, мое, стало низшим, его. Я несу в себе мысль как высшее; он, ставший сам мыслью, несет в себе нечто, настолько же превышающее мысль, насколько эта последняя превосходит бренную физическую телесность. Иначе, он живет в мысли, как в теле: мысль, бывшая при жизни душой, стала теперь телом. Вопрос в том, что есть теперь душа этого тела… Случилось так, что Э. А. должен был в последние годы перевести на русский некоторые тексты Рудольфа Штейнера. Штейнера он знал давно (кажется, с того же времени, что и я) и принимал его полностью; но принимал всё в той же линии роскошного люциферического метафизицизма; я думаю, мой радикализм был ему совсем не по душе, во всяком случае разговоры наши на эту тему уходили концами в неопределенное. Сюда примешивалось еще и общение с так называемыми антропософами. Но ведь это неизбежно. Глупцы, долдонящие правду, неизбежны. И если они к тому же досадны, как соболезнование, выраженное в шутливой форме, ну и что же из этого! Разве это повод отвернуться от правды! Досадно, когда глупцы говорят: Штейнер никогда не ошибался, но досадно же, когда умные люди опровергают глупцов, ища ошибки Штейнера. Среди текстов, переведенных Э. А., были и штейнеровские вступительные статьи к естественнонаучным сочинениям Гёте. Мне радостно сознавать, что следующий отрывок (из статьи к «Изречениям в прозе») я могу процитировать в переводе моего друга: «Мысли другого человека должно рассматривать не как таковые — и принимать или отвергать их, — а нужно видеть в них вестников его индивидуальности. […] Философия никогда не выражает общезначимых истин, она описывает внутренний опыт философа, посредством которого последний толкует явления».
Базель, 13 декабря 2004 года
Из воспоминаний бывшего студента
Ex ungue Leonem
Моя первая встреча с этим человеком случилась двадцать лет назад [114], когда, студент–первокурсник, я тупо и тоскливо скучал в аудитории, где минутою позже должна была начаться первая лекция курса по истории античной литературы. Предшествующие занятия и на этот раз сделали свое дело: я успел получить дневную четырехчасовую порцию очередной дезинформации, о которой у меня уже тогда сложилось смутное представление как о ритуальной процедуре нравственного и умственного разложения. Позднейшие углубления подтвердили предчувствие: в течение пяти лет университетской жизни я безнаказанно подвергался черномагическим действиям деперсонализации и деморализации; изо дня в день повторялась однообразная, как труп, процедура выбивания из меня естественных задатков ума и заполнения меня никчемностью и профессиональной невменяемостью. Инстинкт судьбы слепо сопротивлялся и вынуждал к саботажу; многочисленными пропусками лекций, абсолютной фригидностью слуха во время занятий, наконец еле выцарапанными «уд.» на экзаменах я безотчетно оберегал свою силу суждения от порчи.
…Он вошел в аудиторию и врезался в память с первого же мига: высокий, внезапный, жданный. Подсознание моментально зафиксировало перемену атмосферы; несколько секунд потребовалось для того, чтобы возникла новая геометрия отношений, словно бы в катушку из проволоки был вложен магнит. Он вошел в аудиторию так, словно за её дверями было не изотропное университетское пространство, а декорации ибсеновских драм. Самое удивительное было то, что он не чувствовал вовсе неуместности нас и, от нас, себя; он вошел как ни в чем не бывало, всем видом своим подчеркивая нормальность случившегося, как если бы и в самом деле не было ничего ненормального в том, что серая и скучная аудитория, привыкшая к снотворным голосам проходимцев в профессорском звании, столкнулась вдруг с олицетворенным великолепием.
Память сохранила мне первый отпечаток, которому я не могу подобрать иного слова, кроме великолепие. Он был — великолепен, этот внезапно данный, отданный свидетель культуры: великолепен в обоих смыслах слова, переносном и буквальном; великолепие жило в нем не только тропом по сходству, но и оригиналом факта, где анатомия переставала служить медицине, служа законам кисти и резца. Совсем недавно, видя его на сцене, сидящим и опершимся на трость, я подумал о том, что должен был чувствовать Донателло, когда, уставившись глазами в изваянную им фигуру Цукконе, он закричал: «favella! favella!» — «да говори же! говори!»
Лекция, услышанная мною тогда и длившаяся полугодие, сложилась в годах в новый орган восприятия. Я лишь смутно подозревал, как такое вообще возможно, но я наверняка знал, что без такого «как»бессмысленным оказывалось всякое «что»; совсем недавно узнанные слова Ницше: «Мир может быть оправдан только как эстетический феномен», скликавшиеся с недавно же узнанной формулой Достоевского: «Красота спасет мир», все пятьдесят миров чуждых восторгов, от бессмертных шиллеровских «Писем об эстетическом воспитании» до гипнотической стилистики Флобера и Уайльда, вся бессонная, драгоценная, запойная контрабанда моего противоуниверситетского самообразования, мучительно распирающая меня фактом вопиющего несоответствия с действительностью, вдруг во мгновение ока разрешилась в консонанс. Дело было не в плохих или хороших лекциях; лекции временами оказывались вовсе не дурными, особенно на фоне невообразимого глумления над тематикой отдельных дисциплин; дело было в «как» этих лекций. Я видел (беря лучшие примеры) отлично осведомленные головы, сидящие на плечах, ниже которых прекращалась всякая осведомленность и начиналось нечто подобное тому, что в астрофизике называется парадоксами сингулярности. Передача знаний имитировала телеграф: предполагалось, что голова профессора подает сигналы, а голова студента фиксирует их на ленте; этому телеграфу был я обязан еще со школьной скамьи равнодушием к поэзии Пушкина (болезнь, освобождаться от которой приходилось потом годами). Ибо нет и не было более верного средства сделать человека антипушкинианцем (анти чем угодно), чем вводя подростка в мир поэта на языке, по сравнению с которым шедеврами стилистики показались бы доносы на Пушкина в канцелярию графа Бенкендорфа. Короче говоря, дело было не в«информации», а в человеке. Я видел лектора, похожего, как две капли воды, на то, о чем он говорил; он говорил, сжигая за собой мосты; в бой были пущены все резервы телесной пластики, и когда с уст его срывались слова, в них раззвучивались не только данные голоса, но и глаза, нос, скулы, руки, ноги, спинной мозг, что я говорю: мышцы, все до одной. Это потрясло меня с первых же минут: тончайшая оркестровка мышц, аккомпанирующих голосу; правда слов подтверждалась не логикой, а нейрофизиологией.
О чем он говорил, помню смутно. О Пиндаре, Архилохе, Софокле, о причудливом греческом мире, где послов избирали по красоте и где афинские торговки зеленью обсуждали очередную речь Демосфена. Помню еще головокружительные маршиброски: от Софокла к Блоку, от Блока к импрессионистам или (может быть) к флорентийским гонфалоньерам XV века. Единственное, что помню, как сейчас: чувство катастрофичности, не покидавшее его ни на секунду и передавшееся нам, даже тем из нас, кому оно было противопоказано. Катастрофизмом был проникнут каждый его жест, каждая его пауза; так он вбивал, вживлял в нас исключительность своей темы. Можно было измерить пульс до и после того, как он начал говорить о Софокле или Перикле, чтобы убедиться в том, насколько физиологично подлинное знание; шума и ярости требовала его тема; чтобы угнаться за ней, приходилось мыслить не головой, а телом, тоскующим по гимнастике, и переживать сказанное не метрономически, а сейсмически. Настоящая «информация» усваивается на грани, разделяющей сознание от обморока; она не набивает голову справочными данными, а вламывается в симптоматику жизненных процессов, меняя ритмы крови, обмена веществ, истребляя вирусы отчужденности, весь бактериологический арсенал тупости и безучастия. Так (продолжая тему греческой культуры) «информировал» Сократ. «Когда я слушаю его, — признается Алкивиад, — сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы».
Сейчас, по прошествии двадцати лет, могу признаться и я: хотя глаза мои на этой лекции оставались сухими (этого требовало единство времени и места вопреки требованию действия), зато сердце мое билось гораздо сильнее, чем когда–либо до и после при восприятии живого слова.
Громадная эрудиция (которой я не перестаю удивляться до сих пор в нашем общении) жила в нем по всем правилам большой приключенческой и внебрачной жизни. Он прожигал свои знания со страстью профессионального игрока, в стиле постоянного va–banque, где ставка делалась на выигрыш или проигрыш мгновения, но, даже проигранные, эти мгновения ослепляли сознание щедростью жертвы и величием осанки. Предугадать технику игры было невозможно: он мог начать с вежливых намеков на пробелы нашей культуры и вдруг, разъярившись, зашибать нас знаниями, как кегельбанными шарами. Разъяренность его всегда изживалась в рамках несравненного художественного вкуса; со временем я понял, что этот человек в каждом атоме своих проявлений как бы хронически обречен на выразительность; он бы считал себя обворованным, если бы стереотипы быта и поведения наложили свой отпечаток хоть на одну секунду из отпущенного ему времени. Жизненный принцип разыгрывается в нем не в поочередности «хлеба и зрелищ», а в одновременности их; сам хлеб здесь зрелищен, и сами зрелища даны как хлеб, а главное, наряду с насущностью хлеба подчеркнута и насущность зрелищ, ибо хлеб без зрелищ не менее дефектен, чем зрелища без хлеба. Я никогда не видел его равным своим знаниям, и вот почему с такой легкостью расставался и расстается он с ними где попало: в аудитории, в застолье, в случайных встречах. Отдать кошелек первому встречному — правило, обязательное для рыцаря и дворянина, ибо залежавшийся в кармане кошелек — сущая нечистая сила для гасконца, которому суждено при любых обстоятельствах умереть маршалом Франции. О Левоне Нерсисяне теперь уже можно со всей определенностью сказать, что он ни при каких обстоятельствах не уйдет из этой жизни профессором или членом–корреспондентом, но что при любых обстоятельствах он уйдет из неё с преимуществом гамбургского счета.
И вот они, некоторые балансы из этого счета, подсмотренные мною тогда, в студенческие годы, и после, в миги общения. Этот человек выдержал бы поверку по самым высоким табелям о рангах; его духовный ранг без малейшей натяжки, а то и с запасом, врастает в масштабы европейской духовности. Говоря о запасе, я нисколько не преувеличиваю; запас — особая приправа чисто национальной кухни, от которой у иного знаменитого француза (из «бессмертных», а, впрочем, и смертных) свело бы желудок. Кто–нибудь из нас должен же однажды признаться в этом: что одно — французский esprit в ином знаменитом французе, и что другое он — в Л. Н. Ну представьте себе самые изысканные лакомства этой культуры в гамме образов от Шодерло де Лакло до Мишеля Фуко плюс нечто, чего попросту не могло бы быть во всей этой гамме: чистый, неподражаемый, сдирающий кожу, как наждаком, антивертеровский, удесятеренно раблезианский армянский язык. Представьте же себе комбинации, до которых не доросла действительность лучших европейских издательств: утонченнейшие образцы старинного французского вежества, поперченные армянским самогонным синтаксисом, или еще следующее сочетание: автор «Мифа о Сизифе» (многие ли из нас, увлекавшихся Камю, знают, что это имя было оглашено здесь впервые — и как! — Л. Н.?), ну да, Альбер Камю, но без индекса цитируемости, без Нобелевской премии, без всемирной известности, без Парижа; серия «без» — негативный прием, которым я подчеркиваю позитив иного образа; поразмыслим же над диковинной задачей: проигрыш Альбера Камю в этом перечне лишений нетрудно угадать; гораздо труднее увидеть в нем его выигрыш. Симметрия задачи вынуждает меня к аналогичной процедуре с другого конца: дайте Л. Н. всемирную известность, Нобелевскую премию, откройте ему Париж (хотя «ему туда не надо») и подумайте о его проигрыше и выигрыше. Я понимаю, конечно, что в обоих случаях выигрывает абсурд, но абсурд абсурду рознь: можно быть не только философом абсурда, меняя абсурд на книги об абсурде; можно вообще не писать никаких книг, ни об абсурде, ни о чем угодно, короче: можно и в качестве «Сизифа» быть свидетелем смысла. Я, кажется, еще не говорил о том, что в нерсисяновском Сизифе смысл чувствует себя надежнее и адекватнее, чем в подтрунивающих над ним прагматиках и практиках.
Полгода длился этот курс, потрясавший меня, первокурсника; полгода моя студенческая жизнь осмысливалась от четверга к четвергу в последнее вечернее двухчасие занятий, когда этот человек входил в аудиторию, влюблял нас в культуру и уходил, унося с собою свое одиночество, обремененное чужими восторгами. Дело было не в античной культуре, ни даже в культуре вообще; он учил другому, и учил, не уча, а просто показывая. Что я вынес из этих уроков, разве это перечислишь? Скажу о главном, о чем могу еще сказать. Прежде всего, страсть; мне было воочию показано, однажды и навсегда, что идеи, которые в мнении большинства абстрактны и неживы, способны на такую страстность, каковую не прочь бы занять у них иные авантюристы. Далее: артистизм; события мировой культуры не конспектировались, а разыгрывались, и разыгрывал их не лицедей, которому нет дела до Гекубы, а некий «странных дел мастер», которому ни до чего нет дела, кроме Гекубы. В- третьих, парадоксальность и импровизационность; явления культуры надо осмысливать не только правильно, но и вкусно; Л. Н. рассказывал нам о римских цезарях или фразерах времен Французской революции, а мы слушали его, поддавшись всем телом вперед, как если бы речь шла о классном полицейском романе. Наконец, гениальность, как норма поведения; критерии произведения искусства органически врастают в быт, превращая его в сырье для постоянных вдохновений и фантазий. Китайцы выразили это в изящной пословице: «Великий человек — общественное бедствие». Л. Н. — и это знает каждый, кто хоть раз общался с ним, — невыносим. Но подумаем о том, что есть же времена, в которые невыносимость вменяется в норму поведения.
Я решаюсь на мысленный эксперимент. Я представляю себе Л. Н., с быстротой рефлекса отвечающего на вопрос, что такое культура. Его ответ (выговоренный им из меня и моим голосом): культура — это когда чувствуешь себя в невыносимом как дома. Круг замыкается: не без внезапного облегчения и удовлетворенности. Этот человек всегда ждал и будет ждать одного: разоблачения.
Ереван, 11 марта 1986
P. S. Когда я писал эту статью, мы уже успели крепко подружиться. К этому времени он жил один, не выходя из дому никуда, кроме университета; он сидел всё время в кресле (у него было плохо с ногой) и читал, если не было гостей. Я заходил к нему регулярно и засиживался до ночи; он был единственный, с кем я мог говорить о своем сокровенном; он понимал это, как никто, несмотря на то, что сама тема оставалась ему чуждой. Его волновала не тема, а я; он сказал мне как–то (комплиментов он не делал никогда, да и не смог бы), что любит эту тему во мне и презирает её в других. Он был очень французским и совсем не немцем; я помню, как странно он посмотрел на меня, когда я, сказав ему: «В Вас Вольтер понял наконец Шекспира», добавил после небольшой паузы: «… но не больше». Самое интересное: он знал об этом «больше», хотя почти никогда не говорил о нем. «Коллеги» уже тогда враждебно косились на меня за мою антропософию; наверное, он был единственный, кто считался с нею во мне, избегая прямого разговора на эту тему. Книгу «Становление европейской науки» я писал для него. Он знал это, но не хотел читать её частями, а всю целиком. Смешно сказать, но я торопился; мне не терпелось дописать текст, отпечатать его на машинке и вручить ему первый экземпляр. Прочитав её, он нашел очень нужные мне слова; кому, как не ему, было знать, в каких неадекватных условиях книга писалась. Мне приспичило воздвигать какой–никакой, а дом, — при элементарной нехватке строительных материалов: в условиях книжного голода, а тем более в послеперестроечном Ереване, где уже трудно было рассчитывать и на московские библиотеки; где–то лежали же эти книги, невостребованные, может и неразрезанные, дразня меня недоступностью. Кое–что я, конечно, находил: если не в государственных библиотеках, то в частных, а если и не в этих, то уже и вовсе «с закрытыми глазами»; однажды, к примеру, до меня дошло, что отпрыск какого–то умершего ветерана войны продает отцовскую библиотеку с богатым ассортиментом награбленных в свое время в Германии (наверное, надо было сказать: трофейных) книг; будь я мистиком, я не удержался бы от целепричинного, так сказать, реверсивно–каузального допущения, что грабились книги как раз для меня (настолько всё, включая момент их передачи мне, попадало в точку), и если я тем не менее покупал их, то, пожалуй, для того, чтобы не веселить наследника требованием вернуть мне их. Но это были капризы случая, уместные разве что при написании стихов; стихов, увы, я не писал, а писал прозу, прочность которой не в последнюю очередь зависела от опоры на сноски или, говоря наглядно и внятно, на такую малость, как заваленный книгами стол в какой–нибудь богатой университетской библиотеке. Очевидно, это имел в виду Л. Н., утешая меня обратными случаями, когда, имея под рукой все нужные книги, не умеют ими пользоваться; он был прав: наверное, легче иногда накормить пятью хлебами пять тысяч человек, чем пятью тысячами хлебов пять человек. Вообще его ответный жест на эту написанную для него книгу был ошеломительным. Он сказал мне, что дарит мне один день из своей жизни, пояснив, что, когда мне придет время умирать, я проживу на день дольше, соответственно: он — на день меньше… Я был поражен царственностью жеста, и искал — кавказский круг! — отыграться. Мне неожиданно повезло; в 1991 году в московском издательстве «Мысль» был издан мой перевод 1‑го тома шпенглеровского «Заката Европы». Конечно, ни во время, ни после работы над книгой я и не думал о том, о чем вдруг, с замершим сердцем, вспомнил, идя дарить Л. Н. предназначенный для него экземпляр. А вспомнились всё те же студенческие годы, о которых я писал в статье о нем. Мой, первокурсника, первый разговор с легендарным лектором, на лекции которого сбегались студенты со всех городских ВУЗов. Мы стояли у окна рядом с деканатом, и он терпеливо выслушивал мой сбивчивый отчет новичка о первых восторгах и влюбленностях в стране культуры. Не помню уже, что я говорил; помню только, как он спросил, читал ли я Шпенглера. Шпенглера я не знал, и это его возмутило. Он прорычал, что ему не о чем со мной говорить, пока я не прочитаю Шпенглера, что без знания мною Шпенглера ему, Л. Н., нечего мне сказать, и еще что–то в этом роде. Даря ему экземпляр «Заката Европы», я позволил себе устроить маленький театр. Я долго и перифрастически воссоздавал ему ту сценку у деканата 25 летней давности, пока у него не начало меняться лицо. Неважно, вспомнил ли он её или нет, но наверняка он вдруг увидел её всю; воспроизведя почти его голосом его возмущение советским студентом–первокурсником, не знавшим Шпенглера, я положил перед ним на стол книгу и сказал: «Сейчас Вам есть о чем со мной говорить. Шпенглера я не просто прочитал, но и переписал: по–русски»… Вскоре после этого я уехал на Запад. Мы виделись раз в год, когда я наезжал в Ереван на две–три недели. Я привозил ему шикарно пахнущие одеколоны и причудливо пузатые бутылки коньяку, который мы немедленно распивали: он маленькими порциями и занюхивая одеколоном, я, ничем не занюхивая, зато делая пакостную мину и вкрадчиво прося его не перепутать, что нюхать, а что пить… Последний раз мы увиделись летом 1999 года. Болезнь пришла неожиданно и взяла его (буквально) за горло. Когда мне позвонили и сказали, что он умер, я спросил о дне и часе похорон. Я хоронил его один, в Базеле, в холодный позднеосенний день, пройдя пешком до Мюнстера и постояв у гробницы Эразма. Мне не дает покоя, а может быть (я не знаю), меня успокаивает мысль, что день, в который я умру, последний день моей жизни, будет его днем, тем самым, который он недожил, потому что подарил его мне.
Базель, 17 февраля 2006
Открытое письмо Дитриху Раппу
Редактор еженедельника «Das Goetheanum» в Дорнахе
Дорогой господин Рапп, я позволяю себе обратить Ваше внимание на упущение, не оставшееся для меня незамеченным по прочтении интервью с Адольфом Мушгом в «Гётеануме» от 13 июня 2004 года. Наверное, Вы сами решите, было ли это небрежностью или умыслом Вашего сотрудника, который на протяжении всего достаточно долгого разговора так и не удосужился вспомнить сам и напомнить своему собеседнику, что место, где они находятся и ведут беседу, — всё–таки антропософский еженедельник. Мне, во всяком случае, кажется более чем странным, когда сотрудник антропософской газеты берет интервью у «одного из наиболее значительных швейцарских авторов современности» (как я узнал об этом из редакционного предуведомления) и ухитряется при этом не спросить его о его отношении к антропософии.
Можно оставить в стороне вопрос, насколько содержательны (или как раз несодержательны) рассуждения господина Мушга на затронутые в беседе темы. Худо ли, хорошо ли, но он отвечает на вопросы, которые ему задаются, и если он ни словом не упоминает антропософию, то оттого лишь, что его о ней не спрашивают. Похоже, сотрудник редакции полагал, что мнения Мушга об искусстве и науке, атомах и вселенных, культуре, политике, Европе и даже — с оглядкой на его японскую жену — буддизме больше заинтересуют читателей «Гётеанума», чем то, что он мог бы сказать об антропософии. Будем надеяться, что я не единственный читатель Вашего еженедельника, который придерживается противоположного взгляда. То, что у некой важной персоны современности берут интервью для антропософского «Гётеанума» и сознательно или подсознательно избегают вопроса о её отношении к антропософии, кажется мне не менее нелепым, чем если бы ей задали этот вопрос в интервью для, скажем, Советов хозяйке или Смастери сам.
При этом приходится думать не столько о профессиональной пригодности, сколько о карме. Допустив, что помимо антропософов есть еще и антропософия, напрашивается следующее соображение: антропософы или неантропософы, мы стоим, едва очутившись в смысловом поле антропософии, под знаком некой специфической кармы. То, что мы даже и не подозреваем об этом, лишь сильнее подчеркивает неоспоримость стояния — по аналогии с болезнями, которые незаметно назревают в нас, пока мы радуемся жизни. Как антропософ, я могу знать, что Адольф Мушг, после того как он соблаговолил появиться на страницах антропософского еженедельника, попал в сферу действия некой кармы, соль которой, между прочим, заключается в том, что он, вероятнее всего, посчитал бы это знание полной чушью. Антропософскому модератору пристало бы позаботиться о таких вопросах, ответы на которые отвечали бы не критериям занимательности и кампанейства, а обнаруживали бы карму. Какое мне, читателю Вашего еженедельника, дело до самодовольной болтовни Мушга, если один из «самых значительных швейцарцев современности», находясь на антропософской территории, с такой же невозмутимостью молчит об антропософии, с какой молчит о ней его антропософский собеседник!
Хороший интервьюер, как я думаю, — тот, кто (учтиво и корректно) расставляет ловушки, в которые попадают затем «важные персоны современности». Причем делает это не коварно, а предупредительно, как бы говоря: осторожно, ловушка! и наблюдая при этом, как её обходят. «Важной персоне» предоставляется шанс лишний раз убедиться самой и убедить других в своей важности. Ничего другого не нужно от этого (как, по–видимому, и от прочих) интервью и Адольфу Мушгу. Временами он дает даже понять, что ему хотелось бы чего–то более соленого и поперченного, но собеседник его, увы, предпочитает оставаться при своих малокалорийных вопросах. Это и называю я, с позволения, упущенным антропософским шансом. Господина Мушга угораздило даже к концу беседы сжать свою «жизненную мечту» до выразительной формулировки, вынесенной редакцией в заголовок: «Мне хочется, — говорит Мушг, — научиться быть действительным там, где я нахожусь». И поскольку его собеседнику нечего сказать на это, он иллюстрирует свою мечту сам. Пример изящен и не лишен жеманства: «Быть присутствующим, как кошка на стуле, — милость, которой лишены большинство людей». Не знаю, как с милостью, но вот насчет перчатки вызова у меня нет никаких сомнений! И раз уж перчатка брошена на антропософской территории, трудно отказать себе в удовольствии поднять её. В моей (воображаемой и антропософски отредактированной) версии разговора сказавший это оказывается пойманным на слове. Мушг: «Мне хочется научиться быть действительным там, где я нахожусь». Реплика, напрашивающаяся, как щелчок: Вот Вы как раз и находитесь на антропософской территории! Вам, что, в самом деле хочется НАУЧИТЬСЯ быть здесь действительным?
Допустив, что вовсе не обязательно равняться на кошку, чтобы снискать себе милость быть присутствующим…
P. S. Дорогой господин Рапп. В свое время мне довелось прочитать в «Гётеануме» Вашу заметку на смерть Эрнста Юнгера. Это был краткий пересказ Вашей беседы с легендарным сверстником века. И вот же, Вы не упустили возможности спросить автора «Авантюрного сердца» о его отношении к антропософии (как я помню, в связи с Гёте, в духе которого, несомненно, могла бы произойти встреча Юнгера с Рудольфом Штейнером). Его ответом было молчание. (Кажется, на Ваш вопрос остро и отрицательно отреагировала его жена.) Он же предпочел молчание. Нет сомнения, что это молчание займет место в будущих историях литературы и юнгеровских биографиях. Молчание Эрнста Юнгера, в последний вечерний час его жизни, перед Рудольфом Штейнером, которое стало возможным благодаря одному вовремя поставленному вопросу.
С сердечным приветом
Базель, 15 июня 2004 года
Экспонированная антропософия
1.
Среди множества симптомов, которыми изобилуют антропософские публикации, бросается в глаза оптимизм следующего утверждения (см. еженедельник «Das Goetheanum» Nr. 29, от 18 июля 1999): «Культурное распространение антропософии, ожидаемое Рудольфом Штейнером к концу столетия, во многих отношениях стало действительностью. Пока, правда, в сравнительно скромном объеме, и тем не менее уже в необозримых масштабах, так что многие люди чувствуют себя обогащенными и поддержанными в своих устремлениях». Это заявление подкрепляется небольшим ассортиментом примеров, которые, как и следовало ожидать, начинаются с вальдорфских детских садов («более тысячи во всем мире»), не обходят стороной и общинный банк (консолидированный объем которого в финансовом 1998 году насчитывал 300 миллионов немецких марок) и достигают пика в скоростном поезде ICE, принятом недавно к эксплуатации акционерным обществом «Германская Железная Дорога» и носящем имя «Рудольф Штейнер». Нет сомнения, что многие антропософские читатели порадуются этой уверенности. Но, может быть, кого–нибудь и покоробит лихость, с которой антропософские инициативы валятся в одну кучу с не–антропософскими. Что господам из акционерного общества «Германская Железная Дорога» сподобилось (примечательным образом как раз к годовщине крушения поезда, называвшегося «Вильгельм Конрад Рёнтген»[115]) среди множества прочих «культурных» имен поездов поставить на рельсы и имя творца антропософии, могло бы, пожалуй, быть отнесено на счет той плутовской нечистой силы, местечковой креативности которой следовало бы приписать и инициативу снабжать сахарные пакетики для кофе цитатами из Будды или Марка Аврелия. Во всяком случае, ничто не говорит в пользу того, что этот курсирующий между Штутгартом и Цюрихом поезд ICE преследует какие–то скрытые побочные цели. Германская Железная Дорога должна стоять выше подозрений в намерении содействовать распространению антропософии. Другое дело, если спросить себя: а пришло ли бы в голову и иному антропософу назвать высокоскоростной поезд именем «Рудольф Штейнер», мотивируя это желанием познакомить как можно больше людей с антропософией? В таком случае следовало бы отличать намеренное вредительство от халатности. Никто ведь не станет, в качестве ответственного по железнодорожному ведомству, заботиться о вещах, которые обязан знать тот, кто находится в силовом поле антропософии. Скажем, то сообщение духовной науки, в котором — поверх математического номинализма ничего не подозревающей об этом физики — называется реальная сила, которая, в частности, приводит в движение и поезда… Что «многие люди чувствуют себя обогащенными и поддержанными в своих устремлениях», потому что они разъезжают в поезде, носящем имя «Рудольф Штейнер», не более чем дурная шутка, которую, впрочем, можно было бы извинить, не будь она именно дурной. Если (антропософски понятое) дурное есть лишь стоящее не на своем месте хорошее, то, наверное, это в равной степени относится и к дурным шуткам. Можно поместить упомянутую шутку (раз уж она сделана) в более конкретную и имманентную топику. Мы скажем: если люди чувствуют себя «обогащенными» при соприкосновении с антропософией, то это не имеет ничего общего с их «устремлениями», а есть их судьба. Притом, что соприкосновение могло бы быть и иным. Скажем, если пассажирам высокоскоростного поезда ICE «Рудольф Штейнер», отправляющегося из Штутгарта в Цюрих и обратно, была бы, в качестве дорожного чтения, рекомендована лекция Штейнера, прочитанная им как раз в Штутгарте 26 августа 1906 года, хотя бы тот отрывок из неё, согласно которому в так называемых природных силах (например, в силе тяги вот этого вот локомотива) следует видеть «действия развоплощенных людей»… Речь шла бы тогда не о том, сколькие чувствуют себя «поддержанными в своих устремлениях», а о том, есть ли среди них и такие, которые вздрогнули бы от прочитанного и рискнули бы додумывать его на свой страх и риск? Вот они–то и соответствовали бы ожидаемому Рудольфом Штейнером распространению антропософии, которая адекватна не там, где она выставлена напоказ, а там, где она спонтанно поволена. Распространять на неё журналистские замашки — глупость или недоразумение: не антропософия нуждается в публичности, а публика в антропософии. Пусть публика и слывет последней инстанцией в отношении чего угодно. В отношении антропософии реакция её интересна лишь в том случае, если антропософия не экспонируется, а вакцинирует. Тогда клиентов бросает от неё в дрожь, чем и решается вопрос о её «культурном распространении»: в зависимости от того, для скольких возможен переход от оторопи к познанию.
2.
Среди примеров «культурного распространения антропософии» в цитированной выше статье называется и выставка, демонстрируемая по всему миру. «Сведущая в искусстве публика, — читаем мы, — обсуждает в знаменитых галереях планеты, от Беркли и Нью—Йорка до Токио, рисунки, сделанные Рудольфом Штейнером мелом на стенной доске». На этом случае стоит остановиться. В отличие от творческой инициативы железнодорожников, речь идет здесь о предприятии, устроенном самими антропософами. Мы вкратце воспроизведем анамнез случая. Известно, что лектор Рудольф Штейнер имел обыкновение при случае пояснять свои лекции меловыми рисунками на доске. Рисунки, в отличие от стенографических записей, поначалу не хранились, пока кому–то не пришло в голову сохранять и их. Стенная доска обтягивалась с этой целью черной бумагой, на которую лектор и набрасывал свои эскизы цветным мелом. После лекции бумагу с рисунками стягивали с доски и передавали в архив. Никому и в голову не приходило, чем еще они могли бы быть, кроме репродукций в тексте. Выяснилось, однако, что и антропософская голь богата на выдумки. Скажем, на следующую: выставить наброски в цюрихском Доме искусств (соответственно «в знаменитых галереях планеты») под девизом: Директивы для XXI столетия. Неслыханным в этой выставке (о чем, похоже, не догадывались даже её инициаторы) был пересмотр биографии Рудольфа Штейнера — в свете извлеченных из небытия, как бы раскопанных, рисунков мелом (я чуть было не сказал: «наскальных изображений»). Из хронологического очерка жизни, вывешенного при входе в зал выставки, можно было узнать, что жизненный путь Штейнера состоял из трех стадий: от «написанных трудов» (ранний период) через «лекционную деятельность» до (начиная с 1919 года) «рисунков мелом». В это трудно поверить. Наверное, на такое способны только палеонтологи или археологи. Невольно вспоминаешь о революции in historicis, вызванной открытием настенных рисунков homo Heidelbergensis, и качаешь головой.
3.
Впрочем, тактически центр тяжести названных директив лежит не столько в штейнеровских набросках, сколько в участии мужа, без которого акция не могла бы быть осуществлена, ни даже помыслена. Имя мужа, через которого (хотя и посмертно) директивы дотягиваются–таки до XXI века, Йозеф Бойс. Атипичной судьбой этого человека, ставшего еще при жизни культовой фигурой в мире современного искусства, было поверить в связь своих (сдержанно выражаясь) инициатив с антропософией. В числе инициатив были, как известно, и стенные доски. Случаю было угодно, чтобы некий сотрудник штейнеровского архива и восторженный поклонник Бойса (ein begeisterter Beuys—Boy) наткнулся на папку с меловыми набросками Штейнера и поразился их якобы сродству с графикой Бойса. Отсюда было рукой подать до еще одной инициативы, сулящей неслыханное оплодотворение скудной антропософской почвы; усилиями сотрудников Управления наследием Рудольфа Штейнера в Дорнахе, после того как им удалось наладить контакт с маститыми политтехнологами современного искусства, возникла выставка, обещающая стать хитом сезона. Три мужа и одна дама сошлись в пространствах цюрихского Дома искусств, чтобы предоставить свои художества на суд искушенной in artibus публики: Эмма Кунц, Иозеф Бойс, Андрей Белый и Рудольф Штейнер. Этот, на первый взгляд, необычно выглядящий состав не должен, однако, сбивать с толку. И невооруженному глазу видно, насколько корректно был сделан выбор, и насколько безупречно сработал социальный и гуманитарный такт, с которым устроители выставки позаботились не только о тендерной стороне дела, но и о том, чтобы наряду с тремя антропософами можно было бы приветить и одну не–антропософку, лишний раз дезавуируя слухи об антропософии, как секте, и т. д.
4.
Если отвлечься теперь от этого камуфляжа, то практически всё заостряется на штейнеровских набросках. Геометрические дилетантизмы Эммы Кунц остаются вообще в тени и, похоже, находят объяснение в упомянутом выше пиаре гендерно деликатной и мультикультурно настроенной антропософии. (Наверное, не следовало бы упускать из виду и более близкие, местечковые, мотивы, с учетом того, сколь велико могло бы быть раздражение швейцарского genius loci, если бы целое было представлено на его территории только австрийцем, немцем и русским.) В свою очередь, и немногие рисунки Андрея Белого, сделанные им при проработке данных ему Штейнером медитаций, производят впечатление транзитности; они впечатляют (снова русский, хоть и не «новый», а русский), но не задерживают. Иначе обстоит с Бойсом. Он и есть, собственно, гвоздь программы, её, с позволения сказать, серый кардинал. Все знают, насколько популярны его композиции и высок его рейтинг среди знатоков современного искусства. За этим проглядывается хитрость, а точнее, двойная хитрость организаторов выставки в их благом намерении послужить антропософии, что значит: содействовать «ожидаемому Рудольфом Штейнером к концу столетия культурному распространению антропософии». Всё было бы хорошо, не будь намерение заведомо обречено на неуспех, ввиду неизвестности штейнеровских трудов не только в широких кругах, но и среди самих антропософов. Названная двойная хитрость рассчитана как раз на этот тупик. Речь шла, во–первых, о том, чтобы сбалансировать незаинтересованность публики в отношении всего, что было написано и сказано Штейнером, интересом к нарисованномуим. Это выглядело смелым и свежим решением. С пресыщенной публики можно было бы стряхнуть сонливость, оповестив её, что «мистик» и «визионер» Штейнер не только писал книги и читал лекции, но и — рисовал. Но для этого требовалось, во–вторых, пробудить интерес и к «графику». Здесь любимец публики и «антропософ» Бойс пришелся как нельзя кстати. Устроители выставки искренне рассчитывали внести весомую лепту в развитие антропософского движения, подставив иллюстрации Штейнера к прочитанным им лекциям под свет, падающий на них с шедевров мастера Бойса («Бойс актуализирует Штейнера, Штейнер объясняет Бойса»). Следует поставить в заслугу господину Гвидо Маньягуаньо, не–антропософскому руководителю цюрихской выставки, что он без всяких оговорок довел до общественности намерение своих антропософских компаньонов. «Задача выставки, — поясняет названный господин, — в том, чтобы снова оживить мысли Штейнера. Это происходит с помощью Бойса». Что сказанное принимается друзьями Бойса за чистую монету, лежит не только в их предвзятости, но допускает и объективное толкование. Фраза господина Маньягуаньо обнаруживает ощутимое морфологическое сродство с бойсовским искусством. Слова кажутся здесь поставленными друг возле друга с такой же креативной невменяемостью (или — если угодно — невменяемой креативностью), с какой ставятся друг возле друга вещи в оборудованном Бойсом для своих причуд пространстве. Подобная позиция крайне затрудняет возможность предметного разговора, если не делает его вообще бессмысленным. Бессмысленно спорить с устроителями выставки о вещах, входящих, скорее, в компетенцию психиатра, чем искусствоведа. Но вместе с тем не следует упускать и шанс быть услышанным посетителями выставки. Очевидно, что там, где речь идет об оживлении мыслей Штейнера милостью Бойса, центральное значение принадлежит исключительно самому Бойсу. После чего не остается ничего другого, как спросить, что же такое этот Бойс, раз уж именно с ним связаны надежды на будущность антропософии.
5.
Рудольф Штейнер читал лекции и сопровождал их время от времени рисунками мелом на доске: для более наглядного толкования сказанного. Эти рисунки относятся к произнесенному слову так же, как, скажем, жесты, которыми лектор дирижирует и поясняет движения своей мысли, к самой мысли. Людям, силою их кармы поставленным перед необходимостью заботиться о литературном наследии Рудольфа Штейнера, угодно было извлечь рисунки из запыленных папок и выставить их напоказ под видом самостоятельных произведений искусства. По существу, речь шла о жестах, сопровождающих речь, при отсутствии слышимых слов. Короче: об искусстве пантомимы. Превращенному в мима лектору Штейнеру вменялось (см. выше «Das Goetheanum» Nr. 29 от 18 июля 1999 года) на такой манер внести свою лепту в ожидаемое им же самим к концу века культурное распространение антропософии. Больше того. Пантомима была здесь не только доведена до ранга значимости написанного и сказанного, но и попросту увенчивала их. На фоне выставленных напоказ эскизов с надписями (типа: «Звезды суть выражение любви») приходится с полным правом думать о немом кино, сопровождаемом время от времени субтитрами. Общий пафос выставки не вызывает после этого никаких сомнений: некий антропософский team at ^г&лишает здесь Рудольфа Штейнера слова и экспонирует немого лектора под знаком третьей — завершающей, как они внушают, — стадии его жизненного труда.
6.
Йозеф Бойс делал (среди прочего) наброски на доске, иногда сопровождая их лекциями или просто лозунгами. Пожалуй, наиболее популярным среди его слоганов является: Каждый человек сам по себе — художник. Этот особенно излюбленный студенческим и прочим отребьем девиз амбивалентен. Если понимать его фигурально, в том смысле, что каждый человек так или иначе предрасположен к искусству, то его торжественность выглядит настолько нелепой, что повторить его сочтет банальным даже иной управдом. Если же понимать его буквально, то бесполезно опровергать его или защищать. Он верен и неверен, смотря по тому, о ком идет речь. Никто ведь не станет отрицать, что там, где художник называется Рафаэль или Бетховен, утверждение: Каждый человек сам по себе — художник, просто нелепо. Зато оно вполне оправдано, если художника зовут Бойс. От трагедии этого человека нельзя отделаться шуткой. Судьбой его было: хотеть стать художником в эпоху, когда прежнее (гречески запатентованное) искусство уже агонизировало, а новое даже и не появилось еще на свет. Известно, с каким воодушевлением художники–самозванцы XX века выбрасывали старое за борт: достаточно вспомнить призыв Лё Корбюзье: Il faut bruler le Louvre, или аполлинеровское: Merde pour Beethoven. Решающим, однако, оставался вакуум, воцарившийся после оргий разрушения. Художник прошлой, староколенной, закалки имел дело с осмысленным миром. Внутри этого мира он мог полностью отдаваться своим, каким угодно, фантазиям. Хотя почва — земная или небесная — уходила у него временами из–под ног, всё равно, даже прославляя беспочвенность, он чувствовал всё еще почву под ногами. Напротив, современный художник ощущает себя перенесенным в мир, в осмысленности и необходимости которого не уверены сегодня не только заядлые скептики, но и физики, лирики, богословы, интеллектуалы, воскресные проповедники и даже няни. Это значит: каждый человек (а вовсе не только профессиональный художник) живет сегодня в элементе, в котором прежде жили помешанные, и если он не считается (по крайней мере, в медицинском смысле слова) безумным, то не оттого, что это не так, а наверное оттого, что некому считать его таковым. О чем здесь идет речь, так это о том, чтобы по мере сил и везения приспособиться к condition humaine, от соприкосновения с которой в XX веке выходит из строя всё, что не идет путями ставшего теософом Гёте. Даже те, кто считают себя художниками в традиционном смысле, не составляют исключения. Фактически шумиха вокруг Бойса была вызвана по оплошности. Бойс не придумал ничего такого, что не было бы уже, и причем на недосягаемом для него уровне бреда, выдумано классиками дадаизма, сюрреализма и авангардизма. Оригинальности его хватило разве что на то, чтобы расцвечивать бред антропософски звучащими паролями, под программным сиропом которых и подавалась дадаистическая ветошь его шокирующих починов. Если попытаться в краткой формуле выразить принцип и технику этого искусства, то достаточно будет назвать два условия: пространство и ничем не ограниченную перестановку всех вещей в нем. (В измерении литературного искусства: бумажное пространство и ничем не ограниченную перестановку всех слов, а иногда и букв, в нем.) Людей, вроде Бойса, понимают, когда перемещают их в их идеальное состояние. В тот досужий час, к примеру, когда мэтру Андре Бретону, овеянному легендами манифестанту сюрреализма, взбрело в голову сотворить современное подобие тертуллиановского: «Что общего между Афинами и Иерусалимом?» На этом примере можно увидеть, как карма одного рокового и задавшего тон всей истории христианства слова переходит в XX веке, в той мере, в какой век этот проморгал книгу, озаглавленную «Философия свободы», в карму сюрреалистического пандемониума. В редакции мэтра Бретона тертуллиановский вопрос гласит: «Что общего между электрогитарой и биде?» Я не могу припомнить, встречается ли подобная комбинация среди вещей, состыкованных Бойсом в пространстве, но я имею все основания полагать, что в противном случае это было бы досадным упущением. Что под патронажем бретоновской логики каждый человек (включая неполноценных и больных Альцгеймером) может попробовать себя в искусстве, не подлежит никакому сомнению. Каждый человек — художник, потому что каждая вещь — искусство. Пример (может, образец?): заржавленный кусок железа, обмотанный проволокой, прогорклое масло, разорванные в клочья газеты и унитаз, в котором вода в последний раз была, должно быть, пущена десятки лет назад. Ничто не мешает поставить эти вещи друг возле друга и спокойно напечатать на своей визитной карточке слово: художник. Кто бы (в эпоху фанатической корректности) осмелился оспорить свободу каждого человека быть художником! Пусть этого недостаточно, чтобы сделать себе имя и богатство, зато вполне достаточно, чтобы выпрямиться во весь рост и исполниться гордости. Для имени и богатства требуются, как известно, два дополнительных ингредиента, именно: ловкость имиджмейкеров и глупость клиентов.
7.
Pro domo mea. Передо мной лежит прекрасная (и несправедливо забытая[116]) книга Луи Вербека о противниках Рудольфа Штейнера и антропософии, изданная в Штутгарте в 1924 году в издательстве «Der kommende Tag». Когда я вчитываюсь в эту книгу, мне не дает покоя гложущее чувство. Эти старые враги и хулители Штейнера, все эти Лейзеганги, Дессуары, Репке, Геймбухеры, Траубы, Шлезингеры, Лауны, Магеры, Леезе, Зихлеры, Лютославские, Хауеры, Древсы, Шмидт—Япинги и как бы они ни назывались — насколько безобидными и побитыми молью, ну да, чуть ли не антикварными выглядят они по сравнению с их сегодняшними ларвами. Ибо, положа руку на сердце: кому из них пришло бы вообще в голову окружить своего злейшего врага Штейнера последователями–шалопаями, да так, чтобы он находился под их протекцией, и сбывать потом его публике под маркой Директивы для XXI столетия? — Что ты мелешь! — шипит мне внутренний голос. — Оглядись–ка лучше вокруг себя, чтобы увидеть, где зарыта собака! Ты увидишь тогда, что нет, пожалуй, ничего более непритязательного, более робкого, чем эти антропософы! Подумаешь, выставка! Ну, выставили рисунки. А ведь могла бы быть и настоящая охота за клиентами. Скажем, если бы организаторам выставки вздумалось взять себе за образец более смелых, свободных, полноценных охотников, к примеру, римского первосвященника, записывающего лазерные диски и грозящего затмить собой звезд эстрады, или того популярнейшего телевизионного теолога Германии, который ухитрился в недавней передаче начать Отче наш со слов: «Ты, старый гангстер, на небеси», или настоятелей двух церквей (в Базеле и Бубендорфе), в которых по воскресным дням община настраивается на молитву клоуном и бодибилдером! — На фоне такого размаха авантюра со стенными рисунками выглядит всё еще слишком буколической и рустикальной. Правда, перспективы роста налицо и здесь, так что в обозримом будущем наверняка появятся и антропософские сорвиголовы, смогшие бы потягаться силами с названными чемпионами. Если, конечно, сначала появится само это будущее.
Базель, в сентябре 1999 года
Недержание лжи
Заметки по поводу брошюры диакона А. Кураева «Миссионеры на школьном пороге» Г-н Андрей Кураев, бывший аспирант кафедры истории религии и атеизма МГУ и Института философии, а ныне (читатель не упустит случая полюбоваться мыльными пузырями, которые недавний аспирант выдувает из своего имени) декан философско–богословского факультета Российского Православного Университета, старший научный сотрудник кафедры религии (без атеизма!) МГУ, доцент Московского Педагогического Государственного Университета, кандидат философских наук, член экспертно–консультационного совета при Комитете по делам общественных организаций и религиозных объединений Государственной Думы Российской Федерации, диакон и даже — если это, конечно, не шутка аннотационного текста
— «современный богослов», поставил себе задачею разделаться с антропософией и её основателем Рудольфом Штейнером. Что диакон Кураев страдает элефантиазисом тщеславия и дурного вкуса, в этом ни на минуту не усомнится никто из тех, кому доводилось дочитывать до конца его визитную карточку (см. выше); гораздо серьезнее и уже никак не сводимо к превратностям характера то, что он страдает также и недержанием лжи, используя, как видно, всякий случай предать её гласности. Если прибавить сюда еще и особо интенсивную примитивность ума и речи, то вопрос о столь успешном продвижении бывшего аспиранта кафедры атеизма по социальной лестнице можно будет считать вконец проясненным.
Всё это, впрочем, не заслуживало бы ровно никакого внимания, если бы перечисленные дефекты не касались вещей серьезных и ответственных. Можно, конечно, без усилий догадаться, какого сорта советы и консультации оглашаются в помещении экспертно–консультационного совета при названном выше Комитете, если уж его начальников угораздило пользоваться услугами г-на Кураева. Меня побудило взяться за перо и заняться нашим экспертом не то, что он лжет, а то, о чем он лжет. Остальное рассудит сам читатель.
Г-на Кураева беспокоит вальдорфская педагогика Рудольфа Штейнера и уже рикошетом от неё распространение антропософии в наконец–то раскрепощенном духовном пространстве России. Он жалуется на якобы правительственную поддержку антропософских начинаний в России и ратует за их запрет. Он, несомненно, знает, что антропософия однажды была уже запрещена в России большевистским правительством в 1923 году. Если нынешнее правительство не склонно хотя бы в этом пункте повторять политику большевистского, то нужно ли понимать пафос диакона Кураева в том смысле, что политика эта нынче унаследована… Православной церковью? В конце концов не как частное же лицо выступает диакон, а хотя бы как декан философско–богословского факультета Российского Православного Университета
.Элементарная логика наводит меня на любопытный вывод: г-н Кураев поносил антропософию в свою атеистическую бытность, как он поносит её и теперь в свою, так сказать, диаконскую бытность. Это значит, что он — по меньшей мере как антропософоненавистник — мог бы с одинаковым успехом возглавить и кафедру научного атеизма (не осени его, так сказать, прожектор перестройки).
Я вкратце воспроизведу ряд утверждений из главки Вальдорфская педагогика брошюры[117] г-на Кураева. Я понимаю, что русского читателя нынешнего смутного времени трудно удивить какой–либо дичью и бессовестностью сверх тех, которые нынче со страшным свистом втягиваются в откупоренный вакуум российской духовности. Диакон Кураев, отхватив себе в послебольшевистском дележе ваучер духовно–ответственного, перечисляет сектантские напасти, терзающие православное тело России, и считает возможным, наряду со всякого рода муновцами и рериховцами, упомянуть и антропософию. Ему, как бывшему выученнику кафедры атеизма и духовной семинарии, следовало бы знать, какому историческому шаблону служит он в своих духосмесительных упражнениях. Знатные римляне периода распада Империи с ужасом взирали на бесчисленные секты, роившиеся в полуживом еще теле языческой религии; одной из таких сект виделось им и христианство, которое они не в силах были отличить от муновцев и рериховцев тогдашнего мутного оккультизма. Г-н Кураев поступит крайне опрометчиво, если ему вздумается отнести эту чисто формальную параллель на свой счет и полагать, что вот–де его уже сравнивают с Тацитом и Цельсом. Вся загвоздка в том, что поношение христианства язычниками Тацитом и Цельсом было их личной трагедией, тогда как поношение антропософии, которая сегодня является единственной формой сознания живого и вторично, но уже в нашем сознании воскресаемого Христа, христианским диаконом есть просто нелепость.
Я намеренно отказываюсь от всякого дальнейшего разбора, так как тут, собственно, нечего и разбирать. Статейка г-на Кураева — это не просто ложь, а ложь неразбавленная. Вовсе не надо быть антропософом, а надо просто освежить в памяти некоторые азбучные правила приличия, чтобы понять, что невежество дано человеку для того, чтобы он его одолевал либо, на худой конец, стыдливо скрывал, а не для того, скажем, чтобы он им кичился и консультировал других. «Современный богослов» Кураев не просто не понимает антропософию, он её не знает, не хочет знать или даже, позитивнее, хочет не знать. Не будь он при этом столь поразительно неодарен в умении кое–как справить свои мысли на бумаге, ему удалось бы, по меньшей мере, создать хотя бы видимость критики и разноса. Умные пасквилянты не потчуют читателя неразбавленными дозами лжи, а подносят её в ароматизированной возгонке через химикалии правдоподобности, чтобы случаем не долгаться до зеленого змия. Диакон Кураев, очевидно, придерживается иных вкусов и традиций.
Этот свой вкус он демонстрирует уже в выборе источников критики антропософии. Читатель тщетно стал бы искать среди последних хотя бы одной единственной ссылки на Р. Штейнера, её творца. Зато пробел этот заполнен письмами Елены Рерих, каким–то опусом её ученика, некоего А. Клизовского, резолюцией Международного христианского семинара (каковая резолюция, жаргон–то какой знакомый, «отметила антихристианский и расистский характер антропософии Р. Штейнера»), философом–марксистом Э. Блохом, голландским профессором Имельманом, протестантским автором Ф. Рестом, выдержками из «Философской энциклопедии» («из её лучшего, знаменитого „пятого“ тома», вспоминает с благодарностью бывший аспирант Института философии), «Теософским словарем» Бла ватской и еще парой каких–то «экспертов» от педагогики. Единственный антропософский автор в этой далеко не безупречной компании, Франс Карлгрен, рекомендуется как «современный руководитель международного движения вальдорфской педагогики» (любо же диакону Кураеву иметь дело с начальством, но придется его разочаровать: международное движение вальдорфской педагогики не имеет никакого начальства, а школы управляются на местах учителями, родителями и — школьниками).
Со всей серьезностью напрашивается вопрос: что бы сказал г-н Кураев, если бы подобранная им для экспертизы антропософии вышеперечисленная команда переключилась вдруг на экспертизу Православия, отнюдь (как можно догадаться) не для того, чтобы проконсультировать измученных атеизмом граждан по части обретения себя в лоне Православной Церкви? Если тем не менее православный диакон считает, что можно вполне расправиться с антропософией теософским бредом Елены Рерих, в частности следующим отрывком из письма последней: «И Штейнер к концу жизни сошел с пути Света, и храм его был уничтожен разящим Лучом», то что же остается антропософам, как не раскосметизировать оккультный жаргон теософки и сообщить читателю, что «разящий Луч» был в действительности всего лишь… подожженной лучинкой иезуитов, которою они в новогоднюю ночь 1923 года спалили Гётеанум в Дорнахе! Что теософы и иезуиты готовы на любую антанту против антропософии, об этом с западных крыш свистят все воробьи. Угораздило же православного диакона так неуклюже выболтнуть тайны и своего двора!
Не легче, чем с теософкой Рерих, обстоят православные дела с марксистом Блохом. Блох, как и его идейный кореш Брехт (оба горьковские босяки на немецком дне), используется диаконом Кураевым против Штейнера с не меньшим рвением, чем ингредиенты черной магии каким–нибудь неудачником–колдуном. Чтобы православный читатель мог в полной мере ощутить всю нелепость этого трюка, пусть он постарается представить себе лик св. Сергия Радонежского в исполнении Кукрыниксы. Марксист Блох лжет, говоря, что «„Солнечный Христос“ Штейнера стал для новых язычников и „немецких христиан“ богом природы нордического фашизма», и вслед за ним лжет диакон Кураев, утверждая, что «Р. Штейнер еще в 1915 году писал о себе как о „пророке миссии Германской расы“». Он лжет не только вслед за Блохом, но и вместе с каким–то канадским Бержероном, говоря, что «Штейнер утверждал, что Христос не был распят», и дальше вслед за позорной статьей Ляликова из «знаменитого» пятого тома Философской энциклопедии, где антропософия шельмуется как «синкретическое соединение западных и восточных религиозно–оккультных учений». Чтобы читатель не ломал себе голову над тем, что сие означает, г-н Кураев берет на себя смелость сообщить нам нечто, о чем по неведению умалчивает даже «знаменитый» пятый том, именно, что человек–де, по Штейнеру, произошел от — осьминога. Я решительно воздерживаюсь от всякого комментария этой патологической «утки» с «осьминогом», полагая, что мы с г-ном Кураевым вполне обойдемся и «обезьяной».
После такого выверта клеветы нас не должно больше удивлять ничего, ни даже то, что у г-на Кураева серьезные проблемы не только с вкусом и совестью, но и с умением считать по пальцам. Умей он хотя бы это, он избежал бы следующего курьеза, против которого бессильна любая Энциклопедия и от которого защищаются именно сгибанием нужного количества пальцев: «Общим для всех теософов учением», читаем мы, является учение о «семи расах человечества, для которых XX век — это время, когда начинает рождаться самая высокая „шестая раса“». Я переношусь мысленно в школьную юность г-на Кураева, и мне слышится голос его терпеливой и доброй учительницы: «Ну что же ты это так, Андрюша! Ты, главное, не торопись, а пересчитай сначала…»
Антропософия — не секта, а духовная наука. В её истоках не ляликовский синкретизм и не Блаватская, а Гёте и уже через Гёте расширенное до духоведения естествознание. Христос антропософии — не традиция, а настоящее, как реальность каждого переживаемого момента. Оттого Он действует не только в вере, но и в практике непосредственной жизни. Антропософия не проповедует Христа и не устраивает христианскую «хату с краю», где можно печься о спасении собственной души на фоне повального осатанения. Её христианство действенно не только в культовых отправлениях, но и в любой сфере социальной жизни: от медицины и сельского хозяйства до педагогики и искусства. Называть её антихристианством можно лишь с позиций цезаропапизма Великого Инквизитора, для которого лишь закопченный ладаном Христос заслуживает вида на христианскую прописку, отнюдь не живой Христос, который, реши Он стать современником, моментально оказался бы Сам в антихристианах.
Доступ к антропософии, как науке, требует ну хотя бы минимума совестливости и вменяемости. Что бы подумал о кандидате философских наук Кураеве математик, если бы на того напало вдруг выложить на стол свои экспертные соображения по высшей математике? Руководители обоих ведомств, консультируемых незадачливым «современным богословом», не откажут себе в необходимости внять следующей дружеской консультации, которую я формулирую на основании вышепроведенной экспертизы: «Эксперт и диакон Кураев своей „критикой“ антропософии позорит как Государственную Думу, так и Православную Церковь. Если Государственная Дума и Православная Церковь придают этому факту значение, то они сделают из него соответствующие выводы». Поскольку сия официальная концовка диктует свой стиль и жанр, я вынужден раскланяться и уйти по–парадному, почти на дурной манер г-на Кураева: Карен Свасьян, доктор, профессор и прочая… лауреат и прочая, прочая… антропософ.
Базель, 5 сентября 1995 года
P. S. Я воспроизвожу здесь полный и неискаженный текст статьи, опубликованной в «Литературной газете» от 10 января 1996 года под придуманным редакцией заглавием «„Современный богослов“ с большевистскими манерами». Характерно, что уже через несколько дней в той же газете был напечатан негодующий ответ Ренаты Гальцевой с загадочным и мною так и не разгаданным заглавием: «Антропософией мобилизованный и призванный». Ответ не просто негодующий, а какой–то свирепый; мне трудно было отказать себе в удовольствии перечитать его вторично, а некоторые срывающиеся на фальцет места даже как бы услышать; когда потом пришлось всё же перейти к прозе и содержанию, мне вспомнилось в этой связи предупреждение старого немецкого критика при чтении первых страниц опуса одной пишущей дамы (я не называю её, чтобы не польстить Р. Гальцевой): если и дальше будет так, предупреждал критик, он перестанет обращаться с ней как с дамой и начнет обращаться с ней как с автором. Особенно располагало в пользу этого решения одно место. На мои слова, что диакон Кураев «не хочет знать или даже хочет не знать» антропософию, автор Гальцева среагировала неожиданным подъемом чувств: «Ах, как я понимаю диакона! И вправду, есть много вещей, которых лучше не знать. От знания вообще рождается большая печаль, а от некоторого — даже большая тоска, что–то вроде сухотки мозга». Этой фразе, мягко говоря, недостает обдуманности. Р. Гальцева, если я не ошибаюсь, философ: когда–то в блаженнодиссидентские, «ляликовские», времена даже с видами на элитарность. Что с ней сталось после перестройки, когда философия оказалась у недавних элитников чем- то вроде фантомного чувства, я не знаю. В процитированной фразе всё сразу становится на свои места, если её додумать, что значит, досказать: «Ах, как я понимаю диакона! И вправду, есть много вещей, которых лучше не знать, КОГДА О НИХ ПИШЕШЬ». Ну, с антропософией еще куда ни шло. Не знать антропософию и писать о ней — всё еще привычное дело. Оригинальнее обстоит дело с «большой тоской». Что у Р. Гальцевой от некоторого знания бывает большая тоска, это можно понять. Но есть ведь и знание, от которого рождается уже не тоска, а тревога. Скажем, если знать, что «сухотка мозга», к которой апеллирует переоценившая свои умственные возможности дама, по–ученому называется tabes dorsalis, a по–простому — сифилитическая сухотка.
Базель, 29 декабря 2005 года
Сорок тысяч антропософий?
Ответ Андреасу Хеертчу и другим
Что рассуждения С. Прокофьева (см. «Das Goetheanum», Nr. 1–2/2004) об отношении ученика антропософии к антропософскому учителю вызвали столь бурную читательскую реакцию, ясно свидетельствует о том, что здесь был затронут особенно болезненный пункт. Так вздрагивают в зубоврачебном кресле, когда инструмент нечаянно касается обнаженного нерва. Вместе с тем, уже по тону, с которым выясняется названное отношение, видно, что проблема принадлежит к числу абсолютно открытых антропософских тем, и что сегодня о ней приходится всё еще говорить так, как если бы никто никогда еще не говорил о ней. Похоже, сам случай заботится о том, чтобы тема Рудольф Штейнер и антропософы, на которой единственно и держится антропософия (всё равно, как общество или как движение), не была предана забвению.
Андреас Хеертч назвал свою заметку в подзаголовке: «Можно ли быть антропософом, не считая себя учеником Рудольфа Штейнера?» Ему удалось, таким образом, в по–детски ясных словах сформулировать то, что уже давно не дает покоя многим антропософам, которым, очевидно, недостает смелости (а может, простодушия) повернуться к творцу антропософии спиной и облегченно вытереть пот со лба. Нет сомнения, что уже малейшая неясность в этом пункте чревата смутой и перебранками, и если история антропософского движения и состоит целиком из смуты и перебранок, то причину этого следует искать как раз в непроясненности вопроса об отношении антропософского студента к антропософскому учителю. Господин Хеертч заслуживает самой энергичной признательности за предложенную им формулу разделения, с помощью которой каждый антропософ (а не только те, которым угодно выступать с антропософскими лекциями или писать антропософские книги) сможет, наконец, выяснить для себя: держаться ли ему антропософии Рудольфа Штейнера или, не теряя времени, производить свою. Именно так: каждый — собственную — свою. Под знаком популярного, особенно среди бездельничающей молодежи и бомжей, девиза: Каждый человек–художник! Соответственно: Каждый антропософ — Р. Штейнер!
Антропософ Хеертч сделал свой выбор с прямотой и достоинством независимого интеллектуала. Его ответ на сформулированный им самим вопрос гласит: да. Антропософом можно быть и без Рудольфа Штейнера. Ввиду того, что речь, очевидным образом, идет здесь не о скачках с отведенной каждому скакуну беговой полосой, а о науке, возникает потребность более тщательно вдуматься в проблему, тем более что господин Хеертч, говоря от своего имени, имеет в виду «всех нас». Его ответ хоть и подкупает прямотой и искренностью, но имеет предпосылкой недоразумение, запущенное до такой степени, что для устранения его потребовались бы годы, а может, и жизни. Я попытаюсь вкратце охарактеризовать суть вопроса
.Если кому–то и кажется, что антропософом можно быть без Рудольфа Штейнера, то только шутник допустит, что можно быть антропософом, не зная, что такое антропософия. Господину Хеертчу, члену Антропософского общества, и даже из «руководящего» состава, кажется «чересчур узким» искать источник антропософского знания исключительно у Рудольфа Штейнера, если уж, помимо Штейнера (так Хеертч), существует «школа Михаэля» со всеми её учителями и учениками. То, что антропософ Хеертч, ссылаясь на названную школу, решительно не в состоянии назвать еще кого–нибудь, кто — кроме Штейнера и независимо от Штейнера — говорил бы о ней (не открыл же её в самом деле для себя сам Хеертч?), может быть отнесено по разряду логической дефектологии. Это настораживает, но не отчаивает. Главное, чтобы господина Хеертча не угораздило вдруг утверждать, что можно быть антропософом, не зная, что это такое.
Антропософия — так сформулировано это в одной из наиболее известных штейнеровских дефиниций[118] — путь познания, ведущий духовное в человеческом существе к духовному во вселенной. (Будем надеяться, что оппоненту Хеертчу не придет в голову распространить это определение только на учеников Рудольфа Штейнера, а не в то же время и на учеников «школы Михаэля».) Духовное в человеческом существе означает: Я. Духовное во вселенной тоже означает: Я. Разница в том, что, как антропософы, мы учимся осознавать первое Я на «себе», второе же на Существе Христа.
Антропософия, сообразно сказанному, есть путь Я к самому себе (das ICH-Werden des Ich), или христогения Я (das Christus—Werden des Ich), эволюционным местом свершения которой является познание. Иными словами: антропософия — это жизнь в Я. Антропософски живут в Я, как биологически живут в теле. Студент антропософии может знать, что он осознает свое Я впервые полностью в смерти, где он переживает его так же субстанциально, как субстанциально в жизни между рождением и смертью он переживает только свое тело. Я человека в посмертном (по истечении срока так называемой «Кама—Локи») оказывается тем же, чем его физическое тело при земной жизни: НОСИТЕЛЕМ. Несется оба раза высшее: Я (посмертно) несет Духочеловека, как физическое тело (прижизненно) несет Я. Из этого следует, что антропософ учится жить в смерти еще при жизни; антропософия — это опыт смерти до смерти, и, стало быть, опыт жизни в Я. В антропософии Я учится делать первые шаги, подобно младенцу, делающему первые телесные шаги. Разница между антропософом и не–антропософом в том, что антропософ становится антропософом еще при жизни, а не–антропософ становится им после смерти. К чёрту слова и обозначения! Если кому–то не нравится слово антропософия, то пусть он и назовет это как угодно. Штейнер сам говорит однажды[119], что милее всего ему было бы, «если бы мы могли каждую неделю давать нашему движению новое имя». Антропософия, как жизнь в Я, есть, таким образом, сознательная рекапитуляция того, что в телесном мы изживаем бессознательно. Будь наше Я столь же зрелым и самостоятельным, как наши (бессознательные) тела, скажем, умей оно реагировать на свои ситуации с быстротой и безошибочностью инстинкта, не было бы вообще никакой нужды ни в антропософии, ни в антропософах, ни даже в эволюции мира; каждый человек, «всемы» пребывали бы уже в нетленном теле (= дух) и были бы «яко Боги».
Но наше нынешнее Я даже еще не оперилось. В 12 лекции курса по лечебной педагогике оно обозначено как младенец. (Штейнер говорит почему–то по–английски Baby). Мы перелагаем это на нашу тему и получаем антропософов, как младенцев.
Ничего более утешительного и нельзя себе представить. Г осподин Хеертч имеет неплохой, а по существу, единственный шанс выйти сухим из своего пелагианства, если попытается представить себе собственные рассуждения по аналогии с ребенком, который наткнулся в отцовской библиотеке на, скажем, ArsMagna Луллия, перелистал ряд страниц, даже прочитал по слогам пару строк, а вечером, присутствуя при разговоре взрослых, высказал на сей счет «свое» мнение. Младенчество антропософов состоит, между прочим, и в том, что они, как правило, не научились еще различать между наукой в обычном академическом смысле и антропософски ориентированной духовной наукой. Их мечта: попасть в поле зрения университета и быть принятыми всерьез. Но ясно, как день, что для университетской науки духовная наука не всерьез, а в курьез. Философ Кант, страж университетского порога, нашел бы штейнеровскую духовную науку «невозможной». Между тем: антропософия может быть понята только из самой антропософии, а не из Канта, в котором она видит виновника духовного кризиса нашего времени. Одним из её конститутивных учений является единение познающего с предметом познания в интуиции, которая может быть только индивидуальной и в то же время действительным источником духовной науки. Персонифицированно: когда познающий носит имя «Штейнер», то интуиции его носят имя «антропософия». Здесь нет никаких «преднаходимых» фактов, которые могли бы быть «увидены» первым попавшимся «ясновидцем». Поэтому, тот, кто намерен преподавать антропософию, должен делать это из интуиции (= сознательный и контролируемый опыт смерти), либо, за неимением таковых, запастись терпением на тысячелетия и начать учиться у того, кто это МОЖЕТ. Нельзя, стоя одной ногой в антропософии, другой стоять в университете, сочетая научное сознание с научным суеверием.
Если после всего сказанного тому или иному антропософу (из числа единомышленников господина Хеертча) вздумалось бы настаивать на своем, милости просим! но тогда при условии, что ему не пришлось бы отделаться каким–нибудь одним неряшливым предложением. Выучиться антропософии без Штейнера — слишком серьезная заявка, но раз уж она сделана, то надо идти до конца. Мы ждем от антропософа Хеертча сотоварищи систематического — или, на худой конец, кое–какого — изложения собственных антропософий. В противном случае мы оставляем за собой право считать их тем, что они и есть: недорослями и брамарбасами.
В конце концов промах господина Хеертча, как и его единомышленников в кармической цепи от бульварного журнальчика Info3 до президиума Антропософского общества, обусловлен одной ошибкой, именно: телесное, соответственно, гражданское совершеннолетие путается здесь с духовным и человеческим, как если бы мы, будучи бюргерами, были уже тем самым и ЧЕЛОВЕКАМИ, а в Я столь же зрелыми, как в телесном. Но в Я мы суть младенцы, будь мы при этом обвешены дипломами, знаками отличия и прочей академической жестью, которой мы бряцаем, как младенец в колыбели погремушками.
Тем самым открывается еще одна возможность усилить свое антропософское сознание на следующей медитации: Антропософ — это взрослый человек, при случае даже с высшими знаками отличия, способный осознавать себя в своей духовности младенцем. Соответственно: антропософия — это рост, возмужание Я, зрелость которого опознается по тому, что оно начинает жить, что значит: оно начинает ощущать себя в смерти. Всё прочее было бы люциферическим самомнением, или, говоря более понятным языком, шаловством ребенка, надувающего щеки и ждущего, что с ним перейдут на «Вы»…Оптимизм господина Хеертча и ему подобных, считающих себя способными быть антропософами без Штейнера, покоится, таким образом — при всей своей эстетической сомнительности и моральной безвкусице — на дюжем недоразумении, телесный аналог которого издавна известен в педиатрии под графой детские болезни.
Я позволю себе в заключение привести две выписки из антропософского учителя. Цель цитирования ясна и лежит как на ладони. Их прочтут и поймут. Или не поймут. Кому–то они помогут переболеть своими антропософскими детскими болезнями. А кому–то захлопнуть за собой антропософскую дверь и остаться — до лучших времен — сверчком, не знающим своего шестка.
«Результатом этих исследований является, что истина, как по обыкновению полагают, не есть идеальное отражение чего–то реального, а свободное порождение человеческого духа, которого нигде не существовало бы, если бы мы сами не производили его» («Истина и наука», Предисловие).
«В физическом мире вещи располагаются перед нами без нашего содействия. Ничто не появляется перед нами в высших мирах, если мы сперва не предоставляем в его распоряжение собственную душевную субстанцию» («Мистерии Востока и христианства», 1-ая лекция).
Базель, 10 февраля 2004 года
Снова мейстер из Германии?
Заметки с одной выставки
Германия, это обычно столь послушное дитя мирового перевоспитания, не была бы собой, не заставь она мир — всё в том же XX веке — вновь содрогнуться от ужаса. Пусть не в качестве народа поэтов и мыслителей, ни даже «послушных исполнителей Гитлера»[120], но всё же в до боли знакомом игровом пространстве исконной национальной топики. Не надо только обманываться, когда люди, называющие себя сегодня немцами, удостоверяют свою причастность к ценностям западной цивилизации по паролю по problem! и с легкостью обменивают свою киффхойзеровскую[121] тоску на релаксанты Майорки и Ибицы! Кому суждено быть повешенным, тот не утонет, оставайся он хоть столь долгое время под водой, покуда из него не испузырится воздух. Пока есть Германия, на неё всегда найдется свой («тигр») Клемансо, компенсирующий политическую шаткость Версальского мира более солидными, трансцендентальными, аргументами. Вот удивительный образчик очень глубокого понимания из ненависти[122]: «Любезный друг. В природе человека лежит любить жизнь. Немцу неведом этот инстинкт. В немецкой душе, в искусстве, в мире мыслей и литературе этих людей есть некий род непонимания всего того, что действительно составляет жизнь, её прелесть и величие. Напротив, они исполнены болезненной и сатанинской тоски по смерти. Эти люди любят смерть. Дрожа, словно в опьянении, и с улыбкой экстаза взирают они на неё, как на некое Божество. Откуда у них это? Я не знаю. […] Перечитайте их поэтов: всюду Вы обнаружите смерть! Смерть пешую и смерть верхом на коне, […] смерть во всех позах и всех одеяниях». Поэт Целан сжал это познание до почти пугающего минимума слов: «Der Tod ist ein Meister aus Deutschland» — «Смерть — это мейстер из Германии». Философски: смерть — это немецкое априори, а немец — царь Мидас, который превращает в смерть всё, что тот превращал в золото.
Господин (профессор) Гюнтер фон Хагенс, Гейдельберг, профессиональный анатом, «Робин Гуд анатомии», как называют его люди прессы, и selfmade–художник, каузирует из fin de siecle экспертное заключение француза. Названную двойную специальность ни в коем случае не следует понимать в том смысле, что художник подчинен здесь анатому. Как раз наоборот. Искусство, практицируемое господином фон Хагенсом, решительным образом противится тому, чтобы быть своего рода хобби при его профессии; скорее, оно и есть профессия, что значит: он пользуется анатомией для искусства, и даже: находит в ней лишь в той мере смысл и соль, в какой она умеет ставить себя на службу его художническому честолюбию. Возникает вопрос: что же это за искусство, исходный, природный и основной материал которого анатомия? Вопрос наводит на сравнение. Волей старых мастеров искусства было, как известно, стать и анатомами. Сохранились истории, рассказывающие, как великие художники, рискуя жизнью, учились аутопсии, чтобы лучше и точнее ориентироваться в «мирах тел». — Сегодня, когда искусство стало сегментом в целевом маркетинге do it yourself, нет ничего удивительного в том, что художниками делаются и анатомы. За отсутствием самих художников, так сказать. Но в искусстве важно не то, что «я» его делаю, а ЧТО ИМЕННО я делаю. Искусство — это когда некий материал (камень, краска, тон или слово) оформлен и обнаружен в своем эйдосе. Творение — формотворчество (Элогимы в Книге Бытия, возведенные невежеством ученых филологов qua теологов в ранг единственного — а если верить Карлу Барту, и одинокого — Бога, суть Духи Формы). Что же это значит, когда художником становится анатом? Это значит, он оформляет свой материал с целью обнаружить его эйдос. Но материал анатома — трупы. И, значит, эйдосом трупа было бы… Вот набросок ответа, к которому феноменолог смог бы подобрать вопрос. Труп — это еще один черновик мира в его усилиях стать нетленным. (Вариант: труп — это опустевшая обитель Я, настолько совершенная, что Я покинуло её, не выдержав жизни в ней дольше нескольких десятилетий.) Если физическое тело человека — это акме мира, то человеческое Я — несмышленыш, устраивающий в теле погромы или пользующийся им не по назначению. Как если бы под сводами Шартрского собора заплясала вдруг бациллоносная эстрадная шпана! Memento mori! В трупе мир возвращается к себе после еще одной сорвавшейся попытки обращаться к себе на Я. Форма возвращения — погребение или сожжение, потому что труп, не в оглядке на вчерашний день, когда он не был еще трупом, а в своем здесь–и–теперь — ничей.
Он не принадлежит никому, что значит: его владелец МИР. Господин фон Хагенс
— ВОР МИРА. Он крадет у мира пустые использованные емкости Я и шпигует их своими простецкими фантазиями. Еще раз: тело, физическое тело — это СОВЕРШЕНСТВО. Если оно становится трупом, то не по своей вине, а по вине приживальщика, который, не зная, куда его пустили, с таким бешенством отдается буйству своих мальчишеских капризов, что приходится на время отозвать его ОБРАТНО и дать ему возможность осмыслить случившееся. (Жизнь после смерти — это не вечная Ривьера праведников–пенсионеров, соответственно: не вечная Сибирь согрешивших, а передышка Творца между повторными попытками Творения.) Каприз господина фон Хагенса особенный. Надо представить себе простака, который, по прочтении Фауста, стал бы его переписывать, чтобы сделать «лучше». Фон Хагенс хочет сделать более совершенным совершенство, превращая умерших людей в геммы, статуи, памятники, барельефы — не без похвальной оглядки новичка на античные образцы, но и не без пагубных воздействий современного искусства.
Надо пройтись однажды по этому залу экспонированных мертвецов, чтобы увидеть невозможное. Сотни Полиников, о которых уже не позаботится никакая Антигона, расположены здесь, как вещи в обычном музее, разве что не под стеклом, — очевидно, из уверенности, что ни одному посетителю не пришло бы в голову плеснуть кислотой в — труп. Когда–то это были живые люди; теперь это остановленные мгновения своих прожитых жизней. Мертвецы, воскресшие не в жизнь, а в музей современного искусства, настоящие голографические иллюстрации к «Бобку» Достоевского. «Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!» Можно было бы принять эти натуральные бездыханные тела за макеты или цветную глину. Отсутствие жизни достигает здесь такого максимума, что почти перестаешь воспринимать смерть. Мне приходят на память, по контрасту, катакомбы капуцинов в Палермо, прилегающие, как в продолжение, к городскому кладбищу. Это тоже выставка смерти, но до чего иная. Вы идете узкими и длинными подземными проходами, едва освещенными, по обеим сторонам которых, в нишах или прямо у стен, расположены мертвецы, стоящие, сидящие, лежащие, вперемешку, некоторые почти уже скелеты, другие едва тронутые распадом, а главное, нарядно одетые, как на званый вечер или заупокойную; но эта жуткая крипта, в которой мертвые не погребли–таки своих мертвецов, не имеет ничего общего с фон- хагенсовскими «мирами тел». Здесь это шахта, рудник смерти, с залежами сырья; там искусство; впрочем, наверное, и монахам были не совсем чужды художнические амбиции, потому что следы обработки заметны и в Catacombe dei Cappuccini; мне вспоминаются два наполовину истлевших трупа в черных парадных сюртуках, как на прогулке; один, короче ростом, столь свирепо сверлит глазницами другого, высокого, что тот виновато понурил голову; лучшего выяснения отношений они не достигли бы и при жизни; конечно, шутник в капюшоне, придумавший это, был дилетантом и уж совсем не анатомом, но фон–хагенсовская тенденция налицо; нет спору, честолюбивые капуцины побледнели бы от зависти, увидев шедевры, автор которых смог бы привести и ихпокойников сто–, а то и двух–, трех–, четырехсотлетней давности в форму, если ему позволили бы транспортировать их из темного и затхлого палермского подземелья в ослепительно стерильную мертвецкую гейдельбергской университетской клиники, а уже оттуда, экологически чистыми, в светлые и приветливые выставочные павильоны. «Миры тел» демонстрируются по всей планете и набирают рекордное количество посетителей; в Базеле, например, за четыре месяца число перевалило за 600 тысяч. Приезжали и из других городов, и даже стран: Германии и Франции; я побывал на выставке два раза (один раз сам, другой раз как гид), и оба раза передвигаться в пространстве было не легче, чем в галерее Уффици. Особенно удивило количество детей, которых — были и совсем маленькие в колясках — родители сочли нужным взять с собой на этот кирмес смерти. Дети не уступали в серьезности взрослым, мерно и важно расхаживали от трупа к трупу, иногда останавливаясь и подолгу рассматривая детали. Впрочем, детали разглядывали все; разглядывал их и я, в одном случае даже довольно пристально, пытаясь увидеть os intermaxillare, гордость естественника Гёте. За специальным столом сидело доверенное лицо мейстера, готовое при необходимости дать разъяснения; с этой же целью на столе были разложены материалы и рекламные проспекты, из которых, между прочим, можно было узнать о возможности завещать господину фон Хагенсу свое тело, так сказать, встать на очередь: в радужной перспективе хотя бы посмертно привлечь к себе всеобщее внимание.
Ибо господин (профессор) Гюнтер фон Хагенс (фон Хагенс — это, собственно, не его имя, а нибелунговское имя его жены, которое он взял себе, чтобы не называться своим именем; с именем мейстера вышла типично немецкая неувязка; если гадать, как назвал бы нашего героя Гоголь, доведись именно Гоголю сочинять его, то, наверное, он назвал бы его, как он и звался до женитьбы: до женитьбы фон Хагенс звался Либхен, Liebchen, по–русски: милашка, или, с учетом тендерного признака, милок), итак, господин (профессор) фон Хагенс, хоть и выдающийся анатом, но, как сказано, с намерением стать более выдающимся другим. Еще раз: анатомия выглядит здесь шапкой–невидимкой, за которой прячется его подлинная страсть. Иными словами: анатомия, сама по себе, служит в нем некой более высокой цели, подобно тому как мертвецы, которых он латает, служат анатомии. Короче, это анатом с капризом: анатом, желающий быть художником, причем современным. Как если бы Эйнштейн, который, как известно, увлекался скрипкой, потребовал, чтобы его считали не физиком, а скрипачом! Можно, впрочем, позволить себе дать господину фон Хагенсу совет. Он наверняка достиг бы большего в своей заветной мечте, если бы отказался от этих ощутимо провинциальных подражаний старому и новому искусству и взялся за вещи, в которых его талант не имел бы себе равных. Как пример: что бы сказал анатом фон Хагенс о шансе испытать свое эстетическое счастье в качестве кутюрье умерших! Наверняка, он был бы вне всякой конкуренции и уникальным в своем роде. Что творцы моды делают со своими моделями, он делал бы (в память об одном эпохальном стихотворении под заглавием Charogne) со своими трупами, моделируя их с такой профессиональной любовью, словно бы речь шла о кандидатах в Miss или Mister Universe к очередному конкурсу красоты. И, наверное, сходство этих, с позволения сказать, топ–мертвецов с girls и boys показов мод было бы абсолютным, не выгляди знаменитые модели столь неживыми на фоне мертвых манекенов. Короче, найди себя господин фон Хагенс в этой роли, ему не было бы уже никакой нужды размениваться на роль Чичикова мертвых тел. Его имя упоминалось бы в одном ряду с Версаче или Жан—Поль Готье, и ему приходилось бы отбиваться от желающих стать мисс или мистер Гадес.
«La nuit vivante, — написал однажды Мишель Фуко[123], — se dissipe a la clarte de la mort». Живая ночь рассеивается ясностью смерти. Смерти, достигшей фотографического, почти дигитального эффекта изображения. И будете как пластинаты. — Один несет в руках собственную кожу, как пальто. Другой склонился над шахматной доской. Третий уселся на стуле, высоко, почти перпендикулярно туловищу, закинув ногу на ногу; одной рукой он оперся о ногу, другой ухватился за плечо, отдаленно напоминая того мюнхенского стилиста–урнинга с собачкой, которого недавно то ли заколол, то ли пристрелил молодой любовник. Рядом еще один, натянутый, как струна, замер в фантастическом прыжке — прыгун в длину или мастер кунг–фу? А кто–то другой замер на коне, с обнаженной шпагой, так и просясь в кампанию к славным кондотьерам Бартоломео Коллеоне или Гаттамелате, увековеченным Андреа дель Верроккьо и Донателло. Не обошлось, как сказано, и без «модерна». Одна фигура вытянута в почти трехметровую высоту: между головой, туловищем и конечностями пустые срезы пространства со стержнями, на которые, как на вертел, нанизаны фрагменты целого. Это бездарная и безвкусная дань бездарному и безвкусному. Но есть и шедевры. Лицо молодой девушки, снятое в полчерепа с головы и вправленное, как камея, в брошь. (Я должен был подумать о том, что среди посетителей мог бы вдруг оказаться тот, кого она любила.) При выходе, как и при входе: одноглазый. Кто не видел этого глаза (левого, как если бы и мертвые помнили о заповеди: «Если твой правый глаз вводит тебя в грех, вырви его и отбрось», чтобы их правый глаз не вводил их в грех при таком количестве посетителей), едва ли поймет, что значит ярость. Философ Хайдеггер изящно сформулировал однажды мысль (кажется, в связи с Ницше), что нельзя мыслить, крича, а между тем есть вещи, выразить которые можно только криком. Если, стоя среди тел господина фон Хагенса, долго прислушиваться к себе, есть вероятность услышать крик. Не следует лишь принимать его за свой.
Потом я увидел его самого. В телевизионной дискуссии, где ему пришлось защищаться от сразу трех оппонентов: коллеги–анатома, профессора этики и богослова. Всё было, как обычно и бывает в таких случаях, нелепо. Коллега силился говорить, как анатом, но получалось у него как у этика. Это заметно раздражало этика, у которого как раз и получалось как у этика. Богослов тоже пытался быть самим собой, но у него уже не получалось даже как у анатома. Впрочем, и сам делинквент оставлял желать лучшего. Наверное, потому что и он старался говорить, как те трое… Под конец пошли звонки телезрителей, после чего стало окончательно ясно, что ясность смерти всё еще не окончательна, и что последней ясностью, рассеивающей всё, что было, есть и будет, была и остается ясность глупости.
Он был бы как Петер Шлемиль, человек без тени, или даже как «человек без свойств», не носи он постоянно шляпу на голове. Говорят, его никто не видел без шляпы. Наверное, оттого, что шляпа и есть его тень и свойство: единственное неанатомируемое в нем! Crimen laesae majestatis: оскорбление величества. — Шапку долой! кричат ему его мертвецы. Но он не снимает её ни перед кем: ни перед живыми, ни перед мертвыми. Непочтительность? Вызов? Бесчувственность? Или то, другое, третье плюс — Йозеф Бойс! Бойс — Spiritus rector: то ли «классик» на фоне сегодняшних «босяков», то ли «босяк» на фоне вчерашних «классиков»; в другом раскладе: то ли католик, у которого поехала антропософская крыша, то ли антропософ с католической крышей; идол поколения, упразднившего личную гигиену и сующего нос во всё под предлогом «прямой демократии»; он залез однажды в клетку с койотом, чтобы потолковать о социальном вопросе; в другой раз на выставке (кажется, в Дюссельдорфе) он разместил среди экспонатов своего искусства старый унитаз, и, найдя его на следующий день чистым, отсудил у устроителей приличную сумму за вандализм уборщицы, ничего не смыслящей в искусстве, — но соль не в этом, а в том, что и этот человек никогда не снимал шляпы с головы. Остается догадываться, чем сумасшедший шестидесятивосьмидесятник мог пленить сумасшедшего анатома, но догадка приходит раньше, чем вопрос. Дело в шляпе. Во всяком случае, когда я попытался мысленно увидеть обоих мужей с обнаженными головами, взору явились совершенно не похожие друг на друга, да и уже вообще ни на что не похожие существа. Но стоило им снова надеть шляпы, как они становились неразличимыми, словно бы одного из них, неважно кого, пропустили через ксерокс. Наверное, и Бойс не в меньшей степени мечтал стать фон Хагенсом, чем фон Хагенс Бойсом, хотя последнему (Leichen—Beuys, трупный Бойс, метко прозвал его кто–то) это, бесспорно, удалось лучше. Бойс умер в 1986 году. Теоретически они вполне могли бы быть знакомы. Скажем, фон Хагенс мог бы пройти у Бойса «мастер–курс». (Бойс был профессором дюссельдорфской Академии художеств. Вво дил, так сказать, начинающих художников в таинства несполоснутого унитаза.) Любопытно, что и фон Хагенс представляется как «профессор». Даже дважды профессор, полагая, очевидно, что так это будет правдоподобнее. Один раз, как «приглашенный профессор медицинского университета Далиан, Китай», другой раз, как «почетный профессор медицинской академии Бишкека, Киргизия». (Немецкокитайское сродство — тема не новая; еще Гёте[124] говорил об одном, испанского производства, глобусе XVI века с надписью: «Китайцы — народ, у которого много общих черт с немцами». Впечатляет, скорее, киргизский фактор, но свыкаешься и с ним, узнав, что обе названные страны являются основными поставщиками сырья для «Миров тел».)
По пути домой мне вспомнился вычитанный у Клагеса рассказ об одном африканском вожде племени, который, в обществе какого–то путешественника, неожиданно прервал разговор и удалился, потому что головная боль напомнила ему о том, что он пропустил время ухода за душой отца[125]… А потом вдруг загудели, и долго не утихали, строки незабвенного Конрада Фердинанда Мейера, которые я даже не пытаюсь перевести на русский — не только потому, что перевести их, как мне кажется, невозможно (получится совсем другое), но и потому, что так требует этого немецкая специфика темы:
Wir Toten, wir Toten sind groBere Heere Als ihr auf der Erde, als ihr auf dem Meere!
Wir pflugten das Feld mit geduldigen Taten,
Ihr schwinget die Sicheln und schneidet die Saaten,
Und was ihr vollendet und was wir begonnen,
Es fullt noch dort oben die rauschenden Bronnen,
Und all unser Lieben und Hassen und Hadern,
Das klopft noch dort oben in sterblichen Adern,
Und was wir an gultigen Satzen gefunden,
Dran bleibt aller irdische Wandel gebunden,
Und unsere Tone, Gebilde, Gedichte Erkampfen den Lorbeer im strahlenden Lichte,
Wir suchen noch immer die menschlichen Ziele —
Drum ehret und opfert! Denn unser sind viele![126]
Базель, 22 сентября 1999 года
Девять проб немецкой журналистики
Нижеследующие реплики были написаны с благим намерением попробовать себя однажды в ремесле немецкого журналиста. Я и не надеялся увидеть их опубликованными; разве что в немногих периодических изданиях, одного контакта с которыми, впрочем, было бы достаточно, чтобы прослыть «неонацистом»; так либеральные простаки называют всех, кто не либерал и не простак. Но не быть либералом, ни простаком, вовсе не значит быть «неонацистом»; возможен ведь и третий вариант: когда кто–то ни либерал, ни простак, ни нацист, ни даже то, что между ними. Объяснить это либеральным (да и нацистским) простакам можно было бы приблизительно с таким же шансом быть понятым, как объяснить ребенку–аутисту, что он аутист. Но (говорил я себе) если чёрт шутит, то где же ему и шутить, как не в журналистике. Я помню, как был озадачен редактор отдела фельетонов газеты Basler Nachrichten, прочитав рукопись одной моей заметки об установленных прямо в центре Базеля двух больших кусках ржавого железа (сейчас это называют искусством). Я предлагал проверить художественную значимость ржавчины на разрешивших и оплативших её инсталляцию «отцах города»; согласились бы они установить нечто подобное (разумеется, в соответствующих размерах) у себя дома: в гостиной или, скажем, спальне. Заметка, конечно, не появилась. В другой раз (это был конец моей журналистской карьеры) добрый человек ужаснулся реплике, написанной мною в связи с одной голландской инициативой: речь шла о принятии на службу в амстердамскую полицию полицейских–гомосексуалистов. По чисто процентному соотношению: чтобы интересы гражданских педерастов были соответственно представлены в каждом полицейском участке педерастами в мундире. Мое письмо подхватывало инициативу в перспективе её развития. Я предлагал предусмотреть в голландском парламенте места для депутатов–скотоложцев, дабы интересы и этой части общества не остались нелоббированными в высшем законодательном органе страны. Редактор счел письмо злой шуткой и отказался его публиковать. Мои объяснения, что это никакая не шутка, а скромный прогноз, и что, отказываясь печатать его, он лишает не только меня, но и свою газету, лавров первооткрывателя (на случай, когда прогноз–таки сбудется), не возымели действия. Пробовать себя в журналистике после этого было столь же бессмысленно, как переубеждать голландских полицейских в целесообразности их демократических фантазий. Чтобы остыть от намерения, я писал в стол; потом заметки (девять нижеследующих проб) через одного приятеля попали в Интернет, где и промаячили некоторое время, прежде чем исчезнуть из виду.
1. Нетрадиционное богослужение
«Базельская газета», 27/28 октября 2001 года: «В базельской церкви Елизаветы было совершено богослужение с животными. Четвероногие всех пород — собаки, кошки, хомяки, крысы, даже одна пестрая свинья, всего около 100 зверей и 400 людей — сидели рядом на стульях и внимали радостному празднику творения, устроенному пастором Феликсом Феликсом: пылкой эксегезе к одиннадцатой заповеди, сформулированной председательницей Базельского союза защиты животных: „Возлюби своего ближнего и своих животных сотварей как самого себя“».
Что иной читатель сумеет оценить и, будучи добрым христианином, на деле применить некоторые нюансы названной заповеди, в этом не приходится сомневаться. Интереснее было бы всё же спросить читателя, не приходит ли ему на ум при имени базельского пастора нечто такое, что выставляет праздник творения в церкви Елизаветы в неожиданном и многое объясняющем свете. Феликс Феликс — не знай мы, что это имя священника, можно было бы смело предположить, что оно принадлежит беглому каторжнику (в стиле Жюль Верна) или убийце (по модели: Сирхан Сирхан, убийца Роберта Кеннеди), или, что вероятнее всего, набоковскому любовнику, для которого девицы, вышедшие из школьного возраста, уже не интересны.
В последнем случае это означало бы: старого греховодника в его нынешней аватаре священника потянуло на животных.
19 ноября 2001 года
2. Упущенный шанс
«Шпигель–онлайн», 5 ноября 2001 года: «„Американцы распространяют слух о нашем вожде, мулле Мохаммеде Омаре, что он–де прячется. Поэтому, мы предлагаем, чтобы господа Буш и Блэр явились в условленное место с автоматами Калашникова; тогда мы увидим, кто из них пустится наутек“, — сказал Вакил Ахмад Мутавакил по данным иранского агентства печати Ирна на пресс–конференции в южно–афганском городе Кандагаре».
Как известно, оба западных лидера никак не отреагировали на вызов, посчитав его, скорее всего, курьезом. Подумать только, такое в наше время!… Недаром стражи корректности говорят о «средневековье», когда характеризуют всё, что не лезет в их «цивилизацию». — И всё же было бы опрометчивым отделаться шуткой от жеста безумного воина Божьего. Некое предчувствие внушает нам, что кадр, в котором оба влезшие в джинсы поборника infinite justice с Калашниковыми в руках стояли бы лицом к лицу с ими же созданным големом, имел бы оптически большие шансы на правдоподобность, чем аналогичная сценка с их более ранними или даже недавними предшественниками. Представить себе Черчилля, стреляющегося с Гитлером, или даже Буша старшего, сцепившегося в рукопашную с Саддамом, нелепо во всех смыслах, но Буш–юниор и «Тони» Блэр отлично смотрятся в этой роли. Что оба мужа цивилизованно отмолчались в ответ на абсурдную выходку муллы, можно объяснить их непониманием момента. А ведь не так уж трудно было по специфике афронта угадать источник вдохновения талибанского вождя! Средневековье тут ни при чем; такая дуэль не только далека от анахронизма, но и отвечает повышенным стандартам цивилизации. Чтобы поставить всё на свои места, надо увидеть это глазами какого–нибудь голливудского продюссера. Mad Mullah неожиданным образом явил себя с типично американской стороны, словно бы неистовые штудии Корана уживались в нем со страстью к игровым фильмам в жанре action. Спросим со всей серьезностью: а не почувствовала бы себя публика в кинозале обманутой, если бы иному шерифу или рембо не пришло в голову ничего лучшего, чем проигнорировать вызов злодея? Можно сколько угодно оправдывать молчание западных народных избранников; от чего при этом нельзя отделаться, так это от странного привкуса какой–то неадекватности, если допустить, что экранные двойники и прототипыобоих миротворцев (скажем, Брюс Виллис в роли Буша и Пирс Броснан в роли Блэра) всё–таки иначе, а именно, более имманентным и подобающим образом отреагировали бы на сумасшедшее решение афганца. Подумать только, какое количество избирателей подкупили бы они своей готовностью к дуэли (при условии, правда, что им пришлось бы непременно победить). Риск? Бесспорно.
Но что значит такой риск по сравнению со столь блестящим и, как кажется, теперь уже насовсем утраченным шансом?
20 ноября 2001 года
3. Своенравный посол
«Шпигель онлайн», 19 ноября 2001: «Из–за резни, учиненной им в Сабре и Шатиле в 1982 году, Ариэль Шарон должен теперь отчитаться перед судом в Бельгии. И всё же более, чем сомнительно, что израильский премьер явится в назначенный срок. Повестка о явке на суд, согласно „Le Soir“, лежит в настоящее время в сейфе бельгийского посольства в Израиле. Во время официального визита премьер–министра Бельгии Ги Верховштадта, который параллельно находится в должности Председателя Совета Объединенной Европы, посол отказался передать бумагу Шарону».
В этой связи можно было бы обратить внимание на следующее обстоятельство: королевству Бельгия, появившемуся на свет в 1831 году вследствие одной франкмасонско–иезуитской liaison dangereuse, выпала, как известно, участь исполняющего обязанности родины Объединенной Европы. Что при этом в самом государстве Бельгия, состоящем из фламандцев, говорящих на нидерландском диалекте, валлонов, говорящих на французском диалекте, и прочих, говорящих на немецком диалекте, отсутствует не только языковое, но и фонетико–семантическое единство в пределах одного и того же языка, не должно служить возражением, раз уж язык, на котором учатся говорить в Объединенной Европе, и сам является объединенным, правда, в том смысле, что для овладения им потребна не лингвистическая, а просто демократическая одаренность. Широкую мировую известность снискало себе это место сходки бывших европейских государств, между прочим, скандалами, связанными с педофилией, а также образцовой несгибаемостью в тяжбе Объединенная Европа vs. Австрия (после того, как 29 процентов австрийцев отдали свои голоса Йоргу Хайдеру). Тогда бельгийский министр иностранных дел призвал своих соотечественников не кататься на лыжах в Австрии, а брюссельские таксисты отказывались обслуживать пассажиров, прибывших из Австрии. О министре стало позднее известно, что он охарактеризовал свой призыв как глупость; бойкот таксистов остался без комментариев. После всего этого едва ли должно удивлять, что премьер- министру Бельгии, исполняющему одновременно обязанности Председателя Совета Объединенной Европы, взбрело в голову приурочить свой официальный визит в Израиль как раз к тому времени, когда главе израильского правительства было предложено явиться в Брюссель на суд ответчиком в связи с учиненной им резней. Можно, пожалуй, причислить отказ бельгийского посла передать Шарону повестку о явке на суд к очередным диковинкам a la belge (ну, что бы мы сказали, вздумай господин Верховштадт при разговоре с пригласившим его в Израиль Шароном устно подтвердить решение брюссельского суда, а его переводчик заупрямился бы переводить это). Другим, правда более рассудительным, объяснением было бы, пожалуй, что строптивый дипломат заблаговременно позаботился о том, чтобы не сожалеть о своем поступке как о глупости.
4. Швейцарская непоследовательность
«Новая Цюрихская Газета», 15 ноября 2001 года: «Гомосексуальные и лесбийские пары вправе жить совместно в качестве зарегистрированных партнеров, соответственно, партнерш. Так полагает Федеральный Совет. […] Является ли зарегистрированное партнерство шагом вперед? Несомненно. Но решается ли таким образом проблема полностью? Едва ли. Федеральный Совет намерен по возможности избегать сближения официального признания гомосексуальных связей с бракосочетанием. Иначе, чем это имеет место в северных странах, где с зарегистрированными партнерами принципиально обращаются как с супругами, он предлагает, поэтому, специальный закон для гомосексуалистов, по которому эти пары рассматривались бы как на равных, так и на неравных правах с женатыми. Именно, им отказывается в праве на адоптацию и медицинское размножение, вследствие чего Федеральный Совет a priori лишает лесбиянок и гомосексуалистов возможности воспитывать детей».
Сказавший А, должен сказать и Ай. Похоже, что Федеральный Совет, стоящий одной ногой на Севере, другой ногой застрял во вчера. Нет спору, что его половинчатое решение натолкнется со стороны дискриминированных «цветов демократии» на ничуть не меньшее негодование и непослушание, чем это случилось бы даже в случае полного запрета. Если ребенок тянется к конфете, то ему либо дают её, либо как раз не дают. И если родителям вздумалось бы дать её ему, но так, чтобы ребенок мог лишь пару раз облизнуть сладость, после чего вожделенная вещь была бы выдрана у него изо рта, то они явили бы себя не только как непоследовательные, но и не совсем sans un penchant sadique. Увы, посередине лежит не всегда истина, временами там стоит и осел. Если Швейцария и впредь будет ухитряться балансировать между креативностью своих северных соседей и верностью собственным клятвенно закрепленным нравам и обычаям, то уже завтра она будет выглядеть в глазах прогрессивных датчан или норвежцев этакой банановой республикой. Не требуется никакого дара Кассандры, чтобы предвидеть, что в такой стране, как, скажем, Голландия, где брачные союзы между мужчиной и мужчиной, соответственно между женщиной и женщиной стали рутиной, самое время ожидать бракосочетаний между мужчиной и животным, соответственно между животным и женщиной, причем с непременно оговоренной клаузулой разрешения однополых связей в обоих случаях. Федеральный Совет окажется, таким образом, перед альтернативой: либо драстически призывать к порядку нидерландских первопроходцев, требуя в этой связи экстренного заседания Совета безопасности ООН, либо — взять себя в руки и приветствовать новинки brave new world уже не вполголоса, а во всё горло.
23 ноября 2001 года
5. Папа извиняется
«20 минут», 23 ноября 2001 года: «Впервые папа опубликовал в Интернете документ, вместо того чтобы отправиться в изнурительное странствие. Иоанн Павел II извинился перед туземными народами Океании за преступления и несправедливости, совершенные миссионерами католической церкви».
6. Папа (такое вот ненормативно–православное словцо) — ништяк. Ништяковым был бы и его поступок, не будь он бессмысленным. Извинение имеет смысл, когда оно доходит до места назначения. Извиниться перед аборигенами через Интернет — всё равно, что исповедаться в микрофон. Последствия лежат как на ладони: если Святой Отец не пошутил, значит океанцев впору было бы утешить бессмертным словом: Простите его, ибо он не ведает, что вершит. Собаки в Цюрихе
«Беобахтер», 23 ноября 2001 года, п 24: «„Мы должники наших псов“. Под этим девизом адвокат Андреас фон Альбертини основал Цюрихскую Собачью партию (СОП). Главные цели две: каждому свой пёсик и долой ошейники. Многие качают головой; сам же он смотрит на дело прагматично. „Если бы мы открыли союз, основанный на общности интересов, нами не заинтересовалась бы ни одна свинья. “ Но волшебное слово „партия“ обеспечивает ему успех. Зарегистрировано уже 140 членов различнейших мастей. А скоро начнется предвыборная борьба за членство в совете общины 2002».
Исследователи языка убеждают нас, что существуют метафоры, которые суть инкрустированные в язык давнишние реальности. Если это так, то поиск следовало бы вести не только вспять, от сегодняшних иносказаний к вчерашним реалиям, но и проспективно, чтобы обнаружить в той или иной нынешней реалии зародыши будущей идиоматики. Если о том или ином человеке говорят, что он дошел до собачьей жизни, то имеют в виду переносный смысл и вовсе не ждут от названного человека, чтобы он затесался среди псов и бегал на четвереньках. Но этот переносный смысл есть, очевидно, сохранившийся в языке послеобраз былых, реально ползающих с собаками сородичей. О том, есть ли у Цюрихской Собачьей партии политическое будущее, можно строить догадки. Её лингвистическое будущее, напротив, не вызывает никаких сомнений.
25 ноября 2001 года
6. Забыли министра
«Шпигель–онлайн» 24/2000: «Для федерального министра обороны дело шло о совершенно обычном служебном полете. Но вскоре после „take off“ кто–то спросил сквозь облака: „А где, собственно, Рудольф?“ Целью полета была Фейра в Португалии. Там Шарпингу предстояло принять участие во встрече на верхах Объединенной Европы. И вдруг обычная трескотня в кокпите была прервана вопросом о министре обороны. Выяснилось, что Шарпинг не на борту, а стоит всё еще в аэропорту Кёльн/Ван. Отсутствие министра бросилось в глаза одному из членов делегации, когда самолет пролетал уже над Ганновером. Экипаж пилотов бундесвера развернул машину обратно в направлении кёльнского аэропорта и с тысячекратными извинениями взял своего высокого начальника на борт».
Ни на одном другом факте finis Germaniae не обнаруживает себя столь ярко и беспощадно, как на этом эпизоде с дебильным министром. Если вспомнить, что речь идет о соотечественнике и коллеге Мольтке, Роммеля и Манштейна, то шутка приобретает зловеще–магический оттенок. Задаешься вопросом, а не порча ли это? Тут уж поневоле напрашиваются ненормативные слова, да так, что за них и не хочется заранее просить извинения. Министра обороны, которого забыли взять на борт его же адъютанты и сопровождающие, иначе как ЗАСРАНЦЕМ не назовешь.
29 ноября 2001 года
8. Дональд Рамсфельд: антропософ–неудачник
«Франкфуртер Алгемайне», 29 сентября 2002 года, п 224: «Рамсфельд советует Германии: Кто сидит в яме, тому не следовало бы копать глубже».Этой фразой министр обороны США обобщил свое нежелание встретиться со своим немецким коллегой Струком в рамках совещания министров обороны НАТО в Варшаве. На деле речь шла о двух фразах, из которых процитированная была последней и, так сказать, более философской, тогда как первая была более американской: «У меня, — сказал Рамсфельд, — нет никаких намерений встретиться с этой персоной». Из–за разнородности целевых наводок в обоих предложениях, стоило бы поближе рассмотреть их языковое поле. Нет сомнений, что «кто» последнего предложения не имеет никакого отношения к «thatperson» первого. «Персона» относится к преемнику и сопартийцу господина Шарпинга (см. предыдущую заметку). Допустить, что именно она сидит в яме второго предложения, было бы нелепостью. Очевидно, имеется в виду страна, защищать которую уполномочило «персону» её правительство. Министр Рамсфельд не намерен, таким образом, повидаться со своим немецким коллегой, но сажает он при этом в яму именно Германию и пытается внушить последней, что ей не следует копать дальше.
Можно обойти молчанием политический резонанс этой солдатской шутки. Тем более, что никакого резонанса здесь нет и быть не может — за отсутствием в Германии атмосферы, в которой что–то могло бы вообще политически резонировать. Говоря вместе с Трейчке: за отсутствием в Германии «мужчин, делающих историю». Тем пронзительнее, однако, резонирует откровенность американского министра в атмосфере духовной. Фраза Рамсфельда амбивалентна: прочитанная по–американски, она выглядит хамством; в немецком прочтении хамство оборачивается глубокомысленностью. Мы читаем её в свете следующего сообщения духовной науки в берлинской лекции от 25 сентября 1917 года. Рудольф Штейнер: «Я прошу Вас обратить на это внимание. Человеку кажется, что он знает свое Я, но как знает он свое Я? Видите ли, если Вы берете некую красную поверхность и делаете в ней дыру, за которой темнота, вообще ничего нет, то Вы видите красное и Вы видите дыру, как черный круг; там же, где черный круг, Вы не воспринимаете ничего, там и нет ничего. Подобно тому как Вы видите вокруг черной дыры красное, так видите Вы в своей душевной жизни и Я. Фактически то, что человек считает восприятием собственного Я, есть лишь дыра в его душевной жизни».
Министр Рамсфельд, чья склонность к философским формулировкам особенно забавляет фельетонистов, мог бы знать, что там, где говорится о Я, имеется в виду не вещь, а познание. И, значит, нечто такое, что есть, лишь поскольку познается. Министр Рамсфельд мог бы далее знать, что тема Я, за неумением говорящих по–английски философов справиться с ней, полностью перешла в компетенцию философов, говорящих по–немецки. Я вышеприведенной цитаты есть немецкое познание. Но поскольку познание в немецком же смысле есть самопознание, то познание Я идентифицирует себя с Я как таковым. Увидеть в Германии дыру (или яму, на вкус) может — после 1918, в окончательной редакции после 1945 года — каждый. Понять, что сидеть в этой яме, значит сидеть в себе как в Я, могут немногие. Министр Рамсфельд (правильнее было бы, по–немецки, Румсфельд; наверное, так и обращались к нему его родственники из земли Бремен во время его регулярных посещений исторической родины, когда он, как неминистр, мог еще себе такое позволить), министр Рамсфельд попал в яблочко, но, будучи в познавательно неадекватном состоянии, даже и не догадался об этом; пойми он, о чем идет речь, ему пришлось бы сказать: «кто сидит в яме, тому самый раз копать глубже».(С учетом круглости Земли, а также кривизны пространства, можно предположить, что, начав копать в немецкой дыре и копая всё глубже, не мудрено докопаться до противоположного конца и высадиться где–нибудь у Белого дома или в районе Пентагона.)
30 сентября 2002 года
P. S. Уже по написании этой глоссы министр Рамсфельд опубликовал томик стихов под изящным заглавием: Pieces of Intelligence: The Existential Poetry of Donald
H. Rumsfeld (Free Press, New York 2003). Кто–нибудь более сведущий поправит меня, если я ошибусь, сказав, что речь идет о единственном генерале в истории, к тому же в ранге военного министра, который не скрывает, что пишет стихи. Пусть не любовные, но таки стихи. Это говорит о мужестве генерала, если уж он решился на такой отчаянный шаг, или это говорит о его отчаянии, если он решился на такой мужественный шаг. «Ужасно я всякий стих люблю, если складно, — продолжал женский голос.
[…] — Стихи вздор-с, — отрезал Смердяков». Книга Рамсфельда открывается поэмой, буддийская закамуфлированность которой лишь резче выдает в авторе безнадежного немца и — неудачника–антропософа:
The Unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We also know There are known unknowns. That is to say We know there are some things We do not know. But there are also unknown unknowns, The ones we don't know we don't know.Чтобы не утомлять читателя русским дословным повторением этого глубокомыслия, позволительно воспроизвести его в одном из его старых немецких оригиналов. Шеллинг[127]: «Меон — это несуществующее, которое лишь есть несуществующее, относительно которого отрицается только действительное существование, но в котором остается еще возможность быть существующим, которое, таким образом, поскольку оно имеет еще перед собой существование, как возможность, хотя и есть несуществующее, но не так, чтобы оно не могло быть существующим. Между тем, укон — уже вполне и во всяком смысле несуществующее, или то, относительно чего отрицается не только действительность существования, но и существование вообще, а значит, и его возможность». Это более глубинный, онтологический, срез (эпистемологических) дистинкций американца. Если соединить оба варианта, то министру Рамсфельду пришлось бы подумать, прежде чем давать советы народу, Дух которого вот уже без малого сто лет как выступает в ранге Духа
Времени. Рамсфельд: «Я знаю, что меня не существует, но я не знаю, что меня не существует. Я хочу сказать, что меня не существует со мной, но что меня не существует и без меня. Я сижу в себе, как в яме, которую я копаю, чтобы докопаться до Я, которое не Я, а Тот, Кто посадил меня в меня».
Базель, 30 марта 2006 года
9. Гамбург—Гоморра
«Юнге Фрайхайт», 26 июля 2003: «Герд Буцериус, ставший впоследствии издателем еженедельника Die Zeit и влиятельным политиком ХДС, описывал после войны, как он пережил „Операцию Гоморра“: „Я находился на крыше моего домика в предместье Гамбурга. Наверху летели английские бомбардировщики. Наконец–то! — восклицал я всё снова и снова. Наконец–то! Слишком долго тянули союзники с разгромом супостата Гитлера. […] И вот же, наконец, они здесь! — По окончании тревоги мне пришлось пробираться по разрушенным улицам с частично сожженными телами мертвых, чтобы посмотреть, что осталось от моего адвокатского бюро. Каково мне было видеть всё это? Конечно, я испытывал ужас и сострадание. Но вместе с тем думалось и следующее: вы, мертвые, захотели, чтобы это было так… За кого я беспокоился во время налета? За летчиков–бомбардировщиков. Они были столь храбры, и они делали всё, на что можно было только надеяться“. После войны Герд Буцериус стал почетным гражданином Гамбурга».
Тем временем почетный гражданин и сам мертв, и, как умерший, пребывает там же, где и его частично сожженные со–горожане, смерть которых он так ликующе приветствовал в тот праздничный и памятный день. В некой удавшейся тишине можно было бы вчувствоваться в настоящее этого мертвеца, где он уже не изображает политика и не издает ерунду, а является тем, чем ему, мертвому почетному гражданину Гамбурга, и положено быть (скажем, силой напорного фильтра в гамбургской городской канализации), и услышать его обращающимся к себе со словами: ЖАЛКАЯ СКОТИНА, ТЫ САМ ЗАХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО ТАК…
(То, что филологическо–пуританский инстинкт Черчилля подсказал ему зашифровать уничтожение Гамбурга под кодовым названием ОПЕРАЦИЯ ГОМОРРА, не имело ничего общего с Гамбургом Гитлера. Скорее уж, Оле фон Бойста, его нынешнего градоначальника. Именно последнему, как будущему товарищу по христианско–де–мократической партии, был обязан почетный гражданин Буцериус благоговейными минутами благодарности на улицах спаленной сверху Гоморры. (Гоморрой, как известно, назывался культурный центр древности, в котором, как и в городе–побратиме Содоме, не сыскалось и десяти праведников, читай: несодомитов, и который на этом основании был истреблен Богом Авраама, Исаака, Иакова и будущих пуритан.) Обербюргермейстер фон Бойст, открыто исповедующий свою нетрадиционную ориентацию in rebus sexualibus и даже открыто сожительствующий с городским сенатором юстиции, оказывается, таким образом, причиной более раннего по времени следствия — следствия, вызванного им в некотором роде еще до своего рождения, когда набожные отпрыски пуритан обрушили с неба огонь и серу на нечестивый город в отместку за его будущего мэра–педераста.) 22 сентября 2003 год
Последняя книга Бергсона
1.
Книга «Два источника морали и религии», вышедшая в свет в Париже в 1932 году, является последним сочинением Бергсона, как бы эпилогом и философским завещанием, кульминирующим и завершающим его жизненный путь философа. И хотя ему оставалось еще восемь лет жизни, время это принадлежало уже никак не истории философии, а превратностям частной судьбы. Подобно Ибсену, автору «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», он сознательно и заблаговременно поставил точку сам, как бы застраховав свою писательскую судьбу от всякого рода случайностей.
Читателю, более или менее знакомому с бергсоновской философией в целом, настоящая книга могла бы показаться неким «переходом в иной род», настолько неожиданной предстает её тема на фоне общего проблемного поля всех предыдущих работ философа. Уже с первой книги 1889 года «Опыт о непосредственных данных сознания» и во всех последующих сочинениях интерес его не выходил за рамки психологической и биологической топики; чем он приобрел себе всемирную известность и славу, так это знаменитой «Творческой эволюцией» с её elan vital и интуицией. Даже программное сочинение 1903 года «Введение в метафизику» держалось по существу на всё тех же диспозитивах: непосредственное постижение жизни против всяческих суррогатов интеллектуального умствования. Биологизм интуитивной философии настолько открыто выставлял свои претензии на абсолютность, что его морально–ценностная нейтральность бросалась в глаза; в критических оценках бергсонианства этому пункту отводилось едва ли не доминирующее значение, нашедшее драстическое выражение в следующей формулировке Рихарда Кронера: «Творческая эволюция производит негодяев в таком же количестве, если не в большем, как и героев, а преступление является таким же неповторимым фактом, как и художественное творчество»[128]. Очевидно именно под влиянием этого обстоятельства уже престарелый философ взялся за новый монументальный труд по традиционной тематике «второй философии», долженствующий отвести все обвинения в пренебрежении ценностной стороной жизненных процессов и вывести чистый «витализм» собственного мировоззрения в гуманитарное измерение. «Два источника морали и религии», увиденные в такой перспективе, представляют собой в целом бергсоновской философии своего рода культурфилософскую параллель к его философии жизни.
Можно было бы поставить вопрос от обратного: чем была бы бергсоновская философия без этого позднего tour de force? Ибо дело шло не только о ценностном нейтралитете «жизненного порыва», но и — возможно, в первую очередь — о его почти что шокирующей ограниченности. Шутка ли сказать, но наиболее решающие доводы «Творческой эволюции» против механизирующего интеллекта и в пользу интуиции заимствованы из… энтомологии; насекомым знаменитого Фабра принадлежит здесь честь оспаривать и посрамлять homo sapiens. Возникает подозрение, что жизнь (не понятие жизни, а еёнепосредственная данность) позволяет обнаруживать себя во всех организмах, кроме человеческого, ибо (бергсонианский) человек, в отличие от желтокрылого сфекса, оттого и не способен жить сообразно «Творческой эволюции», что над ним тяготеет проклятие картезианского греха, именно: он не живет, а думает, что живет, или, говоря каузально: он думает, что живет, ergo, он не живет вовсе. Ибо жизнь, согласно красочной характеристике «Творческой эволюции», это «вспышка фейерверка среди угасающих и падающих остатков его»[129]. Мыслить жизнь значило бы, таким образом, мыслить саму вспышку; но поскольку наше мышление есть мышление угасающих или вовсе погасших остатков фейерверка (понятий), то мышление и жизнь оказываются несоизмеримыми и даже противопоказанными, столь же противопоказанными, как, скажем, инстинкт и расчет. Очевидно, что философу, мыслящему эту несовместимость, не оставалось иного выбора, как спасаться от культуры на пастбищах руссоизма либо преодолевать собственную мыслебоязнь — но тогда уже не в ущерб жизни, а в наивысшее её подтверждение. Задача сводилась, таким образом, к тому, чтобы любой ценой засвидетельствовать признаки жизни и в делах человеческих под знаком следующей совершенно асимметричной коррекции картезианства: Homo sum, ergo vivo. Книга «Два источника морали и религии» не преследует, собственно, никакой иной цели: философии жизни приходится здесь не потесниться для философии культуры, но преобразиться в неё.
2.
Понять эту книгу, понять бергсоновскую философию вообще, значит найти её первоначальную и определяющую очевидность, её, говоря вслед за Бергсоном, интуицию. О том, как родилась бергсоновская философия, рассказал однажды сам философ. Случилось это во время чтения лекций об апориях Зенона в лицее Блеза Паскаля: он был потрясен невозможностью движения в элейских апориях. Ахилл, не способный догнать черепаху; путь, не могущий быть пройденным, не могущий быть даже начатым, — очевидным было одно: вызов здравому смыслу и непосредственной очевидности. В этой замкнутой в себе логике, опровергающей жизненную достоверность, коренилась, как оказалось, судьба западной духовности: будущий номинализм и философия, настолько оторванная от жизни, что ставшая враждебной жизни. Озарение пришло мгновенно — как приговор бесплодному философскому мышлению, черпающему свою уверенность из подмены реальности фикцией. Невозможность движения в апориях Зенона — это не невозможность движения вообще, а лишь в определенных условиях, а именно, там, где его нет и не может быть. Действительное движение, движение жизни и в жизни — спонтанно, импульсивно транскаузально и непредсказуемо; имя его — жизненный порыв, место свершения которого не поверхностное дневное сознание, определяемое количественными и измерительными факторами реальности, а сознание глубинное, выражаемое качественностью и неизмеримостью. Элейские апории, как и громадная часть равняющейся на них западной философии, опровергают движение и, соответственно, саму жизнь там, где нет никакого движения и никакой жизни, а есть лишь понятийные суррогаты последних. Понятия статичны и определительны; мыслить движение в понятиях значит останавливать его и анализировать, то есть, разлагать на части, от которых потом нет обратного пути к движению. «Анализировать, — как гласит об этом прегнантная формула из бергсоновского «Введения в метафизику», — значит выражать вещь в функции чего–то другого, чем она»[130]. Ибо «наша логика — это логика твердых тел»[131]; рядоположность и пространственность логических понятий не позволяют мыслить длительность и качественную непрерывность вещей. Оттого понятия мыслят мертвое и разложимое; живое, которое нераздельно (индивидуально), схватывается не в понятиях, а в интуиции.
На этой фундаментальной противопоставленности — механическое–органическое, длительность–рядоположность, интеллект–интуиция — строится вся бергсоновская философия жизни, а позже, как уже было сказано, и философия религии, морали и общества. Читатель должен просто проследить названные opposita в их переходе от биологической или метафизической топики к топике социологической и культурологической, чтобы оказаться в жизненном мире бергсоновской философии культуры. «Два источника морали и религии» — это всё те же два источника сознания в «Опыте о непосредственных данных сознания», памяти в «Материи и памяти», познания во «Введении в метафизику» или жизни вообще в «Творческой эволюции». Бергсоновский elan vital и тормозящая его масса инертной материи определяют теперь не только мир природного, но и религию, мораль, общество, культуру как таковую. Противоположность: интуиция–интеллект, выражается здесь через оппозицию: открытое–закрытое. Есть открытая и закрытая религия, открытая и закрытая мораль, открытое и закрытое общество. Открытое и закрытое значит: живое и мертвое. Живая и мертвая религия, живая и мертвая мораль, живое и мертвое общество — понятно, что этот антитетический ряд не может мыслиться иначе, как реальное и конкретное содержание общих понятий «религия», «мораль», «общество». В основе культуры, как и в основе природы, лежит творчество, вдохновение, внезапность, непосредственный порыв; как таковая, она есть, следовательно, открытость спонтанных жизненных актов; её закрытость равносильна её вырождению в статическую форму и превращению в прошлое. Бергсон, при всей своей инстинктивно галльской неприязни к немецкому (во время Первой мировой войны ему привелось публично назвать немцев варварами, ответом на что стала вышедшая в Германии брошюра под названием «Плагиатор Бергсон», из которой следовало, что названным варварам философ обязан едва ли не всеми своими центральными и основополагающими идеями), развивает здесь исконно немецкий топос, составляющий со времен Гердера, Гёте и романтиков самое сердцевину немецкого культурного сознания: становление вместо ставшего, органическое вместо механического, интуиция вместо анализа. В конце концов все противопоставления кульминируются в завершительной формуле разделения истины, и лжи. Открытое и закрытое в предельном понимании значит: истинное и ложное. Истина — это становящееся, ложное — это ставшее; очевидно, что сам Бергсон, скованный в некотором роде собственным статусом «классика» и мундиром «академика», не отважился радикализировать свою мысль до подобных кристально–ясных начал, чреватых, впрочем, непредсказуемыми последствиями. Но очевидно и другое: именно эта непредсказуемость, где открытое означает, между прочим, и открытость риска, выводит нас в самые решительные и поворотные зоны духовности, где мы либо защищаемся от неё надежными и выверенными в столетиях аргументами, либо же отдаемся ей на самый авантюрный лад. Истина о том, что становящееся есть истина, принадлежит, по–видимому, сама к разряду особенно опасных истин; во всяком случае итальянский дуче Муссолини, как читатель и почитатель Бергсона, подтвердил бы это без оговорок. Вот и французский писатель Жюльен Бенда, издавший в 1927 году нашумевшую книгу «La trahison des clercs» («Предательство клерков»), говорит об опасности иррационализма с пристальной оглядкой на Бергсона, предавшего–де заветы и святыни европейского рационализма. Что, впрочем, за названным рационализмом в условиях XX века скрывались уже не великие тени Лейбница и Декарта, а уютный мещанский быт с его щемящими или убойными маргиналиями в стиле «Bel ami» или «Крейцеровой сонаты», это не в последнюю очередь провоцировало бурный рост и популярность иррационализма, так что в теме «Предательство клерков» (мы бы сказали: «интеллигентов») вполне уместились бы как философы иррационализма, так и собственно рационалисты. В конце концов, если так называемым «опасным истинам» (вроде ницшевского: «Стройте свои города у Везувия!») могут противопоставляться «безопасные истины» (соссюровское: «Слово „собака“ не кусает»), то выбор между обеими предстоит сделать читателю, разве что если напомнить ему, справедливости ради, о том, что и слово «собака» кусает порой как никакая «реальная» собака. Читатель мог бы, между прочим, проверить свою способность к «опасным истинам» на следующем вполне «бергсонианском» замечании Гёте: «Ошибки, — говорит Гёте[132], — принадлежат библиотекам, истина же человеческому духу». Нет сомнения, что среднеобразованный читатель смог бы отвести это сильно эллиптическое утверждение указанием на то, что в конце концов не всё же в названных Гёте библиотеках является ошибками. Более образованный читатель заметил бы не без диалектического изящества, что Гёте, утверждая это в книге, которая как–никак напечатана и находится, следовательно, в библиотеке, опровергает сам себя, совсем как тот горемычный критянин, не знающий, как и выбраться из фатально–логического капкана, запрещающего ему высказать истину, что его соотечественники только и делают что лгут. Как видим, таким читателям вполне по плечам, пристегнувшись заранее логическими ремнями безопасности, развивать свои мысли в указанном направлении, и делать это до тех пор, пока судьба, или случай, не поведут (по другой, альтернативной, версии: потащат) их по пути, ведущем к менее постылым и плоским, более опасным истинам, противоречивым и непредсказуемым как сама жизнь.
3.
Что же означают все эти предикаты: открытое, непосредственное, становящееся, интуитивное в контексте бергсоновской философии культуры? Для ответа на этот вопрос нет решительно никакой надобности потакать дурной традиции (или привычке) писать предисловие к книге, чтобы пересказывать её, прежде чем она сама начнет рассказывать себя. Какой толк (не говоря уже о вкусе и такте) пересказывать автора, который через несколько страниц собирается и сам сделать это лучше, основательнее, точнее, а главное, оригинальнее, чем кто–либо! О чем здесь, стало быть, может вообще идти речь, так это не о реферировании «Двух источников…», а всего лишь о попытке настроить читателя на более или менее адекватное прочтение. Предисловие, притязающее быть чем–то большим, чем камертоном к авторской оркестровке, подпадает под двойной клинический диагноз: оно ровно настолько недооценивает предваряемую им книгу, насколько оно переоценивает самое себя.
Для адекватного понимания двух источников, о которых повествует последняя книга французского философа, необходимо еще раз обратиться к бергсоновской праинтуиции живого и непосредственного. Ошибка Зенона, в конечном счете всей рациональной философии, состоит в неумении различить непосредственно свершаемое, как таковое, от его аналитически–понятийных моделей и проекций. Очевидно, что путь, не могущий быть пройденным, ни даже начатым, есть не сам путь, который мы–таки проходим в действительности, а график пути, или даже некий фоторобот пути на листе бумаги, который мы понятийно воссоздаем по «оригиналу», чтобы затем на основании полученной «копии» усомниться в логической возможности самого оригинала. Сначала мы делим начерченную линию пути А — В надвое, потом мы делим середину середины, середину этой последней середины, и так рачьим ходом вспять, до бесконечности, до невозможности мыслить, до провала мысли в дантовское Lasciate ogne speranza. Нелепость ситуации в том, что мы занимаемся этим, находясь в пункте А или в пункте Б, то есть, мы отрицаем путь, стоя на месте, еще не пройдя или уже пройдя его, как бы в угоду некоему логическому шутнику–демону, и раздвояем проблему на фактическое и логическое, где быстроногого фактически Ахилла разбивает логический паралич. Фактическое в этом (и, по существу, во всех других) примере и есть суть, схватываемая только в интуиции; суть внепространственна и соответственно вневременна — поскольку само время мыслится нами пространственно. Это — некий единый акт воли, качество жизненного порыва, могущее быть увиденным только одновременно с собственным свершением, а не мыслимым ex post facto, как прошедшее, ибо мысль (рациональная) обращена к ставшему, стало быть, не к самой жизни, а к её следу.
Нетрудно догадаться, что в переносе на тематику культуры указанная праинтуиция специфицируется в оппозиции творимое–сотворенное. Соответственно: открытое есть творимое, а закрытое — сотворенное. Культура (мораль, религия, общество) возникает как открытое и постепенно вырождается в закрытость. Можно сказать и так: генетически культура всегда открыта, типологически она всегда склоняется к закрытости. Если мы сравним elan vital, лежащий в начале всякой религии, с последующим окостенением его в догматизм, теологию и «аппарат», то мы сполна окажемся в атмосфере и тональности «Двух источников…». По аналогии с физикой, где первоначальный импульс–импетус причиненного движения заменяется инерцией, можно сказать: на языке культурфилософии физическая инерция называется традицией. В традиции неспособность творить компенсируется способностью хранить сотворенное, толковать его и делать общезначимым. Так выглядит традиция с лучшей стороны. Есть и худшая, вернее, ухудшающаяся сторона — с конечным пунктом прибытия в «дальше некуда», когда живая однажды культура не только оказывается мертвой, но и притворяется непогибшей, или иначе: когда творимая однажды культура предстает товаром, выставленным напоказ в целях сбивания с толку и обирания богатых и любящих «красивые вещи» туристов. Культура, бывшая некогда творчеством и самой жизнью, есть теперь корпус каталогизированных экспонатов, всё равно: в форме ли полотен, скульптур, цитат, моральных правил или гражданско–поведенческих стереотипов. Выражаясь по существу, она есть сначала потребитель и паразит, а после и кладбище самой себя, или, как об этом однажды (по адресу Томаса Манна) с бодлеровской элегантностью выразился Карл Шмитт[133], «падаль, не желающая околеть». Ибо традиция, как инерция, требует постоянного толчка, импульса, вдохновения; можно рассмотреть в качестве примера и под этим углом зрения хотя бы историю христианской церкви с её постоянной тенденцией окаменеть в столбняке и всякий раз ухитряющейся выжить и приобрести «второе дыхание».
Здесь и клюнийское движение, и импульс крестовых походов, и цветочки Франциска, вдыхающие жизнь в эту гангренозную плоть; здесь и Реформация, принадлежащая всё еще к истории и судьбе католицизма, и Тридентский собор с «кампанией Хесуса», принадлежащий уже к истории и судьбе протестантизма; когда все средства и возможности открыть эту чудовищную консерву с окончательно просроченными сроками годности оказались исчерпанными, некогда величественной (величественной даже в свидетельствах своей беспримерной измене собственному первородству) традиции не оставалось иного выхода, как впасть в маразм и посрамлять атеизм во всех его бывших и нынешних вариантах. Читатель тщетно стал бы искать этих, сегодняшних, «сведений к абсурду» в настоящей книге. Их там просто нет. Что там есть, так это теория открыто–творимой культуры, удел которой стать сотворенно–закрытой («the church is closed») и доживать свои дни в туристических буклетах или никому не нужных диссертациях.
Базель, 27 октября 2000 года
Увиденная демократия
Имя Эмиля Фаге мало что говорит современному читателю: русскому, но и французскому. Причины лежат как на ладони. О причинах как раз и написано в книге с таким попадающим названием: «Культ некомпетентности». Но если у автора Фаге сегодня нет или почти нет читателей, то только потому, что писал он очевидным образом не для сегодняшних читателей. Было бы наивным, пишучи книгу «Культ некомпетентности», рассчитывать на то, что её будут читать служители этого культа. Некомпетентность на то и некомпетентность, что, даже культивируя себя, даже не признавая ничего, кроме себя, она не знает о себе ровным счетом ничего. Ситуация, очень схожая со случаем Шпенглера. Если Шпенглера сегодня не читают на Западе, да и просто не знают, то оттого лишь, что всё идет как раз «по Шпенглеру»: в подтверждение правильности его прогнозов. О каком же еще закате Европы пришлось бы говорить, будь европейцы вообще в состоянии еще читать Шпенглера! Он предсказал им участь феллашества, а феллахи, как известно, не читают книг, по крайней мере таких, из которых они узнали бы, что они феллахи. Этот правило вполне значимо и для Фаге. До феллашества здесь, правда, дело не дошло, но прицел взят в том же направлении. То, что книга «Культ некомпетентности» по выходе в свет (1910) имела большой успех, объясняется, скорее, заторможенностью читательских реакций, чем их адекватностью. Последующие десятилетия поставили всё на место; число читающих книгу неукоснительно прогрессировало к нулю, самим этим убыванием подтверждая её правоту и злободневность.
Эмиль Фаге (он родился в 1847 году и умер в 1916‑м) — историк и критик литературы, учившийся истории у Тэна, критике, скорее всего, у Сент—Бёва, но нисколько не стушевавшийся перед учителями, а выросший до их уровня. Говоря о литературе, историком и критиком которой был Фаге, надо иметь в виду литературу не как жанр, а как художество, художество же искать не там, где ему положено быть, а там, где оно есть: тривиальность, каждый раз ошеломляющая неожиданностями конкретных примеров. Многие ли адепты изящной словесности выдержали бы сравнение с натуралистом Бюффоном, который живописует животных вдохновеннее, чем иной поэт свои любовные томления (чего стоит одна глава «Осел» в его «Естественной истории животных»)! Или с аббатом Галиани («советник коммерции в стране, где нет коммерции», так отрекомендовался он однажды[134]), оставившим литературный шедевр в сочинении под названием «Диалоги о торговле зерном»! Шпенглер, неосторожный как всегда, и в этом случае попал не в бровь, а в оба глаза, написав следующее[135]: «Я нахожу хороший немецкий часто в передовицах, у Бисмарка, в деловых отчетах наших больших промышленных предприятий, но никогда в романах». Конечно, академик Фаге не сказал бы такого, но ведь услышал же и он поэта XVII века не в Расине, а в Паскале, меньше всего склонном, да и способном писать стихи («Паскаль […] величайший, быть может, поэт XVII века»[136]); это слух сведущего человека, которому нет дела до этикеток и который пользуется словами, чтобы называть вещи, а не забалтывать их. Черта, скорее, немецкая, чем французская, или, если и французская, то не из эпохи салонов, которые (заметил однажды Фаге[137]) начали «вынуждать писателей к глупостям», а из более ранней, умственно и нравственно сильной, эпохи, той самой, где французский дух, в отсутствие германского, временно представительствовал за последнего. Величайший поэт века, не желающий и, наверняка, не умеющий писать стихи, — это то же, что (у Новалиса) математик высшего ранга, не умеющий считать. Фаге писал историю литературы, меньше всего косясь на табель о рангах или какую–то дистрофическую объективность. С другой стороны, он донельзя далек и от всякого рода «закрытых чтений», конструкций, реконструкций, деконструкций и как бы эта бижутерия ни называлась. Он пишет о литературе как свидетель, а не критик; или если и как критик, то не в шаблоне реванша за неудавшееся писательство, а на равных. Его критика — роман, а не профессорские унылости. Но даже профессорские унылости не внушили бы ему такого отвращения, как его сверхмодные нынешние соотечественники, плейбои от модерна и постмодерна, теории которых сидят на их словах не хуже, чем их костюмы на них самих. Фаге пишет о литературе, совсем как Ницше о музыке: страдая от её судьбы, как от открытой раны. Он пишет пристрастно, мстительно, как бы сводя счеты, и кучность его попаданий такова, что едва успеваешь наслаждаться их меткостью. Это, прежде всего, виртуозные этюды по истории французской литературы: «Шестнадцатый век», «Семнадцатый век», «Восемнадцатый век» и «Девятнадцатый век». «Ларусс», не особенно жалующий автора «Культа некомпетентности», следующим образом резюмирует его литературно–критический дар: «В своих этюдах по истории литературы он проявляет суровость к мысли XVIII века», — что совершенно верно фактически, хотя и непонятно, как упрек, как будто век Вольтера заслуживал иного, нежного и осмотрительного, отношения. Во всяком случае Фаге не более суров к Вольтеру, который для него «прежде всего французский мещанин во дворянстве эпохи Регентства»[138], чем сам Вольтер ко всему подлинно дворянскому. «Вольтер лжет, как вода течет из крана»[139]. Что это, суровость! Ну вот и постарайтесь сказать это иначе: мягче! Сказать иначе, значит сказать иное. Фаге говорит так, а не иначе, потому что не хочет сказать иного. Некоторые его характеристики опасны тем, что от них, однажды прочитав их, нельзя отделаться. Это уже не мысли, оценки, остроты, а — оптика. Скажем, как в случае с Фонтенелем, если допустить, что читатель имел бы неосторожность узнать Фонтенеля через Фаге до того, как стал бы читать самого Фонтенеля. Налицо самая настоящая предвзятость, которую оттого и предпочитаешь всякого рода объективностям, что с нею видишь, а с ними слепнешь. Это что–то вроде контрастного раствора, после которого предмет предстает во всей ясности: блистательный полигистор, замерший в позе, в которую сам же вошел, после того как её скроил для него автор «Восемнадцатого века». Дело в том, что Фонтенель, genius loci салонов, был племянником Корнеля и писал не только всё, что угодно, но и трагедии. Очевидно, делать этого ему не следовало, и, вероятнее всего, он и не писал бы их, доведись ему предвидеть «сурового» критика, который через полтора столетия угадает в нем человека, «бывшего племянником Корнеля, но делавшего вид, что он его дядя»[140].
«Культ некомпетентности» — книга о демократии, в которой демократия увидена не в том или ином дефекте, а как дефект. Дефект назван по имени: некомпетентность. Не просто некомпетентность, как неизбежное зло, с которым мирятся, потому что не могут от него избавиться, а зло поволенное, систематически порождаемое и культивируемое. Ничего удивительного, что книгу эту написал француз, причем француз, для которого век Просвещения во Франции есть век искоренения всего французского. Век энциклопедических пошляков, которыми зачитывались будущие народные вожди, как уже в наше время студенческие вожди зачитывались другими философскими и околофилософскими пошляками. (Разве джинсовое и гигиенически отнюдь не безупречное поколение 68‑го не опознало бы свое deja vu в мире Руссо!) Отсюда и пошла зараза: «английская соль» (sal anglicum catharticum) во французских облатках. Немного внимания, и за мишурой французского Просвещения обнаружится «раскрутка» английской идеи, некий отпиаренный в Париже Локк, в сочинениях которого, уверяет Вольтер[141], «нет ничего, кроме истин» (вроде следующей, например: если люди, по Локку[142], редко (!) говорят: «этот бык — дедушка того теленка» или «эти два голубя — двоюродные братья», то оттого лишь, что для животных это не имеет никакого значения, а людям нужно для улаживания всяких дел в суде и т. п.). Остальное было вопросом техники и spy games: понадобились две мировые войны с безоговорочной капитуляцией противника, чтобы можно было говорить о победе Локка и выпускании всех джиннов демократии, которая если и олицетворяет власть телят и их дедушек, то всякий раз не иначе, как к концу легислативного периода, когда ушлые и ухватистые малые лезут из кожи вон, чтобы полюбиться своим избирателям. Понятно, что некомпетентный электорат делает выбор в пользу себе подобных, как понятно и то, что этих последних может устроить только им же подобная исполнительная власть. О министре иностранных дел в правительстве Луи—Филиппа Талейран произнес бессмертную фразу: «Призванием господина де Бройля, — сказал Талейран, — было не быть министром иностранных дел»[143]. Это формула призвания демократа. Речь идет о заговоре некомпетентных, поставивших себе целью сделать человечество счастливым, а значит, глупым, или, в ином пасьянсе: глупым, а значит, счастливым. The greatest happiness of the greatest number. Они просто воспользовались минутной растерянностью геббелевского Бога (Фридрих Геббель.[144] «Господь Бог был в растерянности, что ему делать с множеством людей, которые не знали, куда себя девать; тогда он создал счастье») и вцепились в счастье мертвой хваткой безбилетных пассажиров, по принципу: чем меньше знаешь, тем дальше едешь. Счастливый министр, не знающий, что и когда подписывать; счастливый хирург, не знающий, что и где резать; счастливая мать, не знающая, чем и зачем кормить ребенка; счастливый чревоугодник, не знающий, в рот или в ухо сунуть вилку с лакомством… На упаковке орешков American Airlines написано: «Инструкция: Откройте упаковку, съешьте орешки!» Это для особенно некомпетентных. Но вот нечто более солидное. Среди побочных действий в инструкции к одному лекарству перечисляются: боль в суставах, головокружение, коллапс, смерть, тошнота; причем то, что смерть стоит не на последнем месте, а перед тошнотой, — наверняка не описка, а просто констатация факта, что после смерти (такой) бывает тошно… Пусть в 1910 году, когда Фаге издавал свою книгу, некомпетентность не пустила еще столь мощных планетарных побегов, пусть маниакальная воля к обессмысливанию мира у называющих себя «интеллектуалами» мутантов не проявлялась еще столь нагло и безнаказанно, пусть закат Европы был еще не утром Америки (с восходящим в Америке солнцем Лемурии), а всё еще книгой, европейской книгой, но только воробьи кричали уже со всех европейских крыш, что ближайшим следствием культа некомпетентности, не будь ему однажды решительно положен конец, может быть только господство слабоумных.
Фаге, историк и критик литературы, немыслим без Фаге, историка политических воззрений. Его трехтомный труд «Политики и моралисты XIX века» содержит все решающие импликации «Культа некомпетентности». Любопытно, что открывает книгу очерк о Жозефе де Местре, читая который трудно отделаться от впечатления, что некоторые пассажи писались или, по меньшей мере, правились самим де Местром. Скажем, следующая характеристика покойного графа, в которую читатель его сочинений должен был бы облачиться как в скафандр, прежде чем погрузиться в их исступленную аналитику. «Он, — говорит Фаге о де Местре[145], — слишком патриций, чтобы быть аристократом». Если подумать о том, что время жизни де Местра отделено от книги «Культ некомпетентности» всего лишь одним столетием, то самый раз будет зафиксировать одновременность трех всемирно–исторических типов, сшибшихся здесь в диссонанс: патрицианской трансцендентности, аристократической дистанцированности и буржуазной всюдности. Оценка демократии у де Местра есть лишь продолженная вниз оценка аристократии, с непрерывным оглашением приговора и «приглашением на казнь». В его патрицианской оптике та и другая обнаруживают больше сходства, чем различия: аристократ — это тот же демократ, только требующий прав не для себя, а для своего сословия. «Вы много охотитесь, господин епископ, мне кое–что известно об этом, — сказал однажды Людовик XV епископу Диллону. — Как же Вы хотите запретить охоту Вашим кюре, если сами подаете им пример?» — «Государь, — возразил епископ, — у моих кюре охота — их личный недостаток; у меня же — это недостаток моих предков». Для де Местра речь оба раза идет лишь о разновидностях плебейства, причем при случае он относится к плебейству сословному едва ли не с большей неприязнью, чем к личному. Понятно, что о диалоге здесь не приходится и думать; диалог был бы возможен единственно при условии, что собеседник демократа (или его аристократического двойника) — палач. Позиция Фаге — это именно позиция аристократа. Он восхищается автором «Санкт—Петербургских вечеров», но остается при своей воле к разумному компромиссу. Ибо можно как угодно относиться к названным трем типам: склонять голову перед миром де Местра и зажимать нос при виде иного откормленного реформатора, но при этом знать и помнить, что первый — это уход от реальности в сон, а второй — кошмар пробуждения в реальность, которую едва ли побеждают повторным и уже периодическим погружением в сон. Фаге, при всем своем отвращении к идеям 1789 года, не забывает, что живет он после 1789 года. Пусть его симпатии к де Местру и делают его уязвимым для идущих от последнего мощных инспираций брезгливости, но его здравый смысл подсказывает ему, что брезгливость отнюдь не способ решения проблемы. (Он мог бы предостеречь ультрамонтаниста де Местра от нелепых последствий брезгливости, когда брезгуется в конце концов тем, чем не побрезговал сам Творец.) Характерно: в «Культе некомпетентности» де Местр не назван ни разу, но присутствие его нейтрализуется едва ли не на каждой странице книги, особенно к концу, где ищется выход: не в прошлое, а в настоящее. Фаге мог бы, парафразируя будущего Сартра, сказать: «мы осуждены на демократию». Но отсюда уже рукой подать до примирения и признания. При условии, что и сама демократия сделала бы встречный шаг. Шаг, после которого ей не оставалось бы ничего другого, как непрерывно преодолевать себя, свою религию некомпетентности и нарколептическую тягу портить всё, к чему бы она ни прикасалась.
Книга «Культ некомпетентности», начинающаяся как бросок, завершается как бумеранг. Её конец удручает скомканностью и непродуманностью. Последняя глава так и названа: «Мечта». Лучше, если бы её вообще не было. Мечтающий социолог едва ли менее нелеп, чем хирург, размечтавшийся со скальпелем в руках. По–видимому, автору следовало остановиться на той самой черте, за которой его подстерегала опасность самому стать некомпетентным. Фаге, блестящий рассказчик, перешел черту и очутился в черной дыре решения социального вопроса. Спасаться от зла некомпетентности пришлось через зло мечтательства. (Реплика: В 1919 году, спустя три года после смерти Фаге, в дорнахском издательстве «Das Goetheanum» вышла в свет эпохальная книга «Основные черты социального вопроса в жизненных необходимостях настоящего и будущего». Это был ответ Средней Европы на решения, навязываемые с Запада и с Востока: один раз как 14 пунктов программы Вильсона, другой раз как перманентная революция Троцкого и Ленина. — Смог бы Фаге, автор книги о Ницше, прочитать и воспринять Рудольфа Штейнера? А значит, компетентность, как таковую! Скажем, по аналогии с Малларме, вдохновлявшимся Гегелем. О Фаге можно было бы сказать словами Андре Жида о Малларме[146]: «II pensait, avant de parler», «он думал, прежде чем говорил», что не так уж и очевидно, когда имеешь дело с французом. Сослагательность вопроса рассчитана не на ответ, а, скорее, на процедуру, носящую в феноменологической литературе техническое название «свободная вариация в фантазии». В некоем, параллельном миру истории, мире судьбы Фаге додумывает свою книгу не в мареве мечтательства, а в ясных и падающих, как молот, разъяснениях духовной науки.) Экстракт главы — формула: «Здоровая нация — такая нация, в которой плебс аристократичен, а аристократия народолюбива». О ком это говорится? О Риме Гракхов или Риенци? Но что значат эти понятия сегодня? Где сегодня искать плебс, и где аристократию? А найдя (или полагая, что нашел), не увидеть сразу же, что это не то, просто и совсем не то. Разве аристократия сегодня что–то иное, чем расфуфыренные куклы и бесполезные ископаемые на глянцевых обложках сомнительных журналов! Или, к примеру, прыгающие и визжащие на сцене электрообезьяны, которых приглашают в Бэкингемский дворец и посвящают в рыцари, хотя они меньше горят желанием стать рыцарями, чем рыцари — ими! Можно сказать и так: аристократия (или то, что зовется ею) — это даже не плебс, а ниже и гаже всякого плебса. Какие–то принцы и принцессы, возникающие, когда их фотографируют, и исчезающие, когда их не фотографируют. Что до плебса, сейчас он зовется просто общество, о котором однажды было неплохо (а, может, исчерпывающе) сказано, что оно придумано для того, чтобы те, кто о нем говорят, могли носить костюм и ежедневно бриться. Можно, конечно, возразить, что при жизни Фаге такого еще не было. Аристократы умели еще отличать себя от плебеев, а обезьян не приглашали еще во дворцы. Да, но речь вовсе не об этом. Речь о том, что было более чем странно — пусть даже под защитным знаком мечты — говорить о здоровой нации с оглядкой на древнеримские реалии и совсем уже древнего Аристотеля: в эпоху мировых войн и пандемического идиотизма.
Всё это, впрочем, нисколько не умаляет значительности книги. В конце концов, почему бы и не расписаться в собственном бессилии на такой лад. Фаге, понимавший, как никто, что быть аристократом (действительным) в эпоху Бувара и Пекюше можно не иначе, как сделав ставку на абсолютный проигрыш, чтобы хотя бы величием проигранного явить эпохе всю жалкость и комичность её выигрыша, оказался в тупике примирения. Примирять приходилось де Местра с Гамбеттой: при условии, что первый перестал бы видеть в последнем лакея, а последний видел бы в первом героя. Или в пословичной корректировке: лакей увидит в герое героя, если герой не увидит в лакее лакея. Такое возможно, скорее всего, в том же месте, где мать растерзанного псами ребенка (у Достоевского) обнимает и прощает его мучителя. На деле, пословица о герое и лакее решается гораздо проще и экономнее: путем упразднения одного из обоих, а конкретнее, героя: за неупраздняемостью лакея. Если для Гегеля объяснение казуса лежит не в герое, а в лакее (Гегель[147]: «Для лакея нет героя; но не потому, что последний не герой, а потому, что тот — лакей»), то для де Местра верно как раз обратное: дело не в лакее, который всегда лакей, а в герое, который не всегда герой. Но де Местр даже не исключение, а эрратический валун. Он не мечтает и не решает, а представляет: короля Сардинии, как дипломат, и разгневанного Духа Мира, как сам. Мечта (бессилие) Фаге — это поиск в месте, которого нет. Дело вовсе не в том, чтобы быть народолюбивым аристократом или плебеем с хорошими манерами, а в том, чтобы — до всяческих титулов и обозначений быть на месте и ставить всё на место. Если работу сельского почтальона доверяют паралитику (сравнение Фаге), а получатели писем смиряются с этим, считая, что могло бы ведь быть гораздо хуже, то какое имеет значение, кто здесь народ, а кто аристократия. Книга «Культ некомпетентности» имеет темой как раз абсолютную аберрацию уместности, где никто не на месте и всё сдвинуто с мест. То, что книга выходит на русском языке, пусть с опозданием в пятнадцать, а может, и все девяносто лет, но всё же как нельзя кстати, заслуживает самого пристального внимания. Компетентность в России всегда была дефицитом, а в России демократической и вообще стала чем–то до испугу неправдоподобным. Маловероятно, что книгу прочтут те, кто опознал бы себя в ней, — политики или интеллектуалы. Одни найдут её чересчур категоричной, другие чересчур мало утыканной перьями. Одним будет недоставать в ней осторожности, другим «научности». Но ведь кто–то и не пройдет мимо: если не сейчас, то когда–нибудь. Читатели имеют свою судьбу. А книги, вроде этой, — засмоленные фляги, брошенные в море с тонущего корабля. Базель, 25 апреля 2005 года
Вселенная во рту
Писать послесловие к книге не значит продолжать писать её за её пределами, там, где её уже нет; конец книги — это некая поволенная прерванность повествования, за которым книга лишь возвращается в стихию своей нерожденности — допустив, что своим написанным началом она не менее обязана случаю, чем своим дописанным концом. Не видеть в книге ничего, кроме текста, всё равно, что не слышать в музыке ничего, кроме вызвученных нотных знаков; текст не книга, а постоянное смещение границ внесловного, — негативная выделка форм, через которые некое пустое и безвидное пространство структурируется в сожительство смыслов. Текст — шум дискурса, растождествляющий несказанное с его немотой и фиксирующий мгновения его испуга, по которым приходится затем отгадывать их содержание. Мы различаем в книге её словесные следы и её беглый смысл по тем же критериям вменяемости, каковая позволяет собаке брать след, а не просто разнюхивать его. Послесловие к книге — попытка напасть на её след в месте, где обрываются её видимые следы. Понятое так, оно оказывается не столько продолжением книги там, «где её нет», сколько её порождением (и только в этом смысле продолжением). Сказанное характеризует феномен читателя как такового, отношение которого к книге не есть отношение субъекта к объекту, а как раз наоборот: читатель книги есть ее содержание за пределами текста, и юным читателям Вертера, покончившим вслед за ним самоубийством, наверняка принадлежит более надежное место в истории литературы, чем отказывающим им в этом историкам литературы. Книга — аналог Творения, а читатель, в особенности читатель–критик, читатель–редактор, читатель–писатель, — забалтывающий её теолог. Но читать не значит вести с автором внутренний диалог, а значит единственно: не мешать ему работать над нами; читая Шекспира, мы творимся им не меньше, чем действующие лица его драм, но и сознаем это не больше, чем они, умудряясь находить в прочитанном какие угодно значения, но только не (снова в первый раз возникших) самих себя. По аналогии с Творением: книга пишется как ответ, а читается как вопрос; читатель книги есть её гаруспик, который по обнаженности её ответа отгадывает скрытые судьбы смыслов, складывающихся в вопрос. И если читателю любо оставаться при более привычной, обратной, диспозиции, то ему следует лишь перестать читать книги и начать их писать.
Вопрос при чтении «Глоссолалии» («Глоссолалия» — рекапитуляция Шестоднева средствами умного дадаизма): как возможна «Глоссолалия»? Что Слово, открывающее Пролог к Иоанну, не есть слово лингвистов или страдающих логореей грамматологов, этого не станут отрицать и сами лингвисты. Нужно было бы однажды, очнувшись от слов, дослушаться до вещей, чтобы догадаться, что Слово, которое было в начале, у Бога и Бог, не было словом помысленным, того менее написанным, ни даже сказанным, а петым sui generis; подобно тому, как стихотворение начинается с звучания, и звучит не в голове поэта, а — «прежде губ», так и (глоссолальное) начало мира — физически — свершается как жаркий выдох, оплотневаемый тепловыми телами будущих «нас». Ибо прежде всякого мира, прежде всяких «нас» былЗвук, «дикая истина звука», и вселенная физиков возникала не в туманностях кантолапласовской головы, а в раззвученной полости рта под нёбом–небом, от которого отталкивался и о которое бился детородец–язык. — Нетрудно догадаться, что вопрос: как возможна Глоссолалия? есть вопрос о возможности её творца. Ибо достаточно уже немного вчитаться в текст этой книги, чтобы понять (или именно не понять), как она писалась. Чтобы понять по меньшей мере, что, как бы еще ни писались книги, так они не пишутся наверняка. «Послушайте, размышляли ли вы до блистающей „искры из глаз“? Если — нет, рассмеетесь наверное вы надо мною; но вы не философ тогда»[148]. Ну, у кого повернулся бы язык в присутствии Эмпедокла назвать философом, скажем, Бертрана Рассела! Но и обратно: где лицензия философа присвоена Расселом, что же еще остается Эмпедоклу, как не прослыть шарлатаном[149]! Едва ли какому–нибудь другому писателю в критически, литературоведчески и всячески затерзанной истории русской литературы было учинено больше несправедливости — в совокупной смете всех направленных в его адрес промахов, диффамаций и нелепостей, — чем Андрею Белому. Epitheta ornantia: «блестящий», «пламенный», «ослепительный», «гениальный», которыми его награждали и награждают по сей день, сочетаются, как правило, с подлежащим «шарлатан», в более снисходительной редакции: «сумасброд», и годятся в конце концов лишь как гвозди, вколачиваемые в гроб собственного непонимания; интересно в этих хлопушках не то, о что они лопаются, а что они заслоняют: за ослепительностью автора «Глоссолалии» можно было бессовестнее скрывать свое косоглазие или свою слепоту. Этого писателя меньше всего хотели понять, больше всего — от него отделаться, не видя при этом, что, отделываясь от него, тем постыднее выдают себя с головой. Будущим дефектологам культурного сознания придется, возможно, на критиках и оценщиках Белого изучать любопытные разновидности вируса ressentiment — от сдержанной мстительности академиков до тусовочной, как это у них называется, развязности всякого рода окололитературных отморозков. «Мысли — бомбы»: «выскажи я сегодня в газете свое состояние сознания, завтра, быть может, взорвется сознание неизвестного американца; через тысячу лет, если мысль моя сохранится, взорвется сознание нерожденных еще»[150]. То, что оно взрывалось уже и тогда, у рожденных, об этом в один голос свидетельствуют очевидцы, хотя бы им и приходилось самим спасаться от бомб — встречными взрывами чувств, как Марина Цветаева, или под прикрытием щита насмешек, как большинство. В следующем отрывке из воспоминаний С. М. Алянского[151], издателя «Алконоста», с редкостной непритязательностью воссоздан некий первофеномен знакомства с бомбометателем Белым:
«Я почти ничего не понимал, но темперамент и страсть, которые Белый вкладывал в свою двухчасовую речь, музыкальный ритм этой речи держали меня в необыкновенном напряжении. Это был какой–то бешеный шквал, который обрушился на меня. Напрягая все свои душевные и умственные силы, я пытался следить за мыслью Белого.
Возбужденный, с воспаленными сверкающими глазами Белый стремительно бегал из угла в угол, стараясь в чем–то меня убедить. Длинные волосы на его голове развевались как пламя. Казалось, что вот–вот он весь вспыхнет — и все кризисы и мировые катастрофы разразятся немедленно и обломки их похоронят нас навеки.
Голова ходила кругом, хотелось скорее на воздух. Не знаю, что могло бы со мной случиться. Я не выдержал и поднялся».
Любопытно отследить, как выглядит развязка «я не выдержал и поднялся» у более знаменитых собеседников, из числа тех, что уже заняли себе место в русском «серебряном веке»; эти вспоминали обрушившийся на них «бешеный шквал» иначе, пусть тоже «не выдерживая и поднимаясь», но не роняя при этом марки умных, владеющих собой «собратьев по перу», сочувственно или насмешливо разглядывающих разгениальничавшегося шута и сумасброда. Вот как, к примеру, рекомендует только что вышедшую «Глоссолалию» некий гигерль от словесности (кстати, вчерашний обожатель и ученик): «Друзья мои и враги, умоляю Вас, — раскупайте эту книгу, снабжайте ею Ваших знакомых и домочадцев, дабы всякий грамотный на русском языке по старой орфографии мог убедиться и вложить персты в сии точащиеся блаженным и захлебывающимся идиотизмом стигматы»[152]. А вот и другой, куда более аккуратный, пассаж, принадлежащий перу степенного философа[153]: «Белый всю жизнь носился по океанским далям своего собственного я, не находя берега, к которому можно было бы причалить». Чувство превосходства, выпирающее в этих оценках, не должно сбивать с толку; гораздо более явно и уродливо вытарчивает здесь вполне вульгарный комплекс неполноценности. Не зависть, ни даже бессилие хоть как–то угнаться за этой мыслью, а сама её возможность: возможность мыслить так, не выхлопными мыслями головы, а переполненным мыслями телом («ибо я символист, а не догматик, то есть учившийся у музыки ритмическим жестам пляски мысли, а не склеротическому пыхтению под бременем несения скрижалей»[154]), — вот чего не могли и не могут простить писателю и мыслителю Белому его пусть по–своему талантливые или по–своему бездарные, но уже по–всякому иные, иначе сделанные «коллеги», гораздые пристегивать мысль ремнями безопасности, даже если она движется со скоростью шага, и потешаться над иным танцующим канатоходцем. Очевидно, что проблема лежит в компетенции не столько логики, сколько этики; если критик с катетером в мозгу, выцеживающим мысли, не возбраняет себе судить о писателе, искрящемся мыслями, то он не просто глуп, но и аморален! Никто, даже книжный упырь, ведь не отрицает (пока!), что некую местность можно узнать не только по её топографической карте, но и побывав в ней! Глупо и аморально считать описание увиденных вещей химерой, потому что их нет на карте. Считать химерой «Глоссолалию» («Глоссолалия» — путевые заметки ясновидца — яснослышца! — о стране Аэрия), всё равно что считать химерой воздух в некой местности, потому что он не обозначен на карте. «Философия есть живая страна, преисполненная невыразимых ландшафтов»[155]. Соответственно: философы — это люди, судящие о своей родине по карте, в известном смысле даже живущие не в стране философия, а на её карте.
Среди всех нелепостей, обезобразивших тему «Андрей Белый» до неузнаваемости, наиболее злостной остается переписываемая из книги в книгу фраза о гибельной роли антропософской духовной науки в судьбе художника Белого. Известно, что после встречи с Рудольфом Штейнером в Кёльне в мае 1912 года автор «Символизма» принял решение стать учеником антропософии, каковым и оставался всю жизнь. (Берлинская сплетня начала 20‑х гг. о Белом, пьющем вино, танцующем фокстрот и выкрикивающем проклятия доктору Штейнеру, относится к тем же энгармоническим недоразумениям, о которых однажды и навсегда было сказано: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе». Что же мог увидеть осевший в Берлине русский эмигрант, некто Ходасевич, в опустившемся до «есенинщины» ученике духовной науки Белом поверх того, что увидел бы в этом какой–нибудь вуаёр или папараццо! Верность или неверность антропософа антропософии — тема слишком специфическая, к тому же ни при каких обстоятельствах не «светская», чтобы можно было доверить её острословам; антропософия Белого проверяема единственно ростом его мысли вплоть до последних написанных книг, где её присутствие — не в термине, а в существе — огромно до потрясения. Берлинское инферно 1922 года, в котором выкрикивались проклятия, было не разрывом, а особенно тяжелой — в русско–астральном исполнении — проверкой на прочность[156]. Роженица тоже кричит в муках и клянет на чем свет стоит, но кем же надо быть, чтобы припомнить ей это позже, и за сплошными невменяемостями родовых схваток не увидеть рождающегося младенца!) Говорят: он погубил в себе художника, подчинив его мертвым антропософским схемам. Говорят, после «Петербурга», то есть, с момента начала своего антропософского ученичества, он не создал больше ничего значительного. Но истина как раз в обратном, и те, кто так говорят, не знают, что говорят, и говорят, чего не знают. Едва ли можно было бы лапидарнее охарактеризовать всё созданное писателем Белым до его встречи с антропософией, чем: поиск стиля. Что есть стиль? Очевидно, не: просто украшение, средство выражения, способ письма и что–то еще в этом роде. Стиль — категория эстетики, при условии что эстетика — часть антропологии, а антропология — не служанка зоологии, но — «основная наука». Стиль — это человек, которого нет, но который ищется, чтобы быть. Поиск стиля тождествен, таким образом, поиску человека, или «самого себя», ибо под «человеком» разумеется здесь не «сущность человека» в абстрактно–логической помысленности рода, а фактический человек, некто «вот этот вот», смогший бы в «себе» осуществить «назначение человека» и раздарить затем «себя» другим как путь познания, чтобы каждый мог на нем, как на «другом», пробудиться в «самого себя»; в письме Белого к Блоку от 18 февраля 1913 года это нахождение себя в другом, показавшееся недавним друзьям и пайщикам по недвижимой собственности «символизм» потерей себя, обозначено в необыкновенно ясных и неуслышанных словах: «Но что же делать, если „доктор Штейнер“ стал лучшей частью души Андрея Белого. В себе не ведаю деления на „свое" и „штейнеровское“ И пишучи своим о своем, только и могу писать о „докторе Штейнере“ А слова о „докторе“ неприятны»[157]. Если поиск стиля до встречи с антропософией лихорадило от скорее визионерского, чем осознанного приближения к цели, то с обретением себя в антропософии его лихорадит от избытка сознательности в прорывающейся из цели головокружительности броска. Лихорадочность поиска определялась расплывчатостью прицела; сначала стиль равнял слово на музыку и заставлял слышать глазами, так что от историков литературы, которым посчастливилось увидеть день «Улисса» в Петербурге, до того как он занялся в Дублине, не ускользнет в будущем еще одна параллель: небывалые «Симфонии», которые списывались с Грига и Шумана — в предвосхищение «Юной Парки» великого молчальника Валери с её просодическим вызовом глюковским контральто из «Альцесты». Параллельно с поэзией осваивались наука и философия; аргонавт Белый привязывал себя к стулу студента–естественника Бугаева, чтобы отпугивать мистических соратников приложением закона Бойля—Мариотта к технике письма Гёте и Ибсена[158], а студент том за томом осиливал Канта, Риккерта и Риля, чтобы, издав очередную книгу «лирики» вместе с пугающе новаторским романом «Серебряный голубь», выступить в «Философском кружке» и озадачить бывалых кантианцев основательностью усвоения терминов. Статья «Эмблематика смысла» резюмирует эклектику поиска как градацию демаркационных негативов стиля («не то») в своеобразном накликании «свободно–теософской» судьбы; встреча с антропософией оказалась не очередным увлечением модного писателя, а философски поволенной судьбой, ибо оттачивать стиль надлежало не на музыке и прочих невыразимостях, а на самом себе, какового «себя» предстояло еще дать создать, узнать и обжить. Очень характерный симптом эпохи: смакуя гениальность Белого в букашках созданного, проглядели её в слоне, в мужестве отказа от собственной гениальности и решении начать с нуля, с осознания себя нулем перед увиденным человеком[159]. «Весело переживаю студентом себя, забывая годы хожденья по миру „писателем"». Антропософия Белого, или ученичество Белого, есть осознание символистом Белым себя не в наивном реализме, или даже фетишизме, стояния перед собой как перед «классиком» русского символизма, а в символичности и творимости собственного существования; допустим: классик Шекспир пишет драмы, в которых заняты до тысячи действующих лиц; допустим: эти действующие лица знают всё и что угодно, кроме одного, именно: что они живут, страдают, дурачатся, умничают, злодействуют, сходят с ума, губят и гибнут в тридцати семи драмах Шекспира и реальны лишь постольку, поскольку создаются им. Они плоть от плоти и дух от духа своего творца, до которого им, однако, не дано дознаться. Оттого у них и развязаны руки, что они пребывают в иллюзии самостоятельности, которой, впрочем, хватает как раз на то, чтобы воздать должное подарившему им жизнь, не увидев в ней ничего, кроме «сказки, рассказанной слабоумным». Но представим себе невозможное: кому–нибудь из них (Гамлету, Просперо, почему бы не жирному рыцарю Фальстафу?) открылся бы Шекспир. Не тот мираж литературоведческих столоверчений, а сам: Дух Мира, неузнанным лицедействующий на лондонских подмостках и пробующий на себе действие новых смертоносных вирусов души сознания. Очевидно, что им никак уже не удалось бы остаться в прежнем качестве, как и очевидно, что они должны были бы найти себя в новой роли, несмотря на возмущение публики, у которой вдруг отняли зрелище и которая заскучала без крови и сплина. Подумаем теперь о том, что и «творец» Шекспир мог же бы осознать себя однажды «творением», не как верующий или какой–нибудь мистик, а как художник: Шекспир, создающий других как себя, но и создаваемый сам как другой: творец своих творений, но и творение своего творца, Шекспир в предвестии поволенной «антропософии» слов: «Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой»[160]. Разве не поменял бы и он направление поиска — в миге осознания себя уже не«великим гением» (истуканом, пожираемым «шекспироведческими» термитами), а всего лишь неким богоравным персонажем в поисках своего автора! И разве не взбунтовались бы будущие «биографы» и «интерпретаторы», которые простили бы ему какие угодно сумасбродства из арсенала художнических «девиаций»: отрезанное ухо, пьяные драки, конокрадство, идиотизм, но только не осознание себя! Что художник Белый в своем доантропософском периоде написал роман «потока сознания», об этом — с обязательной оглядкой на мэтра Набокова — судачат уже и репортеры. Можно лишь сожалеть, что и на художника–антропософа Белого не нашелся еще свой «Набоков». Между тем, роман «Петербург», дописывающийся уже из антропософского «настоящего», имеет совершенную асимметричную параллель — книгу «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», в которой «поток сознания» очищен до «потока сознательности». Российским философам в их старании повзрослеть придется однажды вытягиваться не перед скудоумным важничаньем всяких Ясперсов и Деррида, а перед названной книгой, чтобы опознать, к примеру, в её пятой главе («Световая теория Гёте в моно–дуо–плюральных эмблемах») некоего «Джойса», впрочем занятого на сей раз не утробными голосами темного дублинского бессознательного, а проведением темы Гёте в контрапунктирующем многоголосии мысли. Если антропософия и погубила что–либо в Андрее Белом, так это его вырождение как художника и — человека; «коллегам», поднявшим шум о потере Белым индивидуальности и учинившим ему настоящий моральный террор с требованием опомниться и вернуться обратно, в «омут» стоящей уже под ударом Москвы, пришлось бы выбирать между помрачением сознания и бессовестностью, чтобы найти объяснение своему поведению. Что это значит конкретно, можно судить по казусу, случившемуся однажды с Бердяевым во время прослушивания курса лекций Штейнера в Гельсингфорсе, на который он по ходатайству Белого был допущен. Лекции читались в наемном помещении, и случилось так, что во время одной из них кому–то постороннему в соседних комнатах причудилось наигрывать на рояле… «собачий вальс». Бердяев, страшно напряженный и с чем–то все время борющийся 175, спрашивает после лекции у одного из слушателей: «А что, всегда лекции Штейнера сопровождаются музыкой?» В подтексте: как же Вы не видите, что Вас охмуряют? — «Да это же „собачий вальс", — ответили ему. — А Вы думаете, что Штейнер аккомпанирует себе „собачьим вальсом"?»… Как известно, Бердяев написал уже к концу жизни философскую автобиографию, озаглавив её «Самопознание». Ввиду того, что рассказанному эпизоду не нашлось места на более чем трехстах страницах этой книги, можно было бы спросить: что же такое познается в ней вообще? За невозможностью сколько–нибудь вразумительного ответа мы удовлетворимся следующей вполне «имагинативной» развязкой, контаминирующей стиль египетской «Книги мертвых» с топикой «гамбургского счета»: подземный чертог, умерший Бердяев, весы, на одной чаше книга «Самопознание», на другой эпизод с «собачьим вальсом», перед весами на троне Озирис, за ним Крокодил. — Лжи об антропософски загубленном гении противостоит прозрение Иванова—Разумника, тем более важное, что высказанное человеком, если и способным на какое–то «да» антропософии, то исключительно из–за её действительности в творчестве Белого. Из воспоминаний А. Штейнберга[161]: «И когда, однажды, мы ехали с ним поездом в Царское, где жил тогда Белый, я спросил Разумника: „А вы принимаете то, во что верит Борис Николаевич, чему он учит". — „Что значит принимаю, — отвечал Разумник, — я не знаю, кто этот немецкий доктор Штейнер, у которого Боря считается учеником, но я знаю, что без антропософии истории русской литературы уже быть не может. Так же как в свое время необходимо было понимать и знать Гегеля, чтобы понять Бакунина и Грановского, даже Тургенева, очень скоро станет необходимым изучать антропософию, чтобы понять новую литературу, которая поведет свое начало от Белого. Смотрите, что такое Белый? Белый, по–моему, это штука (так он сказал), это штука не меньше Толстого. И только мы, здесь в России, так запросто с ним разговариваем. Это наша русская черта"». Как бы ни отнестись к этой удивительной мысли, следовало бы поостеречься без колебаний зачислить её в разряд химер. Для этого потребовалось бы, как минимум, доказать нехимеричность русской литературы, так и не поведшей свое начало от Белого.
«Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза»[162]. В этом лейтмотиве антропософа Белого — очевидный художнический вызов предпосылкам своего ремесла. Ибо в шаблоне «художник, загубленный антропософией», если не выкрикивать его душевно, а вывести его на свет, обнаруживается больший смысл, чем это могло бы показаться самим выкрикивающим. Нет секрета, что художественное творчество столь прочно ассоциируется с бессознательным, что воспринимается едва ли не как синоним последнего. Фридрих Геббель с почти протокольной лапидарностью обобщил всё, что было сказано об этой проблеме со времен платоновского Иона до современных психологий творчества: «Гений поэзии хватает человека за волосы, как ангел Аввакума, поворачивает его к утру и говорит: рисуй, что видишь. И человек, дрожа от страха, делает это; тем временем, однако, приходят его добрые братья и зажигают огонь под его ногами»[163]. По этой незатейливой демонологии художник оплачивает моменты своего вдохновения перманентными провалами прочей жизни; либо, не востребованный Аполлоном, он ничтожен, вздорен, несносен, просто глуп, либо, схваченный за волосы и повернутый к утру, он гениален, но не «в себе», а в трансе, как в буквальном смысле «сам не свой». Что сознание, понятое так, противопоказано художнику, не требует никаких доказательств. Сознание — просто другой, «ничтожный», полюс его существования, из которого он спонтанно и спорадически восхищается в бессознательное, где тело его, занятое на время каким–нибудь демоном или умершим или элементарным существом, становится орудием художественных суггестий. Искусство в этом смысле есть всегда некий род аппроприации, а художник — невинный плагиатор, и понятия не имеющий о том, кого собственно и что собственно он лунатически обкрадывает. Привести его в сознание, значит привести его в сознание собственной ничтожности, «без божества и вдохновенья»; классический пример этой обратной реакции демонстрирует случай Рильке, решившего было однажды одолеть своих демонов с помощью психоанализа, но вовремя опомнившегося и прервавшего курс, так как рассерженные сознанием демоны перестали поставлять ему стихи. Сознание губительно для художника по той же причине, что и свет для непроявленной фотопленки; вопрос лишь в том: какое сознание, чье сознание? Сознание большинства не есть сознание Гегеля; для большинства уже одно соприкосновение с Гегелем равносильно отключению в обморок. Значит ли это, что решением большинства Гегель объявляется не идущим в счет? Такой демократией могут тешить себя разве что недоумки; но и недоумкам не должно же быть отказано в льготе познать однажды самих себя как недоумков. Сознание суть уровни и различные качества сознания; есть сознание, прописанное в голове, но есть и сознание, расширяющееся в тело. Между тем: научный предрассудок, ставший общим местом, легализует исключительно головное сознание, отрицая всякое прочее, либо же зачисляя его в разряд паранормальных явлений. Поскольку в голове есть всё, кроме инстинктов, а в теле всё, кроме сознания, сознание и инстинкты мыслятся параллельно существующими, или «дополняющими» друг друга, вследствие чего «мы» ухитряемся реагировать на одни вещи сознательно, а на другие инстинктивно, выходя в последнем случае, как правило, сухими из воды и оставаясь в первом случае, как правило, в дураках. Что сознание не инстинктивно, а инстинкты не сознательны, в этом согласно сходится опрошенное большинство; но вопрос решается не опросом большинства, а доброй волей и умным деланием немногих. Антропософия есть наука о сознании в так называемом бессознательном: в инстинктах, привычках, рефлексах, мышечной чувствительности, жизненных функциях, короче: в теле, учащемся осознавать себя как дух. Наивно было бы видеть в этой науке просто науку в расхожем смысле слова; от прочих наук о духе антропософия отличается по преимуществу тем, что здесь допустимо говорить о духе не иначе, как в духе. Никто не станет ведь упрекать филолога–классика в том, что он не походит в своей личной жизни на меморируемых им героев античности, равным образом никто не станет требовать от теолога, чтобы он осмыслял неисповедимость путей Божьих на примере своих собственных сочинений. Но было бы во всех отношениях нелепо представить себе науку о расширяющемся в бессознательное сознании без опыта самого расширения. О сознании судят, находясь в сознании, и если объект суждения — расширенное за свои границы сознание, то судить о нем надлежит не из трафарета прежнего сознания, а единственно из опыта нового; в противном случае пришлось бы консервировать расширяющееся сознание в старом качестве и требовать от него абсурдного умения проникать в мир сновидений в модусе обычного бодрствования (что было бы равносильно познанию мира не расширением лба до мира, а сужением мира до лба, добавим: Прокрустова лба). Сознание — не картезианец, ни даже феноменолог, полагающий, что кроме него есть еще «что–то», на что оно направлено и сознанием чего оно является; сознание не есть сознание чего–то, а есть само что–то (подобно тому как глаз видит не мир, а есть сам — мир); это что–то сознания есть вещь в её смысле. Сознание ботаника, исследующего растения, не есть нечто отличное от растений, а суть сами растения, воспринятые не в своей чувственной самоданности, а в уме, и от правильности или неправильности этого сознания зависит: окажутся ли растения в нем на более высокой ступени эволюции или будут заведены в некий «более высокий» эволюционный тупик. Аналогичным образом: сознание — horribile dictum! — литературоведа есть (будет!), не довесок к литературе, а более высокая литература в литературе, потенцирующая медиумичность авторского вдохновения до его осознанного воссоздания в опыте. Чтобы сказанное не шокировало слух и вкус, позволительно сослаться на один пример: последнюю, посмертно вышедшую книгу антропософа Белого, то самое «Мастерство Гоголя», которое мог бы написать только сам Гоголь, если бы ему было под силу писать книгу «Самопознание» из того же «парки бабьего лепетанья» его стихийного тела, из которого писалась «Страшная месть»; на мастерстве этой книги, прочитывающей мастера Гоголя из сознания схватившего его за волосы гения, и было бы впору решать вопрос, порвал ли антропософ Андрей Белый с Рудольфом Штейнером или остался его учеником. Судачить на названную тему средствами, позаимствованными у старых дев, — занятие постыдное и во всех смыслах неосторожное: ввиду опасности прослыть дилетантом не только у более рассудительных «коллег», но и среди самих сплетниц.
Вопрос сознания есть, таким образом, вопрос о возможностях расширения сознания. Не психоаналитической или какой угодно стерилизации сознания с обратным загнанием в застрахованную нишу ничтожества, а его, словами Гёте, «ограничения себя всем». Сказать: сознание губительно для художника, всё равно, что сказать: воздух вреден для легких; какой воздух? для каких легких? Если есть сознание, способное погубить художника, то есть и сознание, без которого он гибнет — как художник и человек. Антропософия Белого — первенец некоего художества, которое будет сознательным либо вообще никаким; характерно, что о безволии автора «Петербурга», давшего–де себя загипнотизировать, говорили (говорят) там именно, где волею его впервые стало само сознание. — Вопрос: как возможна Глоссолалия? предваряется вопросом: что есть Глоссолалия?, которому, в свою очередь, предшествует — ответ: она есть орган восприятия, или некое deja vu, скорее, deja entendu в радиусе памяти, простирающейся до Книги Бытия и — дальше, или место слёта мыслей, нисколько не стесняемых словами, напротив, чувствующих себя в словах, как эвритмический жест в газовом, завивающем воздух шарфе, иначе: некое отображение написавшего её «чудака», а точнее, оригинала его «становящегося человека» («Эпопея Я»), с которого он её, собственно, и считывал[164]. Именно этот оригинал, а вовсе не какую–то философию или мудрость, и выпало опознать в себе Андрею Белому при встрече с Рудольфом Штейнером; в личности Штейнера транспарировало не учение, не теория, не оккультное знание и как бы это еще ни называлось, а воочию явленный ответ на вопрос: что может человек? — он оттого и преклонился в Штейнере перед этой мощью, что она не подавляла и не гипнотизировала его, ни даже просто являла себя ему, а жертвовала собой ему, чтобы и он, немощный, однажды — смог. В этой жертвенности («она превышала и силу моей любви к нему», скажет он позднее[165]) и он увидел «бездну», но не глазами бывших сотрудников по «Мусагету» (на деле, «русских мальчиков», раскрученных охочими до экзотики европейцами в «русских философов»), а как первофеномен «самого себя»; тем благодатнее и продуктивнее оказывалось осознание собственной немощи в настоящем, как воли к будущему себе, могущему. Антропософия Белого засвидетельствована не только книгами писателя Белого, но и едва ли не в большей степени воспоминаниями современников о человеке Белом[166], которые проглядели её за виртуозной быстротой её исполнения. Подобно Флоберу, чуть не умершему от отравления мышьяком, который выпила его героиня; подобно Ницше, отождествившему себя в пароксизме прижизненного вхождения в смерть до «каждого имени в истории», он становился тем, что писал, и вживался в невозможное: перманентно сходя со старого просроченного ума в тьму телесного космоса, чтобы входить оттуда в ум новый и никогда еще не бывший. «Глоссолалия» (одно из имен эпика Я «Андрея Белого») — эвритмически вправляемая заумь, некая фонетика миротворения, сложенная не во лбу, а, как это единственно и подобает слову, ставшему плотью, — во рту («ушел к себе в рот подсмотреть мироздание речи»). Мысль–бомба сдетонировала в этом случае на штейнеровском «Очерке тайноведения», или теософии в знаке Гёте, по сути очерке физики тел макрокосмического человека, образующих мировой процесс, как эволюцию. Нужно представить себе автора «Котика Летаева» читателем «Очерка тайноведения», читающем его из тех же состояний сознания, из которых он писал свой роман, больше: слышащем его; из всех книг Белого «Глоссолалия» осталась, может быть, самой неуслышанной (и постолько самой будущей), абсолютно закрытой для нашего логоневротического времени с его отношением к звуку по модели: «Скажите А». Философы, лингвисты, филологи, «специалисты» стоят перед ней ничуть не более привилегированными, чем остальные читатели; из «паучьей глухоты» своей учености они и не в состоянии иначе реагировать на нее, чем на какой–то фокус или субъективный бред. Странные люди. Им бы отвлечься от собственных нош и подумать о том, что если они не способны понять эту книгу (понять её значило бы, как минимум, уметь мыслить в её темпах), можно же было бы попытаться насладиться ею, как наслаждаются произведением искусства, — скажем, не читать её, а слушать, как слушаем же мы какого–нибудь виртуозного скрипача или пианиста, отложив в сторону свои дутые «дискурсы»! Как знать, может и им тогда «легконогие мысли веселой науки грядут не стопою трактатов, а роем летуний, играющих шарфами»? Как знать, может на этот раз они не пройдут, наконец, мимо ответа, а разбудят себя вопросом к нему: если русская литература не повела свое начало от Белого, то отчего повести свое начало от него не смогла бы русская сознательность?
Базель, 8 января 2002 года (в день памяти Б. Н. Бугаева)
Предотвратимая катастрофа
Андрей Белый в своих несравненных «Воспоминаниях о Штейнере» рассказывает о случае, происшедшем на одной железнодорожной узловой станции, где из–за путаницы с принятием поездов должна была с минуты на минуту разразиться катастрофа: «Выскочил испуганный начальник станции, не понимая, что следует предпринять, чтобы избежать неминуемой железнодорожной катастрофы; вдруг около него вырастает фигура бритого господина, вмешиваясь в инцидент; не проходит и минуты, как фигурка уверенно распутывает создавшуюся ситуацию; еще минута: и начальник станции, выведенный фигуркою из тупика, отдает быстрые приказания: уже подымаются сигналы к стрелочникам; передвигаются стрелки; и наконец, без катастрофы проносится мимо станции поезд. Фигурка, предотвратившая катастрофу, — Штейнер».
Если допустить, что всякий символ так или иначе содержит в себе момент иносказательности, то история эта выглядит даже не символичной, а попросту буквальной, настолько буквально отвечает её смысл обступившей нас со всех сторон действительности. Ну да, всё та же «узловая» станция, называемая социальной сферой, всё та же путаница в принятии правильных, единственно точных решений, всё то же ожидание неминуемой катастрофы, на сей раз, впрочем, очень похожей на «окончательную».
Вот разве что «начальники» станций никуда не выскакивают и не обнаруживают особой испуганности; скорее даже напротив — ухитряются и в этот момент респектабельно кокетничать с наставленными на них отовсюду фотообъективами, а то и срывать всяческие премии. Извечная флегма «начальства», засевшего в своих апартаментах и менее всего склонного… распахивать окна; 14 июля 1789 года, в день взятия Бастилии, Людовик XVI, вернувшись с неудачной охоты в Версальский дворец, вписал в свой дневник одно–единственное слово: «Rien» — «Ничего». Пример более чем скромный — платить за эту царскую оплошность пришлось царской же головой; в «нашем» случае — нужно ли это оговаривать? — счет открыт на «всех»: не о «Бастилии» идет речь, а о «планете», и если не нам, чадам XX века, привыкать к десяткам и сотням миллионов насильственно отнятых жизней, то нам ли удивляться ближайшей перспективе вполне последовательного уже апофеоза — когда неслыханный «демографический взрыв» перестанет наконец быть земной проблемой, став целиком проблемой… загробного мира!
Найдутся — знаю это по опыту — «трезвые» умы, которые снисходительно покачают головами: да полно Вам преувеличивать; положение, конечно, не из легких, но надо же знать меру в оценках! В самом деле, с чего бы, собственно, «начальнику» станции испуганно выскакивать на перрон! Куда солиднее созвать очередную ну конечно же, «женевскую» — конференцию! Это принято называть теперь«встречей в верхах». Или подписать совместно очередное «интеллигентское» обращение! Наконец провести общественный опрос! А главное, без паники и апокалиптических ужимок, как то и приличествует «трезвым» умам. Такова одна крайность, характеризующая умонастроения в преддверии катастрофы; можно было бы, воспользовавшись анималистической символикой, обозначить её как«носорожью» — в смысле толщины и задубелости кожного уровня восприятий. Есть и другая — «мимозовая» — крайность восприятия, настолько уже сверхчувствительная, что за избытком ощущений теряющая всякую способность к сколько–нибудь осмысленному реагированию. Здесь выскакиваешь на перрон или уже никуда не выскакиваешь и начинаешь кричать: всё равно — просто кричать или кричать под ветхозаветных пророков. Так было всегда — накануне столкновения поездов ли, миров ли, держав и народов и уже всего–что–ни–есть: кто–то заседал «в Женевах», глухой к крикам, а кто–то кричал до надрыва, проклиная заседающих. В списках жертв они фигурировали на равных правах — «носороги» и «мимозы».
Память благодатно подсказывает строки Гёльдерлина: «Но там, где опасность, растет и спасенье». Рудольф Штейнер, появившийся тогда на той железнодорожной станции и предотвративший катастрофу, когда ничто уже, казалось, не в силах было её предотвратить, и Рудольф Штейнер, появляющийся на страницах этой, изданной в 1919 году, книги — именно появляющийся, так как современностии своевременности тут хватило на всё наше столетие, — и предотвращающий или пытающийся предотвратить новую катастрофу, на сей раз в топике не железнодорожной развилки, а планеты, — это всё та же единая тема: тема сознательности, опережающей абсурд и поражающей абсурд из будущего, из гравитационных токов судьбы, ибо судьба (не слепая судьба языческого космоса, неистовствующая над богами и людьми, а экзорцически укрощенная и крещеная судьба–христианка) двояка. Судьбою было бы столкновение поездов, но судьбою было и их не–столкновение. И если в первом случае позволительно говорить только о силах прошлого, рассчитывающихся с настоящим из будущего, как бы влекущих зажмурившееся настоящее в пасть закулисно–метерлинковскому удаву «судьбы», то столь же позволительно осмысливать второй случай в решительно иной тональности — когда в игру вступают силы настоящего и обыгрывают лишь прикинувшуюся будущим лунную необходимость прошлого (так называемую«карму», но в старом восточном смысле слова) солнечными импульсами свободно поволенного и уже действительного будущего. Такова удивительная, небывалая стать этой книги, мощно спокойной, хотя и настоянной на крике миллионов людей, — соберите воедино всю подлунную энергию ветхозаветного крика и пропустите её сквозь магический трансформатор чисто павлианского гнозиса, в свою очередь трансформированного гнозисом Гётеестествоиспытателя и уже во всех смыслах новым гнозисом: вы получите ровный и спокойный ГОЛОС, перекрывающий ураганы, — Исайя, но без крика, Иеремия, но без плача: трезвейшее НЕЧТО, вторгшееся в сферу, которая исстари котировалась по ведомству всякого рода «визионеров», «гадалок» и «Кассандр», и заговорившее тут языком кристальной, безукоризненно — «академической»логики, с учетом всего «университетского» и «светского» компендиума, готовое при случае загнать в угол любого «методологического» или «дипломатического» вертихвоста — да, мощно спокойная и обреченно ненавязчивая — ибо обрекшая себя из свободы на понимание или… непонимание, — книга, одинаково насущная как в атмосфере 20‑х годов (перед той случившейся–таки катастрофой, которую она, услышанная, могла бы предотвратить), так и теперь, в атмосфере последнего — расчетного! — десятилетия века, накануне этой, новой, катастрофы, которую она, услышанная, сможет еще предотвратить.
Её тема (рассасывание социальных карцином и оздоровление смертельно больного организма путем трехчленной реорганизации социальной жизни) — всё та же бессмертная аллегореза «лебедя», «щуки» и «рака», невообразимо бессмысленное взаимодействие которых уже подтолкнуло «воз» человечества на самый край пропасти. Виданное ли дело, когда «щука» государственности подчиняет диктату собственных «щучьих велений» как «лебедя» духовности, так и «рака» экономики! Или когда «рак» экономики контролирует сферу «щучьих велений» и заказывает «лебединые песни»! Или еще: когда «лебедь» пятится под страхом свернутой шеи в болото и начинает осиливать технику кваканья, а «рак», возомнив себя этакой «ланью», только и тщится что догнать и перегнать! Комбинации абсурда настигают как бред. Их итог — неминуемая катастрофа. Ибо насилие над живым всегда чревато ответным ударом жизни — когда живое в ответ на глумления над собой просто перестает быть. Восток — Россия с присосками вех своих необозримых колоний — предпочел доминанту «щуки». Метастазы оцепенело византийской государственности в течение семи с лишним десятилетий сжирали тут все сколько–нибудь самостоятельные клетки свободной духовности и экономической инициативы — кошмар, настолько фундаментальный, что наводящий в ряде случаев на мысль о необратимых деформациях. Запад разлагался в иной комбинации: здесь возобладал фактор «чистой» экономики, держащей под присмотром как правовую, так и духовную сферу. В обоих случаях речь шла о своеобразном расщеплении марксистской догмы на два гигантских эксперимента, идеологически противопоставленных друг другу, но по существу разыгрывающих одну и ту же карту. Маркс–ученый экономист, основательный теоретик «рачьего хода» и Маркс–доктринер, инспиратор всякого рода подпольных «щук» и «поджигателей» действовал на два фронта: повернутый к Востоку оскалом«ленинизма», или «политического» коммунизма, он совращал Запад мирными и безболезненными перспективами коммунизма «экономического»; разве случайным оказывался весь этот сыр–бор борьбы последышей за «подлинный» марксизм, разгоревшейся с первого же десятилетия наступившего века, когда поборники «азиатского» Маркса свирепо поносили своих собратьев, ратующих за более умеренного, скажем, «австро» — Маркса, а последние брезгливо отмахивались от первых. Трюк оборачивался на редкость диалектическим: с победой «азиатского» Маркса и с номенклатуризацией идеологических догм марксизма «в одной, отдельно взятой стране» можно было контрабандно (без плакатов и парадов) насаждать «подлинного» Маркса на метафизически оскудевшей почве Запада; в итоге: здесь — «под знаменем марксизма» — надстройка с тупой монотонностью насиловала базис экономики, там же — без всякого знамени — экономический базис чисто по–марксистски определял все без исключения этажи надстройки. Понятно, что в первом случае выигрыш оставался только за «щукой»; во втором, разумеется, выигрывал только «рак».
«Лебедь» в обоих случаях подавался — на десерт.
Любопытный фокус «перестройки», по сути очередная комбинация всё того же единого абсурда. Кто бы взялся описать, с какой патетикой, с каким вздохом облегчения Россия, исстрадавшаяся под знаменем марксизма, готова теперь присягнуть снова идущему с Запада марксизму — по второму кругу! Сколько их будет еще, этих кругов? И, побывавши «в круге первом», так ли легко было потерять голову от аппетитностей «второго круга»?!
Ибо хаос, обступивший нас сегодня, после бесславной кончины семидесятичетырехлетнего (сталинский ровесник, как–никак!) Левиафана, грозит нам вполне предсказуемыми последствиями. Экономисты и юристы, сменившие «идеологов» в коридорах власти, тащат теперь гигантский и запущенный «имперский» воз в сторону частной собственности и парламентской демократии, полагая — не без резона, конечно, — что надо же накормить собственный народ и приучить его к плюрализму мнений. Снова золотой ключик марксизма грозится вскрыть все сейфы социальной жизни — тогда это называлось «диктатурой пролетариата», теперь дело идет о «диктатуре брокеров». Right or wrong, my money. Предполагается: корень зол сокрыт в экономике — настоящий демократ должен быть сыт и ухожен; только тогда будет самое время заняться политикой и духовностью. Но нет более злостной иллюзии! Корень зол — в уродливой, неестественной сращенности трех членов социального организма, где каждый из них душит другого, стремясь к приоритетности, и обрекает на смерть организм как таковой. Спасать надо не отдельные члены, а целое, и значит — не в последовательности мер, а в их одновременности. Освободить экономику от политической опеки, но и огородить политику от всяческих «лобби», а духовную жизнь раз и навсегда очистить от какого–либо демократизма. Ибо диктат политики (мы знаем это) равен полицейскому тоталитаризму, а диктат экономики (придется ли нам узнать это?) — тоталитаризму мошны: вместо «всё подавляется» — «всё по(д)купается», вместо сплошного «концлагеря» — сплошной «аукцион», вместо «человека с ружьем» — легион «предпринимателей». Россия пережила уже однажды такое: зловещая тень «октября» отбрасывается здесь только от «марта». Теперь в разгаре новый «март», и снова: кто–то кричит, а кто–то умствует на конференциях…
Быть может, эта книга, с исчерпывающей ясностью и деловитостью инструктирующая нас по части исконного нашего «что делать?», нужна здесь, как нигде. Я повторяю: она не навязывается, хотя о силе, заключенной в ней, едва ли мечтал вообще какой–нибудь «практик». Её последняя фраза — рубеж, за которым бессмысленны уже всякие только–слова. Понять её, значит стать ею. Выбор за нами, за каждым из нас, кто вправе что–либо решать. Остальное — судьба, одна из двух судеб: столкнуться ли поездам или пронестись мимо. В конце концов «начальник» той злополучной станции волен же был «профессионально» отвернуться от предложившего свою помощь «незнакомца». Поймем же хотя бы это. Мы слишком уже возмужали, чтобы уповать на сверхземную помощь, не церемонящуюся с нами и спасающую нас без нашего ведома, как–то случалось в блаженно–детскую и юношескую еще пору нашей человеческой истории. Теперь сама эта помощь зависит от нас: от нашего умения увидеть её и захотеть её.
Ереван, 30 марта 1992 года
Книга—Мистерия
Евангельское «не мечите жемчуг перед свиньями» Рудольфу Штейнеру пришлось однажды слегка отредактировать, поменяв — очевидно, не столько из соображений такта, сколько из соответствия увиденному — индекс анималистической символики с прежних свиней на более актуальных петухов. Вот это параболически разящее место из второй лекции цикла «Оккультные основы Бхагават—Гиты»[167]: «Когда на пути лежит жемчуг и на него натыкается петух, то петух не придает жемчугу никакой особой ценности. Такими петухами являются по большей части современные люди. Они ничуть не ценят жемчужин, открыто лежащих перед ними; то, что они ценят, есть нечто совершенно иное, именно: они ценят собственные свои представления». Сказано по другому поводу, но всё еще и по этому; из всех жемчужин, открыто предлежащих взору, «Философия свободы» остается едва ли не самой неувиденной: XX век, на пороге которого она была написана и порогом которого стала, предпочел ей, этому бесценному самородку духа, кричаще дешевую бижутерию собственных представлений: марксистских, фрейдистских, экзистенциалистских, позитивистских, неопозитивистских, постнеопозитивистских и Бог весть каких еще… Безупречное правило Э. Ренана[168]: «Наиболее энергичное средство понять значимость какой–либо идеи, это устранить её и показать, чем мир сделался без неё», не требует в этом случае никакого конъюнктива; вот уже ровно сто лет, как книга эта систематически замалчивается или не замечается профессионалами и любителями духовности, и отнюдь не в целях подчеркивания её важности. Но правило — в эвристической ли интерпретации или как очередная sancta simplicitas набитых собственными представлениями «петухов» — остается в силе: онтология нашего века вполне позволяет охарактеризовать себя как столетний итог одной непрочитанной книги — наш мир, мир, в котором мы живем, — это мир, прошедший мимо «Философии свободы»: имеющий глаза, чтобы видеть, да видит! И сразу же — слева и справа, почти в унисон — меня перебивают «чужие» и «свои». «Чужие» — снисходительно, вполоборота, не без крупиц надменной иронии, ну да, с большим запасом собственных представлений: Помилуйте, да ведь это чистейшей воды фантазерство ставить судьбы мира в зависимость от какой–то прочитанной или непрочитанной книги! — Так скажут они, и еще довольно потрут при этом себе руки. Спорить с ними бесполезно: пусть себе поклевывают стекляшки собственных вычитанных из всякого рода книг представлений, согласно которым судьбы мира следует ставить в зависимость от «объективного хода истории» или «воли Божьей» или каких–то там еще бездарно усвоенных и машинально повторяемых слов. Я же останусь при своем «фантазерстве»: мир губят книги — некстати прочитанные и кстати не прочитанные… Пусть покажут мне хоть одно сколько–нибудь значительное историческое событие, в разоблачении которого можно было бы вообще обойтись без пра вила: «ищите книгу». Litterarum intemperantia laboramus (В чтении мы грешим неумеренностью) — так означено это в одном из писем Сенеки (Ad Luc. CXI, 12), слишком поздно осознавшего, какую роковую роль сыграла дурная филологическая выучка в формировании нравов его воспитанника Нерона. Абсолютно верное восклицание, если дополнить его столь же верной его изнанкой: в не–чтении тоже.
«Свои» возразят ближе к существу дела и с упреком. Зачем же говорить о непрочитанной книге, когда книга эта регулярно читается, хоть и немногими, но наверняка. — Знаю это, но не об этом речь. Никто не разъяснил этого лучше, чем сам Рудольф Штейнер, когда спустя двадцать пять лет после 1‑го издания книги, стало быть в 1918 году, встал вопрос о её переиздании. Послушаем этот отрывок; речь идет тут именно о читателях и почитателях Штейнера: «Держались отнюдь не того, что им давалось, а всяческих лозунгов и шаблонов. […] По сути относились довольно–таки безразлично к сказанному мною самим, к тому, что сам я счел нужным издать. Конечно, всё это читалось. Но из того, что нечто читается, никак не следует еще, что оно принималось, […] критерием оценки служило не то, что исходило из моих уст или фигурировало в моих книгах, а то, что один развил в себе как мистическое, другой как теософское, третий как–то еще иначе, четвертый совсем иначе и т. д. […] Разумеется, выпускать „Философию свободы“ новым изданием никак не могло в силу сказанного выглядеть чем–то особенно привлекательным и идеальным»[169]. А между тем счет здесь шел и продолжает идти как раз на идеальное. Допустив, что этой книге мало быть просто прочитанной, придется допустить, что ей мало быть и просто пережитой. Она, скажу я в библейско–евангельском смысле, должна быть съедена: сверхмощный образ, связующий книгу пророка Иезекииля с Откровением Иоанна Богослова: «И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь её; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед» (Откр. 8,9).
Ибо жестоко ошибся бы тот, кто счел бы эту книжку просто книгой. Во всем наследии Рудольфа Штейнера ей назначена, математически говоря, роль бесконечно отдаленной точки, к которой целокупно устремлена парабола этого трехсотпятидесятичетырехтомия. Устраните её — согласно ренановскому правилу, — и антропософия тотчас же оскалится своим неразлучным теософско–браминским двойником. Солнечный эвритмический жест застынет в мертвом «стоп–кране» всяческих йогов и магов, и вместо чистоплотнейшей мысли, хранящей верность своей аристотелевско–гегелевской пробе даже и в сферах, где искони хозяйничали только «Кассандры», взору предстанут сплошные позы и грезы обольстительно урчащего чревом антисанитарийного оккультизма. Спрошенный однажды, что — на случай будущей катастрофы — хотел бы он видеть уцелевшим из всего им созданного, Штейнер ответил моментально: «Философию свободы». Ответ, транспарирующий в ближайшем восприятии всеми оттенками субъективного пристрастия. Он действительно любил эту книгу: самый одинокий человек — самую одинокую книгу. Сохранилось потрясающее письмо, написанное им Розе Майредер в ноябре 1894 года, уже по выходе в свет книги; чисто бетховенские раскаты этого письма не оставляют никаких сомнений относительно состояния, в котором писалась «Философия свободы»: «Я не учу, я рассказываю то, что внутренне пережил сам. Рассказываю так, как я жил этим. В моей книге нет ничего, что не носило бы личного характера. Даже форма мыслей. Натура, склонная к учительствованию, смогла бы расширить весь труд. Возможно, и я сделаю это в свое время. Но прежде всего я хотел изобразить биографию одной взыскующей свободы души. Тут уж никак не можешь быть в помощь тем, кто стремится с тобой над всяческими рифами и пучинами. Надо самому быть начеку, чтобы одолеть их. Остановиться и разъяснять другим, как легче всего было бы тут сориентироваться — для этого слишком сильно жжет самого тебя изнутри тоска по цели. Мне кажется к тому же, что я сорвался бы, попытайся я одновременно искать подходящих путей для других. Я шел своим путем, и делал это как мог; этот путь и описал я следом. Как надлежало бы идти другим, для этого я мог бы задним числом подыскать сотню способов. Но ни один из них я не хотел поначалу наносить на бумагу. Некоторые крутые скалы перепрыгнуты в моем случае самовольно и совершенно индивидуально, я пробивался сквозь дебри на свой лишь мне одному присущий лад. Лишь когда достигаешь цели, узнаешь, что достиг её. Но, может быть, в том, чем я занят, время учительствования вообще миновало. Философия всё еще интересует меня почти лишь как переживание отдельного человека»[170]. В этом исповедальном отрывке сжата вся романтическая энергия века, от Байрона и Шумана до Ницше; придется обратиться к той замершей в интроспективном восторге главке из ницшевского «Ессе homo», где описывается состояние, из которого вышел «Заратустра» («Это мой опыт инспирации; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого–нибудь, кто вправе мне сказать: „это и мой опыт"»), да, придется иметь в виду самые высоковольтные случаи разрешения от шедевров — всё равно, художественных или умозрительных, ибо шедевр всегда запределен таксономическим рубрикам школьной эстетики, — чтобы получить представление о том, как писалась «Философия свободы». Послушаем снова: «[…] я сорвался бы, попытайся я одновременно искать подходящих путей для других». И еще: «[…] в том, чем занят я, время учительства вообще миновало». Заметим: это говорит человек, который через считанные годы выступит в мире как учитель, и если графика прописных букв способна хоть сколько–нибудь уместить случившееся в восприятие, скажем так: как УЧИТЕЛЬ. Парадокс или противоречие? Как вам будет угодно. В таких вещах отвечать должен каждый, и каждый ответит на это в меру съеденной и переваренной им самим свободы. Но то, что учитель свободы фактически не мог предстать в традиционно–стереотипной личине «мэтра» с усевшимися у его ног и разинувшими рты учениками, что учитель свободы должен был прежде всего и сам быть свободным, в том числе и от церемониальных суеверий учительства как такового, и стало быть, начать учительствовать, лишь приобретя мощнейшую прививку от всякого рода учительствования, — это не подлежит никакому сомнению. Он подыщет–таки уже задним числом контуры путей для других; книга «Как достигнуть познаний высших миров?» станет «Философией свободы» для всех, но для того чтобы это оказалось возможным, потребовались и всегда будут требоваться два условия. Во–первых, вакцину свободы — опаснейший дар, способный обернуться как моральным свечением, так и «Содомом», — он должен был поначалу опробовать только на себе самом (именно так, как это и описывают строки приведенного выше письма), и во–вторых, «Философия свободы» только тогда перестанет быть «переживанием отдельного человека» и станет переживанием «всех», когда «все» будут уже не скопом всякого рода общественных пристанищ, в том числе и антропософского, а «каждым в отдельности», именно: не «штейнерианцем», волочащем на спине мешок чужих мудрейших цитат на все случаи жизни и смерти (противники антропософии, судящие о ней по таковым, знают ли, как судил о них и как ими мучился — Штейнер[171]?), ни вообще каким–либо «… ианцем», а САМИМ СОБОЙ: ницшевские «семь шкур одиночества», от которых так и разит анти–социальностью, — обязательная примерка для каждой души, намеревающейся облачиться во фрак социальности (чтобы фрак сей не висел на ней мешком, а был с иголочки).
Да, романтический вызов одиночеством, но и вместе с тем какая иная тональность! Вчитаемся снова в приведенный отрывок: «[…] я пробивался сквозь дебри на свой лишь мне одному присущий лад». В устах романтика это звучало бы жалобой; романтик, кичащийся своим одиночеством, ни за что не упустил бы случая горько посетовать на него. Здесь это звучит почти как оправдание: да, я шел своим путем и не мог быть в помощь другим… Слишком сильно жгла меня изнутри тоска по цели… Но, возможно, в будущем я смогу еще помочь другим…
Обособленность и крайний индивидуализм совершенно отчетливо даны здесь в ключе их будущего растворения и расширения; музыкально говоря, не в темном понижающем бемоле, гипнотически влекущем душу в пучину тристановских «невыразимостей», а в светлом повышающем диезе, исцеляющем душу от боли — к делу. Поль Валери прекрасно выразил это в своей характеристике Леонардо да Винчи: «Его не страшила бездна. Бездна наводила его на мысль о мосте»[172]. Бездонность «Философии свободы» — тема, требующая особой внутренней закалки; можно, впрочем, наткнуться на искреннее читательское недоумение, говоря о «безднах» этой безупречно кристальной мысли. — Помилуйте, какие там еще бездны, когда ни одна страница этой книги не отбрасывает даже и тени? — Таков шаблон восприятия современного человека: бездну он способен видеть только там, где факт бездны предварен рекламой бездны и до осточертения заболтан самим словом «бездна»; иначе говоря, если вы притязаете на знакомство с бездной, то, как минимум, трубите об этом на каждом углу либо — по максимуму — стреляйтесь, как Генрих фон Клейст, морите себя голодом, как Гоголь, идиотически лепечите, как Бодлер, или режьте себе ухо, как Ван—Гог. Очевидно, нам недостает какого–то более мужественного, более воспитанного вкуса, чтобы разом осознать, что можно не делать всего этого, да, именно не делать всего этого, и быть специалистом по таким безднам, которые и не снились видавшим виды декадентам. Но таковы именно бездны «Философии свободы». Они не привлекают внимания и не парализуют взор, настолько сильно поглощено внимание и восхищен взор прокинутыми через них и створяющими их мостами (тем, кому сравнение это показалось бы чересчур метафорическим, можно было бы напомнить исконный смысл римского pontifex, соединяющего жреческий сан с профессией инженера–мостостроителя).
Что же всё–таки — за вычетом неисповедимых оттенков авторского пристрастия — побудило творца «Философии свободы» отдать предпочтение именно этой книге в праве на единственное место в ковчеге книг, спасаемых из пожара грядущей катастрофы? Давайте сразу же предугадаем ответ: по этой одной спасенной книге можно было бы — допустив, что техника палеонтологической реконструкции применима и к духовной сфере — восстановить контуры более поздних антропософских творений. Парафразируя шоковую формулу Достоевского: если бы мне математически доказали, что истина вне Христа, я предпочел бы остаться с Христом, нежели с истиной, можно сказать: если бы мне математически доказали, что антропософия вне «Философии свободы», я предпочел бы остаться при «Философии свободы», нежели с антропософией. Формула безусловно абсурдная, но в самой абсурдности своей эвристически неоценимая. Ибо что есть антропософия, как не тотальная мобилизация познания, имманентного данному отрезку развития и соответствующего Духу Времени! Надо понять: есть оккультное «что», и есть оккультное «как», соединяемые в оккультном «кто». «Что» оккультизма, безотносительно взятое, — кодекс вневременных оккультных «истин», усваиваемых адептами всех времен и всех мастей, некое трансцендентальное единство оккультного синтаксиса, где какое–то священное изречение произносится соотечественниками Мэрилин Монро или Иосипа Броз Тито с такой же непреложностью, как оно произносилось соотечественниками Шуппилулиумы или Касиапататагаты. Эта прикинувшаяся добродетелью душевная и умственная лень, позволяющая первому встречному высокомерно отмахиваться от Гегеля и без малейших колебаний зачислять себя в штат «знающих» — мошенническое «знание», не удостоверенное никаким «познанием», — навсегда останется прибежищем всякого рода одержимых манипуляторов с темным личным и сверхличным прошлым и толпы бездарных фанатиков, по чистой случайности поклоняющихся не какому–нибудь длинноволосому эстрадному истукану, а… Кришне; настоящая оккультная «хлестаковщина», после которой невольно станешь зажимать нос при одном упоминании слова «оккультизм» (кто подсчитал бы, какой ущерб был причинен действительно оккультному познанию этим массовым гипнозом вокруг оккультного «что», и скольким достойным умам, самостоятельно приблизившимся к порогу духовного мира, пришлось и всё еще приходится брезгливо избегать соприкосновений с «оккультным» во спасение собственного достоинства! — вспомним трагические судьбы величайших христиан, так и не опознавших в себе христианства и берущих сторону «отступничества», дабы не оказаться причастными к смраду стадного христианства: Юлиана, Фридриха II Гогенштауфена, Ницше; вспомним жестокие колебания Гёте, готового прослыть«атеистом», «язычником», даже «магометанином», лишь бы спасти себя от назойливо предлагаемого ему христианского «партбилета»). Оккультизм — допустив, что этот навылет дискредитированный термин поддается еще регенерации — начинается с оккультного «как»; если подвергнуть его кантовской трансцендентальной процедуре и подвести под вопрос: «Как возможно оккультное знание?», то ответ (в и не снившемся Канту духе) прозвучит приблизительно так: возможно как радикальное домысливание, дочувствование, допытывание познавательных форм, свойственных каждой данной эпохе. Оккультизм, скажем, творцов Веданты правомерен (и постольку возможен), начиная с VII дохристианского столетия; сфокусированность его обнимает тот промежуток времени, когда он в наибольшей степени отвечает исторически предопределенному уровню и цензу форм восприятия и мышления. Потом начинается его постепенное выпадание из фокуса, именно постепенное, но в постепенности этой неотвратимое; еще в эпоху Плотина и вплоть до Скота Эриугены он, хоть и утративший уже центральную топику, сохраняет чисто эвристическую значимость стимула, толчка, побуждения, подспорья, неожиданно подвернувшегося союзника в подтверждение нового, сообразного данному уровню познания опыта; но процесс расфокусировки неумолим, и уже с какого–то момента оккультизм этот выступает как препятствие, как тормоз, как яд. Ибо на что собственно он, способный еще стимулировать какого–нибудь неоплатоника, мог бы претендовать в случае какого–нибудь, скажем, картезианца? Декарт, обращенный в буддизм, — тема, настолько нелепая, что для допущения её пришлось бы заподозрить среди авторов Книги Судеб наличие какого–то Эжена Ионеско; спрашивается, что выиграла бы от этого современная наука и что буддизм, не говоря уже о самом виновнике неразберихи? Говоря со всей решительностью, не Декарту — раз уж на то пошло — пристало бы обращаться в буддизм, а скорее уж какому–нибудь буддисту в картезианство, чтобы не дать своему буддизму выродиться в моду и средство оболванивания. Рудольф Штейнер высказал это в достаточно радикальном и отнюдь не фигуральном смысле: живи среди нас ученик Вьясы, Капилы, Шри Шанкара Ачарии, он изучал бы уже не Санкхью и Веданту, а Фихте, Шеллинга, Гегеля; только такой соритмичной Духу Времени цепью метаморфоз и обеспечивается правота и правомерность оккультизма; сидеть в позе лотоса и уповать на тысячелетних тибетских махатм — значит проморгать не только злобу дня, но и сам «Тибет», который нынче легче отыскать в Москве, Женеве, Нью—Йорке, чем в Гималаях.
Что тоска по оккультному знанию пронизывала всё Новое время, этот факт засвидетельствован десятками порывов мысли, уже вгвождаемой в гроб научного материализма и уже уподобляемой телесным шлакам. Было ясно: либо мысли предстояло бесславно раствориться в физиологии мозговых процессов, либо же восстать в совершенно новом качестве; сохранять свой прежний статус двусмысленного «нечто», поддерживаемого с одной стороны схоластическими послеобразами и подвергаемого с другой стороны изощренно позитивистическим глумлениям, она уже никак не могла. Альтернатива, с неслыханной силой вспыхнувшая после Канта: Кант, этот коварнейший якобинец мысли, реально осуществивший в Кёнигсберге то, что в Париже осуществлялось театрально (как будто все ложноклассические рыки и зыки Французской революции с насаженными на пики головами принцесс и бездарными клоунадами в Соборе Парижской Богоматери служили лишь ширмой для отвода глаз, дабы сей настоящий Робеспьер мог в своем захолустье беспрепятственно чинить единственно требуемую клоунаду), Кант обезглавил прежнюю метафизику и отдал мысль на попечение только–физики; псевдотермидор, разыгранный этим лукавейшим из цареубийц, заключался в предоставлении морали высших конституционных прав при сохранении всей полноты исполнительной власти за процедурами голого аналитического раскромсания. Резонанс случившегося загремел уже спустя десятилетия, и отнюдь не только в системах так называемых «кантианцев», но в умонастроениях века (прошлого и нашего); когда можно было шесть дней на неделе резать лягушек и утверждать, что любовь, чувство чести, патриотизм суть химические реакции, происходящие в мозгу, а на седьмой день посещать церковь и невинно потуплять взор (совсем как Том Сойер перед своей тетушкой Полли) — это был Кант; или когда можно было объяснять человеческое поведение по модели собачьего слюновыделения и одновременно почтительно верить в Бога — это тоже был Кант; или, наконец, когда стало возможным «познавательной» частью мозга изобретать всякие бомбы, а «моральной» частью сокрушаться их взрывам (случай Оппенгеймера — имя же им легион) — это снова и снова был Кант. Человеческая мысль пережила на своем веку много падений; такого она не знала никогда. Налицо оказывался не только абсолютный тупик познания — если бы хоть стыдливо замалчиваемый«мыслителями», но нет же, мазохистически рекламируемый: «не знаем и не будем знать» Дюбуа—Реймона, — налицо была и абсолютная перспектива морального лицемерия (английское cant, более чем символически скликающееся с Кантом), иначе: звездное небо над головой со всё еще кудахтающими под ним «поэтами» и хозяйничающим в нем «военно–промышленным комплексом» и моральный закон в груди, расширяющий грудь до инфаркта в бессильночестном негодовании по поводу головных бесчинств. Понятно, что ответная реакция еще не полностью сломленной мысли должна была сказаться без промедления. Таковы исполинские творения немецкого идеализма, от одного взгляда на которые кантиански оцепеневшая голова идет кругом, — увы, не больше того, ибо творения эти, лишенные теоретикопознавательного фундамента, оказались в скором времени заполоненными всякого рода подземными крысами; такова безумящая ярость романтиков, раззванивающая над оглохшим веком тысячу треснутых колоколов; такова «воля» Шопенгауэра, контрабандно, при номинальном признании правил кантианской таможенной службы, инфицирующая век волнующими символами древних Упанишад. Тоска по оккультному бередит всё затерзанное позитивистическими представлениями тело Европы, и каждый раз мысль вынуждена искать опору в прошлом: в буддизме, в христианской мистике, в маго–мифических свечениях неоплатонизма, в потугах реанимации древних обрядовых жестов. Даже сильнейшим умам века (Баадер, поздний Шеллинг) приходится оборачиваться вспять, ища исхода из нового пленения мысли. Тщетно; вопрос: «как возможно оккультное знание?», по существу, новое, считающееся с материалистической действительностью оккультное знание, повисает, словно дамоклов меч, над всеми этими попытками — всё равно, чисто умозрительными, выношенными в одиноких фаустовских кельях, или прагматическими, врывающимися в гущу дня (основание Теософского общества в 1875 году); агностицизм Дюбуа—Реймона не прошибаем никаким буддизмом и никакой христианской мистикой, бьющими хоть и наотмашь, но мимо; найти яйцо с иглой, несущей смерть этому новому Кащею, значит идти напролом, через него самого, не тоскуя по прежним Мистериям, а взыскуя новых, ибо тоска по прежним вызывает у него лишь презрительную ухмылку и, стало быть, придает ему большую силу — «твоя тоска», так говорит он всякий раз, «доказывает лишь твое познавательное убожество и представляет интерес разве что для психоаналитика» — да, так говорит он всякий раз, и надо быть поистине слишком опьяненным тоской, слишком наркоманом тоски, чтобы не услышать в этих словах безукоризненной металлической правоты. Ужо вам, братья–медитанты! так и будете лезть с картонными мечами на сплав всех космически устойчивых металлов!
Выход был один, и выходом было овладение ситуацией изнутри и трансформация тупика в новый путь познания. Мы увидим, что «Философия свободы» и стала ответом на вопрос о возможности оккультного знания в условиях повсеместно господствующих форм естественнонаучного мировоззрения. Но прежде ответим, наконец, на вопрос, поставленный выше: отчего, следуя воле её автора, нам пришлось бы в случае катастрофы спасать именно её, и даже только её? Ответ был уже предугадан; остается сформулировать его со всей определенностью. Оттого, что по ней одной можно было бы восстановить весь могучий организм более поздних и уже непосредственно оккультных творений, если и не по букве, то по духу, по методу исполнения. (Текст «Философии свободы» Штейнер сравнил как–то с партитурой, вызвучиваем которую — на свой страх и риск — «мы», каждый из нас.) Оттого, что в гигантском космическом лабиринте духовного знания книга эта служит ариадниной нитью, способной вести блуждающего к выходу. И еще оттого, что, вооружившись этой книгой, можно смело бросаться в самые неизведанные пучины оккультных узнаний («дай своему сыну счастье и брось его в море», гласит старая испанская пословица), не рискуя при этом стать фанатиком или сектантом, душевнобольным или посмешищем. Наше время — время человеческого совершеннолетия, и единственная необходимость, которая нынче давит на нас со всех сторон — это необходимость быть свободным. Свободным от всего, что так и норовит прилипнуть к нашему сознанию, как шкура убитого кентавра, и выдавать себя потом за нас самих — всё равно, в «моральной» ли маске или в «аморальной», как «божественная» ли истина или «дьявольский» соблазн. Старые, излинявшие этикетки, приличествовавшие ветхому Адаму; в присутствии нового Адама цена им грош. Ибо нет уже ни морального, ни аморального, ни божественного, ни дьявольского в прежнем смысле; есть испытание свободой и облечение в свободу, от которого только и зависят нынче судьбы всех этих ветхих смыслов. Упустить эту ось, исходить из вчерашних незыблемостей, значит отдать себя во власть нелепостей и парадоксов, когда ищешь что–то не там, где потерял, а там, где светло; барон Мюнхгаузен, силящийся извлечь себя из болота за собственный парик и даже удостаивающийся за это премий — вот непригляднейшая имагинация нас самих, не желающих облачиться в свободу и продолжающих уповать на каких–то «хозяев». Увы, вчерашние «хозяева» — все без исключения — становятся сегодня идолами там, где мы продолжаем оставаться рабами. Скажем популярнее: еще вчера само Божественное не зависело от того, как относились к Нему «рабы Божьи»; сегодня Божественное ищет в нассотрудничества, а не рабства, и если мы всё еще упрямо цепляемся за комфорт «рабства», то молимся и служим мы уже не Божеству, а ловко воспользовавшемуся пустой (ну да, априорной!) божественной формой иному Господину, пусть даже мы при этом исправнейше посещаем церковь (это «скинутое одеяние Бога», по прекрасному слову Христиана Моргенштерна) или знаем назубок все 354 тома сочинений Рудольфа Штейнера. Не от таких ли нас и задохнулся тогда — задыхается и по сей день — автор «Философии свободы»! Что ж, не нам занимать опыта по части искажений, извращений, опошлений: двухтысячелетняя история христианства, дружными усилиями трансформированного в антихристианство, стоит за нашими плечами… Там одинокий непонятый Павел, задающий единственно верный тон двум тысячелетиям христианства: «К свободе призваны мы, братия!» (Гал. 5, 13) — по какому же фальшивому инструменту настраивались эти тысячелетия! Тут одинокий непонятый Штейнер, еще раз в преддверии третьего тысячелетия с неслыханной силой воскрешающий тот же тон — и что же дальше?
Успокоимся: повтора больше не будет. Будет либо музыка, сделанная этим тоном, либо… скрежет зубовный. Не в наших силах решать эту дилемму глобально. Но в наших силах решать её индивидуально. Понять, что если «Философия свободы», как индивидуальное завоевание Рудольфа Штейнера, привела его самого к тому, что было названо им антропософски ориентированной духовной наукой, то дверь, ведущая сюда, рассчитана одновременно только на одного человека. Негоже, стало быть, проталкиваться в неё скопом, надеясь остаться незамеченным. И вот что проставлено на этой двери (блюстители оккультной терминологии вполне могли бы заменить «дверь» «порогом»): тезис молодого Штейнера из комментария к естественнонаучным трудам Гёте: «ИСТИННОЕ ЕСТЬ ВСЕГДА ЛИШЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ИСТИННОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ». Спросим же себя: готовы ли мы к такой истине? И хотим ли мы — стать значительными? Допустив, что можно стать значительным, если отважиться на это и развивать в себе волю к значительности. Антропософия Рудольфа Штейнера с эвристической точки зрения — наше общее достояние; с точки зрения экзистенциальной никому не дано стать антропософом, прежде чем он не осилит «Философию свободы» и не переступит порог духовного мира «с оружием правды в правой и левой руке» (Павел). Иначе нам грозит участь остаться приживальщиками, нахлебниками при Штейнере, необозримой оравой вечных отпрысков, транжирящих чужой открытый счет. Ответим же себе: стало ли антропософски истинное индивидуально истинным каждого из нас — поименно! — там, где каждый из нас экзорцически изгоняет из себя посредственность и открывает себя всем превратностям значительной судьбы? Если да, то ни слова больше; если же нет… но разве не об этом «нет» говорил я, когда назвал эту книгу самой непрочитанной книгой века, хотя бы её и зачитывали до дыр участники специальных, ей посвященных семинаров! Как бы ни было, будем помнить: придется её спасать, каждый экземпляр, который мог бы быть последним, — спасать в расчете на то, что близко время, когда свершится написанное, и когда книга эта, стоящая на полках наших библиотек, будет наконец прочитана, пережита, увидена, постигнута, что я говорю! — съедена…
* * *
Вопрос первостепенной важности: как читать «Философию свободы»? То, что эта стилистически уравновешенная и нисколько не эпатирующая книга требует совершенно особой техники прочтения, лежит вне всяких сомнений; ни на что не обращал Рудольф Штейнер большего внимания, говоря о «Философии свободы», и ничего не подчеркивал он энергичнее, чем именно это условие: учись мыслить самостоятельно и сообразно действительности. Ибо (я резюмирую ход мыслей одной из лекций, прочитанных для рабочих Гётеанума[173]) современные люди вообще не умеют мыслить. И причину того, что они не умеют мыслить, следует искать в том, что всё наше так называемое современное мышление выпестовано латинским языком; последний же обладает тем совершенно своеобразным свойством, что мыслит — сам. И когда современному человеку кажется, что он мыслит, то мыслит на деле не он, а латинский язык в нем и через него, даже если он не знает латыни — ибо речь идет не о букве, а о духе латинского языка, которым пропитана вся наша система образования. «Люди нынче абсолютно правы, говоря: мыслит мозг. Отчего же мыслит мозг? Оттого, что латинские фразы вклиниваются в мозг, и мозг начинает мыслить чисто автоматически. […] Это всего лишь автоматы латинского языка, люди, бродящие вокруг и ничуть не мыслящие сами». — «Но именно поэтому стало необходимым, чтобы я написал […] „Философию свободы". Значимость этой „Философии свободы" определяется не столько тем, что находится в ней самой — разумеется, то, что находится в ней самой, уже и тогда должно было быть сказано миру, но не это является в ней самым важным; значимость этой книги в том, что здесь впервые полностью задействовано совершенно самостоятельное мышление. Ни один человек не в состоянии понять её, если он мыслит несамостоятельно. […] По выходе книги в свет […] люди никак не могли взять в толк, что же с нею делать. Дело обстояло для них так, как если бы некто писал в Европе по–китайски и никто не мог этого понять. Конечно, это было написано по–немецки, но речь шла о мыслях, абсолютно не привычных для людей». — Ибо «повсеместно царит страх перед […] активным мышлением. Оттого столь трудно дается людям понимание того, что притязает на активное мышление, как, например, моя „Философия свободы". Мысли, заключенные в ней, совершенно иного качества, чем расхожие нынче мысли. И иногда при чтении этой книги люди очень скоро перестают читать, по той простой причине, что им очень хотелось бы читать её, как они читают какую–то другую книгу. Но, не правда ли, другие книги, столь охотно читаемые нынче, ну да — их читают, растянувшись в шезлонге или откинувшись в кресле, то есть, предельно расслабляясь и устраивая таким образом смотр веренице мыслеобразов. […] Пусть так, но то, что я попытался изложить в „Философии свободы", не позволяет читать себя на такой лад. Тут надо всё время быть начеку, чтобы не дать себя усыпить этим мыслям. Ибо рассчитаны они вовсе не на то, чтобы их потребляли, рассевшись в шезлонге — разумеется, сидеть при этом нисколько не возбраняется, можно даже откинуться в кресле, но нужно попытаться далее из всей полноты человеческого существа, как раз приведением в покой внешней телесности, растормошить внутреннюю духовно–душевную сущность, чтобы сдвинулось с места и задвигалось мышление в целом. Иначе дело не сдвинется с мертвой точки, иначе станут клевать носом. Многие действительно засыпают при этом, но это отнюдь не самые бесчестные; самые бесчестные — это те, кто читают „Философию свободы", как любую другую книгу, и полагают затем, что им и в самом деле удалось проследить её мысли. Они их не проследили, они лишь перевели их, как переводят словесную шелуху; что им удается, так это вычитывать слово за словом и не извлекать отсюда того, что собственно явствует из слов, как если бы о кремень точили сталь».
Итак: учись самостоятельно мыслить. Это значит: войди в контакт с собственной мыслью, переживи её непосредственно в самом себе — можно было бы сказать, ощути её, как ты ощущаешь тончайшие перемены собственных душевных состояний. Оставим в стороне всякую ученость и образованность и попытаемся понять, о чем идет речь, руководствуясь просто вниманием и силою здорового суждения. Что мы делаем, когда полагаем, что мыслим? В лучшем случае последовательно и осмысленно комбинируем понятия и термины, в худшем — просто нанизываем друг на друга слова. Этот худший, он же самый распространенный, случай оставим пока без внимания, предположив, что судить о чем–либо следовало бы не по аберрациям (пусть многочисленным), а по образцам. Итак, будем ориентироваться на образцы, на так называемых «мыслителей» по профессии — очень поучительный и очень скандальный случай, когда можно быть даже автором множества ученых книг, вкоторых днем с огнем не сыщешь… мысли. Объяснение скандала в его предыстории: будущие «мыслители», прежде чем они учат других, учатся сами. Чему же они учатся? Прежде всего, логике, или грамматике, мышления; есть правила, по которым прилагательное женского рода не прилагается к существительному мужского рода, и точно так же есть правила, по которым доказуемое нечто не доказывается с помощью этого же нечто. Освоив грамоту мышления, будущий «мыслитель» знакомится с комбинациями уже сыгранных партий (читай: философских учений, концепций, систем). Грамматика расширяется до таксономии и соответствующей классификации; сыгранные партии сортируются по рубрикам: «рационализм», «эмпиризм», «материализм», «идеализм» и т. д. и т. п. Возникают стереотипные оппозиции: «субъективное–объективное», «сущность–явление», «мышление–созерца ние», сплошные «черные ящики», о которых в свое время позорнейше писал Джон Локк, объясняя механизм мышления: «Недоступные восприятию тела, — так писал Локк[174], — исходят от вещей к глазам и через глаза посылают в мозг движение, производящее в мозгу наши идеи о телах». Остальное — дело техники и навыков; важно помнить сочетания терминов и понятий у различных философов и, комбинируя их по–новому, не выходить за рамки правил комбинации. То, что при этом не переживается само содержание мыслимого и дело идет лишь о правильном употреблении терминов, считается вполне нормальным. Шахматист усмехнулся бы, заговори кто–нибудь о переживании «проходной пешки»; философ пожимает плечами, когда его спрашивают, а знает ли он по собственному опыту, что собственно означает «трансцендентальное единство апперцепции». В итоге, мысль редуцируется в термин, а термин объясняется через другой термин; сам термин «мышление» остается, конечно, в силе, но смысл его сводится только к техническому инструктажу, не более того. Признаемся: не каждый «мыслитель» нашел бы в себе мужество определить процесс мышления так, как это сделал один математик, когда его спросили о том, чем же он всё–таки занимается. «Я определяю какие–то знаки, — последовал ответ, — и даю правила их комбинирования, вот и всё»[175]. Поистине, вот и всё, но этим «вот и всё» мышления философия каждый раз удостоверяет не что иное, как собственную невменяемость. (Не оттого ли, мимоходом говоря, с какого- то момента стало возможным вышучивать философов и даже… лупить их, как в той бессмертной сценке у Мольера; Платон, Плотин, св. Бонавентура — какому античному или средневековому обывателю пришло бы в голову подтрунивать над ними!) Здравый смысл — благодарение Богу! — неистребим, и на каждого образованного комбинатора мысли всегда найдется не сильный в грамоте, но крепкий умом пересмешник, здоровым «чохом» ответствующий на всякого рода «словесную чушь» («Wortkram», как характеризует её где–то Гёте). Ярчайший пример, во мгновение ока освещающий суть сказанного: первая встреча Гёте с Шиллером, разговор о «перворастении», во время которого выяснилось, что самоучка Гёте, говоря об опыте, имел в виду идею, и возражение Шиллера: «Это не опыт, это идея». Моментальная реакция Гёте: «Значит я вижу идею». Поразмыслим над удивительной симптоматикой этого конфликта. Образованный кантианец Шиллер даже не вникает в суть услышанного; «трансцендентальный субъект» в нем, или, скажем предметнее, «аппарат латинского языка», автоматически фиксирует нарушение некоего правила. Спутаны «опыт» и «идея», а путать их нельзя, просто нельзя — «вот и всё»; ну что бы мы сказали о гимназическом учителе, читающем «Войну и мир» с красным карандашом, словно бы речь шла о школьном сочинении! Гёте, и знать не знающий ни о каких правилах (благодатная судьба спасла его от философской образованности), философствует инстинктивно и по существу, описывая свой опыт и доверяя только собственным переживаниям. Тут–то и возникает дилемма: либо усвоить правила комбинирования и твердо «знать» впредь, что одно — опыт, а другое — идея, но тогда придется распрощаться с самим собой и переключить собственную мысль на некий «автопилот», либо же к чёрту всякие правила, если они противоречат моему здоровому опыту, и тогда великолепно–упрямое: «А всё–таки она вертится», в гётевской редакции: «Значит я вижу идеи». Вижу сам, своим внутренним зрением, и никакие терминологические катаракты не заслонят мне увиденного. Ибо если мне математически докажут, что надо верить не своим глазам, а чужим словам, я предпочту шире раскрыть глаза и крепче зажать уши.
(Говоря в скобках, чтобы не соблазниться перспективами темы: а так ли уж грешил против правил «дилетант» Гёте, соединяя опыт и идею, и так ли уж прав был одергивающий его и подпавший в этом пункте «латинскому влиянию» его несравненный друг? Правота Гёте — пусть без ведома его, и тем лучше, что без ведома, — поддерживалась не только опытом забытой философской традиции, от досократиков до шартрских платоников, но и семантикой греческого языка, где «идея» и значит: «то, что видно»; за Шиллером стояла университетская традиция, и стоял Кант.)
Альтернатива, вытекающая отсюда, формулируется со всей жесткостью: нам предстоит выбирать между самостоятельным мышлением и мышлением, функционирующим в нас без нашего участия. Иначе, между мышлением, индивидуально переживаемым, и мышлением, сведенным к голой технике, которая, как энергично выразился однажды Гуссерль[176], «ни в чем существенном не отличается от игры в карты или в шахматы». «Философия свободы» — нужно ли об этом говорить? — рассчитана исключительно на первый случай; читать её, значит воссоздавать её в собственном опыте, то есть, впервые возникать на ней. «Мыслителям», погрязшим в комфорте второго случая и принципиально отказывающимся причаститься к самим себе, с книгой этой нечего делать.
Но — снова вспыхивает прежний вопрос — как же её читать? Книга, культивирующая самостоятельное мышление, требует аналогичной мыслительной способности и у читателя, а это значит, что «Философия свободы» еще до своего прочтения предполагает соответствующую подготовку. Мы находим эту подготовку в книге Штейнера «Истина и наука», вышедшей непосредственно перед «Философией свободы» и озаглавленной в подзаголовке как «Пролог к „Философии свободы“». Пролог теоретикопознавательный; центральная процедура книги — достижение беспредпосылочности познания путем радикального очищения сознания от балласта пассивно и механически усвоенных знаний[177] — вплотную подводит нас к адекватному усвоению «Философии свободы». Обратимся еще раз к приведенному выше примеру, чтобы конкретно понять, что здесь имеется в виду. Гёте, мало заботящийся о каких–то правилах игры, излагает Шиллеру свой опыт, который на поверку оказывается сверхчувственным. Шиллер поправляет его, говоря, что он перепутал опыт и идею. Гёте отталкивается не от терминов и категорий, а от индивидуально пережитого, которому он задним числом подыскивает термин («перворастение»). Шиллер отталкивается именно от терминов, и терминологически предписывает пережитому быть тем–то и тем–то. Термины суть «опыт» и «идея». В регламенте новой философии «идея» никак не могла быть предметом «опыта», а «опыт» посягать на «идею». Твердо придерживались правила: опыт есть всегда чувственный опыт, идея сверхчувственна и играет в познании не конститутивную роль, а регулятивную (этакий «аксакал» чистого разума, морально контролирующий сверху категориальную штамповку чувственных данных). Познание — рассудочная мысль — всегда обращено вниз, на опыт чувств[178]; если оно дерзает обратиться вверх, к сфере сверхчувственного, это значит, по Канту, что оно подпало соблазну злейшей «трансцендентальной иллюзии» и отказалось от научности в пользу метафизического шарлатанства[179]. Спрашивается: на каком, собственно, основании внушаются эти санитарно–полицейские правила? Отчего опыт вогнан в зону чувственного и может иметь дело только с «подсвечником, стоящим вот здесь, и табакеркой, лежащей вон там» (как убийственно охарактеризовал кантовский «опыт» Гегель[180])? Кто дал право этому юристу от познания считать шарлатанами тех, кто по природе наделен не вкопанной в землю мыслью, а перелетной? Вправе ли крот критиковать орлов и отказывать их орлиному опыту в реальности? Когда впоследствии Витгенштейн и другие назовут философию «болезнью языка», то — за вычетом отдельных нигилистических передержек этого диагноза — проблема будет схвачена здесь в самой своей сути. Именно болезнь языка: масса непережеванных понятий и категорий, расстройство мозговых желудочков, терминологический понос; что, как не воздержание и голодную диету, предписывает в таких случаях врач! Воздержание от всех догматически употребляемых терминов и суждений, великий логический пост сознания, волящего быть именно сознанием, а не номенклатурным автоматом, мечущим комбинации слов, — вот что значит беспредпосылочность, осуществленная в прологе к «Философии свободы». Говоря по аналогии: праксис монашеской аскезы, перенесенной с тела на мысль, но не как самоцель, а как временное средство терапии; современный гносеолог — подвижник мысли, очищающий её от дурных терминологических страстей, и гносеология Штейнера представляет собой в этом пункте возогнанный в логическое праксис «Добротолюбия». Продолжая аналогию: выбор мысли, стоящей перед сватающимися к ней понятиями и терминами — выбор юного Франциска: «La Poverta» — «Нищета»; евангельское «Блаженны нищие духом» допускает, как видим, и гносеологическую интерпретацию. Говоря конкретно: я не знаю ни что есть опыт, ни что есть идея, и уже по цепной реакции весь философский глоссарий, усвоенный мною с университетской скамьи: внешнее и внутреннее, субъективное и объективное, сущность и явление, случайное и необходимое, причинность, цель, вещь в себе, свобода воли, материя, дух, душа, тело, субстанция, акциденция, апперцепция; всё это я лишаю временно права голоса, не потому что сомневаюсь в значимости этого вообще, а потому что хочу сам мыслить их, а не быть у них в дураках или (это уж как повезет) в гениях. Да, сознание мое не должно оставаться пассивным экраном, на котором автоматически возникают всевозможные сочетания понятий и представлений, так что мне приходится лишь исполнять роль прилежного оператора, прикидывающегося… «мыслителем». Условие вполне однозначное: каждое из перечисленных выше понятий может быть допущено в мое очищенное сознание только после того как я приобрету соответствующий ему опыт. Таково единственное, по существу, правило, которое я вынужден принять, если намереваюсь мыслить сам, а не потому, что случайно научился этому; только тогда может философия перестать быть болезнью языка и стать действительным познанием. Разумеется, из сказанного никак не следует, что правилу этому следует подчиняться с тупой педантичностью буквоеда; в живом праксисе становления мысли его придется нарушать едва ли не на каждом шагу. Но, даже нарушая его, важно помнить: если я по случаю употребляю термин или высказываю суждение, не имеющее пока за собой опытной основы, то делаю я это не слепо, а вынужденно и скорее всего эвристически — в кредит будущему опыту и как бы в накликание его. Здесь, в этой точке, «как» «Философии свободы» совпадает с её «что», то есть, учась адекватно читать её, мы усваиваем уже её содержание.
* * *
Основная тональность книги задана в её подзаголовке: «Результаты душевных наблюдений по естественнонаучному методу». Подзаголовок внешне имитирует (и эпатирует) гартманновскую «Философию бессознательного» с предпосланным ей мотто: «Спекулятивные результаты по индуктивно–естественнонаучному методу». Эдуард фон Гартманн — «умнейший муж века», как назвал его однажды Штейнер — основной оппонент и, возможно, наиболее выдающийся из всех «латинских двойников» молодого Штейнера; «Философия свободы» в этом ключе и на противофоне гартманновской «Философии бессознательного» писалась именно как «философия сознательного» (полемика с Гартманном, явная и скрытая, охватывает тут множество страниц). Что же лежит в основе различия или, скажем так, энгармонического равенства подзаголовков обеих книг? Прежде всего необходимость не диссонировать с познавательными тенденциями эпохи. Естественнонаучное познание со второй половины XIX века солирует в концерте мировоззрительных дисциплин, и не считаться с ним, отдаваясь давно изжитым навыкам метафизических или мистических умозрений, значило бы выпасть из ритма исторических модификаций. Так, с одной стороны. С другой стороны, всё очевиднее проступала угрожающая тенденция одеревенения этого познания в материалистическом толковании; становилась обычной картиной ситуация естествоиспытателя, способного на великие открытия и жалкие их интерпретации (случай Геккеля), причем с внешней популярной точки зрения интерпретации выглядели настолько прилипшими к открытиям, что возникала иллюзия их органического единства. Вставала неизбежно порочная альтернатива: либо впрягать естествознание в ярмо материализма, либо же, не приемля материализма, дискредитировать и естествознание; водораздел между «университетом» и «богемой» расщеплял в этом пункте единство культурной жизни на две бессильно тягающиеся друг с другом половины. Несомненным было одно: борьба вокруг естественнонаучного познания оборачивалась борьбой за дух, где духу предстояло либо углубить данные научного материализма до нового выхода в духовное (но уже не поэтически–духовное, а научно–духовное), либо же самому застрять в этих данных и патологически принимать себя за… свойство высокоорганизованной материи. Вот что означает ориентация на «естественнонаучный метод» в подзаголовках обеих — гартманновской и штейнеровской — книг: форма мысли и ход мысли следуют здесь в строжайшем соответствии с эмпирическими процедурами природопознания. Раскол знаменуется содержательным планом: Гартманн подчиняет эмпирику наблюдения спекуляции, то есть, чисто априорному умозрению, в итоге, всё тому же обремененному предпосылками мышлению, которое с такой же экзистенциальной отчужденностью обрабатывает теперь физические данные, с какой прежде (скажем, у Декарта или Спинозы) оно обрабатывало данные метафизические. Этой спекуляции Штейнер противопоставляет душевное наблюдение, или чисто внутреннее переживание мыслительного процесса, описываемое на естественнонаучный лад. Метод исключительный не только по новизне, но и по экзистенциальной надежности; нам удалось бы, пожалуй, на мгновение приоткрыть всю его неповторимость, если бы мы прибегли к скрещению двух несколько неожиданных аналогий. Надо представить себе Галилея, который переключил бы внимание с факта, скажем, падающих тел на процесс собственного мышления и делал бы свое дело чисто по–галилеевски, нисколько не считаясь с кантианскими окриками, как не считался же он и тогда с окриками схоластическими, предоставляя самому объекту раскрывать свою природу[181]. И надо представить себе, с другой стороны, Мейстера Экхарта, который в самой углубленной точке своих «Проповедей» вдруг перешел бы с темы Глубины и Молчания на… основной биогенетический закон и соответственно изменил бы стиль и форму изложения. В более поздней книге Штейнера о мистике это будет сформулировано самым радикальным образом[182]: «Только тот может достичь полного понимания фактов природы, кто познает дух в смысле истинной мистики». И дальше: «Мейстер Экхарт, как и Таулер, а также и Яков Бёме, как и Ангел Силезский, должны были бы ощутить глубочайшее удовлетворение при взгляде на это естествознание. Тот дух, в котором они хотели рассматривать мир, в полнейшем смысле перешел в это наблюдение природы, если только верно понимать последнее. […] Правда, многие теперь думают, что пришлось бы впасть в плоский и сухой материализм, если просто принять найденные естествознанием „факты“. Я сам стою вполне на почве этого естествознания. Я ясно чувствую, что при таком рассмотрении природы, как у Эрнста Геккеля, только тот может опошлить его, кто уже сам подходит к нему с миром плоских мыслей. Я ощущаю нечто более высокое и более прекрасное, когда даю действовать на себя откровениям „Естественной истории творения“, чем когда мне навязывают сверхъестественные чудесные истории различных вероучений. Ни в одной „священной“ книге я не знаю ничего, что раскрывало бы мне такие возвышенные вещи, как тот „сухой факт", что каждый человеческий зародыш в чреве матери последовательно повторяет вкратце все животные формы, через которые прошли его животные предки». Заметим: это говорит человек, уже пожертвовавший своей свободной профессией не связанного никакими внешними формами писателя ради теософского «ангажемента»[183]; чрезвычайная резкость формулировок, подчеркнуто вызывающих и подчеркнуто неосторожных, — прием, напоминающий правило Стендаля в столь недавней еще великолепной пробе Ницше: ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. Если кто–либо из нас способен вообще понять, что значило для автора «Философии свободы» вступление в Теософское общество, к чему он — подчеркнем это со всей силой — был вынужден во спасение всё той же «Философии свободы», дабы она не осталась «переживанием отдельного человека», а вошла в мир[184], тому эта резкость покажется не только тактически оправданной, но и единственно правомерной. Должны же были — продолжим мы в аналогичном ключе — эти длинноволосые святоши и конспираторы гималайских тайн, будущие «дяди» и «тетки» Антропософского общества, знать, с кем им предстоит иметь дело!… Но за частностями тактического поведения проступали мощные контуры прокинутой в будущее стратегии: «Результаты душевных наблюдений по естественнонаучному методу», где душа, ориентирующаяся на естествознание, не могла уже впадать в трансы всякого рода мистических ощущений, а естествознание, интерпретируемое душой, последовательно углубляло сухие факты природы до вы–блесков духовного опыта.
«Познайте истину, и истина сделает вас свободными» — это глубочайшее евангельское слово легло в основу композиции книги, каждая из обеих частей которой реализует поступенчатость самого изречения: «познайте истину» — «Наука свободы», и «истина сделает вас свободными» — «Действительность свободы». Ибо только истина приводит к свободе; вымороченная в веках философской традиции и уткнувшаяся в неизбежный тупик философской апоретики проблема «свободы воли» предстает как очередная болезнь языка — по существу, «воля» подставлена здесь вместо «мысли», так что говорить следовало бы о свободе мысли, а не о свободе воли. Ибо воля именно — несвободна, или, скорее, её свобода загадана в освобождении самой мысли от чувственных шлаков и уже потом в абсолютной идентификации обоих элементов, где мысль и воля даны не раздельно, а слитно, как мыслеволие и волемыслие целостного познающего и действующего субъекта. Скажем это уже здесь, предвосхищая будущие выводы анализа: действительность свободы, не предваренная наукой свободы, рискует стать всем, кроме настоянной на истине свободы. Ибо свобода, понятая как раскрепощение воли от насильственно привитых внутренних и внешних конвенций, есть псевдосвобода, освобождающая человека от морального рабства, чтобы закабалить его рабством инстинктов; раскрепощение воли, то есть, бессознательной темной стихии равно воцарению хаоса и произвола. Настоящая свобода начинается с раскрепощения мысли; мысль — единственное игольное ушко, сквозь которое открываются перспективы человеческой свободы. «Познайте истину» — это значит: усвойте собственную мысль, дабы мысль стала вашим вожатым на путях к истине, которая и «сделает вас свободными».
И вот что впервые узнается нами в этой науке свободы: в мышлении мы совершенно не зависим от внешнего мира (включая и нашу собственную физиологию, которая принадлежит всё еще к внешнему миру). Всё остальное — весь непосредственный образ мира — мы получаем извне, через внешние органы чувств; мысль — единственное, что дано нам автономно и без какой–либо соподчиненности телесным и душевным процессам. Самое существенное здесь то, что это первое узнание мысли есть не догматически констатируемое априори, а опыт в самом прямом эмпирическом смысле слова, но опыт, как это явствует из специфики его предмета, не чувственный, а сверхчувственный. Отсюда вытекает очевиднейшее условие: не спорить, а проверять; все возражения дипломированных философов против «Философии свободы» обречены на бессмысленность до тех пор, пока в основе этих возражений будет лежать не эмпирическая уверенность в лично пережитом, а пустое бряцание рационалистическими кимвалами. «Когда появилась моя „Философия свободы^ — вспоминал позднее Штейнер[185], — меня раскритиковали как самого несведущего начинающего писателя. Среди критиков был господин, которого побуждало писать собственные книги только то, что он не понял бесчисленного множества чужих. Он глубокомысленно поучал меня, говоря, что я заметил бы свои ошибки, если бы „глубже изучил психологию, логику и теорию познания“; он тут же перечислил мне книги, которые я должен прочесть, чтобы стать таким же умным, как он: „Милль, Зигварт, Вундт, Риль, Паульсен, Б. Эрдман“». Позитивизм оттого и ставит мысль на костыли чувственности, что, стремясь во всем держаться опыта, догматически сводит опыт только к чувственным данным. Между тем суть философского критицизма состоит как раз в том, чтобы не принимать ничего на веру без предварительного прогона через контроль сознания. Этот критицизм, потопленный Кантом в бесчисленных уступках догматизму, был впервые во всем объеме реализован штейнеровской феноменологией мысли. Мы строго держимся здесь опыта, не связывая его заведомо всякого рода ограничениями, но доверяясь ему и контролируя его собственной здоровой силой суждения. Постепенно выясняется, что наш опыт многоступенчат и, если угодно, иерархичен; первая ступень опыта — данность непосредственного мировосприятия при отсутствии каких–либо категориальных упорядочений воспринятого (на понятия, ввиду их еще–не–осознанности, наложено — мы знаем уже — временное вето). Данность чистого восприятия — данность хаоса; о познании на этой стадии опыта не может быть и речи, но налицо — воля к познанию: сознательная мысль, в отличие от просто рассудочной, не есть, а становится, и, как становящееся, она всегда волюнтаристичнаи императивна, а не пассивно–дискурсивна; иначе, познание в ней всегда аффицируется волей, неким изначально–демиургическим «да будет!» — в контексте данной стадии опыта, где дискурсивности, лишенной права априорного вмешательства, нечего делать с эмпирикой чувственных данных, речь может идти только о «да будет!» самого познания, которое иначе — не состоится. Держаться опыта, значит не выходить за пределы данности; данность же непосредственного образа мира насквозь хаотична. Тогда мы спрашиваем себя: нет ли в этой данности чего–то такого, с чего могло бы начаться познание? Ибо до тех пор, пока мы пассивно глазеем на данное, познание не может начаться. Оно начинается тогда, когда в самой этой данности мы находим некую более высокую данность: данность мысли, в обнаружении которой наш опыт качественно расширяется до сверхчувственного. Мы видим, что понятие — это не пустая категориальная форма кантовской аналитики, а форма, через которую в нас вливается содержание мира. Познание — соединение обеих половинок данности: чистого восприятия и чистого понятия, когда к данности чувственного опыта мы подыскиваем соответствующую данность опыта сверхчувственного. В кантовском категориальном синтезе рассудочной формы и чувственного содержания нам явлена некая карикатура познавательного акта. В наглядной схеме карикатура эта выглядела бы приблизительно следующим образом: чувственное восприятие идет «от» вещей («в себе») «к» голове, понятийная форма — «от» головы «к» (трансцендентально эстетизированным) вещам. Коварный призрак старой элейской черепахи вновь и в который раз вынуждает познание к логическому фокусничеству: ибо злосчастной ахиллесовой голове никак не суждено угнаться здесь за непознаваемыми черепахами вещей. Голова, доверяющаяся не школьной традиции, а опыту, вырывается из этого транса и постигает: форма, находящаяся «в» ней, — лишь оболочка мысли (пустое кантовское понятие); сама мысль находится «в» вещи, как сущность её и смысл, и задача познания — извлечь её «из» вещи и понять тем самым саму вещь, подыскав ей нужное понятие[186]. Акт голого «извлечения» — это еще не познание; содержание мира предстает здесь в хаотическом виде, поскольку оно еще не понято, то есть, не соединено с понятием. Только через мышление содержание это приобретает осмысленность и упорядоченность; в непосредственном восприятии нам дана лишь чувственная (и постольку хаотическая) его сторона. Отсюда небывалый, изумительный опыт «Философии свободы»: ЖИВЯ В МЫСЛИ, МЫ ЖИВЕМ ВО ВСЕЛЕННОЙ — опыт, уже чреватый всей палитрой красок будущего умного оккультизма. Ибо повторим еще раз: если мысль, сведенная к понятию, и понятие, в свою очередь сведенное к пустой априорной емкости, должны были компенсироваться шумными успехами «пупочного», с позволения сказать, познания, то философам, вознамерившимся защищать в этой нечистой игре права чистого разума, приходилось ломать голову над нелепейшей загадкой, достойной самого решительного психиатрического вмешательства: если вещь находится «вне» головы, а мысль «в» голове, то каким образом обеспечивается выхождение мысли «из» головы и вхождение её «в» вещь? Понятно, что такое фокусничество могло исходить только из мистического «пупка», облекающегося в респектабельно–категориальные формы типа «вчувствования», «симпатии» и т. п., чтобы не уронить марку факультета. Мысль — безнадежно отчужденная от мира и запертая в черепной коробке — оставалась попросту не у дел. Приговор Давида Юма, казалось бы, не подлежал никакой кассации: «Мы можем направлять наш взор на бесконечные дали, — говорит Юм[187], — можем уноситься воображением до небес, до последних границ мироздания, но мы всё же не выйдем ни на шаг за пределы нас самих, никогда не узнаем иного рода бытия, кроме представлений, возникающих в узком круге нашего Я». Ответ «Философии свободы», предельно ясный и энергичный: вся эта патетика не имеет к мысли никакого отношения. Мысль — человеческая и космическая (как выяснится позже) — находится изначально «вне» нас и «в» самих вещах; повторим во избежание недоразумений: МЫСЛЬ, а не её понятийная форма. Аффицируя только наши органы чувств, она предстает нам в гилетическом потоке разрозненных восприятий, и лишь соединяясь со своим «головным» — понятийным — репрезентантом (ошибочно отождествленным с мыслью собственно), впервые являет нам полную действительность. Познание в этом смысле есть не что иное, как опознание мыслью её собственной объективности, данной до понятийного оформления именно в субъективном образе мира, и оно же есть по сути причащение вещи к собственному смыслу через самовыражение сущности вещи в понятийной форме. Ибо давайте непредвзято промыслим цепь следующих восходящих по сложности аналогий. Когда мы силимся понять какой–нибудь рукотворный предмет (так называемый артефакт), мы знаем, что понять его, значит понять его устройство. Что же, однако, представляет собою само это устройство, как не опредмеченную в неммысль сотворившего его мастера! Часовой механизм — это мысль часовщика, объективированная в вещь; понять эту вещь и значит понятийно извлечь из неё реализованную в ней мысль. Но перейдем теперь от вещей искусственных к вещам естественным: что значит мысленно пережить, понять камень, растение, любой природный факт? Опять же понять их устройство, и, стало быть, опредмеченную в нихмысль, на сей раз, впрочем, не человеческую, как в случае с часовщиком, а космическую, ту самую, которую мы смутно предполагаем всякий раз, говоря о «творческих силах природы». Но творческие силы природы, что это — просто расхожая метафора или факт? Увы, мы избегаем вопроса, растянувшись в шезлонге удобнейшего рассудочного резонерства; мы говорим себе: «просто творческие силы природы — вот и всё» — на этом «вот и всё» лопается, как мыльный пузырь, вся наша познавательная активность, будь мы рядовыми философами или философами всемирно прославленными, вроде автора знаменитой «Творческой эволюции», умудрившегося написать талантливейшую книгу без единого намека на то, кто же собственно творит в этой эволюции и что здесь собственно творится. Свободная и беспредпосылочная мысль, крещенная в купели «Философии свободы», не остановится и перед этим опытом; творческие силы природы откроются ей во всей конкретности переживаемого факта — как творческие мысли поименных Космических Иерархий, манифестирующиеся в явлениях природы. Опыт чистой мысли совпадет здесь с опытом чистой мистики и тайноведения — без всяких «пупков» и идиотически раздуваемых таинственностей; традиционно оккультная номенклатура вступит, наконец, в свои права, и предложит нам на выбор богатейший ассортимент символов и технических терминов, восточных, западных, африканских или новозеландских — всё равно. Рудольф Штейнер в одной лекции 1905 года[188], стало быть еще в «теософский» период своей деятельности, следующим образом продемонстрировал эту технику перевода «Философии свободы» на традиционно теософский язык: «Изложенное мною здесь вы найдете там выраженным в терминах западной философии. Вы найдете там развитие от Камы до жизни в Манасе. Ахамкара обозначена там мною как „Я“, Манас — как „более высокое мышление", чистое мышление, а Будхи […] как „моральная фантазия". Всё это суть лишь различные выражения одной и той же вещи». Но давайте представим себе иную картину, когда опыт мысли, столкнувшейся с «творческими силами природы», не пробивается к конкретному переживанию, а останавливается на упрямо–трусливом «вот и всё». Представим себе, что такому остановившемуся философу попадает в руки мистическая литература, скажем Дионисий Ареопагит. «Что за чушь!» — воскликнет он, пробежав глазами несколько страниц. «Блаженны, — воскликнет он в лучшем случае, — все верующие в этих Ангелов, Архангелов, Архаев и прочая!» Его терминологический слух, воспитанный на привычно философских и естественнонаучных понятиях, отказывается иметь дело с подобными сказками. (Как будто не он почтительно замирает перед сказками математической физики с её «волновыми пакетами», «черными дырами» и «очарованными частицами»!) Спору нет: для него это именно сказки, вот и всё. Но представим себе теперь, что ему удалось бы раскантианизировать свою мысль и проработать её в духе «Философии свободы». Тогда «творческие силы природы» предстали бы ему не в заколдованном круге познавательного дезертирства, а как изумительное и неназванное переживание мысли, в котором он опознал бы объективное присутствие Космических Сущностей. Вот тут–то и ахнул бы он, наткнувшись на Дионисия Ареопагита: «Так вот оно что! Да это же то, что я пережил мысленно и для чего не смог подыскать соответствующего философского понятия!» Философия и естествознание трансформируются тут в духовную науку, которая нисколько не противоречит физическому эксперименту, но напротив как раз углубляет его до сущностного самообъяснения. Ведь фактически и по существу любой физик, геолог, биолог, естествоиспытатель практикует уже бессознательный оккультизм, или, выражаясь с крупицей мольеровской соли, говорит, сам того не ведая, прозой. Вопрос в том, будет ли его мыслительный уровень соответствовать уровню его экспериментальной или теоретической техники? Иначе, предпочтет ли его мысль позитивистическому шезлонгу путь «Философии свободы»? Если да, то только это и станет настоящей победой над материализмом и самореализацией познания. Если же нет, то всё равно: оккультизм, выгнанный через дверь, влезет–таки через окно, на этот раз в уродливейших формах. Смятенные физики заголосят–таки о «рудиментарной сознательности элементарных частиц», а их не менее смятенные коллеги–биологи и вовсе станут пропадать на сеансах«трансцендентальной медитации»…
Цепь аналогий продолжается дальше. Выясняется, что опыт мысли, прослеженный до сих пор, имел дело со сверхчувственной основой чувственного. Еще шаг, и мысль погружается в чисто духовное, в сферу, переживание которой обозначается в оккультизме техническим термином «испытание воздухом». Здесь уже приходится опираться не на чувственные манифестации духовного, а на самое себя. Потрясающий опыт некой перевернутой зеркальной симметрии ожидает тут мысль, когда она опознает себя уже не в понятийной форме, ищущей соответствующих чувственных данных, а как ОРГАН ВОСПРИЯТИЯ. Ибо если, обращенная к чувственному миру, мысль сталкивалась с восприятиями, которым недоставало нужных понятий, то теперь, повернутая к миру духовному, она ощущает себя понятием, которому недостает как раз нужного восприятия. Эту зону мысли Кант обозначил как Grenzbegriff, отрицательно мыслимое демаркационное понятие, и наложил запрет на выхождение за её пределы; инстинктивный страх перед духовным познанием сказался тут со всей силой. Ведь если познание всегда осуществляется через синтез понятия и восприятия и если в случае чувственного мира речь идет о чувственных восприятиях, то познание духовного мира требует соответственно сверхчувственных восприятий. Мысль «Критики чистого разума», отождествившая себя с пустой логической формой, в ужасе отшатывается от таковых; мысль «Философии свободы», всегда интуитивная, а значит, соединяющая в себе форму и содержание, только и взы–скует таковых. Мысль как орган восприятия; по аналогии с глазом, воспринимающим цвет, и ухом, воспринимающим тон, мы говорим: если цвет и тон суть объекты восприятия для глаза и уха, то и мысль имеет свои объекты восприятия, не менее реальные, а при достаточном опыте и более реальные, чем цвет и тон, и эти объекты восприятия мысли суть идеи. Идеи — повторим это тысячу раз — не вычитанные из какой–либо «священной книги» или услышанные из каких–либо авторитетных уст и оттого оборачивающиеся пустыми идолами, калечащими жизни и судьбы; идеи, увиденные, услышанные, пережитые лично и уже преображенные в идеалы, по которым ориентируется жизненный праксис. Почитатели молодого Штейнера–философа в недоумении отворачивались позднее от Штейнера–тайноведа; теософские поклонники Штейнера закрывали глаза на Штейнера–методолога и гносеолога. Одним казалось невозможным, чтобы человек, столь строго следовавший естественнонаучному стилю, вдруг стал говорить об «Акаша–хронике» и таинствах жизни после смерти; другие никак не могли примириться с тем, что «величайший оккультный учитель» был в молодости почитателем… Эрнста Геккеля и Фридриха Ницше. Между этими полюсами недомыслия — Ахиллесом, отстающим от черепахи, и черепахой, уверовавшей в свою необгоняемость, — лежала одна непрочитанная книга.
* * *
Характерно: возражения, записанные Э. фон Гартманном на полях посланного ему Штейнером экземпляра «Философии свободы», начинались с титульного листа. Следовало бы, по Гартманну, озаглавить книгу так: «Теоретикопознавательный монизм и этический индивидуализм». Что этот гартманновский вариант в буквальном смысле довольно точно отражает композиционный корпус книги, не подлежит сомнению, как не подлежит сомнению и то, что в этом буквальном отражении упущенным оказался её высший и по сути единственный смысл. Гартманн мотивирует свои возражения, в частности, тем, что разбор свободы не занимает здесь «скольконибудь существенного места». Поскольку же под определенным углом зрения проблематика книги охватывала тематический круг всех трех кантовских критик (познавательную тему «Критики чистого разума» в первой части, этическую тему «Критики практического разума» во второй и тему свободы «Критики способности суждения», объединяющую первые две), то синтетическое заглавие её как бы намеренно разлагается Гартманном на аналитические составные части, именно: познание и мораль. Разбору свободы — в традиционном смысле — здесь как бы и в самом деле не остается места. Ибо традиционно разбираемая свобода не умещалась ни в теории познания, где господствовала логическая необходимость, ни в морали, где господствовала необходимость этическая; предоставленная ей топика ограничивалась либо специально метафизическими трактатами, либо сугубо теологической проблематикой, либо же — на худой конец — чисто эстетическими задворками, как, скажем, посильная интерпретация формулы, изреченной в свое время Павлом III в связи с окаянствами Бенвенуто Челлини: «Знайте, что такие люди, как Бенвенуто, единственные в своем художестве, не могут быть подчинены закону». Реакция Гартманна на заглавие книги и уже на её содержание вполне ответствовала традиции; что ускользнуло от него, так это небывалость и новизна подхода. Топика свободы в «Философии свободы» занимает центральное место именно в регионе познания и регионе морали, связуя оба региона «не подчиняющимся закону» художеством. Переход от первой части книги ко второй Штейнер обозначил однажды как «путь от этически нейтрального естествознания к миру нравственных импульсов»[189]. Если что–либо могло в корне противоречить традиции Нового времени, то именно этот переход; познание и мораль выглядели к концу XIX века настолько гетерогенными и отчужденными друг от друга, что примирение их на практике оказывалось по плечу разве что самому отъявленному ханжеству и лицемерию. Повторялась классическая парабола о двух руках, одна из которых посильно восстанавливала то, что упоенно разрушала другая. Этически нейтральное естествознание машинально дополнялось познавательно нейтральной моралью: уже Декарт мог атеистически свирепствовать в своих естественнонаучных конструкциях и одновременно совершать паломничество к Сан—Лореттской Богоматери; уже Ньютону приходилось совмещать свой обезбоженный Космос с привычкой обнажать голову при упоминании Бога — куда более честным и мужественным оказался бравый кавалер Лаплас, посмевший ответить на вопрос Наполеона о Боге: «Ваше Величество, я не нуждался в этой гипотезе», и куда более трусливым его соавтор по космогонии, всё тот же лукавый Кант, научно изгнавший из человека призрак бессмертной души, разоблачив её как шарлатанство, и заставивший человека морально верить в это шарлатанство! В итоге: познание без морали оборачивалось сплошным естественнонаучным «Содомом», мораль без познания — сплошной дрессировкой и солдафонским «так точно!». Что может быть патологичнее современной характерной картины, когда лауреаты Нобелевской премии сначала выполняют «госзаказы» по ликвидации планеты, а потом скопом и врозь подписывают жалкие петиции о «моральной ответственности ученого»! Честно признаемся себе: если познание без морали — это «Система природы» Гольбаха, то моральной отрыжкой такого познания может и должен быть… маркиз де Сад, впрочем и в самом деле открыто исповедовавший «гольбахианство»[190].
Вот во что вырождалась мораль, лишенная познавательной основы! Но очевидно, что прежде должно было выродиться само познание: этически нейтральное естествознание, которому за отсутствием притока имманентных нравственных импульсов не оставалось ничего иного, как «утекать» в технику и инженерную смекалку, чтобы потом покаянно бряцать бессильно моральными погремушками. Понятно, что жизнеспособность морали зависела от жизнеспособности самого познания; свобода, перепрыгивающая через познание и силящаяся реализовать себя сразу в морали, неизбежно оборачивалась свободой от морали. Возникала роковая альтернатива: аморальной свободы и несвободной морали. Смертельный удар, нанесенный этой последней Фридрихом Ницше, прокидывался уже перспективами тотального нигилизма. Вспомним жуткий прогноз Ницше, назвавшего себя однажды «самым независимым человеком в Европе»[191]: «То, что я рассказываю, есть история ближайших двух столетий. Я описываю то, что надвигается, что не может уже надвигаться иначе: восхождение нигилизма»[192]. И еще этот взрыв пароксического самосознания[193]: «Я знаю свой жребий. Когда–нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем–то чудовищном — о кризисе, какого никогда не было на земле, о самой глубокой коллизии совести, о решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили, чего требовали, что считали священным». Самая глубокая коллизия совести: выбирать между честным нигилизмом и бесчестной моралью и отдавать предпочтение нигилизму как раз потому, что в глубине души остаешься моральнейшим из людей (Ницше — «маленький святой», «ilpiccolo Santo», в оптике не читавших его книг случайных путевых знакомых); садистические консеквенции выбора, толкнувшие Сада в праксис порока и преступления, повернуты у Ницше внутрь — жало чудовищно неконтролируемой свободы дожалило–таки его до сумасшествия… Это ницшевское сумасшествие и трансформируется Штейнером в небывалое душевное здоровье; но сумасшествие Ницше оказывалось по существу уже не личной судьбой «безбожника и крысолова» Ницше, а потенциальной судьбой эпохи, навсегда потерявшей в Ницше свое сомнительное викторианское здоровье. И вот что нелепо: автора «Философии свободы» считали… ницшеанцем; кильский профессор Фердинанд Тённис (один из будущих «столпов» немецкой социологии) развил даже эту тему в довольно развязной форме. Нелепость, впрочем, вполне извинительная, если учесть, что дело шло об очередном профессорском недоразумении; но связь этой книги с Ницше и разрешение в ней глубочайшей коллизии совести принадлежит при всем том к числу наиболее уникальных духовных событий Нового времени: здесь впервые было продемонстрировано искусство «философствования молотом», без того чтобы сам философствующий сходил с ума. В цитированном выше письме к Розе Майредер об этом сказано со всей недвусмысленностью: «[…] мне больно, что Ницше не может больше прочитать мою книгу. Он принял бы её такой, как она есть: в каждой строке как личное переживание». И еще определеннее в почти одновременном письме к Паулине Шпехт[194]: «Заболевание Ницше причиняет мне особенную боль. Ибо я твердо убежден, что моя „Философия свободы" не прошла бы для Ницше бесследно. Целое множество вопросов, оставленных им открытыми, нашел бы он у меня в их дальнейшем развитии, и наверняка согласился бы со мною в том, что его моральная концепция, его имморализм лишь увенчивается моей „философией свободы", что его „моральные инстинкты", надлежащим образом сублимированные и прослеженные в своих истоках дают то, что фигурирует у меня как „моральная фантазия". Эта глава о „моральной фантазии" моей „Философии свободы" в прямом смысле слова отсутствует в ницшевской „Генеалогии морали", несмотря на то, что всё содержание последней намекает на неё. И „Антихрист" является лишь особым подтверждением этого моего взгляда». Заметим мимоходом, чтобы раз и навсегда покончить с недоразумениями: не о ницшеанстве Штейнера следовало бы говорить, а — если уж на то пошло — о «штейнерианстве» Ницше, так и не дотянувшегося до своей «Философии свободы», хотя и пожертвовавшего всем, чтобы книга эта могла быть написана. Разрывная тоска Ницше, тоска по беспредпосылочности и освобожденности морали, обнаженным нервом вымучивающая каждое его выдергивание коренных моральных ценностей («Мы должны освободиться от морали, — так обронил он однажды, — чтобы суметь морально жить»[195]), нашла в «Философии свободы» удивительно кристальное разрешение. Самому Ницше она обернулась черной дырой невменяемости. Беспредпосылочность морали, не предваренная беспредпосылочностью познания, оскалилась гримасой нигилизма и цинизма. Ибо что есть нигилизм, настоянный не в темном погребе хайдеггеровских интерпретаций, а в свете познания, как не та же беспредпосылочность, только смещенная из сферы мышления в зону чувствований и воли и оттого выглядящая уже не рабочей познавательной процедурой, а просто разрушительной страстью? Трагедия Ницше — трагедия лингвистически соблазненного гностика, сделавшего ставку на стиль и фехтующего острой афористической шпагой против адской «бронетехники» изощреннейшей лжи. Правило Павла: «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Коринф. 2, 15) обернулось здесь просто какой–то пародией, ибо судящий о всем был в этом случае именно душевным, и оттого судить о нем не возбранялось в скором времени даже приказчикам; что удивительного в том, что от приказчиков было уже и рукой подать до… психиатров. А между тем речь шла именно о чистейшей воды гнозисе, колоссальных духовных задачах, потопленных–таки в «шуме и ярости» артистически разошедшейся душевности; путь от душевности вел уже прямо в прорвы светских сплетен и кривотолков, в безвкусицу бульварных романов, в тупую фельдфебельскую однозначность. Вот чем оборачивалась беспредпосылочность, избегающая теории познания и разбазариваемая в «веселой науке»; когда Ницше возвещает, скажем, «смерть Бога», то в этой нарочито театральной формуле зашифрованы не судьбы оскудевшей метафизики Запада, как гласят нам одни интерпретаторы, ни тем более плоская патология религиозного атеизма, как гласят другие, а всё то же требование беспредпосылочности, роднящее «безбожника» Ницше не со всякого рода «печальными демонами», а… с Мейстером Экхартом, который по–своему и не менее радикально сформулировал ницшевский тезис в удивительных словах: «Я молю Бога, чтобы он освободил меня от Бога»[196]. Но Экхарт на то и был «мейстером», что не сделал слова эти лакомством для базарных мух, тогда как ницшевская формула остается таковым вот уже больше столетия. И когда мы читаем у Штейнера в предисловии к его книге о Ницше, что независимо от Ницше и на иных путях, чем Ницше, пришел он (Штейнер) к воззрениям, созвучным с ницшевскими, то под созвучностью разумеется здесь, конечно же, прежде всего беспредпосылочность, а под иными путями — пути мышления и теоретикопознавательного подхода к проблеме свободы. Ибо никому не дано вкусить действительность свободы, не пройдя заведомо нелегкой выучки науки свободы. Путь к морали лежит через познание, и свобода, начинающаяся не с освобождения мысли, а сразу же высовывающаяся в зоне инстинктов, чувств, воли, есть двойник свободы, заражающий субъекта некой одержимостью свободы, при которой свободным провозглашается любое «я хочу» — от «хочу» бить стекла до «хочу» — хрюкать. Имагинация такой свободы — противообраз евангельской притчи о бесноватом из Гадарры: не дух нечистый вгоняется здесь в свиней, а дух свинский умножает собою нечистый. Единственно правомерное «хочу», смогшее бы на этой стадии вывести нас к подлинной свободе, гласит: хочу познания. Тут–то и начинается в нас праксис освобождения мысли от прилипших к ней терминологических самозванцев; свободная мысль, опознавшая в себе творческие силы мироздания, осознает себя как ДОЛГ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед Вселенной, которую она уже не только познает, но и созидает. Мы говорим о человеке: он свободен, если в своих поступках он ведет себя сообразно собственной природе и не понуждаем никакими внешними предписаниями. Эта высочайшая истина моментально окутывается тьмой недоразумений и кривотолков, когда в основе её лежит не чистая свободная мысль, а чувства, инстинкты, темные волевые порывы. Целые толпы первых встречных, от вчерашних еще маменькиных сынков до прожженных авантюристов, отталкиваются от неё, трубя на весь мир: вот и мы действуем сообразно своей природе, которая изживается так и сяк, и, следовательно, мы свободны! Но в этой такой–сякой свободе нет и грана свободы, а есть лишь наглость вольноотпущенников, выпрыгнувших из моральной клетки, чтобы плюхнуться в лужу аморальных влечений. Ибо для того чтобы жить сообразно собственной природе, надо природу эту знать, и знать не в низшей эгоистической личине капризного своеволия, а в первородстве. Что же станет с миром, если миллионы таких своевольных природ начнут сталкиваться в утверждении собственных «так» и «сяк»? — гоббсовская «война всех против всех», по существу лишь «война мышей и лягушек». Но узнать собственную природу и значит, научиться самостоятельно мыслить, то есть, обнаружить в мысли содержание мира и понять: в мысли я не только созерцаю развитие Вселенной, но и принимаю в нем деятельное участие. Мышление открывает мне не только вход в мастерскую Божественных Иерархий, но и выход из неё обратно в мир в качестве уже не блаженного соглядатая, а сотрудника, обремененного тяжестью мировой ответственности, но и несущего её со всей легкостью эвритмического жеста. «Бремя мое легко есть» — слово Спасителя, изумительный смысл которого рассвечивается впервые именно в момент такого познания. Но ведь более чем очевидно, что эта мысль уже не есть только мысль, а есть и воля, где отныне каждое «я хочу» изживается не в колесе капризов и настроений, а сообразно собственной божественной природе, бывшей некогда откровением и ставшей нынче опытом.
И отсюда взрыв новой возрожденной свободной морали: праксис моральной фантазии, этой, пожалуй, самой ослепительной из всех жемчужин, рассыпанных в «Философии свободы». Такие страницы пишутся раз в тысячелетие, и если на них не сразу откликаются на земле, то отклик небес раздается во мгновение ока, и отклик этот равен, по прекрасному слову Достоевского, «громовому воплю восторга серафимов». Я не знаю, что происходило на земле, когда писалась эта книга, но я знаю, что ни в одной точке земного шара небеса не стояли так близко к земле, как в той, где она писалась. Подумаем же о том, что здесь случилось, но прежде вспомним, что же было раньше. А раньше была мораль, которой можно было следовать или не следовать, которую можно было соблюдать или нарушать, в которой можно было усердствовать или не обнаруживать особого рвения, но от которой ни одному сколько–нибудь значительному, сколько–нибудь живому и «вкусному» человеку не дано было — скажем так — не зевать. Какая же дьявольская изощренность потребовалась для того, чтобы придать возвышеннейшим по сути своей истинам такой до неприличия скучный и пресный вид — на радость «тетушкам» всего мира и на потеху их «племянникам–сорванцам»! Мораль–как–казарма, мораль–как–дрессировка, мораль–как–пугало — это еще куда ни шло; тут можно было еще возмущаться, тягаться, бросать перчатки и упрямиться. Но мораль–как–зевок, мораль–как- средство от бессонницы, мораль–как–целомудрие начитанной и фригидной уродки — тут уже бессильно опускались руки. Въедливый Василий Розанов в заметке, озаглавленной «о морали» и с припиской: «СПб. — Киев, вагон»[197], искреннейшим образом засвидетельствовал это бессилие: «Даже не знаю, через „Ъ" или „е“ пишется „нравственность". И кто у неё папаша был — не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес её — ничегошеньки не знаю». Понятно, что всё более или менее живое и самобытное должно было спасаться из этого карантина анонимности, ища повсюду, как манны небесной, хоть сколько–нибудь заразных мест. Посредственной и плоской морали вызывающе противопоставлялась сфера выразительного во всех его причудах и внезапностях, от элементарной склонности к эпатированию до сейсмических толчков художественного гения. Антиномия осознана и сформулирована первенцами XIX столетия; её манифест — «Или–или» Киркегора, сталкивающее в смертельной схватке наслаждение и долг, неповторимое эстетическое мгновение и постылую до однообразия этическую вечность. Эстетическое отвращение к морали граничит почти что с патологией и аномалией; мобилизуется весь бестиарий аморальности, чтобы избежать моральной стерильности: цинизм, высокомерие, ложь, усмешка, поэтизация зла, и, уже модулируя в практику: алкоголь, наркотики, извращения, даже самоубийство. Флобер в Дамаске восторгается прокаженными («Вот куда бы привести колористов!»[198]); «когда мне удается, — говорит он в другом письме, — найти в чем–нибудь, что все считают чистым и прекрасным, гниль или гангрену, я вскидываю голову и смеюсь». Бодлер, исступленно выращивающий «цветы зла» в пику надушенным букетам буржуазной добродетели, воспевает «падаль» в одном из самых прекрасных поэтических творений века. Какой–то обворожительной адвокатской уверенностью отдает от нашумевшей фразы Оскара Уайльда об авторе изящных искусствоведческих эссе: «То, что автор был отравителем, не служит доводом против его прозы»[199]. И вновь подает свой голос «радикальный до преступления» Фридрих Ницше[200]: «Чувства русских нигилистов кажутся мне в большей степени склонными к величию, чем чувства английских утилитаристов» — таков крайний вывод из программного тезиса ницшевской космодицеи: «Существование мира может быть оправдано лишь как эстетический феномен»[201]. И одновременно сжигает себя в бессильном гневе против воцаряющейся серости«русский Ницше», Константин Леонтьев[202]: «Не ужасно ли, не обидно ли думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом шлеме переходил Граник и бился пред Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовали бы „коллективно" и „индивидуально" на развалинах всего этого прошлого величия?» Удесятерим примеры, и мы, должно быть, поймем, какая страшная пропасть разверзлась между постылой монотонной моралью и неистребимой потребностью души в ярких слепящих красках. Вопрос, преследующий как наваждение: неужели для того, чтобы быть добродетельным, нужно непременно быть скучным? И уже в обратном проведении: неужели только зло может быть выразительным и интересным? Ответная реакция морали не заставила себя ждать: яркость квалифицировалась как «демонизм»; гениальным отщепенцам мстили, эксплуатируя весь арсенал злобно–мстительных средств: норвежский критик публично призывал высечь Ибсена розгами; какой–то английский журналист, третьесортный писака фельетонов, протиснувшись в толпе к Оскару Уайльду, ведомому из зала суда в тюрьму, плюнул ему в лицо — можно представить себе, какой вздох облегчения пронесся по Европе, когда в дело вмешались ученые–психиатры и поставили диагноз: гениальность — это помешательство. Так мстила оскорбленная мораль, но ни один из этих актов мести не избавлял самое её от собственного её диагноза: мораль — это зевота.
Вот тут–то и случилось поистине нечто невероятное. «Философия свободы», вырвав мораль из катехизиса и вернув её переживаниям, совершила чудо: ОТНЫНЕ И В МОРАЛИ МОЖНО БЫЛО БЫТЬ ГЕНИАЛЬНЫМ. То, что изумительно предчувствовал Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании» (спасение морали через игру), о чем необыкновенно метко обмолвился однажды аббат Галиани[203], то, до чего почти уже дотягивался Ницше в грезах о морали, ставшей инстинктом, и что вырвало однажды у Владимира Соловьева[204] обжигающий вскрик о «вдохновении добра», всё это стало здесь ослепительной явью и возможностью. Фантазия, считавшаяся до сих пор прерогативой искусства и с грехом пополам признаваемая в науке, сорвала мораль с мертвых петель прописного долга и, отождествив её с Я самого человека, даровала ей свободу. И вот что здесь, наконец, стало истиной — математически безупречная аксиома: мораль — это творчество, или она — ничто. Давайте же представим себе некоего Оскара Уайльда, расточительнейшего гения аморальности, который, нисколько не переставая быть самим собой, а может быть и впервые становясь самим собой, изживал бы свою гениальность в нравственных поступках и творил бы на спор уже не молниеносные художественные шедевры, а шедевры моральных деяний, — история Дориана Грея, из свободы отдавшего себя служению любви и добру и, значит, диаметрально меняющего соотношение между «оригиналом» и «портретом»: оригинал, согбенный непониманием и клеветой, покрывается морщинами страданий у всех на виду, а незримый портрет (босховское покрывало св. Вероники?) изо дня в день транспарирует нестерпимо прогрессирующей красотой. Да, представим себе это — байронизм, изживающий себя в добродетели, Парнас на службе у морали, бодлеровские «цветы зла», преображенные в «цветочки» св. Франциска и «голубой цветок» Новалиса, и мы, возможно, осознаем манихейский смысл случившегося. Всё, что составляло до сих пор гордость и неотъемлемые привилегии аристократической богемы — вкус, изящество жестов, умение изъясняться уголками губ, катастрофическое остроумие, цинизм из страдания, инфракрасные и ультрафиолетовые спектры восприятия, вся «демоническая» техника маргиналов и отщепенцев трансформируется здесь в моральность, которая вдруг начинает потрясать с такою же силой, как до этого потрясало только искусство. Моральность, подчиняющуюся уже не окрикам категорического императива, а неизреченным воздыханиям своего мусического вдохновения, словно бы речь шла — всё еще — о художественных шедеврах, но нет же — больше, чем о художественных шедеврах, ибо художественные шедевры вынашиваются годами, — о шедеврах каждодневных и сиюминутных, ибо если свою художническую свободу я делю с капризным гением вдохновения, трепетно ожидая изо дня в день, когда он схватит меня за волосы, повернет к рассвету и скажет: «Рисуй, что видишь!», то моральную свою свободу я не делю уже ни с кем, и значит, мое моральное вдохновение зависит не от неисповедимых прихотей моего дионисического кредитора, а от собственного моего — но просветленного мыслью! но опомнившегося! но умного! — воления. Моральная гениальность — и в этом её граничащая с чудом несравненность — не элитарна и избирательна, а повсеместна и повседневна, как евангельские притчи, рассвечивающие таинства Космоса сценками из быта; она возможна ежемгновенно, и норма её, стало быть, не пушкинско–блоковское: «Сегодня я гений», трагически–беспомощно уязвляемое провалами «вчерашнего» и «завтрашнего» дня, когда «сегодняшний» гений приумножал вчера свой донжуанский список, дабы снискать себе завтра участь «невольника чести», а некая непрерывность гениальных состояний, изживаемых не вчера или сегодня в миги головокружительной вознесенности над бытом, а всегда и в самой гуще быта. Очень странная, невиданная, неслыханная и тем не менее единственно нормальная мораль. Ибо согласимся: если гениальность могла быть усилиями демократических психиатров приравнена к ненормальности, то решающее значение в этом диагнозе оставалось не за научной беспристрастностью, а за подавляющим большинством противофона: там, где норма декретировалась серым большинством, яркое меньшинство уже как бы механически отчислялось по ведомству патологии. Нормативность морали и означала по существу её мажоритарность; отсюда щупальца её простирались в сферу познания, где подобием моральной общеобязательности выступала общеобязательность логическая, и только индивидуальное во всем его объеме и исключительности продолжало быть исключением из правила, влача полулегальное существование в эстетической ссылке с поражением моральных и познавательных прав. Исключение, увы, подтверждало правило; если нельзя было предотвратить появление Рембрандта, Гёте или Бетховена (хотя в XX веке на эту «нобелевскую» приманку клюнет не одна из крупных научных рыб), то оставалось распоряжаться их шедеврами; сказать, что серость не выносит яркости вообще было бы несправедливо; серость не выносит яркости в жизни, зато очень даже любуется ею на выставках и в концертных залах, где яркость выставлена напоказ, в целях ублажения и «эстетического отдыха». И сколько бы Девятая Симфония девятибально ни сотрясала Космос, всё равно — лицензии её ограничены радиусом действия концертных или граммофонных возможностей; нарушение этого радиуса чревато вмешательством «ближних» и всевозможными «эксцессами». Но представим себе теперь диаметрально противоположную картину, когда, патологичной оказывается именно серость, а нормальной именно гениальность, и значит, «моральный большевизм» уступает место «этическому индивидуализму». Тогда Девятая симфония — и уже безразлично где: в концертной ли зале или… «в наушниках» — предстанет не просто эстетическим шедевром, но и нормой поведения, причем — повторим это снова — если в качестве первого она неповторима, то в качестве второй возможности её неограниченны и, следовательно, никак уже не загоняемы в концертно–музейный изолятор, разве что самой жизни пришлось бы стать в таком случае музеем. Моральная фантазия, моральная гениальность и значит: дионисизм, перенесенный из художественного в нравственное и вдыхающий уже не пифийские пары, а дух осмыслившей себя свободы; вспышки этого нравственного дионисизма спорадически, но неотвратимо прокалывают омертвевшую ткань наших поведенческих трафаретов; я верю — если право на фантазию остается в силе и в измерении истории, — настанет день, когда ошеломленные историки заговорят о моральном Ренессансе — «кватроченто» и «чинквеченто» расцвета морального гения, — когда, стало быть, разгениальничавшееся добро станет творить с такою же виртуозностью и в таких же неисповедимых количествах, как когда–то в любом итальянском городе и едва ли не на каждом шагу творились бессмертные полотна и скульптуры. Уясним же себе раз и навсегда, что путь к этому Ренессансу уже проложен, и никакая сила — никакие «масоны» и «старшие братья» — не в состоянии его перекрыть. Ибо сама мораль соединилась здесь со своим извечным антагонистом — яркой независимой личностью: во спасение этой последней от аморальности, а себя самой — от безликости. Мораль, исповедующая самый что ни на есть штирнерианский, ницшеанский индивидуализм и в то же время остающаяся верной букве и духу всех пережитых заповедей: ну да, синайские скрижали Моисея в исполнении Макса Штирнера! Вы скажете: парадокс? Ничуть не бывало: всего лишь осмысление слов Христа: «Не нарушить закон пришел Я, а исполнить». Это значит: закон тождествен отныне не автоматическому «ты должен», а осмысленно индивидуальному «я хочу», и если это «я хочу» достигло своего совершеннолетия у какого–то Макса Штирнера, то следующим шагом, спасающим его от абсурда бессознательного своеволия, должен быть… путь к Иордани, или крещение мыслью, после которого индивидуальное хотение неизбежно створяется с универсальным долгом: не «люби ближнего», а «люблю ближнего», ибо хочу этого и не могу иначе. Такая мораль, дошедшая до крайней точки индивидуализма, естественно перерастает уже индивидуальное и врастает в социальное. Да, истина, красота, добро — но какой же сверхчеловеческой силой нужно было обладать для того, чтобы воскресить живой потрясающий смысл этой заболтанной в веках банальности, и притом так, чтобы над нею затрясся от восторга не какой–нибудь овцеокий Авель, а вчерашний «отравитель и стилист»[205]. Толстой, имевший за плечами исполинский авторитет всемирного гения, и тот не избежал смешков, когда инстинктивно потянулся к «книге жизни». Каково же было молодому, почти безвестному «доктору философии», которого один маститый профессор обзывал «шутом Ницше» и которому другой, с позволения сказать, «коллега» настоятельно советовал по выходе в свет «Философии свободы» прочитать Вундта и Бенно Эрдмана!
* * *
И наконец последняя кульминационная «эврика» этого захватывающего рассказа о свободе. «Наихристианнейшая из философий» — так была названа однажды «Философия свободы» Рудольфом Штейнером. Разумеется, требование беспредпосылочности остается в силе и здесь; такова эта книга в измерении именно беспредпосылочного христианства — в любом другом измерении её наверняка ожидала бы прямо противоположная оценка. То, что современный «научный» атеизм — величина сама по себе достаточно зыбкая и двусмысленная, лежит вне всяких сомнений; этически нейтральное естествознание позволяет в равной степени прийти как к Богу, так и к небытию Бога, и примеров, подтверждающих то и другое, наберется, конечно же, в избытке. Чего оно не позволяет, так это прийти к Христу. Ибо прийти к Христу значило бы для него пережить свой «Дамаск»; давайте вспомним: Савл, «дышащий угрозами и убийством», ведь тоже верил в Бога и не был атеистом; христианином и Павлом стал он, лишь узрев Дамасский свет. «Философия свободы», выводящая познание из статуса этической нейтральности и оживляющая его нравственными импульсами, и есть такой «Дамаск» в условиях современности; без неё можно сегодня с равным успехом быть как верующим, так и атеистом, — христианином (не в инерции прошлого, а сообразно нынешней действительности) без неё едва ли кому–нибудь дано стать. Я вынужден снова обратиться к свидетельству Ницше, так как не знаю никого, кто с такой саморазрушительной честностью вскрывал бы насквозь протухшие консервы с соблазнительными этикетками. Довод, сформулированный почти с силлогистической ясностью[206]. «Наше время есть время знания». И значит (продолжает Ницше), «неприлично теперь быть христианином». «Вот тут–то, — заключает он, — и начинается мое отвращение». — «Куда, — восклицает он дальше, — девались остатки чувства приличия, уважения самих себя, когда даже наши государственные мужи, в других отношениях очень беззастенчивые люди и фактически насквозь антихристиане, еще и теперь называют себя христианами и идут к причастию?» И напоследок уже совсем по–ницшевски: «Каким же выродком фальшивости должен быть современный человек, если он, несмотря на это, не стыдится еще называть себя христианином!» Так сформулировано это в ураганной книге, озаглавленной «Антихрист». Но пусть каждый, в ком не вымерла еще такая стихийно–бедственная честность и бескомпромиссность, кто, стало быть, не привык числиться в дураках даже у Господа Бога, положит руку на сердце и спросит себя: разве это не правда? И разве не правда, что так гневаться, так возмущаться, испытывать такое отвращение мог уже не анти–христианин, а перво–христианин, очутившийся в сплошном и непролазном псевдо–христианстве? Гнев Ницше, в последнем невменяемом пароксизме страсти хвативший через край, есть лишь неопознанная реакция чистого христианина на мерзость запустения в месте святом; только так, между прочим, и могу я осмыслить восторг молодого Штейнера, прочитавшего книгу «Антихрист»: «„Антихрист" Ницше […] одна из самых значительных книг, написанных за последние столетия. В каждом предложении находил я собственные свои ощущения. Я не в состоянии пока выразить всю степень удовлетворения, вызванного во мне этой книгой». Вопрос, вытекающий из самой сути нападок Ницше: как возможно христианство? И не в том даже дело, где еще сегодня найти христианина, каким (я цитирую Гёте) «его хотел бы видеть Христос»; вопрос жалит ядовитее: а возможно ли сегодня вообще христианство, мыслимое не как инерция унаследованных навыков, стало быть, именно нечто неприличное, а как «путь, истина и жизнь», как, говоря словами Киркегора[207], «ежемгновенная одновременность с Христом»? Повторим еще раз: наше время есть время знания. Здесь и дан камень преткновения: вся диалектика последующих недоумений и отвращений. Варианты исчисляются с математической жесткостью: быть христианином значило бы в наше время либо знать одно и верить в другое, либо знать одно и прикидываться, что веришь в другое, либо же ничего не знать и просто верить в другое. Согласимся, что первые два варианта едва ли выдержали бы самую легкую пробу на христианство; третий — лютеровское sola fide — в лучшем случае дотянул бы допозавчерашнего христианства со всеми вытекающими отсюда сегодняшними неприличиями. Страшный вывод Ницше, стоивший ему жизни: следовательно, христианство невозможно, пресекается молодым Штейнером, и — что особенно важно — не извне, а имманентно книге «Антихрист», то есть, в полном согласии со всеми предыдущими посылками: оно возможно как четвертый вариант — не: знать одно и верить в другое, или прикидываться, что веришь в другое, или ничего не знать и просто верить в другое, но: ЗНАТЬ ДРУГОЕ. Тут–то и вырастает перед нами наихристианнейшая «Философия свободы» с острием знания, направленным в былую область веры. Наше время, соглашается Штейнер с Ницше, есть время знания. Да, но что за это знание? — вот в чем вопрос. Вопрос, упущенный Ницше и действительно обрекший его на провал: снаряжаясь в поход против тысячелетних святынь, этот принц Фогельфрай не пошел в своих теретикопознавательных предпосылках дальше наспех мобилизованного позитивизма и скептицизма. Как будто и здесь сошло бы с рук гасконское сумасбродство, вознамерившееся на такой лад покорять этот «Париж»! Ответ «Философии свободы»: христианство возможно как знание, но для этого необходима христианская теория познания, или, как скажет впоследствии Штейнер об «Истине и науке» и «Философии свободы»: мысли Павла в области теории познания. Павел («святой–заступник мышления в христианстве», по прекрасному выражению А. Швейцера), самый непонятый — «неудобовразумительный», как отзывается о нем апостол Петр — и, может быть, самый одинокий дух из всех, кого когда- либо знала христианская действительность, покровитель и правозащитник любого рода духовного бунтарства и диссидентства, нудимого волей к познанию и духом свободы — непонятый и в этом даже самими бунтарями; Павел, Моисей христианства, перманентно выводящий живой дух его из нового римско–царьградского и какого угодно пленения, когда дух этот оказывается под гипсовой повязкой форм и оборачивается собственной посмертной маской; Павел, как никто призывающий «найтись во Христе», чтобы Мистерия Голгофы свершалась не только для нас, но и в нас, в каждом индивидуально и каждым в первом лице, этот Павел, бесстрашный гностик и испытатель глубин, возрождается здесь в новом, небывалом для себя, но и вполне естественном качестве «гносеолога». Может, когда–нибудь из разрозненных и летучих высказываний Штейнера о павлианской основе «Философии свободы» вырастет еще специальный антропософский трактат, систематизирующий эту бесконечно глубокую параллель и переводящий гностический язык «Посланий» Павла в гносеологический язык трудов молодого Штейнера: там, где речь идет у Павла о первом и втором (ветхом и новом, перстном и небесном) человеке, об обновлении духом ума и облечении в нового человека, о шести правилах гнозиса («Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности…» Еф. 6, 14–17), там четко вырисовываются у Штейнера контуры теории познания. Мир, данный в чувственных восприятиях, есть иллюзия, майя, призрачная действительность, и — не сам по себе, а через нас идля нас (Павел: «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. […] Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира» Гал. 4,1, 3). Только через чистое активное мышление становится он полной действительностью, когда понятие освобождает вещь от чувственного покрова и обнаруживает в ней изначально присутствующую в ней мысль (Павел: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, […] дабы нам получить усыновление» Гал. 4, 4–5). Познание, понятое так, оказывается искуплением тварного мира, падшего в первом Адаме, и восстановлением его истинного нетленного облика во втором Адаме (Павел: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении, […] сеется тело душевное, восстает тело духовное» 1 Коринф. 15, 42, 44). Но постигший науку свободы (Павел: «Братия, мы дети не рабы, но свободной" Гал. 4, 31) стоит уже в действительности свободы и не признает над собою никакой власти, кроме собственного высшего и уже божественного Я (Штейнер: «Исполненная мыслью жизнь есть […] одновременно жизнь в Боге». — Павел: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» Гал. 5, 1).
Так живой импульс христианства, изувеченный в веках обскурантистским и просветительским недомыслием, празднует свой триумф в домыслившей себя наконец до мира мысли. Еще одна — на сей раз не столь уж приметная — жемчужина, предлежащая нашему взору. Увы, мы всё еще продолжаем обходить жемчужины стороной и клевать собственные представления. Особенно когда жемчужины остаются неназванными. О каком это христианстве, восклицаем мы, может быть здесь речь, когда в книге этой нет даже упоминания о христианстве? Нам бы впору уже отвыкать от подобных «паспортистских» замашек понимания и учиться понимать по существу, ну скажем, взяв какой–нибудь внушительный по объему богословский труд, пролистать его и воскликнуть: сплошное «о» христианстве и — никакого христианства! Если мы способны еще на такую элементарную эластичность понимания, то христианство «Философии свободы» предстанет нам сокрытой от внешнего взора, но абсолютно реальной потенцией, заложенной в этом чисто философском семени[208]. Методология Штейнера к тому же не допускает никакой предпосланности определений ходу исследования, как таковому; «определение предмета, — читаем мы в одном из комментариев к гётевской истории учения о цвете, — […] может выступать лишь в конце научного рассмотрения, поскольку оно уже содержит в себе высшую ступень познания предмета». Когда через считанные годы христианство будет оглашено Штейнером, и уже потом выявится как альфа и омега всех произносимых и умалчиваемых им слов, то это будет не неожиданной развязкой и переходом в другой род, как поспешат заявить об этом многие тогдашние и нынешние растерзатели смыслов (теперь они появились и среди антропософских авторов), а всего лишь естественным продолжением и самоопределением всё той же «Философии свободы».Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего её человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую её страницу; вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка, и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя–мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу. И, может быть, лишь увидев это, сумеем мы, смятенные наследники исполинского состояния, завещанного нам её автором, почувствовать свою состоятельность и понять, каким образом удалось этой книге совместить в себе столь величайшее дерзновение и столь величайшее смирение.
Ереван, в январе 1993 года
Загадка истории философии. Рудольф Штейнер, «Загадки философии»
1.
Парадокс истории философии есть парадокс её возникновения. Чем она прежде всего была и хотела быть, так это именно историей, одной из многочисленных «историй», которыми, как колокольным боем, отмечено рождение Нового времени. С какого–то момента можно было писать историю философии с такой же святой простотой, с какой в XVII или XVIII веке писались истории растений, птиц, рептилий, королей, стран, мира. Этому энтузиазму суждено было однажды протрезветь под холодным душем критической философии. Ибо критическая философия, в отличие от прочих наук, притязает иметь дело не с фактами, как таковыми, а с основаниями фактов; её вопрос не: что есть факты? а: как возможны факты? Кант, как известно, ограничился областью фактов математической физики, но нетрудно было предположить, что взрывная волна его вопроса должна была рано или поздно сотрясти и зыбкий мир исторических фактов. Это значит: если историк имеет дело с фактами истории, то внимание философа обращено в первую очередь на проблему истории как таковой. Парадокс заявляет о себе там, где историк наряду с прочими фактами истории преднаходит и факты философии, философию, как факт. История этих фактов (школ, направлений, одиноких мыслителей) и слагает историю философии. Но историк не может писать историю философии, будучи только историком — не будучи одновременно и философом. Вопрос заостряется в апоретику акцентов: что есть история философии, ИСТОРИЯ философии или история ФИЛОСОФИИ? Иначе: можно ли излагать историю философии на расхожий исторический лад или её изложение должно–таки и само быть философским? Если первое, то речь идет всего–навсего о последовательном изложении систем и воззрений по схеме: Древний мир — Средние века — Новое время. Если же второе, то последовательное изложение систем и воззрений по названной схеме образует порочный круг, так как сама эта схема оказывается среди систем и воззрений… В первом случае историк философии — допустив, что он мог бы быть критянином — такой же критянин, как и все критяне. Во втором случае он Критянин с прописной буквы, некий Сизиф логики, который лжет, когда он говорит правду, и говорит правду, когда он лжет. «Все критяне лгут». В переносе на историю философии: все историки философии лгут, как только историки, и могли бы не лгать, как философы, если бы они излагали историю философии не как историю чужих философских жизней, а как историю своей жизни. Автор «Загадок философии» выразил это однажды в словах, от которых всегда будет мутить неадекватный академический дискурс: «Мысли другого человека должно рассматривать не как таковые — и принимать или отвергать их, — а нужно видеть в них вестников его индивидуальности. […] Философия никогда не выражает общезначимых истин, она описывает внутренний опыт философа, посредством которого последний толкует явления»[209].
2.
Что сказанное следует понимать не в переносном, а прямом смысле, становится очевидным в свете следующих соображений. История философии, если она хочет быть чем–то большим, чем анекдот или агиография, должна и сама пройти испытание философией. Это значит: она должна подвергнуть себя — по методу двойной критики — тем же критериям анализа, что и излагаемые ею философии. Совершенно очевидно, что мы ориентируемся в историко–философском пространстве не по столбовым верстам продвижения от более раннего к более позднему, а исключительно по проблемам. Судьбы философских проблем и прослеживаем мы от досократиков до современности. Одна из этих проблем (проблема проблем) формулируется как единство в многообразии, или (теоретикопознавательно) как — мышление и созерцание. Мир, данный в созерцании как многообразие, мыслится как единство; философы, от Фалеса до Эдуарда фон Гартманна, силятся постичь и адекватно сформулировать принцип, согласно которому мировое свершение, еже–мгновенно в миллиардах лет состоящее из изменчивостей и преходящестей, сохраняет идентичность самому себе. Достаточно будет перенести эту проблему на историю философии, чтобы иметь дело уже не просто с историей, но со строго философской и даже метафилософской дисциплиной. Содержание истории философии — многообразие самых различных философий. Вопрос: что обеспечивает их единство? По аналогии с Кантом: где следует искать трансцендентальное единство сознания в истории философии? По аналогии с Гёте: если сравнить исторические данные философии с растительными образованиями, то не являет ли сама эта данность, как и в мире ботаники, некий трансформирующийся в них тип (перворастение)? История философии не стоила бы ровно никаких усилий, если бы она не была бумерангом, поражающим самое себя.
3.
Видеть единое во многом, с этого начинает и этим оправдывает свое предприятие историк философии. Не опознать за тысячью философий одну и единую, всё равно что за деревьями не увидеть леса. Некий опыт чтения и вчитывания в материал наводит на странное наблюдение, что философские учения в тысячелетиях следуют друг за другом с такой последовательностью и осмысленностью, как если бы дело шло о различных главах одной и той же книги. Допустив, что какой–то совершенный философ поставил бы себе целью изложить свои философские воззрения в форме истории философии, без того чтобы в его распоряжении находился исторически однажды существовавший философский материал (стало быть по принципу: если бы истории философии не существовало, следовало бы её выдумать), то из этого наверняка получился бы гигантский труд, который начинался бы с досократиков и воспроизводил бы всю историю философии вплоть до конца XIX века. Спрашивается, откуда берется и чем обусловливается эта последовательность философского свершения Запада, заставляющая нас подозревать в ней некий создаваемый в тысячелетиях индивидуальный шедевр одного единственного автора? Если историк философии станет избегать этого вопроса, то оттого лишь, что в противном случае ему пришлось бы исповедовать абсурдное мнение, будто философы, в полном сознании возложенной на них задачи изложения некоего коллективного труда по философии, только и делали что заботились о таком изложении собственных философий, где каждая предыдущая логически и структурально согласовывалась бы с последующей. Это значит, что они заботились бы не столько о себе самих как философах, сколько о своих преемниках — Платон об Аристотеле, Аристотель о Порфирии, Порфирий о схоластиках, схоластики о Декарте, Декарт о Канте, этот последний о Гегеле, ну а о соответствующих заботах Гегеля можно было бы и не напоминать бывшему советскому читателю… Этот вздор едва ли достоин серьезного обсуждения. Философы от античности до современности могли допытываться до самых сокровенных тайн мироздания; что оставалось вне их компетенции, так это тайны собственного их философствования, их вписанности в некое целое, в котором они занимали не более привилегированное место, чем действующие лица некой драмы в свершении собственных литературных судеб. Можно было, будучи философом, заботиться о чистоте понятий, непротиворечивости суждений, адекватности познания наконец, но нельзя было, будучи философом, заботиться об истории философии в плане целостности и единства её осуществления. В мире, созданном гением Шекспира, живут около тысячи человек. Надо помножить это число еще раз на тысячу, чтобы получить приблизительную статистику забот шекспировских людей. Отнюдь не риторически прозвучал бы вопрос, а есть ли вообще такие заботы, которые были бы чужды и неведомы людям Шекспира? Точный ответ на этот вопрос гласил бы: Им чужды и неведомы заботы самого Шекспира. Скажи им кто–либо о Шекспире, они (даже лучшие из них) пожали бы плечами. Ибо само существование Шекспира для них (даже для лучших из них) не менее гипотетично, чем существование Творца мира для действующих лиц мировой драмы.
4.
Иначе и со всей решительностью формулируя вопрос: кто философствует в исторически репрезентативных философах, от Фалеса и Платона до Гегеля, Штирнера, Ницше? Было бы небесполезно прояснить этот вопрос по аналогии с уже упомянутым выше гётевским перворастением. Затерявшись в лабиринте растительного многообразия, лабиринтный человек Гёте ищет не философски общеобязательную понятийную истину, но только свою Ариадну, которую он почитает как богиню Urpflanze. Равным образом и историк философии, допустив, что он ориентируется не на Канта, а на Гёте, не дает проблеме быть проглоченной трансцендентальным субъектом–минотавром, но соотносит её с неким первофилософом. Эта аналогия может быть правомерной лишь до известной степени; в целом она требует принципиальной поправки. Именно: если перворастение не тождественно ни с одним из растений и должно быть понято как творческая мысль, которую природа на более высокой, называющейся Гёте, ступени своего развития примысливает к более низкой, чисто вегетативной, ступени своего развития, то с первофилософом (как и вообще с первочеловеком) дело обстоит существенно иначе. Он должен быть не просто логически мыслимым, но и — воплощенным. Воплощенным значит: единичным, единственным, вот этим вот. Можно, разумеется, сколько угодно заговаривать означенную здесь проблему всякого рода понятиями, вроде «трансцендентальная апперцепция», «единство исторической памяти», «сознание вообще» и т. п. Беда в том, что этими идеалистическими хлопушками можно добиться не больше, чем эфемерного фокуснического эффекта. Чтобы сделать историю философии (не задним числом, как учебник, а как то, о чем учебник), надо философа. Не измышленного, а реального. Отличие такого философа от всех прочих заключалось бы прежде всего в том, что содержание его мысли (= мировая загадка), ничуть не теряя своей объективности и строгой логичности, не просто производилось бы в жизнеотчужденной работе головы, но переживалось бы, то есть, являлось бы частью его жизни — отнюдь не в переносно–поэтическом смысле, а буквально. Это значит (на грани допустимой языковой конвенции, а, стало быть, тем ближе к реальности): он жил бы свою философию, именно: не ею, а её. Процесс его мышления протекал бы в нем столь же органично как и прочие, а главное: абсолютно сознательно. Он мыслил бы, как философ, мысли, которые представляют собой не теневые абстракции, а реальные существа. Он мыслил бы, что он есть, и он был бы, что он мыслит, — в противоположность, скажем, Гегелю, который мог еще мыслить Мирового Духа, оставаясь при своем швабском духе и нисколько не смущаясь диссонансами эссенции и экзистенции. Вопрос отнюдь не праздный и не для любителей философских острот: может ли философ духа (ранга автора «Феноменологии духа») быть не в духе из–за каких–то житейских мелочей. «Я должен признаться, — пишет Гёте Цельтеру 27 октября 1827 года в связи с одним дорожным происшествием, испортившим настроение путешествовавшему вместе с ним Гегелю, — что меня до некоторой степени удивило увидеть в самом разгаре XIX столетия философа, который навлек бы на себя старый упрек, что именно эти господа, которым кажется, что они овладели Богом, душой, миром (и как бы еще ни называлось всё это, чего не понимает никто), совершенно бессильны против удач и невзгод обыденнейшего дня». Совершенный философ в указанном выше смысле мыслил бы дух не бесплотным (параллельно к бездуховной плоти), а воплощенным, причем не в абстрактном понятии, а в понятии, идентичном его телу — некая фундаментальная онтология, которая, если на неё когда–либо и покушались вообще, всегда изживалась в элементе мистики, аскетики, экстатики, эксцентрики, как угодно, но только не трезво философски и в полном здравии ума. — История философии, если ей суждено быть не мозаичным послеобразом отшумевших живых философий, а присутствием духа, имеет своей предпосылкой философа, который философствует в Платоне или Аристотеле, Плотине или Эриугене, Канте или Гегеле с такой же очевиднейшей незримостью, с какой страстотерпец Шекспир живет и страдает в Г амлете или Просперо, в жирном рыцаре Фальстафе или своих блистательных шутах, без того чтобы эти последние имели хоть малейшее понятие о его непрерывном физически–незримом присутствии. История философии, которая пыталась бы разрешить эту проблему менее конфликтно и катастрофично, стало быть, делая ставку не на личное, а на всё еще абстрактно понятийное, по принципу «хата с краю», стояла бы к реальному её разрешению в таком же отношении, как до- и нехристианские учения о Логосе к физически воплощенному Логосу. Формулу будущих «Загадок философии»[210] мы находим в одном письме Рудольфа Штейнера, датированном 5 декабря 1890 года[211]: «Что философия в конце концов должна быть большим монологом, который ведет человеческое самосознание, чтобы понять самое себя и вместе с тем и мир, было мне ясно с самого начала». Историкам философии, которые в своей занятости деревьями отдельных систем и воззрений не догадываются о том, что они находятся, собственно, в лесу, этот отрывок мог бы стать началом прозрения. Ибо камень, о который спотыкались и спотыкаются до сих пор практически все истории философии, есть, говоря вслед за Платоном, неумение, глядя на многое, видеть одно. Что бы мы сказали о читателе, внимание которого было бы поглощено не смыслом текста, а отдельными предложениями, не предложениями даже, а словами, и даже не словами, а — буквами «в себе и для себя»? Историки философии склонны забывать, что смысл и оправдание их ремесла не в структуралистически замурованной контроверзе, скажем, Платона и Аристотеля, а в том проблемном поле, на фоне которого названная контроверза перестает быть чисто филологическим времяпрепровождением и осмысляется как фактор мирового свершения. Можно было, конечно (особенно, находясь в культурном немецком пространстве до нулевого 1945 года), побить все рекорды по части регистрации букв–букашек, написав, как Г. Файхингер, тысячестраничный комментарий к начальным семидесяти страницам «Критики чистого разума» или не остановившись, как Э. Адикес, даже перед анализом чернил, которыми была написана «Критика чистого разума». Очевидно, что суть лежит не в этом тщании самом по себе, а в его пригодности или непригодности для некой более значительной задачи. Еще раз словами автора «Загадок философии»: «Чего хотели истинные философы всех времен? Ничего кроме того, чтобы вещи возвещали нам свое существо, чтобы они высказывались сами, когда дух предоставляет им себя в качестве органа речи»[212]. По аналогии: Чего хотели и хотят истинные историки философии? Ответ: Ничего кроме того, чтобы философы прошлого возвещали им свое существо, чтобы они высказывались в своем главном и оставшемся неизреченным, когда их интерпретаторы предоставляют им себя в качестве органа речи. Историк философии в этом смысле оказывается не просто излагателем или комментатором готовых мировоззрений, но их соавтором, корректором, исповедником, если угодно, душеприказчиком. Чтобы сказанное не показалось парадоксом, надо будет свыкнуться с мыслью, что история философии, как продолжающийся монолог самосознания, не может довлеть себе ни в одном, пусть прекраснейшем, из своих мгновений, но представляет собою открытый поток одного сознания, где сказанное и оформленное являет, как правило, лишь верхушку айсберга смолчанного и подспудного. Если историки философии фиксируют именно сказанную и явную мысль, пренебрегая её брожением и становлением, то отношение представленных ими философий к оригиналам в лучшем случае напоминает отношение фотографических снимков к жизни лица. Загадки философии суть загадки действующих в ней скрыто и подсознательно сил и соотношений, так что история философии может в целом быть сама только завершением и (по–гегелевски) снятием философии, смертью её в прежнем качестве и воскресением в новой форме. Ибо философия, завершенная и эксплицированная во всех своих подспудностях, обращенная на свое прошлое и осознавшая его в своем настоящем, стоит к философии (в обычном смысле) в таком же отношении, как, скажем, «Естественная история творения» к самому творению. Она есть уже не философия (в обычном смысле), а некая иная «софия»: теософия[213], или антропософия.
6.
Книга «Загадки философии» завершается «Кратко изложенным обзором антропософии» (Skizzenhaft dargestellter Ausblick auf eine Anthroposophie). Антропософия, как это явствует из следующего, есть метаморфоз философии со всеми её вне–, над– и околофилософскими предпосылками в некий беспредпосылочный тип познания, не допускающий ни одного суждения, в основе которого не лежали бы опыт и абсолютная выверка сознанием. Что западная философия всегда ходила в прислужницах, это очевидно. Менее очевидно, хотя и бесспорно, что она, пусть не всегда осознанно, искала автономии и самоопределения. В Средние века место её располагалось под теологией, с началом Нового времени под естествознанием, но как в том, так и в этом случае её наследственным грехом была догматика, всё равно: догматически положенный Бог или догматически положенная материя. Воля к самоосвобождению пронизывает её со времен Бекона и Декарта, но чем истовее силится она выдавить из себя рабыню, тем глубже засевшим обнаруживает себя рабское в ней. Каждая новая попытка реформации или даже революции разоблачает себя в конце концов как более или менее удачно замаскированная реставрация. Очевидно, что корень всех зол лежал в непродуманности и неэксплицированности оснований, собственно говоря, в отсутствии или недостаточной проработанности теории познания. Если основанием философии может быть не что иное, как критическая и познающая мысль, то подмена этого основания любой догматикой (Бог, мир идей, вещь в себе, материя) обрекает философское построение на аварийность. Идеальная или материальная основа мира может всерьез обсуждаться только при условии, что то и другое суть продукты мышления и что начинать, стало быть, следовало бы не с них, а с природы порождающего их мышления. История философских поражений есть нежелание, или неумение, начать с опыта мышления; философы предпочитали стартовать с площадок соседнего теологического (позднее естественнонаучного) факультета, даже и в тех случаях, когда согласно оповещенной программе дело должно было бы идти именно о критической ревизии мыслительно познавательных средств. Так выглядит картина в ставшем, уже изложенном виде. Гораздо важнее было бы проследить внутреннюю борьбу этих мыслителей, именно: чего они, собственно говоря, добиваются и что вынуждает их капитулировать в той или иной точке приближенности к цели. «При рассмотрении формирования философских мировоззрений от античности до нашего времени в устремлениях и поисках мыслителей обнаруживаются глубинные течения, которые не находят у них осознанного и полного выражения, а пребывают в них сугубо инстинктивно. В этих течениях есть действенные силы, которые дают идеям направление, зачастую и форму, однако как таковые остаются скрытыми от ищущего духовного взгляда этих мыслителей. Изложение в их сочинениях часто производит такое впечатление, будто их авторы движимы скрытыми силами, не внушающими им доверия и даже отпугивающими их. […] То, что утверждается в этих мыслительных мирах, есть выражение познавательных сил, которые — пусть неосознанно — владеют философами, не находя, однако, какого–либо сознательного развития в их идейных конструкциях»[214]. Загадки философии и суть познавательные силы философии, не находящие сознательного развития. Антропософия есть их разгадка. Услышать в истории философии длинный монолог самосознания предполагает двоякое: прежде всего, умение воплощенно пережить её, как личную судьбу и жизнь, то есть, стать ею, и дальше, не просто стать ею, но и над нею, чтобы уметь отделять существенное от побочного, выявлять скрытые силы и тенденции, вести тысячеголосие мысли, не давая ни одному голосу задержаться дольше, чем этого требует стиль и композиция целого, словом, излагать факты философской истории не просто как историю философии, но как её судьбу, где в качестве субъекта выступает сознающий себя мир, зовущийся «по установлению» Платоном или Аристотелем или Августином или Декартом, а в качестве объекта мир себя не сознающий, и где ошибки и заблуждения первоозначенного мира каузально отзываются в мире втором потрясениями и ударами судьбы.
7.
Не было бы ничего странного в том, если бы обыватель эпохи религиозных войн, содрогаясь от непостижимой свирепости происходящего, говорил о Божьей каре и конце времен, не допуская и мысли о том, что он и тысячи малых мира сего расплачиваются жизнями за неумение, или нежелание, ученых богословов поладить друг с другом в спорах вокруг какого–нибудь одного слова или даже какой–нибудь одной буквы. Равным образом нет ничего странного, если и современный обыватель, находящий свою смерть на каком–нибудь «Титанике» или в сверхскоростном средстве передвижения, никак не способен постичь дикую для всей его конституции очевидность, что гибнет он и тысячи ему подобных оттого, что некоторые люди когда–то сподобились без понимания и ответственности овеществить некоторые мысли и что, следовательно, этот разверзшийся материально сегодняшний ад есть по всей строгости не что иное, как — вчерашняя мысль. Странно и уже почти фатально, что этого никак не хотят взять в толк философы, которым до сих пор и несмотря ни на что кажется, что мысли, возникающие в их голове, этой же головой производятся, ей принадлежат и из неё, словно бы по щучьему велению, назначают миру быть чем угодно: «вещью в себе», «Титаником» или «моим представлением». Грань превращения философии в антропософию — это результат мыслительного наблюдения и осознания того, что человеческие мысли суть наиболее зрелые и, стало быть, наиболее действенные реальности мировой эволюции. Отрицать это можно разве что с таким же успехом, с каким учеными специалистами отрицаются пагубные последствия тех или иных лекарственных препаратов на организм. Верит ли специалистам паства пациентов или нет, до этого организму нет ровным счетом никакого дела. Он реагирует, независимо от мнений о нем и их опроса: самоотказом, если его подгоняют под фальшивые теории и обобщения, или жизнеспособностью, если действуют сообразно его природе.
8.
Мысль, как реальность мира, преломленная в голове естествоиспытателя, политика или кого угодно еще в этом роде, способна, в зависимости от качества преломления, то есть, своей продуманности, обезобразить этот мир до неузнаваемости или ожизнетворить его. Но попробуем–ка проследить её в наиболее зрелой и самосознающей её потенции, в философии. Геологи изучают мир по осадочным, магматическим и метаморфическим горным породам. Историки по фактам истории. Что же, если не косность и чванство расслабленного интеллекта, мешает и философам изучать мир, не плетясь в обозе позитивных наук или под гипнозом всякого рода дискурсов (ученый эвфемизм, расшифровываемый как просто болтовня), а в точке самодостаточности, что означает: по становлению, брожению, преобразованию, катаклизмам, затвердению мыслепород. Ведь, может статься, что мыслительные усилия больших умов играют в мировом свершении роль, по сравнению с которой землетрясения, эпидемии, переходы через Рубикон, революции и войны выглядят всё еще игрой теней! Философам пристало бы говорить о философских эпохах в несоизмеримо более точном и роковом, космогоническом смысле, чем геологи говорят о геологических эпохах, а историки об исторических. Но вот же люди, для которых совершенно очевидно, например, что выхлопные газы автомобиля загрязняют атмосферу, по какому–то колдовскому недомыслию отказывают в этой очевидности собственным (или каким угодно другим) выхлопным мыслям. Мысли для них лишены реальности либо субъективно реальны, тогда как объективно реальны для них только процессы, происходящие «в природе», скажем, травы, растущие на лугу, как будто мысль о травах происходит где–то вне природы, и как будто само деление на субъективное и объективное не есть уже мысль! Антропософия мысли визирована гётевским опытом мысли, согласно которому мысль — это зрелая природа, высший этап эволюции природы, на котором она уже не просто развивается, но и способна сознавать и познавать свое развитие. Мировое свершение свершается двояко: один раз, скажем, как движение небесных тел «в небе», другой раз как мысль о законах этого движения «в голове». Очевидно, что этот другой раз (познание) по рангу — объективно и онтологически — превышает любое просто свершение. Философия Штейнера, в которой это наблюдение положено во главу угла, регламентирует, как опыт и результат наблюдения по естественнонаучному методу, то именно, что традиционно всегда постулировалось как трансцендентальная — и непостижимая — основа основ (Бог Декарта, который «не может быть обманщиком», кантовское «отрицательно мыслимое, демаркационное понятие», «Я» Фихте, «тождество» Шеллинга,«бессознательное» Гартманна и т. д.). Мы едва ли поймем что- либо по существу в философском театре (особенно Нового времени), если упустим из виду распределение ролей и пафос таксономии в философском познании мира. Опыт значит здесь: только чувственный опыт; всё сверхчувственное внеопытно и допустимо лишь в рамках предварительной метафизической, то есть, не–научной заявки. Можно было, разумеется, и метафизику подавать как науку, даже как энциклопедию философских наук, но в сугубо старом смысле (именно в смысле scientia как ars) или просто в переносном смысле; наукой в прямом и собственном смысле могло быть только то, в основе чего лежал чувственный опыт. После всего этого едва ли покажется удивительным, что философия духа Штейнера, которая не имеет ничего общего ни с метафизикой, ни с мистикой, и сознает себя как расширенное и органически перерастающее в духоведение природоведение, вынуждена была облачиться в теософскую номенклатуру, по той оригинальной причине, что в стране мыслителей, Германии, не нашлось ни одного мыслителя, который согласился бы обменять кантианскую чечевичную похлебку на свое первородство, зато нашлись не–философы (теософы), в которых неумение прослеживать загадки философии на философски адекватном языке компенсировалось живым интересом к самому существу темы. Современные философы, или те, кто считают себя таковыми, могли бы удостоверить наличие или отсутствие в себе философской интеллигентности (а не всё еще агитаторских страстей) отношением к этим самым «Загадкам философии». Отругиваться от философа самосознания Штейнера, который, в философских ли, теософских ли, каких угодно еще эмблемах[215], говорит о том, невыраженностью чего тысячелетиями страдала философия, едва ли свидетельствует об остроте и мужестве ума. Ни с чьей другой стороны творцу антропософии не было содеяно большей несправедливости, чем со стороны философов, которые и по сей день предпочитают либо вообще замалчивать его, либо нести о нем вздор — в том и другом случае не читая его. Их бессменный патрон–хранитель, священный тотем их геральдического щита — некая почтенная схоластическая окаменелость под именем профессор философии Кремонини, тот самый Чезаре Кремонини, который в XVII веке отказался смотреть в телескоп, «так как это опровергает Аристотеля».
9.
Еще раз: загадки философии — это скрытые познавательные силы её, не находящие сознательного развития. Скрытые познавательные силы — силы не сознающей себя мысли. Разгадкой этих загадок может быть, поэтому, только познавшая себя мысль, мысль, знающая не только строение вселенной, но и свое место в ней. Философия Нового времени, от Декарта до Гегеля, изживает себя в грандиозных усилиях самосознания мысли. Понять причину срыва этих усилий, значит пролезть через игольное ушко, отделяющее нас от мира антропософии.
Причина — покушение с негодными средствами, попытка решить некую абсолютно новую задачу в русле старой традиционной метафизики. Самопознание мысли в философии Нового времени — это попытка познать вне–опытную, априорную мысль мыслью же, без того чтобы сделать саму её предварительно предметом опыта. Оттого мысль о мысли, как первый шаг в самопознании мысли, обречена на Пиррову победу метафизики; с точки зрения критики познания ценность этой метафизики равна разве что ценности воздушного замка. Ибо единственное, на что могла бы рассчитывать мысль о мысли, чтобы не стать добычей элементарной petitio principii, так это быть разыгранной в буре и натиске какого–то безудержно разгениальничавшегося философского вдохновения, вроде Шеллингова, где на фоне виртуозных рефлексий как–то и не думалось бы о постылых правилах и нормах. Сколь бы гениальной ни была эта мысль о мысли, ей тем не менее вряд ли удастся проскользнуть таможню кантовской «трансцендентальной диалектики», где с ней справятся в два счета, разоблачив её как «халтуру». Правота Канта против метафизики познания неоспорима; после Галилея, в эпоху Гельмгольца и торжества научного материализма, было не более чем анахронизмом явно или контрабандно привносить в познание всякого рода мистические контемпляции и изъясняться на жаргоне Бёме и Пордеджа. Но с другой стороны правота эта оказывалась правотой тупика, ибо не познавшая себя самое мысль неизбежно костенела в параличе агностицизма. Именно в этом собирательном стекле и сошлись судьбы западной философии, которая уже не могла по–старому делать ставку на сверхчувственное, а без сверхчувственного опыта не могла уже ориентироваться в опыте чувственном. Когда, начиная с 1882 года, Штейнер, тогда еще 21-летний студент Венской Технической Высшей школы, по рекомендации Карла Юлиуса Шрёера получает заказ на редактирование и издание (с вступительными статьями и обширнейшими комментариями) естественнонаучных сочинений Гёте в Кюршнеровской «Национальной литературе», становится ясно, что, поверх академически безупречно выполненной задачи, дело идет не о национальной литературе, ни даже о Гёте, а о жизни и смерти самой западной философии. Выясняется, что, подобно старой схоластической философии, загнавшей себя в тупик сверхчувственного, современная, чалящая на Канта философия безнадежно застряла в тупике чувственного, что, следовательно, если один раз дело шло об основаниях, лишенных опыта, то другой раз фигурировал просто лишенный всяких оснований опыт. Начинать — в эпоху экспериментального материализма — с чего–либо иного, чем с опыта чувственных данных, было бы, как сказано, лишь неким курьезным анахронизмом. Последнюю, решающую, загадку философии надо было разгадывать не в самой философии, а на путях натуралиста Гёте в условиях начинающегося массового помрачения сознания. «Если мы хотим иметь в мышлении средство глубже проникнуть в мир, тогда оно само должно сначала стать опытом. Мы должны найти мышление среди фактов опыта как один из таковых фактов»[216].
10.
Теософия Гёте, или антропософия, исходит из очевидного. Если на эволюционной лестнице природы, в линии развития от минерального и растительного до животного и человеческого, человек представляет собой (чисто биологически, как наиболее сложный вид среди прочих видов) венец творения, то следовало бы не останавливаться на этой констатации, а продолжить её дальше. Вопрос, который напрашивается сам по себе, гласил бы тогда: Что же является венцом творения в самом человеке, в рамках вида человек? Бесспорно, что человек с одной стороны рекапитулирует весь нижний ряд: он тождествен минеральному в костной системе, растительному в силах роста и размножения, животному в инстинктах и ощущениях, и он есть еще нечто поверх всего этого. Что же есть это нечто, или, точнее, где и в чем следует искать его предел, вершину, кульминацию? Совершенно очевидно, что искать следует именно там, где само это искание оказывается впервые возможным: в МЫШЛЕНИИ. Мышление есть венец человека в том же самом смысле, в каком человек есть венец природы. Нелепо, стало быть, рассматривать мышление и природу (дух и материю) раздельно, чтобы биться потом над ребусом их соединения в познании; логично как раз обратное: увидеть в мышлении природу, развившую себя до возможности познать самое себя. Если отвлечься от необязательных моральных привкусов, то можно сказать, что метафора «животное», которой ближние при случае награждают друг друга, покоится на вполне реальном основании: в рамках вида «человек» мыслящий человек занимает по отношению к просто ощущающему или живущему инстинктами человеку то же место, что вид «человек» к виду«животное» в рамках дарвиновско–геккелевской природы. — Не требовалось никаких особых усилий, чтобы уличать Дарвина и Геккеля в их ошибках; гораздо труднее было увидеть их правоту и уже не блокировать их пугалами высокомерной метафизики, а дать им пройти их путь до конца, чтобы честно ищущее естествознание не застряло в середине поиска, а домыслило себя до духа. Ему пришлось бы тогда не останавливаться на зоологии, чтобы зоологическими средствами конструировать антропологию, некий ублюдочный образ венца творения, идеал которого степной волк или акула, а реальность индюк или морская свинка — ему пришлось бы домысливать (что значило бы: досоздавать) зоологию до собственно антропологии, чтобы венец природы не тщился переобезьянить обезьян и не просился«назад в природу», а предался бы занятиям, более приличествующим его одухотворенному естеству, равно как и нуждам мира. Такая антропология, на фоне другой уже имеющейся и во всех смыслах позорной (социалдарвинизм), предпочла зарегистрировать себя под именем антропософии. Антропософия — это такая теория эволюции мира, в которой наивысшей ступенью эволюции выступает человеческое мышление. Ключ к антропософии следует поэтому искать не в оккультных соблазнах, а в «результатах наблюдения по естественнонаучному методу»: «Мышление есть последнее звено в последовательном ряду образующих природу процессов»[217]. Человек «как дух достигает высшей формы бытия и создает в мышлении самый совершенный мировой процесс»[218]. «Задачей познания не является повторение в форме понятий чего–то уже имеющегося в другом месте, но создание совершенно новой области, дающей лишь совместно с чувственно данным миром полную действительность. Высшая деятельность человека, его духовное творчество, органически включается этим в общий мировой процесс. Без этой деятельности мировой процесс совсем нельзя было бы мыслить как замкнутое в себе целое. Человек по отношению к мировому процессу является не праздным зрителем, повторяющим в пределах своего духа образно то, что совершается в космосе без его содействия; он является деятельным сотворцом мирового процесса; и познание является самым совершенным членом в организме вселенной»[219].
11.
В этой точке стояния философию, прежде чем она созреет до смерти в своем прежнем качестве, ожидает еще одно, наиболее тяжелое, испытание: встреча со «стражем порога», конкретнее, с мыслителем, которому сподобилось в философском варианте разыграть роль мальчика из андерсеновского «Голого короля», объявив всю прежнюю философию и вообще культуру парадом несуществующих одеяний: «самым пустым и скудным черепом среди философов», по вердикту Маркса; в характеристике Штейнера «самым свободным из мыслителей, рожденных человечеством Нового времени». Макс Штирнер — расстрига немецкого и уже всяческого идеализма, Прокруст западной философии, укладывающий её всю без остатка на ложе вопроса «кто» — стоит перед становящейся антропософией приведенных выше отрывков и испытует её вопросом, от которого передергивало и всё еще передергивает безликих и безъячных философских докторов. «Понятийный вопрос: „что есть человек?" преобразовался в личный: „кто есть человек?"»[220]. Применительно к нашей теме это испытание формулируется следующим образом: если «мышление есть последнее звено в последовательном ряду образующих природу процессов» и если «познание является самым совершенным членом в организме вселенной», то позволительно спросить: ЧЬЕ мышление? ЧЬЕ познание?
12.
К пройденным нами выше ступеням сравнения: человек, как венец природы, мышление, как венец человека, прибавляется третья: венец самого мышления. Ибо если в первом случае можно еще биологически обобщить проблему, имея в виду родовое начало человека («Существует только один человеческий род»[221]), то в случае мышления, где дело идет уже не о биологическом, а о духовном, ситуация осложняется до невозможного. В измерении мышления человек есть всегда мыслящее Я, а Я всегда индивидуально («В духовном отношении каждый человек есть род сам по себе»[222]). Это значит: биологическая себетождественность рода, очевидная для животных, никак не очевидна и для людей. Западная логика, как логика рода, где differentia specified (индивидуальное) приносится в жертву genus proximum (родовому), должна была однажды, при соприкосновении с проблемой антропологии, разоблачить себя как порочный круг. Ибо если логически можно обобщать что угодно, то уж никак не кого угодно. В основе любого логического обобщения лежит гетерогенность того, что обобщается, и того, кто обобщает. Мы видим стол, этот, другой, третий, и заключаем от них к столу вообще. Если мы таким же образом заключаем и к человеку вообще, то добытый результат, при всей его фактической нелепости, не выдерживает и малейшего логического давления. Ибо человеческое в человеке (логически, а не биологически) отличается от стольного в столе и уже чего угодно тем, что общее человека, его сущность и понятие, частно и поименно, тогда как сущность и понятие всего остального обще. Разумеется, и в человеке есть зона обобщаемостей, но зона эта в человеке самое не–человеческое в нем, так как здесь он сращен всё еще с минеральным, растительным и животным в себе. Чем шире эта зона, тем уже собственно человеческое, то, что обозначается как «Я»: слово, которым каждый может обратиться только к самому себе. Люди, что бы на сей счет ни стояло в разного рода декларациях и конституциях, рождаются разными: однажды это может быть Лейбниц, другой раз мыслители, из которых двенадцать образуют дюжину. «Между отдельными людьми разница часто большая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными», говорит рассудительный Монтень[223].
Лорд Честерфилд выразил это с изящной грубостью очевидного: «У какого–нибудь ломового извозчика органы все по состоянию своему, может быть, ничуть не хуже, чем у Милтона, Локка или Ньютона, но по своему развитию люди эти превосходят его намного больше, чем он свою лошадь»[224]. Бесспорно одно: философская релевантность положения, согласно которому «мышление есть последнее звено в последовательном ряду образующих природу процессов», не может быть подтверждена обычными средствами философской рефлексии. Ибо мышление предполагает всегда и мыслящего. И если оно представляет собой «самый совершенный мировой процесс», то следует отличать логическую правомерность этого положения от его действительной правомерности. Его действительная правомерность ищет подтверждения не в понятийной истине, а в эмпирике конкретных случаев. При самой доброй воле трудно представить себе некое сообщество философов, умственно трудящихся под крышей истории философии на манер муравьиной кучи. Мышление какого–нибудь Локка и мышление какого–нибудь Шеллинга могли бы еще с общелогической точки зрения претендовать на вакансию совершенства вселенной; индивидуальнологически они несопоставимы. Ибо если уж позволительно различать Локка и какого–то ломового извозчика, то отчего же останавливаться на Локке, а не продолжить различие дальше? Никто, конечно, не станет утверждать, что Шеллинг по своему развитию превосходит Локка настолько же, насколько кучер этого последнего превосходит свою лошадь, но несопоставимость уровня мышления обоих кричащий факт.
13.
Самый совершенный мировой процесс являет себя, таким образом, в форме парадокса: чем универсальнее мышление, тем индивидуальнее пути его достижения. Но если пути достижения мышления называются логикой, то вопрос заключается в том, способны ли мы рискнуть на выводы и нести все логические последствия судьбы этой логики? Увидеть, к примеру, её первородный грех, а именно, тот небывалый факт, что, начиная с Аристотеля, в таблицах категорий при всех что, как, где, когда и т. д. просто отсутствует кто. Даже Пилат, поздний питомец симпосиона, стоя перед Истиной, спрашивал её всё еще в добрых традициях Академии и Ликея: «Что есть истина?» Странным образом философская мораль умещалась в рамках басенной морали о ротозее, зафиксировавшем всех букашек и проморгавшем слона: философ старательно фиксировал мысли и отмахивался от самого мыслящего. От такой вот логической малости, как самого Аристотеля в сравнении с его Органоном или самого Гегеля в сравнении с его Мировым Духом. Штирнер переставляет акценты и ставит западную логику перед скандалом посвящения в антропоморфизм. — Любопытно отметить, что это «испытание Штирнером» не ускользнуло от внимания такого проницательного читателя Штейнера как Эдуард фон Гартманн. Гартманн, мыслитель, необыкновенно высоко ценимый Штейнером [225], был одним из очень немногих, кто прочитал и по существу отреагировал на вышедший в конце 1893 года основной философский труд Штейнера «Философия свободы»[226]. Сохранился экземпляр книги с подробнейшими замечаниями Гартманна на полях[227]. Суть возражений: Штейнер пытается «объективировать юмовский феноменализм через абсолютность мышления». (Что феноменализм вовсе не обязательно должен быть юмовским, об этом философы, как феноменологи, станут догадываться чуть позднее, уже в XX веке.) Между тем, продолжает Гартманн, «с феноменалистической позиции мышление может лишь постольку быть названо универсальным и абсолютным, поскольку сознание, в котором оно свершается, является универсальным и абсолютным сознанием». Около решающего пассажа Штейнера: «Получаемое сугубо путем умозаключений и не могущее быть пережитым потустороннее зиждется на недостатке понимания у тех, кто полагает, что посюстороннее имеет основу своего существования не в себе самом», Гартманн приписывает следующее: «Первосущество имманентно мне, поскольку оно изживает себя во мне; но оно трансцендентно мне, поскольку оно изживает себя и в других. Большего не утверждал еще ни один трансцендентальный реалист, и с этим наверняка должен будет согласиться и Шт., если, конечно, он не хочет испытать на себе последствие феноменализма, именно, что мое сознание — это единственное сознание, в котором изживает себя Первосущество». Читатель, для которого ценность философских проблем заключается не в их сглаженности, а в их неубывающей напряженности, согласится с тем, что в означенной апории, в которой как бы предстала сама загадочность всех загадок философии, можно найти неизмеримо больше продуктивности и перспектив, чем в стерильных философских благополучиях XX века. Нужно ли после всего этого удивляться, что «Единственный» Штирнера в современной философской среде приравнен, в лучшем случае, к некоему курьезу, имя Гартманна вообще забыто, а Штейнер, как «оккультист», не считается достойным серьезного внимания. Куда ему, если философское внимание поглощено в XX веке такими серьезностями, как глубокомысленный Хайдеггер, плоский Ясперс или, с позволения сказать, модники вроде Деррида и Слотердейка!
14.
Вопрос Гартманна в маргиналиях к тексту «Философии свободы» (заметим: вопрос, инспирированный Штирнером) не мог быть отвечен в рамках традиционно философских средств. Ибо там, где речь идет окто, ответом может быть только личное свершение. Ответом Штейнера на гартманновское «подведение итогов» стала созданная им духовная наука.
Базель, 29 декабря 2003 года.
Reductio ad hominem
Опубликовано в книге: Рудольф Штейнер, Эгоизм в философии, M., Evidentis, 2004
Очерк «Эгоизм в философии» был написан в 1899 году для вышедшего в свет в том же году сборника статей «Эгоизм» под редакцией Артура Дикса. Можно понять мотивы, побудившие издателя Дикса подготовить такую публикацию; конец века в Германии стоял уже достаточно зримо под знаком Ницше, чтобы тема, совсем недавно еще числящаяся среди «выходящих из ряда вон», могла претендовать на особое внимание в топике злободневных проблем. Очевидно, с другой стороны, что эта привилегированность определялась не просто выбором темы, а качеством её исполнения; среди читателей, испуганных ходом мыслей «Эгоизма в философии», издателю Диксу выпала сомнительная льгота быть если не единственным, то первым. Не то, чтобы он не был готов к неожиданностям выбранной им темы, но лимит неожиданного обрывался у него, вероятнее всего, где–то между Ибсеном, Ницше и les poetes maudits, стало быть в зоне смысловых искривлений от «Бранда» и «Одного лета в аду» до «По ту сторону добра и зла». Насколько неадекватным должен был показаться ему «Эгоизм в философии», можно догадаться по редакторскому замечанию, которое он счел нужным предпослать статье, чтобы отмежеваться от неё путем апелляции к «плюрализму мнений»: «Целью нашего труда не мог быть сборник статей, подчиненных совершенно одинаковой, односторонней и преднамеренной тенденции; напротив, наряду с коллективным, социальным и национальным эгоизмом должен был быть выслушан и чистый индивидуализм, чтобы вопросы, волнующие нас здесь, были остро освещены со всех сторон. Читателю придется на свой вкус решать, состоит ли „человечество“ из полутора миллиарда „суверенных индивидов“ или из некой цепи социальных организмов». Образованный социолог Дикс не мог, по–видимому, взять в толк, что «человечество» в обоих предложенных им вариантах было для автора «Эгоизма в философии» не более, чем пустым звуком, по сути, неразжеванным куском дарвинизма, которым успели уже поперхнуться, если не подавиться, науки, вроде антропологии и социологии. «Человечество», состоящее из сосчитанных «суверенных индивидов» (или «социальных организмов»), едва ли выходило за рамки представлений о стаде, «состоящем» из баранов, или мошкаре, «состоящей» из мошек. С равным успехом можно было бы сказать, что и мировая литература «состоит» из букв (или, если угодно, слов), но умные люди предпочли бы обойти эту очевидность молчанием, полагая, что состоятельно в мировой литературе всё же не то, из чего она «состоит», а те, кто её — творят… Читатель, к вкусу которого апеллирует издатель Дикс, избежит структуралистской безвкусицы читать настоящий текст, как «дистиллят» каких–то себе довлеющих смыслов, и прочтет его в пункте имманентности, именно: в свете правила, сформулированного самим автором[228]: «Мысли другого человека должно рассматривать не как таковые — и принимать или отвергать их, — а нужно видеть в них вестников его индивидуальности… Философия никогда не может передавать общезначимую истину, но она изображает внутренние переживания философа, посредством которых он толкует внешние явления». Соответственно, история философии есть история не общезначимых истин, а самих философов, их внутренних переживаний, в которых они тем больше расширяются до «мира», чем больше они сужаются до«себя», — некое абсолютное reductio ad hominem в перспективах объяснения всего–что–ни–есть из человека. Антропологии (так сказали бы мы сегодня), не желающей выродиться в специфический придаток зоологии, нужно было вытянуться до антропософии, и обойтись при этом без эгоизма, как осознавшего и осмыслившего себя мужества к антропоморфизму, не представлялось решительно никакой возможности. (Рудольф Штейнер в одной записной книжке 1923 года: «Следует приобрести мужество к антропоморфизму — мир должен быть найден из человека».)
За перепуганным издателем Диксом последовали перепуганные — антропософы. (Нотабене: не те, в ком дарвинистически парализованная антропология домыслила, доволила–таки себя до антропософии, а«пятая колонна» христианского теизма, притворяющегося непогибшим за внушительностью санскритских речений или «розенкрейцера» на груди.) Шокировало уже само слово эгоизм — на фоне повсеместно склоняемых «самоотверженности», «бескорыстия» и «жертвенности». Казус (как и множество других) списывали на счет «раннего» Штейнера, почитателя Ницше и друга Геккеля. До более интеллигентного прочтения текста, вчитывания в него доходило дело у очень немногих; вчитывание грозило потерей собственной, бесхитростной, как «сельская честь», антропософии, лопанием её, как мыльного пузыря, и поставленные перед выбором: либо штейнеровский оригинал антропософии, либо копии прокрустовых «своих», без колебаний отдавали предпочтение копиям и даже мотивировали выбор красноречивыми цитатами из «доктора». Конечно, оптимальным было бы как раз не переиздавать сомнительную и мало кому известную статью из доантропософского прошлого, чтобы не сбивать с толку честных малых (толк — теософский камуфляж старых теологических догм); но тогда пришлось бы держать ответ перед немногими упрямцами, отказывающимися иметь дело с какой–либо иной антропософией, кроме той, которая коренится в мире мыслей философа Штейнера; оставалось с тяжелым сердцем издавать текст повторно — в расчете на то, что этими немногими чтение и ограничится. Некий вздох облегчения последовал после того, как стало возможным заменить в заглавии эгоизм относительно благозвучным индивидуализмом, ссылаясь при этом на указание самого автора[229]. Новое издание «Эгоизма в философии», под более пристойным заглавием: «Индивидуализм в философии», было выпущено в свет в 1939 году Секцией словесных и музыкальных искусств при Гётеануме в Дорнахе. Впрочем, и здесь не обошлось без эксцессов редакторского рессентимента: из текста, без каких–либо объяснений и оговорок, были изъяты три предложения вместе с дополнительной (в скобках) ссылкой автора на собственные книги «Истина и наука» и «Философия свободы», а также на двух родственно мыслящих современников. Скандальность случая, где дюжинному антропософскому издателю взбрело в голову отсебятничать в уже однажды изданном тексте, усиливается до вопиющести, если учесть, что вычеркнутое место имеет для статьи, а по существу и для всего творения Рудольфа Штейнера абсолютно решающее значение. Тема «Эгоизма в философии» — философское Я, которое хочет не только производить истины, но и существовать, причем существовать не милостью измышленной им самим потусторонней силы, а самодостаточно и своевольно (еще раз: не в моральном, а исключительно метафизическом смысле). Этот метафизический смысл сжат автором в формулу: «Понимающее само себя Я не может зависеть ни от чего иного, кроме себя. И ему не перед кем отвечать, кроме как перед самим собой». Чтобы читатель избежал соблазна воспринимать прочитанное в обманчивом свете историко–философских аналогий, скажем в линии от Фихте до Гуссерля, названное Я характеризуется в следующих трех предложениях, очевидно настолько ужаснувших издателя, что он счел нужным изъять их из текста: «После этих рассуждений представляется почти излишним сказать, что под Я может подразумеваться только воплощенное, реальное Я единичного человека, а не некое всеобщее, отвлеченное от него Я. Ибо последнее может быть получено только из реального Я путем абстракции. Таким образом, оно зависит от фактически существующего единичного человека». Нужно отдать должное профессиональной хватке дорнахских цензоров, обнаруживших не меньшую остроту реакции, чем их коллеги в Москве или Берлине (1939!). Нюх прирожденных убийц смысла безошибочно угадал, где и что надо резать, чтобы лишить текст его небывалой, неслыханной новизны и подать воплощенное, реальное Я «Эгоизма» под маской старого трансцендентального, по сути всё еще «божественного, слишком божественного» немецко–идеалистического Я или, в крайнем случае, фейербахианской «сущности человека», то есть, свести его обратно к тому, от чего оно освобождалось две с половиной тысячи лет и освободилось–таки в резолютивности вычеркнутых предложений. В этом дезактивированном антропософскими издателями тексте творца антропософии зеркально отразилась судьба самой антропософии, дезактивированной антропософами.
То, что истекшее столетие ухитрилось пройти мимо творения Рудольфа Штейнера, есть факт, который придется осмысливать во всех его последствиях, если, конечно, у наследников названного столетия будет еще потребность и возможность что–либо вообще осмысливать. Достаточно уже внешне окинуть взглядом масштабы и трансцендентность этого творения, чтобы проверить себя на честность и, в случае положительной реакции, опознать в себе того самого басенного ротозея, который в сплошном увлечении букашками или, если угодно, раздувающими себя лягушками — проглядел слона. Образ вполне безобидный, даже, по более пристальном рассмотрении, не вполне адекватный, если учесть, что дело идет не о случайной и разовой оплошности, а об оплошности, отшлифованной в метод: ротозей в данном случае — это не тот, кто просто не видит слона, а тот, кто не видит его намеренно, так сказать, в силу налаженной и контролируемой слепоты, по принципу: не вижу, следовательно, не существует. Подавляющее большинство образованных, полуобразованных, малообразованных и того менее образованных современников — от академической элиты до социологически опрашиваемых «всех» — никогда не слышало имени Штейнера или знает о нем только то, что он был оккультистом, теософом и ясновидцем, причем в последнем случае реакция на узнанное зависит от амбивалентности отношения к перечисленным предикатам: некто «ясновидец» оказывается в центре внимания, и тогда в смещенных перспективах читательской психики ему находится место разве что возле всякого рода «Кассандр», либо же он не вызывает никакого другого интереса, кроме негативного, и тогда всё в тех же смещенных перспективах он видится шарлатаном или самогипнотизером (а скорее всего и тем, и другим). Случай Штейнера поддается этой каталогизации, при условии что ротозей–каталогизатор категорически зажмуривает глаза или — в другой, более рафинированной версии — спит с открытыми глазами; но достаточно уже приоткрыть их на мгновение или на мгновение же стряхнуть с себя сон, чтобы увидеть, что «ясновидец» и творец духовной науки, запечатленной в более чем 350 томах всё еще публикуемого «полного собрания сочинений», меньше всего может быть понят из какой–либо оккультной или гностической традиции, больше всего из современной ему естественнонаучной мысли. Когда на рубеже столетий этот выпускник Венского Политехникума, пионер научного гётеведения и создатель оригинальнейшей теории познания (феноменологии sut generis, развивающей — до Гуссерля — темы Гуссерля в углублениях, и не снившихся Гуссерлю) принял решение «стать» теософом, и даже не в частном порядке, а взяв на себя руководство немецкой ветвью Теософского общества, это вызвало шок не только у друзей–единомышленников, но и у самих теософов, причем источником шока в обоих случаях оказывались две традиционно никак не совместимые друг с другом книги: «Философия свободы» (1894), основной философский труд Штейнера, и «Теософия» (1904), его основной духовнонаучный труд. Единственной возможностью кое–как замять скандал, или, если угодно, подать его в выгодном свете, было подвести его под жанр «обращения» в сценарной линии от Августина до Сведенборга или романтиков; речь шла бы тогда о молодом вольнодумце, требовавшем было замены Бога свободным человеком[230], но с годами прозревшем и отдавшем остаток жизни тщаниям в богомудрии. Между тем, ничего более нелепого нельзя было и придумать; автор «Теософии» не только не отрекался от «Философии свободы», но утверждал одинаковость интенций обеих книг[231], что, в свою очередь, наверняка должно было казаться абсурдным как недавним соратникам по вольнодумству, так и исполненным благочестия теософам. Если некто, поменявший «идеал Бога» на «идеал свободного человека», пришел–таки к «Богу», не сложив своей «свободы», а как раз употребив её, то очевидно, что этот «Бог» даже отдаленно не мог уже иметь ничего общего с «Богом» традиции, сделавшим (после опыта с Иовом) ставку на веру и перманентно вытесняемым с тех пор: сначала (теологически) в догму, потом (просветительски) в мораль и наконец (естественнонаучно) в «никуда», в несокрушимую насмешливость ницше–стендалевского: «Единственное оправдание Бога в том, что Его не существует». Проблема Бога в XIX веке — это проблема не веры, а знания, причем не мистического или какого угодно маргинального знания, а знания научного, больше: естественно научного, что значит: эмпирического, индуктивного, эпагогического, где «быть или не быть» Бога решается единственно наличием или отсутствием опыта о Боге, возможностью или невозможностью Его наблюдаемости; очевидно, что этому Богу, в эпоху смерти Его теистического двойника, предстояло еще явиться и выдержать феноменологическую проверку на очевидность — онтологический аргумент от Ставрогина: «чтобы сделать соус из зайца, нужно зайца», соответственно: «чтобы верить в Бога, нужно Бога», усиливался во втором случае поправкой на атеизм: «чтобы не верить в Бога, тоже нужно Бога», настоящего (в двойном смысле подлинности и сиюминутности) Бога, а не Бога «по выходным дням», не годящегося уже не то, чтобы в «хлебнасущный», но и к «сладкому столу»… История западной мысли, как перманентный поиск Бога, в которого можно было бы верить или не верить, оборачивалась историей (и кармой) философски безупречного осла, asinus Buridani, заморившего–таки себя голодом «нигилизма»между охапками веры и безверия, из неспособности как верить — но тогда уже без «потому что абсурдно», так и не верить — но тогда уже без «черных кошек» и оглядок на «пещеры и дебри Индостана». Мистерия перехода от «Философии свободы» к «Теософии» оттого и действует столь шокирующим образом, что ей нет аналога в традиции; от свободомыслия путь вел скорее в скепсис и пресыщенность, если угодно даже в гуманизм (между припадками мизантропии), но уж никак не в «оккультизм», если, конечно, казус не толковался задним числом на манер агиографических шаблонов. «Теософия» есть богомудрие; между тем свобода не была бы свободой, не будь она прежде всего свободой от Бога; что, впрочем, ужасало, так это не сама «смерть Бога», а то, что «после смерти Бога»: пустота, на деле абсолютный нигилизм, или, если уж на то пошло, эгоизм, с неизбежным выходом в прак–сис вырождения и вседозволенности. От освобожденного можно было ожидать чего угодно и в каком угодно раскладе, по эпатажной шкале от Уайльда до героев Гюисманса, Арцыбашева или Пшибышевского; даже Макс Штирнер, протагонист конца западной философии, о котором она и по сей день имеет не больше представлений, чем о собственной смерти, не находит на грани превращения своей теории в жизнь иных слов, чем: «Я не забочусь больше о жизни, а „проматываю" её»[232]. Что здесь ни при каких обстоятельствах не укладывалось в голове, так это — «теософия», причем теософия sut generis: очень странная теософия, путь к которой лежал через углубленное естествознание; если о творце антропософии и по сей день судят еще по переписываемому из книги в книгу трафарету, что его духовная наука коренится–де в буддизме (по другой версии, в западной эзотерике), короче в некой традиции, то это не больше, чем рецидивы ствердевшего в струп старого непонимания. Насколько глубоко это непонимание пустило корни даже среди антропософов, видно уже из текстов на суперобложках некоторых книг Штейнера, где среди прочего можно прочитать и следующее: «Антропософия являет ищущему человеку XX века новое спиритуальное миро– и человековоззрение, которое в отличие от восточных традиций коренится в западной духовной жизни и в центре которого стоит событие Христа». Хуже, при благих намерениях, и не придумаешь. Антропософия не коренится в западной духовной жизни; её корни обнаруживаемы единственно в философском творении Штейнера, озаглавленном «Философия свободы», конкретно: в интуитивно переживаемом, беспредпосылочном, мышлении, имеющем основание в себе самом и in spe дающем всякой жизни (в том числе и западной духовной жизни) смысл и оправдание. Если в центре её стоит событие Христа, то не оттого, что она ко всему прочему уходит корнями еще и в христианство, а оттого, что в своей центральной интуиции, которая уже оттого не имеет ничего общего ни с какой традицией, что извечно свершается в «здесь и теперь», она опознает ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ В НАСТОЯЩЕМ космического Христа. — То, что философ и теософ Штейнер неизвестен большинству, не только объяснимо, но и в каком–то, вывихнутом, смысле даже естественно; большинство туго на подъем, а уж тем более на подъем духа, и предпочитает, как всегда, быть ведомым, скорее, за нос, чем собственным умом. Досадно лишь и уже едва ли в порядке вещей, когда большинство оказывается большинством антропософов, ведомых, как им кажется, хоть и собственным умом, но всё еще и тем решительнее за нос.
«Эгоизм в философии» — очерк истории философского сознания, или самих философов, как эгоистов сознания, не решающихся осознать себя таковыми и оттого гипостазирующих сознание в метафизически объективную потусторонность. Можно было бы сказать и так: некое историко–философское аперсю, которое написал бы Макс Штирнер, приди ему в голову писать его, и будь он в состоянии вообще писать что–либо после уже написанного «Единственного и его достояния». Исключительный интерес Штейнера к скандальному и намертво замолчанному автору «Единственного» вынуждает к радикальному, а главное, неизбежно альтернативному осмыслению случая; переиначив и в известном смысле даже удвоив известный парадокс Якоби о кантовской «вещи в себе», без которой нельзя войти в систему Канта, с которой, однако, там нельзя оставаться, мы скажем: с Штирнером нет никакой возможности ни войти в западную философию, ни в ней оставаться, но без него она походила бы на знаменитый лихтенберговский нож без рукоятки и с отсутствующим лезвием. Штирнер — подведение итогов или, если угодно, кармический счет, предъявленный двум с половиной тысячелетиям философской истории Запада. Нужно обратить внимание на исходную предпосылку этой истории, её абсолютный лимес, чтобы за множеством отклонений, кружных путей и ответвлений не упустить из виду линию её заострения, её прицельную дальность, как бы некий (вместе: неожиданный и неизбежный) конечный пункт её назначения. Начиная с Парменида, предпосылка эта осознана и означена как бытие, сначала (в языческой версии) как анонимное to on, далее (в христианской редакции) как единый Бог. Если абдериту Протагору выпала участь быть зачисленным в софисты, то виной тому была, очевидно, не столько неспособность современников и потомков воздать должное его субъективизму, сколько преждевременность самого субъективизма, иначе: невозможность подыскать ему «субъекта», отвечавшего бы его трансцендентальным притязаниям; положение: «человек есть мера вещей», могло бы стать путеводной звездой мысли, при условии что названный человек, во–первых, был бы, во–вторых, был бы назван по имени и, в-третьих, мог бы явить себя вещам, как меру. Между тем понадобилось тысячелетие, прежде чем проблема человека, как такового, могла быть вообще философски осознана, и осознана как апория, грозящая западной философии самоупразднением. Первые симптомы осознания падают на Новое время, причем по линии как рационализма, так и эмпиризма, с заострением в кантовский критицизм; центр тяжести смещается здесь с бытия на сознание, а сдвиг мотивируется категориальностью самого бытия, или его предицируемостью из сознания: «быть» значит быть осознанным, помысленным, просто воспринятым. Нетрудно было догадаться, что за этим коперниканским переворотом скрывалась лишь новая схоластика, именно, схоластика сознания, вытеснившая прежнюю схоластику бытия, но унаследовавшая — под антропологическим камуфляжем — её метафизическую атрибутику. Замена трансцендентного бытия (Бога) трансцендентальностью сознания не выходила за рамки скрытой ratiocinatio per analogiam; переместив центр тяжести с метафизики на критику познания, перенесли сюда и (терминологически нейтрализованные) привилегии старой онтологии, так что отличие картезианского или кантовского сознания от esse est Deus схоластической философии сводилось лишь к поправке в индексе модальности (вместо раздельных «трансцендентности» и «имманентности» получили, как скажет позже Гуссерль, «трансцендентность в имманентности»). Общим дефектом в том и другом случае оставалась чистая понятийность и отвлеченность; но если Бог теизма, внеположный сознанию и конституирующий сознание из надмирного бытия, мог еще пользоваться льготами своей философской неприкосновенности, то, изгнанный из бытия в сознание и сознанием конституируемый, Он рано или поздно должен был выдержать проверку на конкретность. Камнем преткновения выступил «человеческий фактор»: «импондерабилии» единичных личностей, по отношению к которым как метафизическое бытие, так и гносеологическое сознание сохраняли статус абсолютной запредельности. Концы сошлись в немецком идеализме, хоть и стартующем у Фихте с абсолютной субъективности, но (уже в «Наукоучении» 1801 года) берущем курс на добрый старый «онтос». В кантовском единстве апперцепции, «Я» Фихте, абсолютном субъект–объектном тождестве Шеллинга, гегелевском Мировом Духе философское прошлое резюмируется прямо–таки в гармониях «Оды к радости», словно бы речь и в самом деле шла о кульминации, а не о тупике. Замаскированному однажды под «бытие», другой раз под «сознание» теистическому Богу Запада пришлось–таки споткнуться на оскорбительно ясном обстоятельстве, на такой мелочи, как «человек»: не homo logicus силлогистических фигур, а конкретный имярек. Если философский бунт Штирнера был единодушно оценен как абсурд[233], а позже и вовсе замолчан, то логика этого поведения заслуживает не меньшей снисходительности, чем скалолаз, чуть было не сорвавшийся однажды с головокружительной высоты и замалчивающий с тех пор скалы. Нужно было сбивать небывалый вкус «Единственного и его достояния» стилистическими пряностями Ницше или даже притуплять его трактирной патетикой Достоевского, чтобы читающая публика решилась хотя бы в облатках принять в себя серьезность случившегося.
Штирнер — вирус философских программ: философ, уничтожающий философию, едва прикоснувшись к ней мыслью, причем мыслью, провоцируемой не эпатажем или парадоксами, а единственно желанием быть домысленной до конца. Если causa sui и принцип всех принципов статуируется не в бытии, а в сознании, значит начало философии, на какую бы объективность она ни рассчитывала, субъективно, и значит, субъективность есть начало философии. Hic salta! Ибо субъективность требует субъекта. По аналогии: схоластическая философия различала quidditas (чтойность) и дополняющую её haecceitas (этость): скажем, человечность, как таковую (humanitas), и человечность Сократа (Socratitas). Человек Сократ выступал дифференцированным (вот этим вот, hic) носителем человечности; ответ на вопрос о её общем носителе, так сказать, субъекте самого бытия оказывался соразмерным эпохе соборов и знамений: Бог. Понятно, что и новой философии пришлось на свой лад решать означенный вопрос — с оглядкой на схоластику и при её умолчании. Но если схоластическое решение лежало в Боге, а Бог был бытием, то новая философия, отталкивающаяся не от бытия, а от сознания, встала перед проблемой абсолютного субъекта сознания. Чтобы избежать разъедающего скепсиса Юма и растворения философии в релятивизме, Кант строго различил эмпирическую и трансцендентальную субъективность, передав последней права Бога теизма — правда, в сильно урезанной и теологически ненормативной редакции организатора мира математического естествознания. Субъектом–носителем сознания (сознания вообще) стал Трансцендентальный Субъект: в более утонченной, функциональной, версии, «чистая форма сознаваемости» (Риккерт), на фоне которой эмпирическому субъекту не оставалось ничего иного, как быть местом философских отходов, как–то: биологизма, феноменализма, психологизма и т. п. Парадокс приковывал внимание с очевидностью подожженного бикфордова шнура: если старое бытие реагировало на вопрос«что» и логически обобщалось в «чтойности» Бога, то очевидно, что сознание, субъект, Я могло откликаться исключительно на вопрос «кто», причем не иначе, как во множественном числе и персонально. Подвох лежал, однако, не столько в многообразии эмпирических субъектов (других сознаний), сколько в «кто» самого Трансцендентального Субъекта, перенявшего полномочия Божества и вынужденного делать ставку уже не на веру и мораль, а на логику и научный эксперимент. Оставалось отважиться на «абсурдный»вопрос: если Я эмпирического субъекта Фихте, вскоре после его рождения в 1762 году и до его смерти 29 января 1814 года, откликалось на «кто» Иоганна Готтлиба Фихте, то на «кого», собственно, могло бы откликнуться абсолютное Я философа Я Фихте? Разве не очевидно, что этому Я, не будь оно воплощено, выпала бы участь быть только–мыслью, только–понятием, nothing but a word несокрушимого англоязычного номинализма? Теологи лишь отсрочивали развязку, обходя молчанием вопрос: что делает Бог в эпоху научного материализма и университетского атеизма, чтобы не быть уволенным за просроченный платонизм? В ином ракурсе: если понятие Я воплощено, если оно не теоретично, а фактично, то В КОМ, ЧЬЕ, КТО? Мог бы философ Фихте сказать о своем «Наукоучении», как художник Флобер о своей героине: «Наукоучение — это Я»? Буквально: «Я Науко–учения — это мое, Фихтево, Я»? Христианской аудитории впору было бы вспомнить в этой связи христианского Бога, ставшего однажды плотью в попрание всех запретов и аксиом языческого коллегиума. Но Бог христианства, как известно, не снисходил сам до философствования, препоручив эту заботу как раз участникам названного коллегиума, которые с тех пор и присно дезинфицируют её в надежном дохристианском plusquamperfectum'e… Не секрет, что теология всегда спотыкалась о божественные парадоксы; её и не было бы в помине, как теологии, не научись она справляться с ними апелляцией к «безумию креста» или к заклинательным формулам типа «верую, ибо абсурдно». С философией, конечно же, дело обстояло иначе. За абсолютной невозможностью приспособить эти заклинания и к философии, где неприлично же было бы сохранять лицо, апеллируя к «безумию интеллекта», философам, поставленным перед проблемой эгоизма в философии, не оставалось иного выбора, чем между сведением своего Я к пучку представлений и мужеством не потерять самих себя в собственных мыслях[234].
В «Единственном» Штирнера западная философия, только что отпраздновавшая у Гегеля свою абсолютность, попадает в ловушку hysteron proteron. Штирнер, эксгегельянец, скорее раздраженный, чем воодушевленный попыткой Фейербаха низложить надмирную метафизику Гегеля средствами метафизически же вскормленного гуманизма, домысливает её эгоистически, именно: не останавливаясь, подобно Фейербаху, на абстрактно–родовой «сущности человека», в обратной перспективе вывернутого наизнанку, так сказать антропологизированного гегельянства, а доводя её до конца, до дальше некуда, до конкретного имярека, ну да: до Иоганна Каспара Шмидта, он же Макс Штирнер. Что случившееся легче всего уместилось бы в рубрике от великого до смешного, в этом согласно сходились «коллеги» как слева, так и справа; гораздо труднее было предположить обратный ход в один шаг, именно: от смешного до великого. Гегель, как известно, возвел философию в ранг абсолютного, причем не в рамках метафизического догматизма, а с позиций своеобразно осмысленного эволюционизма; если мир развивается и совершенствуется от низшего к высшему, то высшее мира есть сознание, соответственно, высшее сознания есть дух, а высшее духа — сознающая его философия. Таким образом, не философия существует, чтобы объяснять мир, а мир существует, чтобы становиться философией. Штирнеровский tour de force начинается с вопроса: ЧЬЕЙ философией? Ответ альтернативен: либо (в данном случае) гегелевской, либо — и уже принципиально — ничьей. Но если гегелевской, значит ли это, что Гегель сам и есть Мировой Дух? Допустив, что Творцу мира захотелось бы однажды выйти из–под опеки философов, тем более теологов, и — зафилософствовать самому… Увидел же однажды автор «Феноменологии духа» Мирового Духа на коне; отчего бы и не на ректорском стуле? Совсем в тональности последних туринских писем Ницше, но в полном здравии и без малейшего намека на срыв: «в конце концов меня в гораздо большей степени устраивало бы быть славным берлинским профессором, нежели Богом; но я не осмелился зайти в своем личном эгоизме так далеко, чтобы ради него поступиться сотворением мира». Мог ли сам Гегель не знать, чьей философией, кем собственно становится в нем мир? Предположить обратное, значило бы бросить на Дух, мыслящий себя, как мир, тень подозрения в утрате им идентичности… Против колкой и пьянящей необычности этих вопросов предостерегает школьная логика, дозволяющая заключать от общего к частному, но не от частного к общему (ab universali ad particulare valet, a particulari ad universale non valet consequentia), в рассматриваемом случае: от Мирового Духа к философу Гегелю, но не наоборот. Единственно допу–стимым ответом на вопрос: чья философия? оказывается тогда: ничья. Ничья философия, ничье сознание, ничей дух[235]: на это ничто и ставит апостат гегельянства Штирнер, а вслед за ним и экспериментатор нигилизма Ницше — оба с провалом в молчание и безумие. О Ницше, уже больном, говорит однажды Штейнер, что ответ на множество своих вопросов, оставленных им открытыми, Ницше нашел бы в «Философии свободы»[236]; выше было предположено, что «Эгоизм в философии» написал бы Штирнер, будь он в состоянии писать, вообще жить после «Единственного и его достояния»[237]. (Допустив, что жить и значило бы в этом случае: жить как «Единственный».) Штирнер: «Идеал „человек" реализован, когда христианское воззрение переходит в формулу: „Я, вот этот единственный, имярек, и есть человек". Понятийный вопрос: „что есть человек?" превратился тем самым в личный: „кто есть человек?" В случае „что" искали понятие, чтобы реализовать его; с вопросом „кто" в спрашивающем налицо уже не вопрос вообще, а ответ: вопрос сам отвечает на себя»[238]. Интересно в этом отрывке между прочим и то, что он поддается не только философскому, но и христианскому прочтению, именно, как своего рода поправка к Пилату, к вопросу Пилата: «Что есть истина?» Христианской философии (по сути, всё еще старому платоновско–аристотелевскому симпосиону, и даже не столько в греческом, сколько арабском варианте) пришлось прождать свыше тысячи лет, пока на неё сошла, наконец, благодать понимания: пилатовский вопрос оставлен не отвеченным не потому, что спрашиваемому нечего на него ответить (Логос, зажатый в угол логиком!), а потому, что он поставлен неверно, неадекватно, мимо. Ответ на вопрос: «Что есть истина?» — асимметрично и имманентно — дан до самого вопроса: Иоан. 14,6: «Яесмь […] истина». Пилату, а с ним и всему христианскому миру, понадобилось (понадобится!) пройти школу «безбожного» Штирнера, чтобы понять, что, стоя лицом к лицу с ВОПЛОЩЕННОЙ истиной, не спрашивают: «Что есть истина?», а спрашивают единственно: «КТО есть истина?», и спрашивают силою уже однажды данного и явленного ответа: «Я есмь
[…] истина». От непонятого и так непонятого Бога путь не мог уже не вести к оглашенной Ницше смерти Бога, и вовсе заболтанной терминоохотливыми клерками XX века. Остается лишь догадываться, куда ведет путь от непонятого и так непонятого Человека, смерть которого с почти неприличной поспешностью стали уже загадывать последние из смешных эпигонов некогда великой философии.
Еще раз: парадокс ситуации лежит в её абсолютной тупиковости с точки зрения традиционной философии. Принципиальная необъективируемость Я, единственного понятия, денотат которого единичен и неповторим, обессмысливает всякую чисто логическую (генерализирующую) возможность эгологии. Логически можно обобщать всё что угодно, кроме того, кто обобщает сам. Ибо последнему, прежде чем обобщать самого себя, как человека, пришлось бы сперва реализовать себя, как человека, чтобы было что обобщать; школьная теория абстракции, по которой обобщение есть устранение индивидуального из вещей и удержание в них общих признаков, пожалуй только по жанру отличалась от мольеровского опиума, который действует снотворно, потому что в нем есть снотворная сила. Познание вещей внешнего мира результируется связью понятия и восприятия; вещь познана, когда мы заполняем её данную в восприятии форму понятийным содержанием (а не наоборот, пустое понятие слепым содержанием, как в кантовской критике познания). «Философия свободы» (гл. IX) оговаривает исключение из правила: «В случае человека это не так. Сумма его существования не определена без него самого: его действительное понятие, как нравственного человека (свободного ума), не соединено заранее и объективно с образом восприятия „человек", чтобы быть затем просто констатированным в познании. Человек должен сам по собственной инициативе соединить свое понятие с восприятием человек. Понятие и восприятие тождественны здесь лишь в том случае, если человек сам приводит их к тождественности. Но он способен на это лишь в том случае, если он нашел понятие свободного ума, то есть, свое собственное понятие». Это значит: понятие Я добывается не в акте абстрактно категориального синтеза, как в случае прочих вещей, а каждым в отдельности[239]; я, имярек, воспринимающий себя (биологически) как человека, не могу обобщить себя в понятие «человек» (в буквальном смысле: понять себя) по той простой причине, что понятие это мне прежде нужно еще найти, и найти не на соседе, а на (понятийно) отсутствующем самом себе. Найти понятие Я, значит: стать Я, значит: воспринимать себя — конкретное, единичное Я — тождественным логическому Я, тому, силою которого каждый единичный обращается к себе на Я. Фихте, автор «Назначения человека», нашел его, не став им; мировое Я, полагающее у Фихте самого себя как Я, а после противополагающее себе Не-Я, в обоих случаях статуируется «частным» Я Фихте, которое по–платоновски может мыслить свою идею, но которому недостает христианской воли осуществить её в теле. Немецкий идеализм, резюмирующий послехристианскую философию, подобно тому как неоплатонизм резюмировал философию дохристианскую, так и не решился на эгоизм отождествления трансцендентального Я с эмпирическим Я[240]. Решился — Штирнер: «опустившийся школяр, охальник, помешанный на Я, очевидно тяжелый психопат» (Карл Шмитт), но и его решимости хватило не на большее, чем манифест; до реализации понятия «человек» путем реализации понятия «познание» дело не дошло — безумие, настигшее автора «Единственного», разыгрывалось хоть и не столь зрелищно, как позже у Ницше, тоже попытавшегося стать «Единственным» и тоже выдохшегося на манифесте, но не менее аутентично: в долговой тюрьме, куда он дважды попадал в результате своих посреднических сделок… «Эгоизм в философии», время появления которого пало как раз на промежуток, разделяющий «Философию свободы», как науку и действительность штирнеровско–ницшевского жизневоззрения, и «Теософию», как введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека, есть, теоретически: экспликация бессознательного «штирнерианства» в философской традиции, практически же: расширение ВНУТРЕННЕГО МИРА автора до мира истории философии — перед его расширением в мир кармы и реинкарнации; философы освобождаются здесь от наследственного греха абстрактности тем, что рассматривают вселенную не в линии отчужденных философем и парадигм, а как свое достояние, себя же как владельцев и собственников вселенной. «Философия свободы» (гл. XIII) не поляризует мир влечений и мир мыслей, как низшее и природно–эгоистическое, с одной стороны, и высшее и благородное, с другой, а рассматривает их воедино, после чего оказывается, что влечения влекут отнюдь не только в «низшее», но и — не с меньшей страстью — в «высшее», а мысли распирает от такой витальности, перед которой блекнут всякие «биологизмы». «Для раскрытия всего человека требуются и вожделения, происходящие из духа. […] Кто считает нравственные идеалы достижимыми лишь в том случае, если человек умерщвляет своеволие, тому неизвестно, что эти идеалы в такой же степени желаемы человеком, как удовлетворение так называемых животных потребностей»[241]. В опубликованной вскоре после выхода в свет «Эгоизма» рецензии на книгу Германа Тюрка «Гениальный человек» эта мысль выражена еще раз в бьющем словами, как молотом, отрывке. Гениальный человек, по Тюрку, есть преодоленный в любовь эгоцентризм, отказ от субъективности в пользу объективности. Тюрк: «Там, где в игру вступает личный интерес, субъективность, себялюбие, истина посылается ко всем чертям. Если, таким образом, себялюбие, субъективность и ложь суть родственные понятия, то противоположность себялюбия, любовь, чистый интерес к самим вещам, объективность теснейшим образом связаны с истиной». На это возражает Рудольф Штейнер решительным: «Нет, и трижды нет! Где личный интерес, субъективность, себялюбие человека настолько облагорожены, что он заинтересован не только в собственной персоне, но и в целом мире, там единственно и лежит истина; если же человек столь убог, что он лишь через отрицание своего личного интереса, своей субъективности в состоянии заботиться о больших гешефтах мира, то он живет в злейшей лжи существования». И дальше: «Не отрекаться от себя должен человек; он не может этого. И кто говорит, что он может это, тот лжет. Но себялюбие способно вознестись до высших интересов мира. Я могу заботиться о делах всего человечества, потому что они в такой же степени интересуют меня, как мои собственные, потому что они стали моими собственными. „Собственник" Штирнера — не ограниченный индивид, замкнувшийся в себе и предоставляющий миру быть просто миром; нет, этот „собственник" есть настоящий представитель Мирового Духа, который приобретает себе весь мир как „собственность", чтобы таким образом распоряжаться делами мира как своими собственными делами. Расширьте лишь прежде вашу самость до самости мира, и поступайте затем всё время эгоистично.
Будьте как торговка, торгующая на рынке яйцами. Только заботьтесь из эгоизма не о гешефте яиц, а заботьтесь из эгоизма о мировом гешефте!». Повелительное наклонение не должно сбивать с толку: это не императив, того менее призыв или побуждение, а условие. С отказом от личного эмпирического Я в пользу абстрактного и абсолютного философ, сам того не замечая, переставал, как философ, жить. Фатальным образом ему самому приходилось испускать дух как раз там, где он начинал рассуждать о духе; ну какому же биографу Гегеля пришло бы в голову вычитывать подлинную, не рассредоточенную отвлечениями в несущественное, нетленную гегелевскую жизнь из «Феноменологии духа»! Где философ не мог (или не хотел) жить, так это в собственных мыслях; живи он в них столь же стихийно и импульсивно, как иная чувственная натура живет в непредсказуемости своих страстей, мы имели бы наверняка решительно иное представление о жизни, чем это обнаруживается в импликациях обывательской фразы «такова жизнь». Обывателю пришлось бы затаить дыхание перед философом, вознамерившимся — жить. Ибо философ живет в Я, как обыватель живет в теле. В контексте «Философии свободы»: философ — это уже не тот, кто (в старом просветительском смысле) имеет мужество пользоваться собственным умом, ни даже тот, кто способен возвести свое мышление до синопсиса вещей, или идеации их чистых сущностей, а тот, кто переживает свое мышление с непосредственностью перцептивных реакций, кто живет в мыслях как в теле и ощущает в себе Дух Мира как собственную душу. Иначе: философ — это единственный. Возможна — уже из духовнонаучной перспективы — и следующая аналогия: если в обычной, прижизненной, иерархии человеческого существа физическое тело есть низший член, а Я высший, то случай философа антиципирует посмертный расклад: в функции физического тела (носителя) выступает его Я, а в функции Я — Дух, который так же отождествляет себя с Я, как последнее по обыкновению отождествляет себя с физическим телом. Если при случае этот философ («чистый и абсолютный эгоист») примет решение раздарить свое Я — СЕБЯ САМОГО как Я — терпящим нужду ближним: картезианским автоматам, полагающим, в простоте analogia entis, что и они уже люди, тогда как человеческого в них попросту даже еще и не начиналось; если, иными словами, он решит преподавать свою философию так, чтобы желающие учиться получали через неё не знания, а самих себя, то в этом решении, а вовсе не в какой–либо традиции, восточной или западной, всё равно, и следовало бы искать начало АНТРОПОСОФИИ.
Увиденный так, а именно биографически, «Эгоизм в философии» обнаруживает себя как связующее звено между философски несовместимыми мирами «Философии свободы» и «Теософии». Тщетно и во всех смыслах нелепо читать его как «философию» в расхожем смысле, тем более как некий замкнутый в себе философский дискурс — по модной модели «произведения без автора». Это произведение и есть сам автор, некий род биографии СОЗНАНИЯ, расширяющегося до ТВОРЕНИЯ. Эдуард фон Г артманн («умнейшая личность XIX века», скажет о нем впоследствии Штейнер), испещривший свой экземпляр «Философии свободы» заметками на полях, не увидел в ней ничего, кроме (по его мнению, даже и не осознанной автором) опасности солипсизма, абсолютного иллюзионизма и агностицизма. Нетрудно догадаться, что в «Эгоизме в философии» он усмотрел бы лишь потенцированное подтверждение своей оценки. Гартманн умер в 1906 году. Двумя годами раньше вышла в свет книга «Теософия». Понятно, что «классика» Гартманна должно было оттолкнуть уже само её заглавие; но это было личной причудой великого метафизика, никак не относящейся к делу. Книга «Теософия» носит подзаголовок: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека. Так сформулировано это автором, обвиненным философски в солипсизме, иллюзионизме и агностицизме. Гартманну, случись ему прокомментировать и «Теософию», пришлось бы улаживать казус «агностицизма», вводящего в «сверхчувственное познание мира», и «солипсизма», ушедшего в тему «назначение человека»… Понятно, что единственным выходом было растождествить обе книги и каталогизировать их по абсолютно разным рубрикам, несмотря на их подчеркнутую автором гомогенность. Можно сказать и так: критик философа Штейнера Гартманн наверняка был бы прав, остановись философ Штейнер на «Философии свободы» и вариациях к ней («Эгоизм в философии» и есть историко–философская вариация «Философии свободы»), то есть, в конечном счете на теории, скажем: стань он университетским профессором и преподавай он собственное мировоззрение; с чисто теоретической точки зрения штейнеровское мировоззрение оказывается не логической или метафизической конструкцией, симметрично рассчитанной на критику и всякого рода рецензии, а неслыханным, небывалым, беспрецедентным притязанием — по сути, реактивизацией жизненного мира, в нехоженностях которого пропали Штирнер и Ницше, но и без сколько–нибудь предсказуемых развязок, как у последних, которым удалось–таки несколько смягчить нелепость воззрений уходом со сцены в одном случае, и роскошествами стиля в другом… Очевидно: читая «Эгоизм в философии», мы находимся в режиме перехода, и логика, по которой нам приходится осмысливать событие, если мы хотим понять его, а не закидать словами, должна строиться как раз в движении мысли, меньше всего в стоянии на месте с каждый раз соответствующей месту терминологией. В последнем случае событие Штейнер 260261 уже по одному тому должно замалчиваться или отвергаться философами, что черта «стояния» здесь — грань, за которой нет и не может быть никакой философии, по крайней мере философии, как познания, тем более «по естественнонаучному методу». Страж философского порога Гартманн не увидел в философском «дебютанте» Штейнере ничего, кроме попытки объективации юмовского феноменализма через гегелевскую абсолютность мышления; эта оценка могла бы отвечать действительности, при условии что в таком случае в феноменализме не осталось бы ничего от Юма, а в абсолютности мышления от Гегеля — но она же бьет мимо, если представить себе абсурд соединения Юма с Гегелем, где и Юм продолжал бы оставаться Юмом, и Гегель Гегелем. Но попробуем–ка вообразить себе философа, который был бы готов взять на себя ответственность следующей фундаментальной интуиции штейнеровского мировоззрения: мышление, свершающееся (если угодно, по Юму) в субъекте, принадлежит не субъекту, как таковому, а (если угодно, по Гегелю) природному свершению, МИРУ, и мир без участия в нем мышления был бы так же онтологически не завершен, как корень растения без плода или как организм без головы… Не легче выглядит картина и с другого — «теософического» — конца, где антропософия, тоже остановленная, воспринимается не иначе, как гнозис, мистика, оккультизм и тому подобный жупел (см. справочники и энциклопедии). Можно было бы еще раз вспомнить парадокс Якоби и следующим образом парафразировать его, на этот раз в антропософской топике: без философии нельзя войти в антропософию, с философией нельзя в ней оставаться. Оставаться, значит: останавливаться. Мы читаем иначе, с поправкой на движение: без философии нельзя войти в антропософию, с философией можно в ней оставаться, если не останавливаться. Остолбеневшую логику стояния силимся мы растормошить логикой перехода. Мы говорим тогда: «Эгоизм в философии» без перехода в антропософию был бы (по Гартманну) «сползанием в бездну нефилософии», но и антропософия без перехода в неё из «Эгоизма в философии» была бы — для антропософов не больше, чем «спиритуализмом, коренящимся в западной духовной жизни», а для философски более взыскательной публики не больше, чем курьезом. Осмысляя превращение этого сослагательного наклонения в изъявительное, мы мысленно присутствуем при возникновении духовной науки в Рудольфе Штейнере.
Базель, 18 февраля 2003 года
Карл Баллмер
Опубликовано в книге: Карл Баллмер, Ламоне 23.2.51. Реквием, M., Evidentis, 2005
О Карле Баллмере больше, чем о каком–либо другом, исключительном, современнике, можно сказать: неизвестен. Неизвестен не в смысле непризнанности, замалчиваемости или как бы это ни называлось, а просто по своей невидимости. Он — мыслитель–невидимка, мыслящий настолько иначе, необычно, небывало, что мысль его незамеченной проходит через закрытые двери нашего восприятия. Эпохе Ясперсов угодно было на такой манер расписаться в собственной немочи, проморгав духоведа, ранг которого не допускает иной оценки, кроме трансцендентного. Можно знать, или догадываться, что невидимое (настоящее, а не, скажем, ребяческое) лежит не за вещами, а в вещах, и что упрямее всего и досаднее всего не видят вещи, на которые смотрят в упор. Хотя один из текстов, представленных в этой книге, был опубликован в 1946 году[242], а другой, датированный 1951 годом, впервые в 1996‑м[243], впечатление таково, что в опубликованности незримость их нашла себе едва ли не более адекватную форму, чем в десятилетиях их заархивированного небытия. Если допустить при этом, что и русскому читателю повезет не больше, чем читателю немецкоязычному, для которого Баллмер либо ничего не говорящее имя, либо — уже по прочтении, в упор, любых нескольких строк — сумасшедший, то целесообразность публикации этого текста на русском языке, как, впрочем, в свое время, и в оригинале, диктуется соображениями некой метафизической прагматики, образец которой мы находим в конце одной из проповедей Мейстера Экхарта[244]: «Благо тому, кто понял эту проповедь! Если бы здесь не было ни одного человека, я должен был бы сказать её этой церковной кружке». В конце концов почему бы одному неизвестному в оригинале «автору» не удвоить свою неизвестность, став неизвестным и в переводе, причем оба раза в перспективе абсолютного читательского проигрыша? Книга — раскопанный клад, и если углубленным в себя читателям угодно проходить мимо, то бесполезно кричать им в ухо то да сё, когда уместнее всего пожелать им дальнейших самоуглублений. Особенно, если книги, о которых идет речь, не совсем книги или, на фоне массы прочих, совсем не книги. Баллмер (сумма написанного им и хранящегося в государственном архиве кантона Аарау превышает три тысячи страниц) — не писатель, если понимать под писателями тех, кто пишет книги; писать книги, как книги, никогда не было его занятием. Писатель — это, по обыкновению, более или менее удачный клон с Нарцисса и Прокруста, любосластец, берущийся за перо, чтобы — на виду у всех — попасть в себя, как в яму, и позировать из себя, как из ямы; о случае Баллмера можно было бы сказать словами Леона Блуа, не забывая, впрочем, что сам он никогда и ни при каких обстоятельствах не сказал бы (не подумал бы) ничего подобного, просто потому, что сказать (подумать) такое, значило бы заметить это и лишний раз попасть в себя, как в яму: «Мне отдадут справедливость, что я не пренебрег ничем, чтобы обеспечить неуспех моих книг»[245]. Еще раз: он не писатель уже хотя бы на том основании, что для написанного им нет читателей. Не потому, что его читатели не родились еще, а потому, что они, видимо, еще не умерли: пшеничные зерна, отказывающиеся упасть в землю… Модники от философии поспешили с выводом о смерти автора, где смерти (скорейшей) следовало бы пожелать читателю; читатель, не умеющий сам умирать в ином чтении, бывает иным чтением убит, после чего ему не остается иного выбора, как искать, находить и читать только те книги, которые он, будь у него время, по дури мог бы написать и сам. (Не случайно, что одной из характерных черт нашего времени является стирание границ между писателем и читателем, створение обоих в трансвеститной фигуре критика.) Но хорошим критиком был бы тот, кто не щеголял бы легкомысленной логореей, а выступал бы в роли диетолога sui generis, знакомящего читателей с особенностями душевно–духовной диеты и обращающего их внимание на состав книги, срок её годности, степень наличия в ней отравляющих веществ и т. п., чтобы читатель заведомо знал, что ему полезно, а что противопоказано, какие книги ему следовало бы читать, а каких избегать, чтобы голова не мучилась несварением и не урчала… Хороший критик — посредник между автором и читателями, защищающий автора от читателей, а читателей от самих себя. И раз уж об этом зашла речь, отчего бы не воспользоваться случаем и не рискнуть дать читателям следующий дружеский совет: Карла Баллмера ни при каких обстоятельствах не следует читать «на сытую голову», то есть, на голову, заполненную всякого рода знаниями и мнениями; нужно просто подумать о том, что делается с этими знаниями, когда мы, скажем, спим, зеваем, утоляем голод, болеем, выздоравливаем, просто «живем». Их просто нет как нет, а нет их, потому что когда они есть, они всего лишь бутафория, выставленная в витрине головы. Лучше всего, не обращать на них внимания, настроиться, как если бы их и не было вовсе, и читать на совершенно пустую («нищую духом») голову. Пустая голова — издевка и оскорбление в словнике интеллектуала — имеет то преимущество над заполненной, что легче и жаднее вбирает в себя чужие значительные мысли, которые, по переваривании, должны уйти в забытьё (в волю), чтобы освободить место новым. С головой, набитой знаниями, дело обстоит не лучше, чем с брюхом, набитым едой: они неповоротливы и невосприимчивы. О пустую голову мысли (извне, из книги ли, разговора ли) ударяются, как о гонг, и времени, пока они раззвучиваются, как раз достаточно для загадочного процесса, называющегося пониманием. Следовало бы научиться раздельному чтению, в том самом смысле, в каком учатся раздельному питанию; от недопустимых, невозможных сочетаний мыслей отравляются душевно, как отравляются физически от недопустимых, невозможных сочетаний пищевых продуктов. Читать Баллмера глазами, привыкшими, скажем, к Бердяеву, — всё равно, что слушать последние трансцендентные квартеты Бетховена ушами, в которых еще звучит высокопарно–пошлая надменная белиберда. Баллмер — об этом следует знать с самого начала — необыкновенно трудное чтение. Состав его текстов — умершие, живущие в его сознании, как мысли: необыкновенно чисто, основательно, красиво продуманные мысли. Что здесь особенно сбивает с толку тусовочный тандем писателей, читателей и критиков, так это то, что местом происшествия названных мыслей оказывается именно сознание, донельзя трезвое, живущее в повседневном сознание. Тандем не имел бы ничего против «потустороннего», веди оно себя прилично и сообразно конвенции, то есть, сиди оно себе в колодце «бессознательного» и не мешай оно «нам» работать. Тандем, более того, даже приветствовал бы периодические вылазки бессознательного в сознание, при условии что сознающим делалось бы от этого дурно: до потери сознания либо — в более рентабельном варианте — до ясновидения, экстрасенства, парапсихологии, мистики или, скажем, бердяевской белиберды. Случай Баллмера скандальный. Ему бы простили всё, любую дичь, не обойди он столь бесцеремонно законы жанра, сойди он, ну хоть чуть–чуть, с ума, стань он, ну хоть чуть–чуть, эксцентричным, экзотичным, непредсказуемым, «гениальным» — в рамках развлекательных программ по жанру «жизнь замечательных людей». Нельзя же, в самом деле, сохранять сознание и быть в уме там, где нормальные люди (нормальные обыкновенные, как и нормальные необыкновенные) теряют сознание и сходят с ума! Вывод напрашивался сам собой: так может вести себя только не–нормальный. Сначала, из уважения к логике, раздельно: не–нормальный, а после уже и слитно: ненормальный. Он знал это, понимал это и относился к этому с вполне осознанной отрешенностью: «То, что я, в более чем однозначном смысле, слыву сумасшедшим, беспокоит меня меньше, чем другая забота, именно: способны ли опознать в сумасшествии строго методический характер»[246]. Читательская публика на Западе никогда не чуралась сумасшедших авторов, предпочитая им нормальных; совсем наоборот: спрос на сумасшествие, особенно сегодня, велик, как никогда; иные авторы лезут из кожи вон, чтобы начинить свою продукцию сумасшедшинкой и достучаться до читателя. Интересно при этом то, что сумасшествие, которое они, подчас отнюдь не без глянца, симулируют в книгах, в оригинале настигает их там, где они меньше всего о нем думают; какой–нибудь Лакан безумен, не когда он пишет свои тексты, а когда он их как раз не пишет. Стряпая очередной текст и продумывая симулякры сумасбродства, он трезв и нуден, как при пересчете сдачи с крупной купюры; невменяемость его лежит не в его cogito, a в его sum, так что безумно не его обмозгованное безумие, а сам он и есть — безумный. Его расчетливость, сбившая бы с толку иного брокера, в том, что он наверняка знает, какого именно безумия ждет от него читатель; он схож и родственен в этом с политиками, которые рассудительно сходят с ума coram publico и впрямь оказываются умалишенными, когда остаются наедине с собой. Короче, если это и сумасшествие, то востребованное, оплаченное, развлекательное, разовое. «Методически строгое» сумасшествие писателя Баллмера действует до того отрезвляюще, что хочется защититься от него незнанием, нечтением, которое, иносказательно, и есть смерть читателя, не поволенная, осмысленная смерть в авторе, а, свободно по Гегелю[247], «самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не больше, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды». О такой смерти говорят: нелепая; говорят: умер нелепой смертью, вместо: жил нелепой жизнью — вместе и иносказательно: до того объелся нелепых книг, простите за каламбур, налакался, что испустил дух уже при первой же осмысленной.
Вопрос вполне уместный и достойный золотого журналистского пера: кто же он всё–таки, этот никому не известный господин Баллмер? Наверное, можно было бы, поверх всех психографических отклонений от темы, вспомнить, наконец, и о биографии, если, конечно, таковая у названного господина вообще налицо! Ситуация не лишена подвоха или даже тупика, из которого, как известно, легче всего выходят те, кто и не догадываются, что находятся в нем. Можно, впрочем, время от времени покидать тупик и более достойным образом, именно: зная, что находишься в тупике и, главное, что за это тупик. Парадокс баллмеровской биографии в том, что, ничего о ней еще не зная, естественным образом стремишься восполнить пробел; читая же его, то есть, узнавая его в мысли, всё больше и больше проникаешься ощущением, что, кроме так узнанного, тут, по существу, нечего больше и узнавать. Биография Карла Баллмера состоит не из разделов жизнь и мысль, а из сплошного целого мысль, которое при желании читается и как жизнь; из этой биографии едва ли можно выудить больше внешних фактов, чем это требуется необходимостями его духовного существования. Биографам и журналистам здесь нечего делать; всё, что могло бы привлечь их внимание и быть ими замечено, сведено здесь до минимума; он жил не больше, чем это было нужно, чтобы мыслить, а мыслил он — решительно всё, причем связь между помысленным и прожитым оказывалась не прямой (что действительно было бы сумасшествием), а осознанно и с необыкновенной элегантностью опосредованной случайностями повседневного существования. Мы попали бы в самое сердцевину парадокса, обратив внимание на то, что в мысли этой не мыслится, по существу, ничего иного, кроме смерти, что и сама мысль эта, далее, есть смерть, которая первее всякой жизни и не уничтожает жизнь, а — дарует её (Баллмер: «[…] „жизнь" в смысле духовной науки есть принципиально „жизнь после смерти", соответственно: жизнь из воскресительной силы одного Умершего»[248]). Всё это следует принять во внимание, имея дело с баллмеровским инкогнито, чтобы раз и навсегда отложить в сторону бойкое, «золотое», журналистское перо… Карл Баллмер родился 23 февраля 1891 года в Аарау (Швейцария). С 1909 по 1911 учился в школе прикладного искусства в Базеле, после в мюнхенской Академии художеств. В 1915 году состоял при штабе швейцарской армии в Берне, служа в бюро прессы и занимаясь в свободное время живописью. Этот отрезок жизни он обозначит впоследствии как «тяжелейший длительный кризис самоуничтожения, сопровождаемый посягательствами и покушениями на физически–телесное существование». «В возрасте от 20 до 27 лет я представлял собой, из отчаяния найти в жизни какой–либо смысл, случай особо опасного кандидата в самоубийцы. Собственно, я должен считать чудом, что серия тяжелых насильственных припадков самоуничтожения имела негативный исход»[249]. Интересно, что в названном отчаянии начисто отсутствуют элементы бытового и личного (в расхожем смысле) порядка; это чисто философское, если угодно, трансцендентальное отчаяние, не просто мутящее голову (и тогда либо логически усмиряемое, либо продолжающее мутить и дальше), а бесчинствующее во всем человеке, парализуя жизненные силы и грозя погубить «без возврата»; болезнь, которую, по аналогии, скажем, с коронарной недостаточностью, можно было бы обозначить как смысловую недостаточность, именно: смысла, не того или этого, а вообще, недостает, как недостает воздуха, отчего — в буквальном смысле — задыхаются. Осенью 1918 года — «в последний час для меня» — он знакомится с Рудольфом Штейнером. «Я обязан Рудольфу Штейнеру своим существованием (буквально)». Сначала это были книги Штейнера, которые он получил от своего цюрихского знакомого, Романа Бооса. «Со всей осторожностью Боос втолковывал мне, свирепому скептику, […] представления о Рудольфе Штейнере. Решение, однако, не заставило себя ждать: читая конспекты лекций Рудольфа Штейнера, полученные мной от Бооса, я понял и объявил следующее: это наука, как искусство. Теперь для меня могла начаться ориентация на смысл жизни. С этим смыслом я вскоре познакомился для себя и лично в Рудольфе Штейнере». Чтобы понять, что могла бы означать «наука, как искусство», нужно увидеть это глазами художника Баллмера, в перспективе следующего отрывка: «Два художника, один, если угодно, из Стокгольма, другой из Мадрида, встречаются в картинной галерее одного современного мегаполиса. Устав от скуки, они слоняются по нескончаемым залам. Тут внезапно и происходит это, они останавливаются где–то и говорят, не сговариваясь: „Хорошо!", и больше ни слова. Они обмениваются взглядом — и в это мгновение имеет место одна из редкостных встреч от человеческого духа к человеческому духу — в действительности и в настоящем». Не то, чтобы встреча со Штейнером (увиденное, как искусство, тайноведение) спасла 27-летнего кандидата в самоубийцы от смерти; она лишь усугубила его поиск смерти, лишив смерть бессмысленности и обнаружив её как смысл жизни[250]. Бессмысленность смерти — в неумении проникнуть в неё сознанием и опытно; такая смерть есть не что иное как «отсутствие сознания поверх смерти». Опыт смерти, как жизнь в смерти (всё равно, до или после телесной смерти), одинаково враждебен для атеистов и теистов, католиков, православных, левых, правых и никаких; люди в рясе готовы заключить союз с самыми отъявленными безбожниками и циниками, хоть с самими собой, если предметом умного посягания оказывается смерть, как опыт сознания. Встреча со Штейнером — первофеномен баллмеровской биографии, её основной и, по существу, единственный факт. Отчаяние найти в жизни смысл — причем для удавшегося штирнерианца Баллмера 272273 речь шла не о каком–то абстрактном, просто вычитанном где–то смысле, а о персонально явленном, — могло увенчаться или бессмысленным актом самоуничтожения, или, в противном случае, таким потенцированием смысла, небывалости которого, с противоположного конца, позавидовали бы отцы–основатели театра абсурда. Формула Баллмера^Ь/' et orbi, с момента этой встречи, отвечает стилистике «приглашения на казнь»: «Или мир вообще лишен смысла, или у него есть смысл, который дает ему Рудольф Штейнер», именно: «дает ему», а не, скажем, «находит в нем», что, по Баллмеру, было бы не просто уступкой демону дурацкой корректности, а непростительным искажением сути сказанного. Всё, что, начиная с этого времени, выходит из–под его пера, вращается («таков смысл моей кармы») вокруг этой формулы, педагогическое назначение которой в том, чтобы — привести в бешенство, разъярить и тем самым спровоцировать к её опровержению всех тех, кто находит в мире иной смысл, чем названный, именно, через иные инстанции, скажем, веру, традицию, университетскую выучку или просто по инерции, привычке, недомыслию. При условии, разумеется, что речь шла бы о предметном, философски объективном опровержении, а не очередном брызгании слюной всякого рода интеллектуальных или оккультных недоумков. В 1918–1920 гг. Баллмер живет в Дорнахе (у Базеля), где принимает участие в работе над первым Гётеанумом; в октябре 1920 года по приглашению Штейнера он читает три лекции об искусстве в рамках первого курса Высшей Духовной школы при Гётеануме. В конце 1920 года он переезжает в Германию, где, прожив некоторое время в Мюнхене, Штутгарте, Берлине, оседает в Гамбурге. Биография этого (и уже всего оставшегося) времени — интенсивные занятия в области философии, теологии и естественных наук. Параллельно он занимается живописью, много рисует, становится членом гамбургского Сецессиона; картины его, оцениваемые приблизительно в ту же цену, что и картины Кандинского и Клее, вывешиваются на многих выставках (в Альтоне однажды рядом с Кандинским, о чем он не без удовлетворения сообщает в одном письме, хотя Кандинский был ему не по душе)[251]. Сохранился его письменный ответ на вопрос о роли бессознательного в его художничестве: «В жизни моих представлений и ощущений различение сознания и бессознательного едва ли играет какую- либо роль. Я испытываю инстинктивную неприязнь к мысли, допускающей какое- то каузирующее бессознательное. От своего философского учителя (Рудольфа Штейнера) я перенял воззрение, согласно которому в будущем представление о каузальности вообще будет заменено в высших областях представлений понятийной парой сущность и явление. Философ работает над объективацией сущности, художник приводит сущность к явлению»[252]. Можно сказать и так: философ мыслит то, что художник видит; мысль объективирует виденное, виденное являет мысль. Живопись Баллмера — это мысль в форме восприятия, его философия — это восприятие, как мысль. Художник Баллмер увидел Штейнера, прежде чем философ Баллмер мог его понять, то есть, осмыслить увиденное в понятиях. «Из всего пережитого мною в Дорнахе должна была возникнуть интенсивнейшая потребность заложить себе, путем приобретения обширной основы знаний в области философии и прочих наук, фундамент, который оказался бы достаточным для абсолютно самостоятельной оценки раскрученных доктором Штейнером познавательных и научных проблем»[253]. «Абсолютно самостоятельно» — в этом весь Баллмер, ученик сознания; в этом же причина неприятия его антропософами, самостоятельности которых только и хватает что на кончик языка. В 1928–29 гг., он издает в Гамбурге «Листки Рудольфа Штейнера» (вышло всего пять номеров) с целью представить штейнеровскую мысль, под знаком приведенной выше формулы, на суд философской и научной общественности. «Для меня несомненно, что творение Р. Ш. выглядело бы просто курьезом, если бы не удалось увязать его с образовательным уровнем эпохи»[254]. Усилия — по сути, бескомпромиссный вызов стражам университетской учености посчитаться с духовной наукой по меркам строжайшей философской притязательности и в контексте обширных историко–философских и новейших философских привлечений — наткнулись на глухоту; если и удалось привести кое- кого из«ответственных» в бешенство, то без того, чтобы за взбешенностью последовали опровержения. А жаль, ведь опровергать было что (хотя бы, при неудаче, и пришлось пустить себе — «философски» — пулю в лоб); под угрозой ведь оказывалась не только идеальная сторона дела, но и фактическая; ведь надо же было до такой степени быть лишенным чувства собственного философского достоинства, чтобы никак не среагировать на следующую чудовищность: автор «Листков» цитирует Макса Шелера, мысли, датированные 1926 годом[255] и притязающие быть радикальнейшими, революционными рекомендациями по выходу философии из тупика традиции; параллельно эти же мысли, причем в более радикальной форме, приводятся в изложении Штейнера (в самых ранних, начальных его трудах), опережающем современность на целых четверть века; но гвоздь даже не в самом опережении, а в том, что Штейнер начинает с того, на чем Шелер кончает: с необходимости выхода западной философии из тупика. Начать с выхода значит, однако, не только выйти, но и пойти дальше; в 1926 году, через год после смерти Штейнера, философский антрополог Шелер постулирует (разумеется, в иной терминологической мимикрии) неизбежность антропософской духовной науки; Шелер опоздал на двадцать с лишним лет; последние мысли философа Шелера (Шелер умер в 1928 году) суть первые мысли философского дебютанта Штейнера, тогда еще студента Венского Политехникума, вот–вот отметившего свои неполные двадцать два года таким приготовлением к будущей «науке, как искусству»; ну и где же Ваше философское самолюбие, господа молчащие, читай: замалчивающие, философы, раз уж нет никакой возможности говорить о Вашей философской совести!… (Перспективам духовной науки они предпочли аграрную мистику Хайдеггера с последующей дегенерацией «мира Софии» во всякого рода Хабермасах и Деррида.) Характерно, что враждебное или никакое молчание философов вокруг баллмеровского дебюта лишь усиливалось настороженным посапыванием антропософов, даже отдаленно не смыслящих, в чем дело. Легче было заучивать тайноведческие слова и делать вид, будто всё понятно, чем дать себе труд дорасти до понимания последних рубежей современной философии, чтобы, мысленно перенесясь от них на десятилетия назад, опознать их в затакте штейнеровской мысли и, таким образом, домысливаться до антропософии не по ведомству буддобританских ребячеств, а в неслыханных измерениях «события Рудольф Штейнер» («das Ereignis Rudolf Steiner», ключевое выражение Баллмера). Не удивительно, что баллмеровская антропософия квалифицируется официальным Дорнахом как «анти–антропософия»[256], после чего он оказывается в абсолютной изоляции и бойкотируется с обеих сторон: один раз неантропософами, считающими его антропософом, другой раз антропософами, считающими его не–антропософом. (В этом, по–видимому, и лежит загадка его невидимости: он невидим ни для тех, ни для других, потому что сам он ни тот, ни другой.) Возвращение, в 1938 году, в Швейцарию можно было бы назвать эмиграцией на родину; он живет поначалу в Базеле, а с 1941 года поселяется в Ла–моне у Лугано. «Швейцарцу отказано в силу национальной принадлежности находиться в каком–либо отношении к действительности противоречия; фактически швейцарцы — это немцы, французы и итальянцы. Швейцарский социализм созвал вчера в воскресенье свою партийную верхушку в Цюрихе и распространяет в сегодняшних газетах через правительственное телеграфное агентство свою „оценку международного положения" любезные ничтожества, чуждые близости Господина действительности. Швейцарские социалисты страдают от бессознательной зависти к немецким марксистам, которые имели счастье по крайней мере в течение 12 лет иметь свой марксизм в качестве национал–социализма». 7 сентября 1958 года Карл Баллмер умер в Лугано. Биография этих последних двадцати лет жизни отмечена пугающей растождествленностью с иллюзиями существования; по опубликованному в этой книге «джойсовскому» отрывку — своего рода сослагательному коррективу к Джойсу: чем мог бы быть Улисс, пишись он не из литературной техники вымысла, а из непосредственно увиденной обыденности, авторы которой умершие, а действующие лица «мы» — можно было бы составить себе некоторое представление о буднях Баллмера, которому теперь, после абсолютной отторгнутости от мира, не оставалось ничего иного, как прижизненно — до завершения сроков — осваивать нелегкое savoir vivre умершего: не науку смерти, а её действительность. Неизвестность Баллмера равнозначна неизвестности уже не отдельной, сколько угодно необыкновенной, личности, а неизвестности духовного мира, неизвестности самой смерти, в которой, скажет он однажды, «интересно не то, что она убивает, а то, что она есть»[257]. Ганс Гесснер, единственный друг и свидетель этого осознанного и контролируемого умирания, воплотивший в себе преданность лучших людей своей расы, вспоминал позднее[258]: «Он, способный в духе созерцать современного Христа, Христа, являющего себя в эфирном одеянии — живое существо Антропософию,
— был осужден на немоту. В моих ушах до сих пор звучат слова, сказанные им, уже больным, в 1957 году: „Меня просто нет." О „Листках Рудольфа Штейнера" соответственно было сказано: „Там нечего и читать"». Можно было бы, конечно же, открыв для себя однажды Баллмера и ахнув от узнавания, увидеть в случившемся несправедливость или, напротив, необходимость или, если угодно, ничего вообще не увидеть; но если бы нам пришлось вдруг — поверх всякого рода ученого и дилетантского празднословия — воздать должное этому самому современному из всех современников, этому всегда современнику, то имеющее быть сказанным уместилось бы в ясных и бессильно замирающих в себе словах: мы знаем о Карле Баллмере не больше, чем о собственной смерти.
Базель, 30 марта 2004 год
Примечания
1
1 Ницше, «По ту сторону добра и зла», аф. 262.
(обратно)2
Очень меткое название нашел Поль Вирильо: «мондиалистский путч». «То есть, захват власти вооруженной анациональной группой (НАТО), не поддающейся политическому контролю со стороны демократических наций (ООН)» (Paul V»///o, Strategie de la deception, Paris 1999, p. 80).
Spruche in Prosa, hrsg. von Rudolf Steiner, 165.
Популярная немецкая песенка с рефреном: «Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren».
(обратно)3
Популярная немецкая песенка с рефреном: «Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren».
(обратно)4
Культ некомпетентности, M., Evidentes, 2005, с. 18.
(обратно)5
Не быть платоником, ни антиплатоником, значит мыслить идею (дух) как ТЕЛО, при условии что тело — «мистерия», а не одушевленная боксерская груша. Платоник, как и антиплатоник, разделяют дух и тело, только один не может от духа прийти к телу, а другой от тела к духу. Их нечувствительность к идее, как ТЕЛУ, есть несостоятельность их ума перед шокирующим фактом одного ИСЧЕЗНУВШЕГО ТРУПА. Оба стоят перед одним опустевшим гробом 33 года и хлопают глазами. Факт был отнесен по ведомству веры и зарегистрирован как абсурд. Это значило: христианин в христианском мире мог быть мучеником, святым, блаженным, отшельником, мудрецом; чем он не мог быть и не был, так это философом. Философ не верит, а мыслит, а если он к тому же христианский философ, то и мыслит он по–христиански, равняя свою логику не на греческого истукана с тюрбаном на голове, а на ОДНО РАСПЯТОЕ ТЕЛО, ВОСКРЕСШЕЕ В СМЕРТЬ. Мысля понятие и тело раздельно (одно в голове, другое в мире), он всё еще собирает объедки старых симпосионов и утверждает действительный абсурд. Философии, от Августина до Гуссерля, не хватало мужества порвать с абсурдом и осознать себя в христианской очевидности: ПОНЯТИЕ, ИДЕЯ — это ТЕЛО. Если угодно, логическая просфора. Рационализм, как и его иррационалистический двойник, — гигантская провокация, цель которой упразднение понятия, как Логоса. Механизм провокации: рационализм дискредитирует понятие, превращая его в абстрактум, после чего иррационализм отвергает абстрактум и удит в мутных водах всяческих «наитий» и «интуиции». Как в старом грузинском анекдоте, где очищают бананы, посыпают их солью и выбрасывают, а на вопрос: «Почему выбрасываешь бананы?» дают вполне мотивированный ответ: «Потому что солёные». Неразумные богословы не учли, что абсурд, по–своему привлекательный под протекцией веры, выглядит неприличным в освещении знания, и ницшевское: «Наше время есть время знания [...], неприлично теперь быть христианином», сохраняет силу до тех пор, пока христианин не становится ЗНАЮЩИМ, после чего ему неприлично уже не быть христианином.
(обратно)6
The Adams—Jefferson Letters, Lestor J. Cappon ed., 1959, p. 433.
(обратно)7
Leon Bloy, Textes choisis par Albert Beguin, Fribourg 1943, p. 13.
(обратно)8
Spruche in Prosa, hrsg. von Rudolf Steiner, 737.
(обратно)9
Eckermann, 15. Februar 1824.
(обратно)10
Lettres et opuscules inedites du comte Joseph de Maistre, t. 2, Paris 1853, p. 285sq.
(обратно)11
Миросозерцание Достоевского, Прага 1923, с. 32.
(обратно)12
М. Волошина, Зеленая змея, М., 1993, с. 139.
(обратно)13
Iffiuvres II, Pleiade 1960, p. 804.
(обратно)14
H. Taine, Histoire de la litterature anglaise, t. 3, Paris 1899, pp. 254–353.
(обратно)15
Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, Leipzig 1915, S. 388ff.
(обратно)16
Notes sur Angleterre, Paris 1872, p. 343.
(обратно)17
J. Radkau, Мах Weber. Die Leidenschaft des Denkens, Munchen—Wien 2005, S. 819f.
(обратно)18
Что этот воображаемый пример вполне реален и даже по–своему незатейлив, не вызывает сомнений. Мне доводилось видеть и более внушительные карточки: на одной стояло, например, эзотерик, на другой — это было в швейцарском Дорнахе — апокалиптик.
(обратно)19
Urfassung der Philosophie der Offenbarung, Bd.l, Meiner, Hamburg 1992, S. 398f
(обратно)20
Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Muller, Munchen 1950, S. 71.
(обратно)21
MeisterEckhart, Schriften jena 1938, S. 133.
(обратно)22
Ibid., S. 50.
(обратно)23
Особенно в статье 1897 года «Тоска евреев по Палестине» (Gesammelte Aufsatze zur Kultur- und Zeitgeschichte, Dornach 1989, S.196ff.), в связи с призывами Герцля и Нордау к созданию еврейского государства. Статья заканчивается словами: «Сионистское движение — враг еврейства. Лучше всего было бы, если бы евреи внимательнее пригляделись к людям, которые малюют им призраки».
(обратно)24
Имеется в виду речь, произнесенная им 11 октября 1998 года во франкфуртской церкви св. Павла в связи с присуждением ему премии мира немецкой книжной торговой палаты. Одной из тем выступления был искусственно вызываемый ажиотаж вокруг Холокоста, названный «инструментализациейзла». Сидевший в первом ряду тогдашний председатель еврейской общины в Германии Игнац Бубис счел нужным демонстративно заснуть при этих словах. Проснувшись, он обвинил оратора в антисемитизме и призвал его извиниться за сказанное.
(обратно)25
Lettres choisies de Joseph deMaistre, Lyon 1910, p. 97.
(обратно)26
Dialogues et fragments philosophiques, Paris s. a., p. XII.
(обратно)27
«Может ли мужчина иметь жену и любовницу и быть верным обеим, или же он должен пожертвовать одной ради другой? Это нацистское понятие безоговорочной верности одному единственному делу — в данном случае [?] великогерманской империи, — ради которого каждый гражданин должен предавать свою семью, своих друзей и свою религию, восходит к Гегелю и глубоко антидемократично». Nahum Goldmann, Das judische Paradox. Zionismus und Judentum nach Hitler, Hamburg 1992, S. 118f. .
(обратно)28
The Pilgrim's Progress, Boston 1969, p. 158–59
(обратно)29
Le nouvel esprit scientifique, Paris 1941, p. 6
(обратно)30
Я цитирую по Кассиреру (Philosophie und exakte Wissenschaft. Kleine Schriften, Frankfurt/M. 1969, S. 13f.).
(обратно)31
Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft, Vorrede
(обратно)32
Сюда: A. Murray, Reason and Society in the Middle Ages, Oxford 1978, p. 193–94; ср. также р. 203–40.
(обратно)33
«Двойная бухгалтерия порождена из того же духа, что и системы Галилея и Ньютона, учения современной физики и химии. […] Можно назвать её первым космосом, воздвигнутым на принципе механического мышления» (Sombart, Der moderne Kapitalismus, Bd. II, 1, MUnchen 1917, S. 119).
(обратно)34
Textes choisis, ed. G. Bourgin, Paris, s. a., p. 170.
(обратно)35
The History of England from the Accession of James the Second, v. 1, Leipzig 1849, p 401sq.
(обратно)36
Сюда: P. Hazard, La crise de la conscience europeenne, Paris 1935, p. 320.
(обратно)37
Ceuvres et lettres, Pleiade 1953, p. 129.
(обратно)38
«Верно, что познание всех этих и других подобных им вещей принято называть наукой, эрудицией, учением; но такой наукой, которая есть безумие и глупость, по слову Писания: Doctrinastultorumfatuitas» (De la Recherche de la Verite, liv. IV, chap. VII).
(обратно)39
Ср. Mauthner, Worterbuch der Philosophie, Leipzig, Meiner 1923, Bd. 1, S. 633.
(обратно)40
Kant, op. cit., Vorrede.
(обратно)41
См. Arena Heyting, Intuitionism. An Introduction, Amsterdam 1976.
(обратно)42
Например, §§ 248 и 250 «Энциклопедии».
(обратно)43
То есть, естественно, как, скажем, у Гёте в «Учении о цвете».
(обратно)44
«Историку позволительно действовать на манер натуралиста; я смотрел на свою тему, как на метаморфозу насекомого» (Taine, Origines de la France contemporaine. L'ancien regime, t. 1, Paris 1900, p. VIII).
(обратно)45
Цит. по: R. Steiner, Die ubersinnliche Welt und ihre Erkenntnis. In: Luzifer—Gnosis, Mai 1904.
(обратно)46
E. Cassirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen uber die Grundfragen der Erkenntniskritik, Berlin 1910, S. 403.
(обратно)47
R. Steiner, Wahrheit und Wissenschaft, Weimar 1892, S. V.
(обратно)48
Перевод Вл. Соловьева.
(обратно)49
Один пример из многих. В книге «Эволюция физики» Эйнштейна и Имфельда (Wien 1950, S. 17) читаем следующий пассаж: «Допустим, кто–то идет вдоль прямой улицы с тачкой и перестает вдруг толкать её. Тачка, прежде чем остановиться, прокатится еще некоторый отрезок пути. Спросим себя теперь: как можно увеличить этот отрезок? Мы знаем, что для этого существуют различные возможности. Можно смазать колеса, но можно и выровнять улицу. Чем легче вращаются колеса, чем ровнее улица, тем дальше будет катиться тачка. Но что, собственно, достигается через смазывание и выравнивание? Не больше, чем уменьшение внешних воздействий, так называемого трения, а именно, как в самих колесах, так и между колесами и улицей… Если мы сделаем теперь значительный шаг вперед, то мы сразу же нападем на верный след. Представим себе некую совершенно гладкую улицу и подумаем о тачке с колесами, у которой вообще нет трения. Такую тачку ничто не смогло бы остановить; она должна была бы катиться вперед целую вечность. Правда, к этому выводу приходят лишь тогда, когда исходят из идеального опыта, который в действительности никогда не может быть осуществлен». Карл Баллмер (Briefwechsel uber die motorischen Nerven, Besazio 1953, S. 124f.) замечает в этой связи: «Это всё же довольно редкостная нечестность: выдавать „идеальный опыт“, который не может быть осуществлен, за „опыт“, то есть, эксперимент».
(обратно)50
ffiuvres II, Pleiade 1960, p. 622.
(обратно)51
Макс Либерманн у Р. Касснера (Umgang der Jahre, Zurich 1949, S. 234).
(обратно)52
Гегель, Феноменология духа, пер.Г. Г. Шпета, с. 434.
(обратно)53
В качестве дальнейшего примера могут быть названы сочинения Бернарда Бавинка. Иной читатель сочтет себя оскорбленным, найдя как раз у физика фразы (к тому же выделенные курсивом), вроде следующих: «Мир — это не только Логос, но одновременно и, возможно, в глубочайшей своей основе Эрос, разум и воля воедино» (B. Bavink, Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaften. Eine Einfuhrung in die heutige Naturphilosophie, Leipzig 1940, S. 494).
(обратно)54
Феноменология духа, пер.Г. Шпета, с. 5.
(обратно)55
Handler und Helden. Patriotische Besinnungen, Munchen und Leipzig 1915, S. l0f
(обратно)56
The Works of Ralph Waldo Emerson, New York, s. d. p. 435.
(обратно)57
Rudolf Steiner, Der Individualismus in der Philosophie. In: Methodische Grundlagen der Anthroposophie 1884–1901, Dornach 1961, S. 110.
(обратно)58
Сюда: Rudolf Steiner, Reinkamation und Karma, vom Standpunkte der modemen Naturwissenschaft notwendige Vorstellungen. In: Wiederverkorperung und Karma und ihre Bedeutung fur die Kultur der Gegenwart, Dornach 1994, S. 26.
(обратно)59
Carl Schmitt, Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47, Koln 1950, S. 81.
(обратно)60
R. Steiner, Die Ratsel der Philosophie, Bd. 2, Dornach 1974, S. 226 (пер. Э. Атаяна).
(обратно)61
Из письма к П. Дейссену от 14 сентября 1888 года. Samtliche Briefe. Kritische Studienausgabe, Bd. 8, S. 426.
(обратно)62
Написано в марте 2005 года.
(обратно)63
Briefe, Bd. 2, Dornach 1953, S. 143.
(обратно)64
Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 1991, S. 399.
(обратно)65
Elf Briefe uber Wiederverkorperung, Besazio 1953, S. 52.
(обратно)66
«Que peut un homme?» ^uvres II, Pleiade 1960, p. 23.
(обратно)67
CTuvres I, p. 534.
(обратно)68
Cahiers I, Pleiade 1973, p. 251.
(обратно)69
Journal 1889–1939, Pleiade 1948, p. 749.
(обратно)70
Можно улыбнуться следующей остроте, но можно и не забыть её, отулыбнувшись. Жан д'Ормессон: «Что такое члены Французской Академии, как не последние выжившие экземпляры очень древнего племени, которым покровительствующее Государство позволяет всё еще прохаживаться вдоль Сены с перьями на голове!» (Цит. по: С. Cagniere, Pour tout l'or des mots, Paris 1996, p. 4)
(обратно)71
Ceuvres I, p. 534.
(обратно)72
Correspondance inedite de l'abbe Galiani, t. 1, Paris 1818, p. 92.
(обратно)73
К. Todt, Weib und Rokoko in Frankreich, Zurich‑Leipzig-Wien 1924, S. 311.
(обратно)74
Le Fils de Louis XVI, Paris 1926, p. 37..
(обратно)75
Neue Kriegsaufsatze, Munchen 1915, S. 15
(обратно)76
Цит. по: Treitschke, Historische und politische Aufsatze, Bd. 3, Leipzig 1915, S. 162
(обратно)77
Сюда: Buckle, History of Civilisation in England, vol. 2, London 1882, p. 213–260.
(обратно)78
«Пусть не обманываются на сей счет, он больше, чем человек». Goethes Gesprache, Bd. 2, Munchen 1998, S. 1056.
(обратно)79
Le Rhin. Lettres a un ami, t. 1, Paris 1875, p. 23.
(обратно)80
«S'il n'etait pas frangais, il voudrait etre allemand».
(обратно)81
«Au fond, je suis Allemand». Flaubert, Correspondance II, Pleiade 1980, p. 362.
(обратно)82
«Самый последний немецкий университет, вроде Гиссенского или Грейфсвальдского, со своими мелочными узкими обычаями, своими бедными профессорами с неуклюжей растерянной внешностью, своими исхудалыми и полуголодными приват–доцентами, делает больше для человеческого духа, чем аристократический Оксфордский университет, со своими миллионными доходами, блистательными колледжами, богатыми окладами и ленивыми студентами». Renan, Questions contemporaines, Paris 1868, p. 84.
(обратно)83
Journal des Concourt, t. 5. Paris 1916, p. 25sq.
(обратно)84
См. об этом в книге его адвоката: Jacques Isorni, Le proces de Robert Brasillach, Paris 1946, где воспроизведена стенограмма процесса и описана казнь.
(обратно)85
Письмо к А. Жиду от 7 июня 1932. Correspondance, p. 512–13.
(обратно)86
duvres II, p. 476. duvres I, p. 534
(обратно)87
«Il me manque un Allemand qui acheverait mes idees» (Cahiers I, p. 69.).
(обратно)88
Конечно же, я имел в виду Алексея Федоровича Лосева (прим. 2006 года).
(обратно)89
Кто это выдумал? И ради чего выдумал? Наверное, чтобы было подальше от 1937 (кстати, настоящего) года! Или всё же следовало бы воздержаться от объяснений! Не искать объяснений там, где лгут не потому, что нужно, а потому, что лжется, как дышится (прим. 2006 года)
(обратно)90
Я и сейчас, зная точную дату, не отказываюсь от написанного (прим. 2006 года).
(обратно)91
Между двух революций, Л., 1934, с. 306–311
(обратно)92
Там же
(обратно)93
Г. Шпет, Эстетические фрагменты. Соч., М., 1989, с. 348.
(обратно)94
Г. Шпет, Эстетические фрагменты, цит. соч., с. 374.
(обратно)95
Там же, с. 366.
Там же, с. 356.
(обратно)96
Там же, с. 356
(обратно)97
Там же, с. 367.
(обратно)98
Мудрость или разум? с. 68.
(обратно)99
Эстетические фрагменты, с. 375.
(обратно)100
Г. Шпет, История как предмет логики, в кн.: Историко–философский ежегодник 88, М., 1988, с. 303..
(обратно)101
Эстетические фрагменты, с. 356 сл.
(обратно)102
Было сообщено мне покойным A. B. Гулыгой (прим. 2006 года).
(обратно)103
Теперь стало известно: Густав Шпет был расстрелян в Томске 16 ноября 1937 года (прим. 2006 года).
(обратно)104
Jenseits von Gut und Bose, § 262
(обратно)105
Histoire de Jules Cesar, 2 vol., Paris 1865–66. Параллельно с французским оригиналом книги вышли в свет десять переводов её, в том числе и на русский, в петербургском издательстве М. О. Вольфа. В этом же году писалось «Преступление и наказание»
(обратно)106
Из «Автобиографии». Цит. по: «Труды по знаковым системам», вып. 5, Тарту 1971, с. 501.
(обратно)107
Там же.
(обратно)108
Там же, с. 502.
(обратно)109
Сатурническая поэма. В переводе Б. Лифшица: «Право, и дьявол тут мог бы смутиться».
Samtliche Werke, Stuttgart 1856ff. Bd. 14, S. 207.
(обратно)110
Миросозерцание Достоевского, с. 57–58
(обратно)111
Worterbuch der Philosophie, Leipzig 1924, Bd. 3, S. 369..
(обратно)112
Феноменология духа, пер.Г. Г. Шпета, с. 317.
(обратно)113
Там же, с. 318.
(обратно)114
Написано в 1986 году
(обратно)115
3 июня 1998 года у местечка Эшеде в Нижней Саксонии. Погибло 101 человек и 88 были тяжело ранены. С тех пор принято решение не называть больше ни один скоростной поезд именем «Вильгельм Конрад Рёнтген»
(обратно)116
Мне удалось её тем временем переиздать: Louis M. J. Werbeck, Die Gegner Rudolf Steiners und der Anthroposophie durch sie selbst widerlegt, hrsg. vom Forum fur Geisteswissenschaft, Wallisellen 2003 (прим. 2006 года).
(обратно)117
Миссионеры на школьном пороге, М., 1995.
(обратно)118
Anthroposophische Leitsatze, Dornach 1962, S. 14.
(обратно)119
Лекция 17 августа 1923 года в Илкли (Йоркшир).
(обратно)120
«Hitler's Willing Executioners» — заглавие нашумевшей книги гарвардского историка Даниеля Гольдхагена, согласно которой немцы, все без исключения, суть садисты и палачи; в 1996 году книга была переведена на немецкий, после чего автора пригласили в Германию и наградили премией за демократию (10 тысяч немецких марок); хвалебную речь произнес философ Юрген Хабермас.
(обратно)121
Горный хребет южнее Гарца на границе Тюрингии и Саксен—Ангальта. Легенда гласит, что в одной из пещер Киффхойзера погружен в сон император Ротбарт, Фридрих I Барбаросса (в более ранней версии Фридрих II Гогенштауфен, его внук), и что сон этот будет длиться до воссоединения Германии.
(обратно)122
Jean Martet, Le Tigre, Paris 1930, p. 74.
(обратно)123
Naissance de la clinique, Paris 1997, p. 149
(обратно)124
Eckermann, 26. April 1823.
(обратно)125
Ludwig Klages, Vom kosmogonischen Eros, Jena 1930, S. 157.
(обратно)126
Мы, воинства мертвых, и, мертвых, нас больше,/Чем всех вас на суше, чем всех вас на море!/Мы вспахивали поле в терпении и труде,/Вы взмахиваете серпами и срезаете всходы,/И тем, что вы доводите до конца, а нами было начато,/Полнятся еще шумящие ключи там, наверху,/И всё, что мы любили, что ненавидели, все наши споры и ссоры,/Всё это бьется еще в смертных жилах там, наверху/А законам, открытым нами,/Подчинены и теперь земные перемены,/А наша музыка, образы, сотворенные нами, стихи/Отвоевывают себе лавры в сиянии света,/Мы всё еще ищем тех же целей, что и все вы, — /Посему склоните головы и приносите жертвы! Ибо нас много!
(обратно)127
Darstellung des philosophischen Empirismus. Werke, Bd. 3, Leipzig 1907, S. 571.
(обратно)128
Р. Кронер, Философия «Творческой эволюции» (Анри Бергсон), «Логос», кн. 1, М., 1910, с. 103
(обратно)129
H. Bergson, devolution creatrice, Paris 1914, p. 283.
(обратно)130
H. Bergson, Introduction a la metaphysique. In: La Pensee et le Mouvant, Paris 1966, p. 181.
(обратно)131
H. Bergson, L'evolution creatrice, p. I.
(обратно)132
Eckermann, 14. September 1830.
(обратно)133
Glossarium, Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951, Berlin 1991, S. 263.
(обратно)134
Correspondence inedite de I'abbe Galiani, Paris 1818, t. 2, p. 212–13.
(обратно)135
Spengler, Briefe 1913–1936, Munchen 1963, S. 45f.
(обратно)136
E. Faguet, Dix–huitieme siecle, Paris s. a., p. 251.
(обратно)137
Ibid., p. 147.
(обратно)138
Ibid., p. 199.
(обратно)139
Ibid., p. 204.
(обратно)140
Ibid., р. 34.
(обратно)141
Siecle de Louis XIV, t. 2, Paris 1858, p. 94.
(обратно)142
An Essay concerning Human Understanding, Oxford 1975, p. 349.
(обратно)143
Louis Blanc, Histoire de dix ans 1830–1840, Paris 1883, p. 450sq.
(обратно)144
Избранное в двух томах, т. 2, M., 1978, с. 470.
(обратно)145
Politiques et moralistes du dix–neuvieme siecle, t. 1, Paris s. a., p. 17.
(обратно)146
В книге: Paul Valery vivant, Cahiers du Sud, 1946, p. 226.
(обратно)147
Феноменология духа, пер.Г. Шпета, с. 357.
(обратно)148
А. Белый, На перевале. Кризис культуры, Берлин, 1923, с. 153.
(обратно)149
В расселовской «Истории западной философии» (A History of Western Philosophy, New York, 1945, p. 53).
(обратно)150
А. Белый, На перевале. Кризис мысли, цит. соч., с. 111.
(обратно)151
Встречи с Александром Блоком, М., 1972, с. 50–53.
(обратно)152
С. Бобров, Андрей Белый, Глоссолалия. Поэма о звуке. Леф, 1923, 2, с. 157. На названном Боброве читатель мог бы существенно обогатить свои познания по части отечественного интеллигентского шалопайства. Почти одновременно с отзывом на «Глоссолалию» автор Бобров письменно отозвался на «Закат Европы» Шпенглера; в заметке, озаглавленной «Контуженный разум» (имеется в виду разум Шпенглера), он предупреждает читателя: «Во избежание недоразумений оговоримся заранее: Шпенглера самого нам прочесть не удалось».
(обратно)153
Ф. Степун, Встречи, М., 1998, с. 160.
(обратно)154
А. Белый, На рубеже двух столетий, М. — Л., 1930, с. 187.
(обратно)155
А. Белый, На перевале. Кризис культуры, цит. соч., с. 153.
(обратно)156
Марине Цветаевой: «Вы же дети по сравнению со мной! вы еще в Парадизе! а я горю в аду! — не хотел вносить этого серного Ада с дирижирующим в нем Доктором — в ваш Парадиз». Только особенностями судьбы объяснимо, что эта переплавка происходила на глазах у публики, которая, не будь она столь неадекватной, могла бы же, пусть ничего и не смысля в происходящем, явить себя с менее бездарной — если не этически, то хотя бы эстетически — стороны. За «полным переломом хребта»не увидели реальной инсценировки отрывков из книги «Как достигнуть познаний высших миров?», разумеется в специфической постановке автора «Петербурга».
(обратно)157
А. Белый-А. Блок, Переписка, М., 2001, с. 494.
(обратно)158
В статье 1907 года «Принцип формы в эстетике».
(обратно)159
«Он показал мне величие „ЧЕЛОВЕКА", себя, унизил во мне моего „ЧЕЛОВЕЧКА"… У многих ли в мой возраст есть счастье так верить в „ЧЕЛОВЕКА ВООБЩЕ", как я верю; и это потому, что я „ЧЕЛОВЕКА" видел воочию» (А. Белый, Воспоминания о Штейнере, Париж, 1982, с. 45–46.)..
(обратно)160
А. Белый, Символизм, М., 1910, с. 453
(обратно)161
А. Штейнберг, Друзья моих ранних лет (1911–1928), Париж, 1991, с. 26.
(обратно)162
А. Белый, Котик Летаев, Петербург, 1922, с. 13.
(обратно)163
F. Hebbel, Tagebucher II. Werke in zehn Teilen, hrsg. von Th. Poppe, T. 10, S. 40.
(обратно)164
Из письма к Иванову—Разумнику от 1–3 марта 1927: «Я" — ни Котик, ни Борис Бугаев, ни Белый; я — „История становления самосознающей души"». Андрей Белый и Иванов—Разумник, Переписка, СПБ, 1998, с. 508.
(обратно)165
А. Белый, Воспоминания о Штейнере, с. 53.
(обратно)166
Один пример из множества: «Для меня несомненно, что — Белый больше своих книг, что Белый–человек много, неизмеримо крупнее Белого–писателя». Павел Медведев, Из встреч с Андреем Белым. В кн.: Воспоминания об Андрее Белом, М., 1995, с. 207.
(обратно)167
Гельсингфорс, 2 мая 1913 года.
(обратно)168
Dialogues et fragments philosophiques, Paris s. a., p. XII.
(обратно)169
Дорнах, 27 октября 1918 года.
(обратно)170
Briefe II, Dornach 1987, S. 232.
(обратно)171
Один пример из множества других: «Было бы интересно, займись кто–нибудь однажды подсчетом, узнать, сколькие из участников нашего движения, читающих сегодня „Философию свободы", прочитали бы её и в том случае, если бы она попала им в руки в начале 90‑х годов, просто как очередная книга, при условии что они и понятия бы не имели обо мне и нашем движении. Было бы интересно узнать, сколькие из них прочли бы её тогда, и сколькие сказали бы: ну вот еще! осилить такую паутину мыслей мне не по плечам, она просто лишена смысла» (Из лекции «Трудности проникновения в духовный мир», прочитанной в Дорнахе 14 сентября 1915 года). Ну какому еще противнику антропософии пришло бы в голову устроить такую ловушку!
(обратно)172
(duvres I, p. 1210.
(обратно)173
Дорнах, 28 июня 1923 года.
(обратно)174
An Essay Concerning Human Understanding, London, Fontana Library 1960, p. 113.
(обратно)175
«Формалист» в книге А. Гейтинга «Интуиционизм», М., 1965, с. 15.
(обратно)176
Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie. Ges. Schriften, Hamburg 1992, Bd. 8, S. 46.
(обратно)177
На этой процедуре спустя два–три десятилетия вырастет обширная феноменологическая литература. Гуссерль самостоятельно предпримет последнюю героическую попытку защитить философию от позитивистического маразма и радикально домыслить её до первоначал. Здесь не место говорить о судьбах этой удивительной попытки, позволившей строжайшему логику вплотную подойти к проблеме «реинкарнации» и признаться в своем бессилии продвинуться дальше; заметим лишь: не только феноменологам предстоит еще углубляться в Штейнера, чтобы достичь настоящей радикальности в поисках последних оснований, но и антропософам знакомиться с Гуссерлем, чтобы увидеть, как можно было чисто философски идти штейнеровским путем, ничего о Штейнере не зная и, по всей вероятности (трагический парадокс!), не желая знать.
(обратно)178
Христиан Моргенштерн проверил это кантианское правило в своеобразном физическом эксперименте: «Какое странное ощущение — вмысливаться вертикально в землю к собственным ногам. Мыслишь как вкопанный, фантазия буквально задыхается». Chr. Morgenstern, Stufen. Ges. Werke in einem Band, Munchen 1977, S. 370.
(обратно)179
Любители неожиданных аналогий наверняка усмотрят здесь генезис оруэлловской «полиции мысли».
(обратно)180
Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie III. Werke, Bd. 20, Frankfurt/Main 1971, S. 352.
(обратно)181
Возможно, именно здесь следовало бы искать причину всех позднейших срывов гуссерлевской феноменологии, самоопределившейся сначала — в чисто штейнеровском смысле — как теория «логических переживаний», но предпочевшей ориентироваться не на естественнонаучный метод, а на схоластическую традицию. Тут–то и остановили Гуссерля окрики непобежденного «стража порога».
(обратно)182
Р. Штейнер, Мистика на заре духовной жизни Нового времени и её отношение к современным мировоззрениям, М., Изд. «Духовное знание», 1917, с. 162 сл.
(обратно)183
Настолько неуслышанной оказалась «Философия свободы» с её
(обратно)184
перспективами совершенно новой эзотерики, что пришлось расчищать авгиевы конюшни теософии для закладки камня будущего Гётеанума!
И может быть с большей энергичностью следовало бы сказать это и о позднейшем — уже в преддверии смерти — вступлении в Антропософское общество: всё с той же целью?
(обратно)185
Мистика, цит. соч., с. 5–6.
(обратно)186
Возможно, именно здесь, как нигде, пришлась бы кстати максима Гёте: «Поменьше писать, побольше рисовать». Рисунок мог бы спасти познание от посягательств халтурных слов. Удивительно сказал об этом однажды сам Штейнер, говоря как раз о «Философии свободы»: «Я охотно нарисовал бы, например, содержание моей „Философии свободы". Можно было бы сделать это самым отличным образом. Но тогда её не смогли бы уже читать сегодня. Мало кто сумел бы воспринять это сегодня, так как люди нынче выдрессированы на „слове"» (Из лекции «Сущность и значение иллюстративного искусства», прочитанной в Дорнахе 3 декабря 1917 года)
(обратно)187
Treatise of Human Nature, Book One, London, Fontana Library 1962, p. 113.
(обратно)188
Берлин, 9 февраля 1905 года.
(обратно)189
R. Steiner, Mein Lebensgang, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1975, S. 206.
(обратно)190
Ср.: «Система Гольбаха есть реальное и неоспоримое основание моей философии, и я её ярый приверженец, если понадобится, вплоть до мученичества». Sade, Lettres choisies, Paris 1963, p. 143.
(обратно)191
В письме к Ф. Овербеку от 30 апреля 1884 года. Samtliche Briefe,
Munchen 1986, Bd. 6, S. 497.
(обратно)192
Nachgelassene Fragmente 1887–1889, Kritische Studienausgabe, Bd. 13, S. 189.
(обратно)193
Ecce Homo, Munchen 1986, S. 185.
(обратно)194
Briefe II, S. 238f.
(обратно)195
Nachgelassene Werke. Unveroffentlichtes aus der Umwertungszeit, 2. Abt, Bd. 13, S. 124.
(обратно)196
Meister Eckhart, Schriften, op. cit., S. 152.
(обратно)197
Уединенное, Мюнхен 1970, с. 46.
(обратно)198
Correspondance I, Pleiade 1973, p. 683.
(обратно)199
The Works of Oscar Wilde. Intentions, Collins, London 1938, p. 265.
(обратно)200
Nachgelassene Werke. Unveroffentlichtes aus der Umwertungszeit, 2. Abt, Bd. 13, S. 353.
(обратно)201
Соч. в 2 тт, т. 1. с. 52.
(обратно)202
Собр. соч. М, 1914, т. 5, с. 26.
(обратно)203
В письме к г-же д'Эпине от 26 апреля 1777 года: «Мораль сохранилась среди людей, потому что о ней мало говорили, и притом никогда в дидактическом тоне: всегда красноречиво или поэтично. Если иезуитам вздумается свести её к системе, они её ужасно изувечат. По сути, добродетель — это энтузиазм». Correspondence inedite de I'abbe Galiani, Paris 1818, t. 2, p. 437.
(обратно)204
Три разговора.
(обратно)205
Впоследствии в проекте социальной трехчленности Штейнером будет воскрешен потрясающий смысл еще одной заболтанной банальности: свобода, равенство, братство.
(обратно)206
Ницше, Соч. в 2 тт., т. 2, с. 662–63.
(обратно)207
Einubung im Christentum, Gutersloh 1980, S. 72.
(обратно)208
Опыт с семенем растения, рекомендуемый книгой «Как достигнуть познаний высших миров?», обещает быть бесконечно плодотворным применительно как раз к этому случаю.
(обратно)209
Из вступительной статьи к гётевским «Изречениям в прозе». Goethes Naturwissenschaftliche Schriften. Mit Einleitungen und Erlauterungen im Text herausgegeben von Rudolf Steiner, Dornach 1982, Bd. 5, S. 344 (пер. Э. Атаяна).
Goethe, Werke, Sophien—Ausgabe, Abt. IV, Bd. 43. S. 92.
(обратно)210
В первом, посвященном Эрнсту Геккелю, издании 1901 года, вышедших под заглавием «Миро– и жизневоззрения в XIX веке».
(обратно)211
Briefe I, 1881–1891, Dornach 1948, S. 143.
(обратно)212
Из вступительной статьи к гётевским «Изречениям в прозе», цит. соч., S. 340 (пер. Э. Атаяна).
(обратно)213
Не смешивать ни с каким из традиционных эзотерических течений как Запада, так и Востока. Теософия Рудольфа Штейнера есть теософия гётеанизма; понять её без Тибета, без средневековых алхимиков и мистиков или Блаватской не только можно, но и единственно нужно. Понять её без Геккеля, без естествознания и естественнонаучного образа мысли нельзя
(обратно)214
R. Steiner, Die Ratsel der Philosophie, Bd. 2, Dornach 1974, S. 226 (пер. Э. Атаяна).
(обратно)215
Из последней, автобиографической, книги «Мой жизненный путь»: «Если я тогда не использовал еще термин „антропософия", то оттого лишь, что в моей душевной жизни дело идет прежде всего о созерцаниях, а вовсе не о терминологии» R. Steiner, Mein Lebensgang, Dornach 1975, S. 174.
(обратно)216
Р. Штейнер, Очерк теории познания гётевского мировоззрения, М, 1993, с. 23.
(обратно)217
Там же, с. 82.
(обратно)218
Там же, с. 90.
(обратно)219
Р. Штейнер, Истина и наука, М., 1992, с. 7.
(обратно)220
МахStirner, Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 1991, S. 411f.
(обратно)221
R. Steiner, Theosophie, Dornach 1990, S. 70.
(обратно)222
Ibid., S. 71.
(обратно)223
Монтень, Опыты, кн. 1, М. — Л., 1954, с. 327.
(обратно)224
Честерфилд, Письма к сыну. Максимы. Характеры, М., 1978, с. 56.
(обратно)225
Штейнер посвятил ему книжный вариант своей докторской диссертации «Истина и наука», 1892.
(обратно)226
В русском переводе: Р. Штейнер, Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения, Ереван, 1993.
(обратно)227
Опубликованы в кн.: R. Steiner, Dokumente zur «Philosophie der Freiheit», Dornach 1994.
(обратно)228
Во вступительной статье к гётевским «Изречениям в прозе» (1897).
(обратно)229
«Моя статья была озаглавлена так лишь потому, что этого требовало общее название книги. Собственно, статья должна была бы называться „Индивидуализм в философии"» (R. Steiner, Mein Lebensgang, Stuttgart 1975, S. 290). Эта поправка, скорее всего, рассчитана на антропософов, или уже на всех тех, кто не в состоянии воспринять и осмыслить понятие «эгоизм» имманентным авторской интенции образом, то есть, как философскую и метафизическую категорию, лишенную какого–либо морального привкуса. Конъюнктив замены одного слова другим, таким образом, имел предпосылкой не принципиальную установку, а лишь более щадящий режим отношения с читателями.
(обратно)230
«An Gottes Stelle den freien Menschen!!!» Запись в дружеском «Альбоме признаний» от 8 февраля 1892 года.
(обратно)231
Из предисловия к третьему изданию «Теософии»: «Кто захочет еще на другом пути искать изложенные здесь истины, тот найдет его в моей „Философии свободы". Эти обе книги по–разному стремятся к одной и той же цели. Для понимания одной вовсе не необходимо прочтение другой, хотя для иного читателя, конечно же, полезно».
(обратно)232
М. Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 1991, S. 359.
Засвидетельствованный, между прочим, в письме к Дж. Г. Маккаю, издателю Штирнера и автору его и по сей день еще остающейся непревзойденной биографии, от 5 декабря 1893 года, то есть, непосредственно после выхода в свет «Философии свободы». «Первая часть моей книги образует философский фундамент для штирнеровского жизневоззрения. Сделанные мною во второй части „Философии свободы" этические выводы из моих предпосылок находятся, как я полагаю, в полном согласии с рассуждениями книги „Единственный и его достояние"» (Briefe, Bd. II, Dornach, 1953, S. 143).
(обратно)233
Книга «Единственный и его достояние» сразу по выходе в свет была конфискована и запрещена к продаже решением саксонской окружной администрации; через несколько дней запрет был отменен министром внутренних дел, которому книга показалась «слишком абсурдной», чтобы быть опасной. См. J. Н. Mackay, Max Stirner. Sein Leben und sein Werk, Berlin 1914, S. 127.
(обратно)234
Академическая философия должна не на шутку встревожиться, если названную проблему открытым текстом формулирует не кто иной, как автор «Философии как строгой науки» и «Картезианских медитаций». В § 57 «Кризиса европейских наук» Гуссерль пытается пройти через игольное ушко «Штирнер»: «Неизбежным оставалось различие между эмпирической и трансцендентальной субъективностью, но неизбежной же, а вместе и непонятной оставалась и их идентичность. Я сам, в качестве трансцендентального Я, „конституирую" мир, и в то же время, будучи существом, наделенным душой, являюсь человеческим Я в мире. Рассудок, предписывающий миру свой закон, есть мой трансцендентальный рассудок, но ведь и меня самого формирует он по этим законам, он, который является же моей, философа, душевной способностью. Полагающее самое себя Я, о котором говорит Фихте, может ли оно быть иным Я, чем Я Фихте? При условии, конечно, что это не фактическая абсурдность, а поддающаяся разрешению парадоксальность, какой же еще метод мог бы помочь нам достичь здесь ясности, если не метод опроса нашего внутреннего опыта и осуществляемого в его рамках анализа? Если речь идет о некоем трансцендентальном „сознании вообще", если не Я, как вот это вот индивидуально–единичное Я, может быть носителем конституирующего природу рассудка, разве не самое время мне спросить, каким образом я поверх моего индивидуального самосознания могу обладать еще и общим, трансцендентально–интерсубъективным?» (Husserl, Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie. Ges. Schriften, Bd. 8, Hamburg 1992, S. 205f.) Некоторая трагичность — не только личного, но и эпохального порядка, — бросается в глаза, когда мыслитель ранга Гуссерля завершает свою философскую жизнь робкой попыткой рекапитуляции «Эгоизма в философии», ничего не зная или, скорее, не желая знать о его авторе
(обратно)235
Вот и Густав Шпет в умнейшей статье «Сознание и его собственник» (1916) размышляет о ничейности сознания. «Чье же сознание? — Свое собственное, свободное! А это и значит, другими словами, что — ничье!… В конце концов, так же нельзя сказать, чье сознание, как нельзя сказать, чье пространство, чей воздух, хотя бы всякий был убежден, что воздух, которым он дышит, есть его воздух и пространство, которое он занимает, есть его пространство, — они „естественны", „природны", составляют „природу" и относятся к ней, „принадлежат" ей» (Г. Г. Шпет, Философские этюды, М., 1994, с. 107–108). Этот безупречный вывод должен быть продолжен; остановиться на нем значило бы, откатиться «назад кГоргию» (там же, с. 220). То, что воздух и пространство «принадлежат» природе, столь же несомненно, как и то, что природе же «принадлежит» и мысль об этом, причем уже не той природе, в которой пространство и воздух, а той, которая САМА мысль! Антропософия, смогшая бы начаться у утонченного скептика Шпета, начинается с раскавыченной, разязыченной, осознавшей себя как человек природы, которая лишь в восприятии предстает чуждой и внешней, в сущности же своей (как мыслимая) есть мысль, а как мысль — МЫСЛЯЩИЙ. Приходя путем острейшего анализа к ничейному сознанию, приходят ведь именно к сознанию ничейного сознания, и тогда уже с двухярусным вопросом: а ничейно ли и само осознание того, что сознание ничейно! Иначе: если воздух и пространство «принадлежат» природе, то чему (кому) принадлежит сама природа? Несудьбой философа Шпета было пройти мимо ответа: «Для человека противоположность объективного внешнего восприятия и субъективного внутреннего мира мысли существует лишь до тех пор, пока он не обнаруживает, что эти миры составляют одно целое. Внутренний мир человека и есть внутреннее природы» (R. Steiner, Einleitung zu Goethes «Spruche in Prosa», in: Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, hrsg. von Rudolf Steiner, Bd. 5, Dornach 1982, S. 341). Мы читаем: не вообще человека, а конкретного одного, того, кто расширил свое сознание до природы, несет в себе природу естествоиспытателей как ДУШУ, существует как природа. Аподиктум ничейного сознания санкционируемый ссылками на «Ивана Ивановича» и «Ивана Петровича» (шпетовские свидетели), с одной стороны, и на общую «природу», с другой, антропософски преображается в возможность ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПРИРОДЫ.
(обратно)236
Briefe II, Dornach 1987, S. 238f.
(обратно)237
Он прожил–таки еще одиннадцать лет, как торговый агент по продаже молока, и умер (25 июня 1856 года) от укуса ядовитой мухи.
(обратно)238
М. Stirner, a.a. O., S.411f.
(обратно)239
«Теософия» формулирует это следующим образом: «В духовном отношении каждый человек сам по себе есть отдельный род» (R. Steiner, Theosophie, Dornach 1943, S. 56).
(обратно)240
Карл Баллмер: «Немецкий идеализм терпит неудачу, так как он не вбирает проблему Христа в свою волю» (Karl Ballmer, Anthroposophie und Christengemeinschaft, Siegen/Sancey le Grand 1995, S. 87).
R. Steiner, Methodische Grundlagen der Anthroposophie. Ges. Aufsatze zur Philosophie, Naturwissenschaft, Asthetik und Seelenkunde 1884–1901, Dornach 1961, S. 429, 431f.
«Das Ereignis Rudolf Steiner» (Карл Баллмер).
(обратно)241
R. Steiner, Die Philosophie der Freiheit. Grundzuge einer modernen Weltanschauung, Berlin 1894, S. 221f.
(обратно)242
Реквием на смерть философа Эберхарда Гризебаха, в: Schweizer Monatshefte, Heft 4, Juli 1946; перепечатан в: K. Ballmer, Deutsche Physik von einem Schweizer, Edition LGC, Siegen/Sancey le Grand 1995 S. 167–175.
(обратно)243
В названном немецко–французском издательстве LGC.
(обратно)244
Schriften, op. cit., S. 134.
(обратно)245
Pierre Termier, Introduction a Leon Bloy, Paris s. a., p. 125.
(обратно)246
Из наброска одного неопубликованного письма 1942 года, предположительно к бернскому теологу Мартину Вернеру. Я цитирую его в своем послесловии к книге: K. Ballmer, Umrisse einer Christologie der Geisteswissenschaft. Texte und Briefe, Rudolf Geering Verlag 1999, S. 213.
(обратно)247
Феноменология духа, гл. «Абсолютная свобода и ужас» (пер. Г. Шпета).
(обратно)248
Elf Briefe uber Wiederverkorperung, Verlag Fornaseila, Besazio 1953, S. 26.
(обратно)249
Из письма к Марии Штейнер от 2 сентября 1932 года. Очень редкое личное признание в случае Баллмера, крайне неохотно и только по необходимости говорящего о себе, а тем более так и такое.
(обратно)250
Из одного позднего (неопубликованного) письма от 25 октября 1945 года: «Сельдвильцам [по названию сборника новелл Готтфрида Келлера: «Die Leute von Seldwyla», 1856; что–то вроде швейцарского аналога обломовщины — К. С.] впору наконец догадаться, что если некто К. Б., вместо того чтобы пустить себе пулю в лоб, проявляет интерес к Р. Шт., то это не частная любительская выходка какого–то делинквента, а знак того, что духовно недокормленным предоставляется случай научиться чему–то настоящему»..
(обратно)251
В Гамбурге мастерскую его посетил однажды Сэмюэль Беккет, записавший потом в German Diaries свои впечатления от художника Баллмера: «Изумительная красная женская голова, череп, земля, море и небо. […] Я бы не назвал картину абстрактной. Метафизический конкрет. Всё еще условно природный, но как источник, резервуар „явления". Совсем апостериорная живопись. Предмет не низводится до иллюстрации идеи, как, скажем, у Леже или Баумейстера, но первичен. Это — сообщение, исчерпанное оптическим переживанием, которое является его побудительной причиной и его содержанием. […] Исключительная, неслыханная тишина». Можно догадываться (или угадывать), что сказал бы автор «Waiting for Godot», доведись емуувидеть Баллмера, рассказывающего тишину не красками, а словами? Картины сохранились отчасти в художественных галереях (в Аарау, Цуге), отчасти в частных собраниях. В 1990 году в связи с выставкой Карл Баллмер, 1891–1958 в Аарау вышел прекрасный альбом репродукций, сопровождаемых параллельной биографией художника Баллмера и множеством относящихся к ней материалов
(обратно)252
Eine Selbstcharakteristik Karl Ballmers im Hinblick auf seine schopferische Tatigkeit. In: Der Macher bin ich, den Schopfer empfange ich, op. cit., S. 13.
(обратно)253
Из неопубликованного письма к Хедвиг Клейнер от 23 февраля 1927 года.
(обратно)254
Из неопубликованного письма к Бернулли от 26 октября 1928 года.
(обратно)255
В посмертно изданной работе Шелера: «Mensch und Geschichte», Zurich 1929.
(обратно)256
В книге: Н. Leiste, Anthroposophie und Anthroposophische Gesellschaft, Basel 1941, S. 193–221. Суть критики: «Баллмер пытается подчеркнуть величие Одного [Штейнера — К. С.] тем, что он соответственно умаляет значимость всех других нас…» Такая вот бертбрехтовская антропософия, по модели: историк Моммзен написал тысячу страниц о Цезаре, ни разу не упомянув его повара. Вывод: историк Моммзен возвеличил Цезаря за счет повара Цезаря. Всё это в преддверии эпохи поваров, кухарок и«всех других нас», не умеющих ничего стряпать, зато управляющих государством.
K. Ballmer, Umrisse einer Christologie der Geisteswissenschaft, op. cit., S. 190.
(обратно)257
K. Ballmer, Deutsche Physik von einem Schweizer, op. cit., S. 99.
(обратно)258
Hans Gessner, Der Bodhisattva des 20. Jahrhunderts, Verlag Fornaseila, Besazio 1998, S. 12.
(обратно)



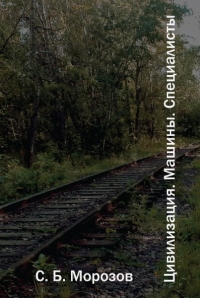
Комментарии к книге «Растождествления», Карен Араевич Свасьян
Всего 0 комментариев