Предисловие к русскому изданию
Редко кто отчетливо представляет себе, в чем состоят основные принципы анархизма — доктрины, отрицающей государство и власть. Но анархизм является уже относительно немолодой социальной философией, основные принципы которой были сформулированы Уильямом Годвином, Пьером-Жозефом Прудоном и Михаилом Бакуниным к середине XIX века. Свою родословную он ведет от Лао-Цзы на Востоке и греческих киников на Западе.
Анархизм остается для многих непонятной, курьезной теорией, отчасти в силу последовательного противопоставления себя всем авторитарным институтам и господствующим доктринам, но в не меньшей степени и в силу невежества большинства. Даже довольно образованные и эрудированные люди, скорее всего, удивят вас степенью своего незнания того, что такое анархизм. Они будут прыскать в кулак и поминать какую-то непонятную «Анархию — мать порядка», пресловутого «Цыпленка жареного» вкупе с «бомбистами» и «бандитом батькой Махно» (крепко засела в головах советская кинопропаганда, не правда ли?)
Эта ситуация не нова и преследует анархическое движение практически с момента его возникновения. Поэтому всякий раз, когда анархизм в силу тех или иных обстоятельств оказывался в центре общественного внимания — будь то в связи с индивидуальными актами протеста против существующего порядка или массовыми социальными движениями, вдохновлявшимися анархическими идеями, — анархисты осознавали необходимость последовательного и неизвращенного невежеством и стереотипами изложения своего жизненного кредо. Из этих обстоятельств вышли как краткие пламенные филиппики (зачастую речи на суде или письма из тюрьмы), так и более пространные сочинения в виде книг. Популярное изложение того, «что такое анархизм», стало особым жанром анархической пропагандистской литературы. Замечательные образцы этого жанра довольно многочисленны, хотя по-прежнему зачастую недоступны для тех, кто читает по-русски.
Так, после поражения Российской революции 1917–1921 гг. американский анархист российского происхождения Александр Беркман написал свою «Азбуку коммунистического анархизма» (1929), излагая основы анархического учения и критически анализируя опыт «коммунистического» социального эксперимента в России, осуществленного большевиками. Когда в ходе Испанской революции 1936–1939 гг. анархизм громко заявил о себе и о своей конструктивной программе социализации и самоуправления, немецкий анархист Рудольф Роккер написал свою работу «Анархо-синдикализм» (1938), в которой дал столь необходимое краткое изложение принципов анархической социальной философии и истории движения. Позже, в начале 1960-х гг., канадский писатель-анархист Джордж Вудкок снова взялся за популярное изложение анархической доктрины и рассказ об историческом опыте анархического движения в разных странах в своей книге «Анархизм: история либертарных идей и движений» (1962). К тому времени анархизм, так и не оправившись от ударов, нанесенных ему авторитарными режимами в России и Испании, а также правительствами других стран, казалось, сошел с исторической арены, уступив место более «успешным» доктринам либерализма и государственного социализма. Неудивительно поэтому, что Вудкок был довольно пессимистичен в своих комментариях.
Но анархические идеи и принципы оказались живучими. Как угли костра, сохраняющиеся под слоем пепла, они снова разгорелись с новой силой, как только подул свежий ветер.
Предлагаемая читателям книга Даниэля Герена «Анархизм: от теории к практике» была впервые опубликована в 1965 г. во Франции. Собственно, она и была одной из попыток сохранить те угли, которые, казалось, надолго затухли к тому времени. Но всего два — три года спустя, анархические идеи распространились по западному миру с замечательной быстротой, попав на благодатный горючий материал молодежного протеста против капитализма, правительства и — в неменьшей степени — государственно-социалистического бюрократизма. Именно с конца шестидесятых годов ведет отсчет своей новейшей истории анархическое движение.
С тех пор книга Даниэля Герена была переведена на многие языки и выдержала бессчетное количество изданий; регулярно переиздается она во Франции и до сих пор. Она содержит емкое и объективное изложение идей основных теоретиков анархизма — Прудона, Бакунина, Штирнера, отчасти Кропоткина и Малатесты, а также описание глубоко конструктивной практики анархизма и самоуправления в ходе Испанской и других европейских революций ХХ века, пусть они и окончились исторической неудачей. Труд Герена остается по-прежнему актуальным и сегодня, когда границы «исторического» анархического движения, сфера его интересов и география значительно расширились.
Как и все сочинения, книга Герена «Анархизм», безусловно, несет на себе отпечаток ее создателя. Активист французского левосоциалистического движения на протяжении нескольких десятилетий ХХ века, с середины двадцатых до конца восьмидесятых, Даниэль Герен сам проделал определенную эволюцию взглядов, участвовал в различных движениях и группировках слева от социалистического и коммунистического мейнстрима. Начав с увлечения марксизмом, но еще в молодости познакомившись с критическими замечаниями Михаила Бакунина в адрес «государственного социализма», Герен на всю жизнь получил, говоря его собственными словами, прививку от авторитаризма. На протяжении всей своей долгой политической биографии он пытался пройти по тонкой грани между марксизмом и анархизмом и сформулировать соответствующую теорию «либертарного социализма» (или «либертарного коммунизма»[1]). Попытки подобного синтеза предпринимались неоднократно, с различной степенью успеха, и, видимо, будут иметь место и в будущем. Следы этих попыток, как можно легко будет заметить, наличествуют и в этой книге. Если говорить об успешности усилий самого Герена, как на теоретическом, так и на организационном поприще, то они не были вполне удачны. Но, как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Судить же о степени либертарности или, наоборот, авторитарности марксизма, равно как и о его жизнеспособности, мы предоставляем самому читателю (при этом указывая на богатую и плодотворную анархическую критику марксизма). В этой книге также нашли отражение другие характерные черты эпохи 1960-ых и интересы самого Герена — увлечение национально-освободительными движения в странах «третьего мира» (и их идеализация), дискуссии о возможности трансформации государственно-социалистических режимов Восточного блока через развитие в них народной демократии и самоуправления. Но с тех пор, как говорится, много воды утекло…
Как бы то ни было, предлагаемая читателям книга — пожалуй, одно из лучших введений в теорию и практику социального анархизма, написанное со знанием предмета и очевидным литературным мастерством. Надеемся, что знакомство с этой книгой и этими идеями будет полезным и интересным для читателей.
Путь этой книги к российской аудитории был непрост. Первая попытка ее перевода на русский язык была сделана еще в начале девяностых годов; впрочем, она была не очень удачной, и текст не был опубликован. Затем в «Антологии анархизма и левого радикализма» (М., «Ультракультура», 2003) появился перевод части этой книги. Теперь у вас есть, наконец, возможность прочесть всю книгу целиком.
Мы снабдили текст необходимыми ссылками на источники и пояснениями, описывающими различные моменты анархической теории и истории. Авторские сноски обозначены соответствующим образом, большинство же комментариев сделаны специально для русского издания книги. Список литературы, рекомендуемой для более углубленного знакомства с анархическими идеями и историей различных социально-революционных движений, сделан нами на основе того, что содержится во французском издании книги Герена, но с поправкой на значимость текстов и их доступность для российских читателей.
Михаил Цовма
Предисловие
С недавних пор происходит возрождение интереса к анархизму. Ему посвящают книги, монографии, антологии. Сложно сказать, всегда ли такое «литературное» усилие действительно эффективно. Очертить контуры анархизма сложно. Главные представители этого течения не всегда сжато излагали свою мысль в систематических трудах. Когда иные все же пытались это сделать, то в основном в небольших брошюрах, задуманных для пропаганды и популяризации, в которых можно найти лишь фрагменты этих идей. К тому же существуют различные разновидности анархизма, а сколько вариаций в мыслях каждого из выдающихся либертариев! [2]
Отрицание власти и акцент на приоритете индивидуального суждения особенно побуждают либертариев «исповедовать антидогматизм». «Не будем же становиться вождями новой религии, — писал Прудон[3] Марксу, — даже если это религия логики, религия разума». К тому же взгляды анархистов более многообразны, текучи и сложны для понимания, чем взгляды «авторитарных» социалистов, соперничающие церкви которых пытаются, более или менее, навязать своим приверженцам каноны веры.
В письме директору парижской тюрьмы Консьержери, незадолго до того, как он был казнен на гильотине, террорист Эмиль Анри[4] писал: «Но ни в коем случае не думайте, что Анархия есть догма, непререкаемая, необсуждаемая доктрина, боготворимая ее приверженцами подобно тому, как мусульмане почитают Коран. Нет! Абсолютная свобода, которой мы требуем, постоянно развивает наши идеи и открывает для них новые горизонты (в зависимости от направления мыслей разных людей), выводит их за узкие рамки правил и норм. Мы не “верующие”». И приговоренный к смерти отбрасывает «слепую веру» французских марксистов той эпохи, «которые веруют во что-то лишь потому, что Гед[5] сказал, что в это надо веровать, и у которых есть катехизис, оспаривать любой из параграфов коего является святотатством».
На самом деле, несмотря на разнообразие и богатство анархической мысли, несмотря на ее противоречия, несмотря на доктринальные споры, которые, кстати, слишком часто фокусировались на ложных проблемах, анархизм представляет собой достаточно однородный комплекс идей. На первый взгляд может показаться огромной разница между индивидуалистическим анархизмом Штирнера[6] и социальным анархизмом. Но если заглянуть глубже, то, несмотря ни на что, поборники тотальной свободы и сторонники социальной организации оказываются не так уж далеки друг от друга, как им самим представляется или как может показаться на первый взгляд. Социальный анархист является также и индивидуалистом, а анархист-индивидуалист, со своей стороны, вполне может быть по сути своей социальным анархистом, хотя и боится себе в этом признаться.
Относительное единство социального анархизма объясняется тем, что он разрабатывался практически в одну эпоху двумя учителями, каждый из которых был одновременно учеником и последователем другого — французом Пьером-Жозефом Прудоном и русским изгнанником Михаилом Бакуниным[7]. Бакунин дал определение анархизма, как «широко развитого и доведенного до крайних пределов прудонизма». Этот анархизм объявил себя «коллективистским».
Однако его эпигоны отвергли это определение и провозгласили себя коммунистами («вольными» или «либертарными» коммунистами, разумеется). Один из них, Петр Кропоткин[8], также вынужденный покинуть Россию, склонялся к теории в более утопическом и оптимистическом духе, «научность» которой плохо скрывала ее слабые места. Итальянец Эррико Малатеста[9], в свою очередь, исповедовал бескомпромиссный, порой ребяческий, активизм, хотя и обогатил анархистскую мысль своей непримиримой и часто здравой полемикой. Позднее опыт Российской революции породил одно из наиболее замечательных анархистских произведений — труд Волина[10].
* * *
Анархистскому терроризму конца XIX века были присущи драматические и анекдотические черты, а также запах крови, столь дразнящий вкусы широкой публики. Но если в свое время он явился школой личной энергии и мужества, что вызывало уважение, если его заслугой явилось привлечение общественного внимания к проблемам социальной несправедливости, то сегодня он предстает, скорее, как эпизодическое и бесплодное отклонение в истории анархизма. Он представляется фигурой прошлого. Сосредоточение внимания, как предлагает обложка одного недавнего издания, на «котелке Равашоля»[11] ведет к игнорированию или недооценке фундаментальных черт концепции социального переустройства, которая вовсе не является исключительно разрушительной, как утверждают ее противники, но при ближайшем рассмотрении оказывается в высшей степени конструктивной. Именно к этому анархизму мы и хотим привлечь внимание читателя. По какому праву и на каком основании? Просто-напросто потому, что идеи, о которых идет речь, отнюдь не устарели, но являются исключительно жизненными, и потому, что поставленные проблемы актуальны как никогда. Если яростный вызов обществу, бомбы и взрывы принадлежат допотопной эпохе и более не могут устрашить, то, в свою очередь, анархические предвосхищения наталкивают на размышления. Можно заметить, что они в значительной мере отвечают потребностям нашего времени и могут внести свой вклад в строительство нашего будущего.
В отличие от предшествующих работ эта небольшая книга не претендует на то, чтобы стать историей или библиографией анархизма. Эрудитов, посвящавших свои труды анархизму, заботило прежде всего то, как не пропустить ни одного имени в составленных ими картотеках. Очарованные внешним сходством, они, как им казалось, находили множество предтеч анархизма. Они придавали практически равный вес гению и его менее значительным последователям, предоставляли чрезмерное количество зачастую поверхностных биографических деталей гораздо охотнее, чем занимались действительно глубоким исследованием идей. Их ученые тома оставляют у читателя ощущение расплывчатости, относительной бессвязности, и в то же время не дают ответа на вопрос, что же такое анархизм на самом деле.
Метод, который я попытался применить, иной. Предполагается, что биографии представителей анархической мысли уже известны. В любом случае они иногда проливают значительно меньше света на наш сюжет, чем полагают некоторые исследователи. И действительно, учителя анархизма не были в равной степени анархистами на протяжении всей своей жизни; многие страницы их полных собраний сочинений не имеют никакого отношения к анархизму.
Так, например, мысль Прудона во второй половине его деятельности становится все более консервативной. Его пространная и монументальная работа «О справедливости в революции и церкви» (1858) посвящена главным образом проблеме религии. Ее заключение малоанархично, поскольку, несмотря на неистовый антиклерикализм, Прудон в конечном счете принимает все положения католицизма, не интерпретируя их, и заявляет, что дело образования и нравственного воспитания народа выиграло бы от сохранения христианской символики. К концу книги уже кажется, что, отложив перо, он сам готов произнести проповедь. Из уважения к его памяти мы лишь вскользь упомянем о его «приветствии войне», нападках на женщин и приступах расизма.
Прямо противоположное произошло с Бакуниным. Как раз первая половина его бурной карьеры революционера-конспиратора не имеет отношения к анархизму. Он обращается к анархическим идеям лишь начиная с 1864 г., после подавления польского восстания, в котором он участвовал[12]. Его произведения предшествующего периода не очень подходят для анархистской антологии.
Что касается Кропоткина, то его чисто научные работы, благодаря которым он известен в СССР как один из выдающихся деятелей российской географии,[13] не имеют прямого отношения к анархизму, точно так же, как и его оборонческая позиция во время Первой мировой войны[14].
Итак, мы предпочли здесь историческому и хронологическому исследованию другой метод, необычный: читателю поочередно представляются не персоналии, а основные конструктивные темы анархизма. Умышленно были опущены лишь те из них, которые не являются специфически анархическими (например, критика капитализма, атеизм, антимилитаризм, свободная любовь и т. д.). Вместо сухого пересказа чужих идей из вторых рук, опресненного и бездоказательного, я как можно более часто прибегал к цитатам. Это дает читателю возможность воспринять идеи различных авторов в их непосредственной форме, в том виде, как они вышли из-под их пера, со всем пылом и горячностью.
Затем доктрина рассматривается под другим углом зрения: анархизм показан в основные исторические моменты, когда он был подвергнут практическому испытанию (Российская революция 1917 г., Италия после 1918 г., Испанская революция 1936 г.). В последней главе представлено рабочее самоуправление, являющееся, без сомнения, наиболее оригинальным детищем анархизма, в противопоставлении с современной действительностью.
Итак, на страницах этой книги беспрестанно сталкиваются, а иногда пересекаются, две концепции социализма: одна «авторитарная», другая либертарная. Какой из них принадлежит будущее, пусть, проанализировав, решит сам читатель.
Даниэль Герен
Часть 1. Движущие идеи анархизма
Немного о словаре
Слово «анархия» старо как мир. Оно происходит от древнегреческих слов «ан» (αν) и «архе» (αρχή) и означает отсутствие власти или правительства. Тысячелетиями, однако же, царило предвзятое мнение, что человеку обязательно требуется либо одно, либо другое, а синонимом «анархии» в чисто отрицательном смысле были беспорядок, хаос и дезорганизация.
Автор остроумнейших каламбуров (к примеру, «собственность — это кража») Пьер-Жозеф Прудон попытался переприсвоить слово «анархия». Как будто задавшись целью возможно сильнее шокировать обывателя, он завязал с ним, начиная с 1840 г., такой провокационный диалог:
— Вы — республиканец.
— Да, республиканец, ну и что? Это слово ничего конкретного не означает. Res publica означает нечто публичное[15]… Но, таким образом, выходит, что и короли — республиканцы!
— А, так вы — демократ?
— Нет.
— Как! Может, вы монархист?
— Нет.
— Конституционалист?
— Упаси бог!
— Тогда вы — аристократ?
— Вовсе нет!
— Значит, вы выступаете за смешанную форму правления?
— Это еще дальше от истины.
— Тогда кто же вы?
— Я — анархист.
Под «анархией», которую он иногда в виде орфографической уступки писал «ан-архия», дабы еще сильнее сбить с толку толпы своих идейных противников, Прудон, бывший больше созидателем, нежели разрушителем, несмотря на создаваемую им видимость, понимал совершенно обратное беспорядку, как мы и увидим далее. Он полагал, что ответственность за разлад и беспорядок несет правительство, и что только в обществе, лишенном правительства, можно восстановить естественный порядок вещей и достичь социальной гармонии. Для обозначения этой панацеи и ссылаясь на то, что в языке нет другого подходящего термина, он лукаво вернул древнему слову «анархия» его строгий этимологический смысл.
Удивительно, впрочем, что в пылу полемики он упрямо и настойчиво — как, позднее, и его последователь Михаил Бакунин — использовал слово «анархия» вдобавок еще и в уничижительном смысле, для обозначения беспорядка, как если бы карты уже не были достаточно спутаны.
Сознательно не делая явных различий между двумя ипостасями этого термина, Прудон и Бакунин извлекали извращенное удовольствие из этой игры с определениями. Для них анархия означала как высшую степень беспорядка, колоссальную общественную дезорганизацию, так и гигантское революционное переустройство, построение нового стабильного и разумного порядка, основанного на принципах свободы и солидарности.
Однако непосредственные последователи обоих отцов анархизма несколько колебались употреблять настолько растяжимый термин, ведь для непосвященных он нес лишь отрицательный заряд, а это само по себе способствовало бы возникновению раздражающей терминологической путаницы на пустом месте. Остепенившийся Прудон сам именовал себя в конце своей недолгой карьеры «федералистом». Его мелкобуржуазные последователи предпочли слову «анархизм» термин «мютюэлизм»[16], а последователи социалистического толка — «коллективизм», вскоре замененный «коммунизмом». Позднее, во Франции в конце XIX века, Себастьен Фор[17] вытащил на свет слово, выдуманное еще в 1858 г. неким Жозефом Дежаком, и сделал из него название своей газеты: «Le Libertаire». В наши дни оба термина, «анархический» и «либертарный», стали равнозначными и взаимозаменяемыми[18].
Однако большинство этих терминов страдает вполне серьезным недостатком: они не выражают фундаментального аспекта тех доктрин, которые они призваны характеризовать. Слово «анархия» на самом деле синонимично слову «социализм», ведь анархист — это социалист, чьей приоритетной задачей является устранение эксплуатации человека человеком. Анархизм — не что иное, как одно из течений социалистической мысли, в котором главным является стремление к свободе и желание упразднить государство. Один из чикагских мучеников,[19] Адольф Фишер, утверждал, что «каждый анархист — непременно социалист, но не каждый социалист обязательно анархист».
Некоторые анархисты полагают, что именно они являются наиболее подлинными и наиболее последовательными социалистами. Но ярлык, который они на себя добровольно навесили (или дали навесить), и который они, кроме прочего, делят с террористами, слишком часто и абсолютно несправедливо выделяет их как некое «инородное тело» из семейства социалистов. Из этого и возникают в большинстве случаев беспочвенные и бесполезные словесные баталии и длинная череда недопониманий. Некоторые современные анархисты попытались развеять двусмысленность путем использования более четкой терминологии: они именуют себя приверженцами либертарного социализма или либертарного коммунизма.
Врожденный бунт
Анархизм — это, прежде всего, то, что можно было бы назвать врожденным бунтом. Огюстен Амон[20], проведший в конце прошлого века опрос общественного мнения среди анархистов, пришел к заключению, что анархист — это, в первую очередь, бунтующий индивид. Он всецело отрицает общество и его охранителей. Для него, по словам Макса Штирнера, нет ничего святого. Он предается повсеместному развенчанию ценностей. Эти «духовные бродяги», эти «смутьяны» «вместо того, чтобы держаться в пределах умеренного образа мыслей и принимать за неопровержимую истину то, что тысячам приносит утешение и успокоение, (…) перескакивают через все границы старого и сумасбродствуют, давая волю своей дерзкой критике, своему безудержному скептицизму».
Прудон отбрасывает разом всю без исключения «официальную братию» — философов, священников, судей, ученых, журналистов, парламентариев. Для этих последних «народ всегда был чудовищем, с которым надо бороться, заковывать его в цепи и натягивать ему намордник, которое надо обманывать, как носорога или слона, или устрашать голодом, — чудовищем, которому пускают кровь путем колонизации и войн». Элизе Реклю[21] так объяснял для чего людям обеспеченным и облеченным властью кажется столь нужным и полезным сохранять существующее общество: «Поскольку есть богатые и бедные, правители и подданные, хозяева и слуги, цезари, отдающие приказ идти на бой, и гладиаторы, идущие на бой и погибающие, дальновидным людям остается лишь встать на сторону богатых и хозяев, превратиться в царедворцев цезарей».
Постоянное состояние бунта заставляет анархиста испытывать симпатию к людям вне закона, позволяет ему понять осужденного и парию. По мнению Бакунина, Маркс и Энгельс в высшей степени несправедливо отзывались о люмпен-пролетариате,[22] о «пролетариате в лохмотьях», «поскольку дух и сила грядущей социальной революции в нем и только в нем, а не в обуржуазившейся прослойке рабочей массы».
В уста своего Вотрена[23], являющегося ярким воплощением социального протеста, полубунтовщика, полупреступника, Бальзак вложил взрывные речи, от которых не отречется ни один анархист.
Ужасы государства
Для анархиста государство — наиболее пагубный и гибельный из предрассудков и предубеждений, ослеплявших человека испокон веков. Штирнер гневно возмущается теми, кто «извечно» «пребывает под властью государства».
Прудон мечет громы и молнии против этой «фантасмагории нашего духа, в то время как первейший долг свободного разума — отослать его [государство] в музеи и библиотеки». Он раскрывает тайны государственного механизма: «Поддержание этой ментальной предрасположенности и столь длительная непобедимость ослепления объясняются тем, что правительство всегда представало в умах как естественный орган правосудия, защитник слабого». Глумясь над закоснелыми «авторитариями», «которые склоняются перед властью подобно церковным служкам, преклоняющим колени перед святыми дарами на причастии», браня «все без исключения партии», «непрестанно устремляющие свой взгляд на власть как на единственный полюс», он страстно, всей душой призывает тот день, когда «отказ от власти заменит в политическом катехизисе веру во власть».
Кропоткин смеется над буржуа, «считающими народ толпой дикарей, которые перегрызутся, если правительство прекратит свое существование». Малатеста во многом предвосхитил психоанализ, когда в подсознании «авторитариев» обнаружил страх перед свободой.
Так в чем же, по мнению анархистов, заключаются преступления государства?
Послушаем Штирнера: «Оба мы, государство и я, — враги». «Каждое государство — тирания, будь то тирания одного человека или тирания многих». Каждое государство непременно, как мы бы сказали сейчас, тоталитарно: «Государство всегда занято тем, чтобы ограничивать, обуздывать, связывать, подчинять себе отдельного человека, делать его «подданным» чего-нибудь всеобщего. (…) Всякую свободную деятельность государство старается затормозить и подавить своей цензурой, своим надзором, своей полицией, считая своим долгом так поступать, и таков действительно его долг — долг самосохранения». «Государство разрешает мне выражать все мои мысли и пользоваться ими (…); но все это до тех пор, пока мои мысли — его мысли. (…) Иначе оно заткнет мне рот».
Прудон вторит Штирнеру: «Управление человека человеком есть порабощение». «Кто накладывает на меня свою руку, чтобы управлять мною, — узурпатор и тиран; я объявляю его своим врагом». И он разражается тирадой, достойной Мольера или Бомарше:
«Находиться под властью правительства, означает, что за тобой постоянно присматривают, проверяют, шпионят, направляют, контролируют, опутывают законами, ставят в стойло, накачивают пропагандой, наставляют, оценивают, цензурируют, командуют — и кто?! Люди, не имеющие на это ни прав, ни знаний, ни добродетели! (…) Жить под властью правительства означает при каждой операции, каждом соглашении, каждом движении подвергаться оценке, регистрации, учету, тарификации, сбору, обмеру, котировке, раскладке, уплате взносов, обложению налогом, выдаче патента, лицензии, разрешения и рекомендаций, запрету, переформированию, исправлению, образумлению, наказанию. Под предлогом общественной пользы и во имя общих интересов это означает быть управляемым, используемым, платить выкуп, подвергаться грабежу, эксплуатации, монополии, взяточничеству, вымогательству, мистификациям, быть обворованным; а при малейшем сопротивлении, при первом же слове жалобы — подвергнуться подавлению, пресечению, обузданию, уплате штрафа, поношению, смешению с грязью, унижению, преследованию, брани, избиению, укрощению, обезоруживанию, быть связанным по рукам и ногам, брошенным в тюрьму, расстрелянным из винтовок или пулеметов, судимым, осужденным, приговоренным, сосланным, принесенным в жертву, проданным, преданным и, в довершение всего, быть обманутым, надутым, одураченным, оскорбленным, обесчещенным. Вот что представляет собой правительство, вот его правосудие, вот его мораль! (…) О, человеческая личность! Неужто уже шестьдесят веков, как ты продолжаешь погрязать в этой гнуси?»
С точки зрения Бакунина, государство есть «абстракция, пожирающая жизнь народа», «огромное кладбище, где все истинные порывы, стремления и жизненные силы страны блаженно сходят в могилу во имя этой абстракции».
Как писал Малатеста, «отнюдь не будучи создателем энергии, правительство разбазаривает, парализует и уничтожает своими методами действия огромные силы».
По мере того, как множатся силы государства и укрепляется его бюрократия, опасность увеличивается. В своем пророческом видении Прудон предвещает главный бич XX века: «Бюрократизм (…) ведет к государственному коммунизму, к поглощению всей местной и индивидуальной жизни административной машиной, к уничтожению всех проявлений свободомыслия. Все хотят укрыться под крылом власти, жить по общей модели». Настала пора положить этому конец: «Поскольку централизация продолжает усиливаться, (…) положение стало таковым (…), что общество и правительство не могут более жить вместе». «В государстве нет ничего, абсолютно ничего, с самого верха иерархии и до самого низа, что не являлось бы злоупотреблением, которое необходимо искоренить, паразитизмом, который надо уничтожить, инструментом тирании, который нужно сломать. И вы еще можете говорить о сохранении государства, о расширении прерогатив государства, об усилении власти государства! Полно, вы вовсе не революционер!»
Аналогичный мрачный взгляд на все более и более тоталитарное государство разделял и Бакунин. Он видел, что силы мировой контрреволюции, «опирающиеся на огромные бюджеты, постоянные армии, громадную бюрократию», «оснащенные всеми страшными средствами, которые дала им современная централизация», являются «громадным, угрожающим, сокрушительным фактом».
Против буржуазной демократии
Анархист осуждает лживость буржуазной демократии еще более решительно, чем это делает «авторитарный» социалист.
Буржуазно-демократическое государство, именуемое «нацией», кажется Штирнеру не менее опасным, чем старое абсолютистское государство. «Монарх в лице «короля-властелина» был жалким монархом в сравнении с этим новым монархом — “суверенной нацией”». «В либерализме… сказывается преемственность старого христианского пренебрежения к “Я”». «Безусловно, многие привилегии были с течением времени искоренены, но исключительно в пользу государства (…), а отнюдь не для укрепления моего “Я”».
По мнению Прудона, «демократия есть не что иное, как конституционный произвол». Народ был провозглашен суверенным вследствие «хитрости» наших предков. В действительности же он — король без владений, подражание королям, от монаршего величия и великодушия сохранивший лишь титул. Он царит, но не управляет. Сменив свою верховную власть на периодическое отправление всеобщего избирательного права, он каждые три года или каждые пять лет возобновляет свое отречение от престола. Династия была свергнута с трона, но власть сохранилась в неприкосновенности. Избирательный бюллетень в руках народа, воспитанием и образованием которого умышленно пренебрегли, есть искусный обман, мошенничество, из которого извлекает выгоду лишь коалиция магнатов собственности, торговли и промышленности.
Теория суверенитета народа содержит в себе свое отрицание. Если бы весь народ был поистине суверенным, то больше не было бы ни правительства, ни управляемых. Суверен сам стал бы ничем. У государства не было бы более ни малейшей причины для существования, оно слилось бы с обществом и растворилось бы в промышленной организации.
Бакунин видел, что «представительная система правления, отнюдь не являющаяся гарантией для народа, напротив, создает и гарантирует существование правительственной аристократии, действующей против народа». Всеобщее избирательное право есть ловкое одурачивание, обман, предохранительный клапан, маска, за которой «прячется действительно деспотическая власть государства, основанная на полиции, банках и армии», «превосходное средство для угнетения и разорения народа именем так называемой народной воли, которая используется только в целях маскировки».
Анархист не верит в освобождение посредством избирательного бюллетеня. Прудон был абстенционистом,[24] по крайней мере, в теории. Он считал, что «социальная революция может быть серьезно скомпрометирована, если она воплощается в жизнь вследствие политической революции». Голосование — это бессмыслица, это акт слабости и соучастия в коррумпированном режиме. «Для борьбы со всеми прежними партиями, мы должны искать свое законное поле битвы не в парламенте, но вне его». «Всеобщее избирательное право есть контрреволюция». Для того чтобы конституироваться как класс, пролетариат должен сначала «отколоться» от буржуазной демократии.
Однако воинственный Прудон часто отступал от этой принципиальной позиции. В июне 1848 г. он позволил избрать себя в парламент и на короткое время увяз в парламентском болоте. Дважды, во время местных выборов в сентябре 1848 г. и президентских выборов 10 декабря того же года, он поддержал кандидатуру Распая[25] — глашатая крайне левых, находившегося в то время в тюрьме. Он даже зашел настолько далеко, что позволил ослепить себя тактикой «наименьшего зла», выразив поддержку генералу Кавеньяку,[26] палачу парижского пролетариата, перед начинающим диктатором Луи-Наполеоном.[27] Гораздо позже, в 1863 и 1864 гг., он выступал уже за то, чтобы избиратели голосовали пустыми бюллетенями, но в качестве протеста против имперской диктатуры, а не в качестве оппозиции всеобщему голосованию, которое он отныне окрестил «демократическим принципом par excellence[28]».
Бакунин и его соратники по Первому Интернационалу[29] возражали против ярлыка «абстенционистов», навешенного на них марксистами. Для них бойкот избирательных урн был простым вопросом тактики, а не догматом веры. Хотя они утверждали приоритет классовой борьбы в экономической области, они бы не согласились с утверждением, что игнорируют «политику». Они отвергали не всякую «политику», а только политику буржуазную. Они не осуждали политическую революцию, если та предшествовала революции социальной. Они стояли в стороне лишь от тех политических движений, прямой и немедленной целью которых не являлось полное освобождение рабочих. То, чего они боялись и от чего дистанцировались, так это двусмысленных избирательных союзов с радикальными буржуазными партиями образца 1848 г. или с «Народными фронтами», как мы бы их назвали сегодня.[30] Они также опасались, что рабочие, избранные депутатами в парламент, переносятся в буржуазные условия жизни, перестают быть трудящимися и становятся государственными деятелями, обуржуазиваются, и могут стать даже большими буржуями, чем сами буржуи.
Однако отношение анархистов к всеобщему голосованию далеко не всегда одинаково и последовательно. Некоторые считали голосование крайним средством, за неимением лучшего. Другие, более бескомпромиссные, готовы были предать этих последних проклятию за использование голосования вне зависимости от обстоятельств и считали это вопросом о чистоте доктрины. Так, например, Малатеста по случаю победы на выборах союза левых сил во Франции в мае 1924 г. отказался идти на какие-либо уступки. Он признавал, что в определенных обстоятельствах результат выборов может иметь «хорошие» или «плохие» последствия, и что он будет иногда зависеть от голосов анархистов, особенно, если силы противоборствующих политических группировок почти равны. «Но это неважно! Даже если некоторые небольшие сдвиги и успехи будут прямым следствием победы на выборах, анархисты не должны рваться к урнам». Он заключал: «Анархисты всегда были чисты и остаются преимущественно революционной партией, партией будущего, поскольку они сумели не поддаться сладким песням избирательных сирен».
Непоследовательность анархистской доктрины в этом вопросе особенно наглядно показала себя в Испании. В 1930 г. анархисты объединились в единый фронт с буржуазными демократами, для того чтобы свергнуть диктатора Примо де Риверу.[31] На следующий год, несмотря на официальный отказ от участия в голосовании, многие анархисты все же участвовали в муниципальных выборах, что привело к ниспровержению монархии. На всеобщих выборах 19 ноября 1933 г. они решительно призвали воздержаться от голосования, в результате чего более чем на два года к власти вернулись правые силы, яростно настроенные против рабочих. Анархисты подстраховались, заранее объявив, что, если их неучастие в выборах приведет к победе реакции, они ответят на это разжиганием социальной революции. Вскоре они попытались это сделать, но тщетно и ценой больших потерь (убитых, раненых и арестованных). Когда в начале 1936 г. партии левого крыла объединились для создания Народного фронта, центральная анархо-синдикалистская организация находилась в сильном затруднении относительно того, какую позицию занять. В конце концов, она очень неохотно, практически сквозь зубы объявила себя воздерживающейся от голосования, но ее пропагандистская кампания была настолько неактивной, что массы практически ничего не поняли в этой позиции и были готовы участвовать в выборах. Придя на выборы, массы обеспечили триумф Народного фронта (263 депутата от левого крыла против 181 от всех остальных).
Необходимо заметить, что, несмотря на свои яростные атаки на буржуазную демократию, анархисты признавали, что она относительно прогрессивна. Даже Штирнер, самый непреклонный из всех, иногда позволял себе произносить слово «прогресс». «Без сомнения, когда народ переходит от монархического государства к демократическому, налицо некий прогресс», — заключал Прудон. Ему вторил Бакунин: «Не надо думать, что мы подвергаем критике демократическое правительство в угоду монархии (…). Даже самая несовершенная республика в тысячу раз лучше, чем самая просвещенная монархия… Демократический режим поднимает мало-помалу массы до общественной жизни». Это опровергает высказанное Лениным мнение, согласно которому «некоторые анархисты» провозглашают, что «форма угнетения безразлична для пролетариата». Это также опровергает подозрение Анри Арвона,[32] высказанное им в небольшой книжке «Анархизм», в которой он утверждал, что анархистская оппозиция по отношению к демократии совпадает с антидемократизмом контрреволюционным.
Критика «авторитарного» социализма
Все анархисты единодушно подвергают «авторитарный» социализм огню суровой критики. В эпоху, когда были брошены их бичующие обвинения, они не были полностью обоснованными, поскольку позиция, на которую они были направлены, была либо примитивным, «грубым» коммунизмом, доктриной, не оплодотворенной еще марксистским гуманизмом, либо, как это было уже в случае с Марксом и Энгельсом, не была настолько зациклена на «власти» и «государственности», как то утверждали анархисты[33]. Хотя в XIX веке авторитарные тенденции в социалистической мысли находились еще в зародышевом состоянии и не были в достаточной степени развиты, в наше время они значительно укрепились и распространились. С учетом такого разрастания критика анархистов кажется уже менее тенденциозной и несправедливой; иногда она даже приобретает некоторый провидческий характер.
Штирнер принимал многие базовые положения коммунизма, но со следующей поправкой: признание коммунистической веры, по его мнению, действительно было первым шагом к полной эмансипации всех жертв нашего общества, но полностью излечить их «отчужденность» и дать им сполна развить свою индивидуальность представляется возможным лишь при условии, что они выйдут за пределы коммунизма.
Штирнер считал, что в коммунистической системе отдельный рабочий все равно остается подвластен господству общества трудящихся. Общество обязывает его работать, навязывает ему работу, которую он воспринимает как нудное наказание. Разве не писал коммунист Вейтлинг[34]: «Человеческие способности будут развиваться лишь в той мере, в какой они не нарушают гармонии общества»? На это Штирнер отвечал: «Для меня нет разницы, быть ли лояльным тирану или «обществу» Вейтлинга — при любом положении вещей у меня отняты мои права».
Коммунизм не видит за рабочим человека, не заботится о проблеме «свободного времени». Он пренебрегает самой сутью: он не предоставляет человеку возможности почувствовать себя личностью, после того как тот выполнил свою производственную функцию. И, что самое важное, Штирнер предвидел возможность того, что, как только коммунистическое общество заполучит в коллективную собственность все средства производства, государство будущего станет еще более всевластным, чем нынешнее:
«Полностью отменив частную собственность, коммунизм поставит меня в положение, где я еще больше буду зависеть от других, от общего или целого, и, несмотря на то, что он яростно выступает против государства, он сам намеревается установить свое собственное государство, (…) положение вещей, которое парализует мою свободу действий и сделает меня субъектом суверенной власти. Коммунизм справедливо восстает против угнетения, испытываемого мною со стороны частных собственников, но сила и власть, влагаемые им в руки целого, всех, намного ужаснее и страшнее».
Прудон также яростно бранит «коммунистическую систему, правительственную, диктаторскую, авторитарную, доктринерскую», которая «исходит из того принципа, что личность должна преимущественно подчиняться коллективу». Понимание коммунистами государственной власти абсолютно то же, что и понимание ее прежними хозяевами и властителями; более того, оно даже гораздо менее либерально. «Подобно армии, отнявшей пушки у врага, коммунизм лишь повернул против армии хозяев ее же собственную артиллерию. Раб всегда подражает хозяину». Вот как Прудон описывает политическую систему, приписываемую им коммунистам:
«Жесткая демократия, основанная по своей внешней видимости на диктатуре масс, в которой, впрочем, эти массы наделены властью, лишь необходимой для обеспечения всеобщего повиновения по рецепту, заимствованному у старого абсолютизма:
— неделимость власти;
— всепоглощающая централизация;
— систематическое уничтожение любой индивидуальной, корпоративной или местной мысли, которая расценивается как раскольничество;
— инквизиторская полиция».
«Авторитарные» социалисты призывают к «революции сверху». Они убеждены, что после революции государство продолжит свое существование. Они «сохраняют, еще более расширяя, государство, власть, единый центр и правительство. Они только меняют названия, как будто смена ярлыков может изменить суть вещей!» Прудон произносит следующий каламбур: «Правительство по самой своей природе контрреволюционно; поставьте у власти святого Винсента де Поля, и он превратится в Гизо или Талейрана».[35]
Бакунин так критикует «авторитарный» социализм:
«Я ненавижу коммунизм, потому что он — отрицание свободы, а я не могу себе представить ничего человеческого без свободы. Я — не коммунист, потому что коммунизм концентрирует все силы общества в государстве, которое их поглощает, потому что он неизбежно приводит к централизации собственности в руках государства, тогда как я желаю упразднения государства — радикального искоренения принципа авторитета и государственной опеки, который, под предлогом цивилизации и усовершенствования людей, по сие время порабощал их, угнетал, эксплуатировал и деморализовал. Я стремлюсь к организации общества и коллективной или социальной собственности снизу вверх посредством свободной ассоциации, а не сверху вниз при содействии власти, какова бы она ни была. (…) В этом смысле я коллективист, но нисколько не коммунист».
Вскоре после произнесения этой речи (1868 г.) Бакунин присоединился к Первому Интернационалу. Здесь он со своими соратниками столкнулся не только с Марксом и Энгельсом, но и с другими оппонентами, дававшими гораздо больше поводов для его обвинений, чем основатели «научного социализма»: с одной стороны, с немецкими социал-демократами, для которых государство было фетишем и которые предлагали с помощью избирательного бюллетеня и предвыборных альянсов создать сомнительное «народное государство» (Volkstaat); с другой стороны, с бланкистами[36], воспевавшими достоинства диктатуры революционного меньшинства в переходный период. Бакунин сражался с обеими этими «авторитарными» позициями не на жизнь, а на смерть, а Маркс и Энгельс по тактическим соображениям колебались между ними, но в итоге под влиянием критики со стороны анархистов более или менее решили отвергнуть обе.
Впрочем, неистовое противостояние между Бакуниным и Марксом произошло в первую очередь из-за того, что последний, в особенности после 1870 г., сектантски и себялюбиво прибирал к рукам Интернационал. Несомненно, что в этой схватке, где на карту был поставлен контроль над всей организацией (а, значит, и над международным рабочим движением), ошибки были допущены с обеих сторон. Бакунин сам был небезгрешен в своих опровержениях Маркса, часто злонамеренных. Однако для современного читателя основная заслуга Бакунина заключается в том, что уже в 1870 г. он поднял тревогу по поводу определенных концепций, касающихся организации рабочего класса и «пролетарской» власти, которые значительно позже приведут к перерождению Российской революции. Иногда обоснованно, но порой несправедливо, Бакунин усматривал в марксизме зародыш того, что потом превратилось в ленинизм, а затем стало злокачественной опухолью сталинизма.
Бакунин злорадно приписывал Марксу и Энгельсу соображения, которые эти двое даже если и лелеяли, то в открытую никогда не высказывали:
«Мне возразят, что все рабочие… не могут стать учеными; и разве недостаточно того, что в этой организации [Интернационале] есть группа людей, освоивших науку, философию и политику социализма так полно, как только можно их освоить в наши дни, так что большинство… может быть уверено в том, что не свернет с верного пути к освобождению пролетариата… послушно следуя за ними? А ведь рассуждения такого характера, пусть высказанные не вполне открыто, а всегда обиняками, с оговорками, мы уже слышали — просто их носителям недостает смелости и откровенности, чтобы изложить их прямо».
Бакунин продолжал:
«Приняв раз за положение, по нашему убеждению совершенно ложное, что мысль предшествует жизни, отвлеченная теория общественной практике и что поэтому социологическая наука должна быть исходною точкою для общественных переворотов и перестроек, они необходимым образом приходят к заключению, что так как мысль, теория, наука, по крайней мере, в настоящее время составляют достояние весьма немногих, то эти немногие должны быть руководителями общественной жизни, не только возбудителями, но и управителями всех народных движений». Предполагаемое народное государство стало бы не чем иным, как деспотическим правлением, установленным над массами новой и исключительно тонкой прослойкой аристократии настоящих или мнимых ученых.
Бакунин брался за перевод на русский язык главного труда Маркса, «Капитала», он глубоко уважал его как мыслителя, полностью принимал материалистическую концепцию истории и лучше, чем кто бы то ни было, понимал теоретический вклад Маркса в дело освобождения рабочего класса. Он не мог принять лишь идеи о том, что интеллектуальное превосходство может дать кому-либо право руководить рабочим движением:
«Остается лишь задаваться вопросом: как человек, обладающий умом Маркса, мог настолько безрассудно пойти против здравого смысла и накопленного историей опыта и решить, будто группа людей, какими бы умными и предусмотрительными они ни были, может стать душой и объединяющей силой революционного движения и экономической организации пролетариата всех стран?.. Создание универсальной диктатуры… диктатуры, которая каким-то образом выполняла бы функции главного инженера мировой революции, направляя и контролируя повстанческие движения масс во всех странах, как направляют и контролируют машину… создание такой диктатуры само по себе означало бы неминуемую смерть революции, паралич и остановку всех народных движений. И что можно думать о международном конгрессе, который якобы в интересах этой революции предлагает поставить над пролетариатом цивилизованного мира правительство, наделенное властью диктатуры?»
Опыт Третьего Интернационала[37] показал впоследствии, что даже если Бакунин несколько искажал мысли Маркса, приписывая ему полностью «авторитарную» концепцию, то опасность, от которой он предостерегал, позднее все же воплотилась на практике.
В отношении же опасности государственного контроля в условиях коммунистического режима русский изгнанник был не менее прозорлив. «Доктринерские» социалисты стремятся, по мнению Бакунина, «накинуть на народ новое ярмо». Безусловно, они признают, как и анархисты, что любое государство есть аппарат подавления, но при этом утверждают, что только диктатура — их диктатура, конечно, — может создать народную волю; возразим на это, что никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечивания себя. Вместо того чтобы дать возможность пролетариату уничтожить государство, они хотят «передать его (…) в полное распоряжение (…) благодетелей, опекунов и учителей — начальников коммунистической партии». Они прекрасно понимают, что такое правительство, «несмотря на все демократические формы, будет настоящею диктатурой», и «утешают мыслью, что эта диктатура будет временная и короткая». Но нет, отвечает Бакунин. Эта, как предполагается, временная мера неизбежно приведет к «восстановлению государства с его привилегиями, его неравенством и всем арсеналом угнетения», к формированию правительственной аристократии, «которая будет править и эксплуатировать во имя всеобщего счастья или ради спасения государства». И государство это будет «тем более неограниченным, абсолютным, что деспотизм его тщательно прячется под личиной раболепного служения (…) воле народа».
Всегда прозорливый, Бакунин верил в русскую революцию: «Если рабочие Запада будут слишком долго ждать, им подадут пример крестьяне России». В России революция будет «анархической». Но он опасался конечного результата: возможно, революционеры просто возродят государство Петра Великого, которое «основывалось на… подавлении всех проявлений жизни народа», ибо «можно изменить ярлык, навешенный на государство, и его форму, но основание останется неизменным». Надо либо уничтожить государство, либо «смириться с самой страшной и опасной ложью нашего века — …красной бюрократией». Бакунин резюмировал свою мысль так: «Возьмите самого яростного революционера и посадите на всероссийский престол или дайте ему власть диктаторскую, о которой так мечтают наши революционеры, и он через год сделается хуже самого царя».
После того как в России произошла революция, Волин, бывший ее участником, свидетелем и летописцем, написал, что события эти преподали практический урок, который подтверждал теоретический урок отцов анархизма. Действительно, социалистическая власть и социальная революция — вещи, «противоречащие друг другу», и свести их вместе нельзя:
«Революция, которая вдохновляется идеями государственного социализма и доверяет ему свою судьбу, хотя бы «временно» и на «переходный период», погибла: она вступает на ложный путь, на наклонную плоскость. И катится в бездну. (…) Всякая политическая власть неизбежно ставит в привилегированное положение тех, кто ее осуществляет. (…) Встав над революцией, обуздав ее, власть вынуждена создать свой бюрократический аппарат принуждения, необходимый для ее сохранения, для командования, одним словом — для «управления». (…) Всякая власть в той или иной степени стремится сосредоточить в своих руках бразды правления жизнью общества. Она предрасполагает массы к пассивности, ибо само ее существование удушает в людях дух инициативы. (…) «Коммунистическая» власть (…) является в этом плане настоящей ловушкой. Гордая своим «авторитетом», (…) она боится всякого проявления независимости. Любая самостоятельная инициатива вызывает у нее подозрение, представляется угрозой. (…) Она никому не желает уступать бразды правления. Всякая инициатива представляется ей вторжением в ее сферу, покушением на ее прерогативы. Для нее это невыносимо».
Более того, анархисты категорически отрицают необходимость «временных» и «переходных» стадий. В преддверии Испанской революции 1936 г. Диего Абад де Сантильян[38] поставил «авторитарный» социализм перед следующей дилеммой: «Либо революция даст производителям общественные богатства, либо нет. Если да, то производители организуются с тем, чтобы наладить коллективное производство и распределение, а государству не останется никаких функций. Если нет, значит, революция была обманом, и государство не прекратило своего существования». Можно сказать, что дилемма несколько упрощена; этого можно было бы избежать, переведя ее в категории намерений: анархисты не настолько наивны, чтобы полагать, будто все государственные пережитки могут исчезнуть за одну ночь, но у них есть воля к тому, чтобы заставить их рассеяться так быстро, как только возможно; «авторитарии», с другой стороны, удовлетворяются перспективой бесконечного сохранения переходного государства, провозглашенного «государством рабочих».
Источники вдохновения: личность
Иерархии, подчинению и принуждению «авторитарного» социализма анархизм противопоставляет два источника революционной энергии: личность и стихийность масс. В зависимости от обстоятельств, анархисты либо более индивидуалистичны, чем социальны, либо, напротив, более социальны, нежели индивидуалистичны. Но, как отметил Огюстен Амон во время упоминавшегося выше опроса общественного мнения, невозможно представить себе анархиста, который не был бы индивидуалистом.
Макс Штирнер реабилитировал личность в то время, когда в философии господствовал гегельянский антииндивидуализм, а в области социальной критики пагубные проявления буржуазного эгоизма привели большинство социальных реформаторов к сосредоточению на его противоположности: разве само слово «социализм» не возникло в качестве антонима «индивидуализма»?
Штирнер превозносит истинную ценность «уникальной» личности, являющейся по своей природе неповторимой, ни на кого не похожей, созданной природой в единственном экземпляре (это подтверждается и современными исследованиями в области биологии). В течение многих лет этот философ оставался изолированным даже в анархистских кругах, считался эксцентричным чудаком, за которым следовала лишь небольшая секта закоренелых индивидуалистов. В наши дни величие и смелость его мысли предстают в полном свете. И действительно, современный мир как бы ставит себе задачей освобождение личности от всех давящих на нее ограничений и разновидностей угнетения, начиная с индустриального рабства и кончая тоталитарным конформизмом. Симона Вейль[39] в знаменитой статье, опубликованной в 1933 г., сожалела о невозможности отыскать в марксистской литературе ответ на вопросы, возникшие вследствие необходимости защиты личности от новых форм угнетения, пришедших на смену классическому капиталистическому гнету. А ведь еще в середине XIX века Штирнер приложил все силы к тому, чтобы заполнить этот поистине важный пробел.
Писатель, владеющий живым, поразительным и потрясающим стилем, он изъясняется пулеметной очередью афоризмов: «Не ищите в отказе от самих себя той свободы, что лишает вас именно вас, а ищите себя (…). Пусть каждый из вас станет всемогущим “Я”». Нет иной свободы, кроме завоеванной самим индивидом. Дарованная свобода суть не свобода, а «краденый товар». «Нет иного судьи, кроме меня самого, способного решить, прав я или нет». «Ты имеешь право быть тем, кем ты способен быть». То, что ты совершаешь, ты совершаешь в качестве уникальной личности. «Государство, общество, человечество не могут обуздать этого беса».
Чтобы стать свободной, личность должна прежде всего досконально пересмотреть весь багаж, которым ее обременили прародители и воспитатели. Она должна заняться огромной работой по «десакрализации», развенчанию всего, начав с так называемой буржуазной морали: «Подобно самой буржуазии, ее исконной почвы, она еще слишком близка к религиозным небесам, она все еще недостаточно свободна, заимствует у них без какого-либо пересмотра их законы, кои она просто-напросто пересаживает на свою собственную почву вместо того, чтобы создавать свои собственные и независимые доктрины».
В особенную ярость Штирнера приводила сексуальная мораль. То, что христианство «подстроило против страсти», апостолы движения за светский характер общества просто-напросто приняли от него в наследство. Они не желают внимать призывам плоти, последние вызывают у них лишь негодование. Они бьют «безнравственность по самой роже». Моральные предрассудки, привитые христианством, свирепствуют, в частности, в народных массах: «Народ увлеченно науськивает полицию на все то, что кажется ему аморальным или просто предосудительным, и эта общественная страсть к морали защищает полицию как институт намного лучше, чем это могло бы сделать правительство».
Предвосхищая современный психоанализ, Штирнер констатирует и изобличает интериоризацию моральных представлений. С раннего детства нас пичкают моральными предрассудками. Мораль стала «внутренней силой, от которой я не могу себя освободить». «Ее деспотизм в десяток раз хуже, чем прежде, ибо она рычит в моем сознании». «Молодых как стадо загоняют в школы учить все те же старые байки, а когда они затвердят пустословие стариков, их объявляют совершеннолетними». Штирнер выступает иконоборцем: «Бог, совесть, обязанности, долг, законы — все это чепуха, которой нам напичкали мозг и сердце». Истинные обольстители и развратители молодежи — священники и родители, «запутывающие юные сердца и одуряющие младые умы». Если и существует «дьявольское» творение, так это именно мнимый глас господень, вбитый в наше сознание.
В своей реабилитации личности Штирнер открывает также фрейдовское подсознание. Постичь «Я» невозможно. Об него «разбивается вдребезги империя мысли, размышления, духа». Оно невыразимо, непостижимо, неуловимо. Сквозь блестящие афоризмы Штирнера мы слышим как бы первое эхо экзистенциальной философии: «Я начинаю с гипотезы, принимая за гипотезу самого себя. (…) Она служит мне исключительно для наслаждения и насыщения ею. (…) Я существую единственно, поскольку Я ей питаюсь. (…) Тот факт, что я представляю всепоглощающий интерес для самого себя, означает, что я существую».
Безусловно, пыл и остроумие, которые направляли перо Штирнера, порой приводили его к парадоксам. Он разражается подчас антисоциальными афоризмами. Иногда он приходит к заключению о невозможности жизни в обществе: «Мы стремимся не к совместной жизни, а к жизни по отдельности». «Народ умер! Да здравствует «Я»!» «Счастье народа есть мое несчастье». «Справедливо то, что справедливо для меня. Возможно (…), что это несправедливо для других; но это их дело, а не мое: пускай защищаются сами».
Эти случайные выходки не выражают, однако, всей глубины его мыслей. Вопреки своему бахвальству отшельника, Штирнер стремится к совместной жизни. Как и большинство одиночек, затворников, интровертов, он испытывает по ней острую тоску. На вопрос о том, как его исключительность позволяет ему жить в обществе, он отвечает, что лишь человек, осознавший свою «уникальность», может иметь отношения с себе подобными. Человек нуждается в друзьях, в содействии; если, к примеру, он пишет книги, ему нужны читатели. Он соединяется с ближним своим, дабы усилить свою мощь и сделать посредством объединения усилий больше, чем каждый мог бы сделать по отдельности. «Если за тобой стоят несколько миллионов других, чтобы защитить тебя, то вместе вы представляете громадную силу и легко добьетесь победы». Но при одном условии: такие отношения с другими людьми должны быть добровольными, свободными и в любой момент расторжимыми. Штирнер различает предустановленное общество, являющееся принуждением, и ассоциацию, объединение, являющееся свободным актом: «Общество пользуется тобою, союзом же пользуешься ты». Безусловно, ассоциация подразумевает жертву, ограничение свободы. Но жертва эта не приносится общественному: «Напротив, я решился на соглашение только ради своей собственной пользы, из своекорыстия».
Автор «Единственного и его собственности» занимался и современными ему проблемами, особенно когда рассматривал вопрос о политических партиях, в частности, о коммунистах. Он сурово критиковал партийный конформизм: «Человек должен следовать установкам своей партии везде и повсюду, полностью одобряя и защищая ее основные принципы». «Члены партии… склоняются перед ее малейшими желаниями». Программа партии должна «быть для них очевидна, свободна от вопросов… Человек должен принадлежать партии телом и душой… Любой переходящий из одной партии в другую немедленно воспринимается как ренегат». По мнению Штирнера, монолитная партия перестает быть объединением, от него остается лишь мертвая оболочка. Он отвергал подобную партию, но не оставлял надежду присоединиться к политическому объединению: «Я всегда найду достаточно людей, которые соединятся со мной, не став под мое знамя». Он чувствовал, что смог бы вступить в партию только в том случае, если «в ней нет ничего обязательного», и единственным его условием была уверенность в том, что «он не позволит партии подмять себя». «Партия — это всего лишь то, в чем участвует человек». «Он свободно вступает в объединение и точно таким же образом может забрать назад свою свободу».
В рассуждениях Штирнера не хватает лишь одного пояснения, хотя оно и подразумевается более или менее в его трудах, а именно: его концепция личностной уникальности не только «эгоистична», полезна единичному «Я», но ценна также и для коллектива. Объединение людей плодотворно, только если оно не раздробляет личность, только если оно, напротив, развивает ее инициативу, ее созидательную энергию. Разве сила партии не заключается в сложении индивидуальных сил, входящих в нее?
Этот пробел в его аргументации объясняется тем, что штирнеровский синтез личности и общества остался незавершенным, недоработанным. В наследии этого бунтаря общественное и антиобщественное сталкиваются, не всегда сливаясь воедино. И социальные анархисты были вынуждены совершенно обоснованно упрекать его за это.
Они адресуют ему упреки тем язвительнее, что Штирнер, без сомнения, в силу своей плохой осведомленности, занес Прудона в число «авторитарных» коммунистов, которые во имя «общественного долга» осуждают любые индивидуалистические устремления. Но если и справедливо, что Прудон глумился над штирнеровским «поклонением» личности,[40] все его творчество представляет собой поиск синтеза или, скорее, «равновесия» между заботой о личности и интересами общества, между силой индивидуальной и силой коллективной. «Поскольку индивидуализм является первоначальным фактом человечества, объединение является дополнительным по отношению к нему». «Некоторые, считая, что человек имеет ценность лишь через общество, пытаются растворить личность в коллективе. Такова (…) коммунистическая система: утрата личности во имя общества (…). Это есть тирания, мистическая и анонимная, а вовсе не объединение (…). Если человеческая личность лишается своих исключительных прав, общество оказывается лишенным своего жизненного начала».
Но, с другой стороны, Прудон нападает на индивидуалистическую утопию, являющую собой нагромождение индивидуальностей без чего-либо органического, без силы коллектива, неспособную разрешить проблему согласования интересов. Иными словами, ни коммунизма, ни неограниченной свободы. «У нас слишком много совместных интересов, слишком много общего».
Бакунин также, в свою очередь, одновременно и индивидуалист, и сторонник общества. Он неустанно повторяет, что именно на основе свободной личности может быть воздвигнуто свободное общество. Всякий раз, когда он перечисляет права, которые должны быть гарантированы коллективам, включая право на самоопределение и выход из объединения, он непременно ставит личность во главу перечня тех, кому предназначаются эти права. Индивид имеет обязанности перед обществом лишь в той степени, в какой он свободно согласился войти в него, стать его частью. Каждый человек свободен объединяться или же, напротив, не объединяться с другими и жить, если пожелает, «в пустыне или в лесах среди диких зверей». «Свобода есть абсолютное право всякого человеческого существа не искать у кого-либо разрешения на свои деяния, кроме решения своей собственной совести и своего собственного разума, определяться в своих действиях только своей собственной волей и, следовательно, быть ответственным в первую очередь перед ними». Общество, членом которого индивид решил стать по своему свободному выбору, фигурирует в перечне тех, перед кем ответственен человек, лишь на втором месте. Оно имеет по отношению к личности больше обязанностей, нежели прав: оно не устанавливает в отношении индивида, при условии, что он совершеннолетний, «ни надзора, ни власти», но должно обеспечить «защиту его свободы».
Бакунин заходит очень далеко в своем практическом определении «абсолютной и полной свободы». Я имею право располагать собой как мне угодно, быть ленивым или деятельным, честно жить плодами собственного труда либо бесстыдно эксплуатировать благотворительность или доверие частного лица. Все это возможно только при одном условии: эта благотворительность и это доверие должны быть добровольными и должны оказываться мне исключительно совершеннолетними индивидами. Я имею даже право вступать в союзы, которые по цели своей являются или могут кому-то показаться «аморальными». Бакунин, в своей заботе о свободе, даже допускает, чтобы человек вступал в объединения, целью которых будут подрыв или уничтожение личной или общественной свободы: «Свобода может и должна защищать себя только посредством свободы; пытаться ограничить ее под предлогом защиты свободы означает впадать в опасное противоречие».
В том, что касается проблемы этики, Бакунин убежден, что «аморальность» есть следствие порочной организации общества. Эта последняя, следовательно, должна быть уничтожена сверху донизу. Улучшать нравственность можно только свободой. Любое ограничение под предлогом защиты морали всегда оказывается вредным для нее самой. Подавление не только не прекращает разгула безнравственности, но всегда лишь расширяет и углубляет ее. Поэтому бесполезно противопоставлять ей строгие ограничения законодательства, которые посягают на личную свободу. Бакунин допускает одно единственное наказание бездельников, праздношатающихся и злоумышленников: лишение их политических прав, то есть гарантий общества, предоставляемых личности. Тем же образом каждый человек имеет право сам отчуждать свою свободу, но при этом он лишается и своих политических прав на период этого добровольного рабства.
Если преступления все же совершаются, то к ним надо относиться как к болезни, то есть наказание должно больше походить на лечение, нежели на месть. Кроме того, осужденный человек должен иметь право не подчиняться вынесенному приговору, заявив, что он более не желает быть членом этого общества. Общество же в ответ имеет право изгнать его из своего лона и лишить его своих гарантий и своей защиты.
Бакунин, однако, отнюдь не является нигилистом. Провозглашение абсолютной свободы личности не привело его к отказу от всех общественных обязательств. Я становлюсь свободным лишь через свободу других. «Человек осуществляет свою свободную индивидуальность, лишь дополняя себя всеми окружающими его индивидами и лишь благодаря труду и коллективному могуществу общества». Объединение добровольно, но у Бакунина не возникает никаких сомнений в том, что принимая во внимание колоссальные его преимущества, «все предпочтут объединение». Человек — одновременно «самое индивидуальное и самое социальное из всех существ».
Разбираемый нами автор также не питает нежных чувств по отношению к вульгарному эгоизму, к буржуазному индивидуализму, «заставляющему личность завоевывать и устанавливать свое собственное благосостояние (…), несмотря на других, в ущерб и за счет других». «Одинокий, отдельный и абстрактный индивид есть вымысел, подобный вымыслу о боге». «Полное одиночество, уединение означает гибель интеллектуальную, моральную, а также материальную».
Бакунин, обладавший широкими взглядами и синтетическим умом, предлагает перебросить мост между личностями и движением масс: «Любая общественная жизнь есть не что иное, как непрерывная взаимная зависимость личностей и масс. Все личности, даже наиболее умные, наиболее сильные (…), в каждый миг своей жизни являются одновременно инициаторами и продуктами воли и действия масс». Для анархиста революционное движение является продуктом такого взаимного действия; потому-то он и придает, с точки зрения пользы для борьбы, равное значение индивидуальному действию и действию коллективному, автономному, массовому.
Испанские анархисты, духовные наследники Бакунина, хотя и были приверженцами обобществления, в самый канун революции 1936 г. не преминули дать торжественное обещание защищать священную автономию личности: «Вечное стремление быть уникальным, — писал Диего Абад де Сантильян, — будет выражено тысячью способов: личность не будет подавлена каким-либо уравниванием (…). Индивидуализм, личный вкус, своеобразие обретут достаточное поле для самовыражения».
Источники вдохновения: массы
Революция 1848 г. открыла Прудону, что массы являются движущей силой революций. «Революции, — отмечает он в конце 1849 г., — не признают инициаторов; они происходят, когда будет подан сигнал судьбы; они прекращаются, когда загадочная сила, под воздействием коей они возникли, иссякает». «Все революции совершались благодаря стихийным действиям народа; если иногда правительства и следовали за народной инициативой, то лишь по принуждению. В остальном же они всегда запрещали, подавляли, наносили удар». «Когда народ предоставлен лишь своему инстинкту, он всегда видит яснее, чем когда им управляет политика вождей». «Социальная революция (…) не происходит по приказу учителя с готовой теорией или под диктовку обличителя. Подлинно органическая революция, продукт всеобщей жизни, хотя и имеет своих вестников и исполнителей, не является на самом деле делом рук кого-то одного». Революция должна проистекать снизу, а не сверху. Едва лишь закончится революционный кризис, перестройка общества должна стать делом самих народных масс. Прудон выступал за «личность и автономию масс».
Бакунин также, в свою очередь, неустанно повторяет, что социальная революция не может быть ни начата по указу, ни организована сверху; она может совершиться и достичь своего полного развития исключительно в результате стихийной и постоянной деятельности масс. Революции возникают «аки тать в нощи». Они «происходят в силу положения вещей». «Они долго созревают в глубине смутного сознания народных масс, потом вспыхивают, вызванные, казалось бы, ничтожными причинами». «Их можно предвидеть, иногда предчувствовать их приближение, но никогда нельзя ускорить их взрыв». «Таков (…) путь анархической социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной жизни». В опыте Коммуны 1871 г.. Бакунин увидел поразительное подтверждение своих взглядов. Коммунары были убеждены, что в социальной революции «действия отдельных лиц были почти ничем, а самопроизвольная деятельность масс должна была быть всем».
Кропоткин, как и его предшественники, прославляет «этот восхитительный дух стихийной организации, коим народ (…) обладает в столь высокой степени и который ему столь редко позволяют проявлять». Он насмешливо добавляет, что «сомневаться в нем может лишь тот, кто всю жизнь прожил, заживо похоронив себя под толщей официальных бумаг».
Но после всех этих щедро-оптимистических утверждений анархист, как, впрочем, и его собрат и недруг марксист, оказывается перед лицом серьезных противоречий. Стихийность масс, несомненно, существенна, приоритетна, но одной ее недостаточно. Для того чтобы эта стихийность стала сознательной, оказывается необходимым содействие небольшого меньшинства революционеров, способных замыслить революцию. Как избежать того, чтобы эта элита не воспользовалась своим интеллектуальным превосходством и не подменила собой массы, парализовав их инициативу, навязав им новое господство?
После своего идиллического восторга по поводу стихийности Прудон приходит к констатации инертности масс и сожалеет о правительственном предрассудке, инстинкте чинопочитания, комплексе неполноценности, которые препятствуют народному порыву. Получается, что коллективное действие народа должно быть возбуждено. Если не снизойдет откровение извне, то порабощение низших классов может длиться бесконечно. И Прудон идет на уступку и соглашается с тем, что «идеи, во все эпохи возбуждавшие и поднимавшие массы, прежде созревают в мозгу немногих мыслителей (…). Приоритетом никогда не располагала толпа, масса (…). Приоритет в любом проявлении разума и духа принадлежит личности». Идеал заключается в том, чтобы эти сознательные меньшинства несли свое знание, революционную науку в народ. Но Прудон выказывает скептицизм по поводу осуществимости такого синтеза: проповедовать его означало бы, по его мнению, недооценивать захватническую природу власти. В лучшем случае возможно «сбалансировать» два эти элемента.
До своего обращения в анархизм около 1864 г. Бакунин был вовлечен в заговоры и деятельность тайных обществ и ознакомился с типично бланкистской идеей о том, что действия меньшинства должны предшествовать пробуждению широких масс, чтобы затем соединиться с самыми продвинутыми элементами последних, после того как те пробудятся от летаргического сна. В рабочем Интернационале, широком пролетарском движении, которое, наконец, было создано, проблема стояла совершенно иначе. Однако, даже сделавшись анархистом, Бакунин остался убежденным в необходимости сознательного авангарда: «для торжества революции над реакцией необходимо, чтобы посреди народной анархии, которая составит самую жизнь и энергию революции, единство революционной мысли и революционного действия нашло свой орган». Более или менее многочисленная группа личностей, вдохновленных общей мыслью и стремящихся к единой цели, должна оказывать «естественное действие на массы». «Десять, двадцать или тридцать человек с ясным пониманием и хорошей организацией, знающих куда они идут и чего хотят, могут с легкостью увлечь за собой одну, две, три сотни людей и даже больше». «Мы должны создать хорошо организованный и вдохновленный верной идеей командный состав вождей народного движения».
Рекомендуемые Бакуниным методы сильно напоминают то, что на современном политическом жаргоне именуется «подрывной деятельностью». Он советует «скрытно» обрабатывать наиболее умных и влиятельных представителей каждой отдельной местности «для того, чтобы эта организация как можно более соглашалась с нашими принципами. В этом и состоит весь секрет нашего влияния». Анархисты должны быть как бы «невидимыми штурманами» посреди народного шторма. Они должны направлять этот шторм, руководить им, быть не «явной властью», но диктатурой «без титулов, без знаков отличий, без официальных прав, диктатурой тем более мощной, что она будет лишена внешней видимости власти».
Бакунин четко отдавал себе отчет в том, как мало его терминология («вожди», «диктатура» и т. д.) отличалась от той, которой пользовались противники анархизма, и заранее отвечал «всякому, кто утверждает, что таким образом организованное действие есть еще одно покушение на свободу масс, попытка создать новую авторитарную силу». Нет! Сознательный авангард не должен быть ни благодетелем, ни единовластным вождем-диктатором народа, а лишь акушером, помогающим самоосвобождению народа. Все, чего этот авангард может достичь, так это распространения в массах идей, отвечающих их инстинктам, и он не должен делать ничего сверх того. Все остальное должно и может осуществляться только самим народом. «Революционные власти» (Бакунин не воздерживался от использования этого термина, но извинял его использование, выражая надежду на то, что «их будет как можно меньше») не должны были навязывать революцию массам, но пробуждать ее в их гуще; они не должны были подчинять массы какой-либо организации, но порождать их автономную организацию снизу вверх.
Гораздо позже Роза Люксембург[41] пояснила то, что имел в виду Бакунин: противоречие между либертарной спонтанностью и необходимостью вмешательства сознательного авангарда будет полностью разрешено лишь тогда, когда научное знание сольется с рабочим классом, когда массы станут полностью сознательными и им больше не потребуются «вожди», а нужны будут лишь «исполнительные органы» для их «сознательных действий». Подчеркнув, что пролетариату по-прежнему не хватает знаний и организации, русский анархист приходит к заключению, что Интернационал не может стать инструментом освобождения, кроме как, «если бы он смог добиться того, чтобы наука, философия и политика социализма проникли в мыслящее сознание его членов».
Но такой синтез, удовлетворительный с теоретической точки зрения, представлял собой набросок, прикинутый на очень отдаленную перспективу. До тех пор, пока историческая эволюция не позволяла осуществить все это, анархисты, подобно марксистам, оставались в большей или меньшей степени заложниками этого противоречия. Это противоречие растерзает Российскую революцию, разрывавшуюся между стихийной властью Советов и претензией партии большевиков на «руководящую роль»; оно же проявится в Испанской революции, где анархисты колебались между двумя полюсами: движением масс и сознательной анархистской элитой.
Это противоречие можно проиллюстрировать с помощью двух исторических примеров.
Из опыта Российской революции анархисты сделали категорический вывод: «руководящая роль» партии должна быть осуждена. Один из них, Волин, сформулировал это следующим образом:
«Основная идея анархизма проста: никакая партия, политическая или идеологическая группа, ставящая себя над трудящимися массами или вне их и стремящаяся «управлять» ими или «вести» их, никогда не сможет освободить их, даже если искренне желает этого. Действительное освобождение может произойти лишь в процессе непосредственной, широкомасштабной и независимой деятельности самих трудящихся, объединившихся не под знаменем политической партии или идеологической группы, а в свои собственные классовые организации (производственные профсоюзы, заводские комитеты, кооперативы и т. п.) на основе конкретных действий и самоуправления при помощи, но не под руководством революционеров, которые действуют не извне, а в самих массовых профессиональных, технических, оборонительных и других органах. (…) Анархическая идея и подлинная освободительная революция могут быть осуществлены не одними анархистами, а лишь широкими массами; анархисты, или, скорее, революционеры вообще, призваны исключительно просвещать их и в отдельных случаях оказывать помощь. Если анархисты утверждают, что могут совершить социальную революцию, «ведя» за собой массы, подобная претензия безосновательна, по тем же причинам, что и у большевиков».
Однако испанские анархисты, в свою очередь, ощущали необходимость образования сознательного идейного меньшинства, Федерации анархистов Иберии (ФАИ), внутри их обширной профсоюзной организации, Национальной Конфедерации Труда (НКТ), в целях борьбы с реформистскими тенденциями некоторых «чистых» синдикалистов, а также с ухищрениями приверженцев «диктатуры пролетариата». Вдохновляясь советами Бакунина, ФАИ старалась скорее просвещать, чем руководить, а относительно высокая сознательность большинства рядовых членов НКТ способствовала тому, что эта организации избежала эксцессов, свойственных «авторитарным» революционным партиям. Но ФАИ довольно посредственно играла свою роль направляющей силы из-за своих неловких попыток опекунства по отношению к синдикатам, из-за нерешительности в проведении своей стратегии, из-за того, что она была богата скорее активистами и агитаторами, чем последовательными революционерами в теории и на практике.
Отношения между массами и сознательным меньшинством составляют проблему, решение которой еще не полностью найдено даже анархистами, и в отношении которой последнее слово еще, кажется, не прозвучало.
Часть 2. В поисках нового общества
Анархизм не утопичен
В той степени, в какой анархизм стремится быть конструктивным, он, прежде всего, отвергает обвинение в утопизме. Для того чтобы доказать, что предлагаемое им будущее общество не его собственная выдумка, а результат скрытой от глаз работы предшествующих периодов, анархизм прибегает к методу исторического исследования. Прудон утверждал, что человечество под гнетом неумолимой системы власти, подавлявшей его в течение шестидесяти веков, спасалось лишь «тайной добродетелью»: «Под спудом правительственного аппарата, в тени политических институтов, общество медленно и молчаливо создавало свой собственный организм; оно строило новый порядок, бывший выражением его собственной жизнеспособности и собственной автономии».
Каким бы вредоносным ни было правительство, оно содержит в себе свое собственное отрицание. Оно всегда представляло собой «явление коллективной жизни, внешнее выражение нашего права, проявление социальной стихийности, подготовку человечества к высшему состоянию. То, что человечество ищет в религии и именует богом, есть оно само. То, что гражданин ищет в правительстве, (…) есть также он сам, это — свобода». Французская революция ускорила это неизбежное продвижение в сторону анархии: «В тот день, когда наши отцы (…) возвели в принцип свободное выражение способностей человека и гражданина, с того самого дня власть была отринута небом и землей, а правительство, даже путем делегирования, стало невозможным».
Промышленная революция завершила дело. По ее окончании политика была отодвинута на второй план и подчинена экономике. Государство более не могло избегать прямой конкуренции между производителями и превратилось в нечто, подобное центру согласования интересов. Формирование пролетариата завершило эту эволюцию. Власть, несмотря на то, что она это отрицала, выражала собой отныне только социализм. «Кодекс Наполеона настолько же неспособен служить новому обществу, как и республика Платона: в течение нескольких лет абсолютный закон собственности будет повсеместно заменен относительным, гибким законом промышленного сотрудничества, что приведет к перестройке всего этого картонного домика снизу доверху».
В свою очередь, Бакунин признавал «огромную и неоценимую услугу, оказанную всему человечеству Французской революцией, детьми которой мы все являемся». Принцип власти был навсегда устранен из сознания людей, а порядок, устанавливаемый кем-то свыше, стал теперь невозможен. Остается лишь организовать общество так, чтобы оно могло существовать без правительства. Здесь Бакунин рассчитывал на традиции самого народа. «Несмотря на назойливую и разрушительную опеку государства», массы на протяжении веков «стихийно развивали в лоне своем если и не все еще, то во всяком случае многие основные элементы материального и морального порядка, являющегося основой подлинного единства людей».
Необходимость организации
Анархизм отнюдь не считает себя синонимом дезорганизации, беспорядка. Прудон первым провозгласил, что анархия — не беспорядок, но порядок, естественный порядок в противоположность порядку искусственному, навязанному сверху, истинное единство в противоположность ложному единству, порожденному угнетением. Общество такого типа «мыслит, выражается и действует как один человек именно потому, что представлено теперь не одним человеком, потому что больше не признает личной власти и, как Паскалева бесконечность[42], имеет центр в любой точке, а края не имеет вовсе». Анархия — то «организованное, живое общество», «высшая степень свободы и порядка, какую только может достичь человечество». Возможно, некоторые анархисты считали иначе, но итальянец Эррико Малатеста осаживал их:
«Полагая, под влиянием полученного авторитарного воспитания, что власть есть душа социальной организации, для борьбы с властью они борются с организацией и отвергают ее. (…) Основная ошибка анархистов-противников организации заключается в том, что они думают, что организация невозможна без власти, и в силу этого предпочитают скорее вообще отказаться от организации, чем согласиться на малейшую власть. (…) Но если бы мы считали, будто организации без власти не существует вовсе, мы были бы авторитариями, поскольку мы бы предпочли, на худой конец, власть, которая ставит преграды жизни и делает ее грустной, дезорганизации, при которой жизнь невозможна».
Уже в ХХ веке анархист Волин так осветил и развил эту идею:
«Согласно расхожему ошибочному — или умышленно неточному — толкованию, либертарная концепция не предусматривает никакой организации. Это в корне неверно. Речь идет не об «организации» или ее отсутствии, а о двух различных принципах организации. (…) Разумеется, утверждают анархисты, общество должно быть организовано. Но эта новая, естественная и отныне возможная организация должна осуществляться в обществе свободно и, главное, снизу. Организационный принцип должен исходить не из заранее созданного центра, навязывающего свою волю всему обществу, а — отовсюду, и завершиться образованием координационных органов, естественных центров, призванных служить всему народу. (…) Другой способ «организации», позаимствованный из прежнего общества угнетения и эксплуатации (…), лишь увеличил бы все пороки старой системы. (…) Она могла бы существовать лишь с помощью новых уловок, обмана, насилия, угнетения и эксплуатации».
Иными словами, анархисты не только сторонники подлинной организации, но и, как признает Анри Лефевр[43] в своей работе о Парижской Коммуне, «первоклассные организаторы». Однако, по мнению этого философа, здесь можно заметить «довольно любопытное противоречие, которое мы постоянно видим в истории рабочих движений вплоть до нынешнего времени, в особенности в Испании». В действительности же, это может «шокировать» лишь тех, кто заведомо считает либертариев дезорганизаторами.
Самоуправление
В то время как «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, составленный в начале 1848 г., накануне февральской революции [во Франции], не видел другого решения, — по крайней мере на долгий переходный период, — как сосредоточение в руках всеобъемлющего государства всех средств производства, и заимствовал у Луи Блана[44] авторитарную идею о необходимости объединения всех промышленных и сельскохозяйственных рабочих в «промышленные армии», Прудон первым предложил антигосударственную концепцию экономического управления.
Февральская революция породила в Париже и Лионе тьму стихийных ассоциаций рабочих, занятых в производстве. Это зарождающееся самоуправление означало для Прудона эпохи 1848 г. гораздо больше, чем политическая революция, и представляло собой «революционный факт». Оно не было выдумано теоретиком, не проповедовалось доктринерами. Не государство дало первый толчок к нему, его осуществил сам народ. Прудон призывал рабочих организовываться подобным образом во всех областях республики, объединяясь сначала на небольших частных предприятиях, в торговле и мелкой промышленности, затем в рамках крупных частных предприятий и, наконец, на самых больших производствах (на шахтах, каналах, железных дорогах и т. д.), тем самым «становясь хозяевами всего».
В наши дни принято пенять Прудону на его, безусловно, наивные и, без сомнения, антиэкономические высказывания в поддержку сохранения мелких мастерских и торговых предприятий. Его идеи на этот счет были неоднозначны. Прудон представлял собой живое противоречие. Он бичевал собственность, источник несправедливости и эксплуатации, но испытывал к ней слабость в той мере, в которой он усматривал в ней залог личной независимости. Более того, на Прудона слишком часто влияло то, что Бакунин называл «маленькой прудоновской кликой», которая собралась вокруг него в последние годы его жизни. Эта довольно-таки реакционная группа была мертворожденной. Она тщетно пыталась в Первом Интернационале противопоставить частную собственность на средства производства коллективизму. Кружок этот оказался недолговечным, главным образом, потому, что большинство его участников, легко переубежденных аргументами Бакунина, вскоре отказалось от так называемых прудоновских концепций в пользу коллективизма.
К тому же, этот последний оплот «мютюэлистов», как они себя называли, отвергал коллективную собственность лишь частично: они противились ей исключительно в области сельского хозяйства ввиду индивидуализма французского крестьянина, но допускали ее в области транспорта, а в сфере управления промышленностью даже требовали ее, впрочем, отвергая это название. Страшились же они этого названия в основном потому, что боялись временного единого фронта, образованного против них коллективистами, учениками Бакунина, и «авторитарными» марксистами, лишь слегка маскировавшими свое стремление к государственному управлению в экономике.
На самом деле Прудон шел в ногу со временем. Он понимал, что нельзя повернуть время вспять. Он был в достаточной мере реалистом, чтобы понимать, как он пишет в своих «Записных книжках», что «мелкая промышленность — понятие столь же нелепое, как и мелкая культура». Что же касается крупной современной индустрии, требовавшей значительных трудовых ресурсов и развитой механизации, то тут он был решительным коллективистом: «В будущем крупномасштабная индустрия и широкая культура должны объединиться». «У нас нет выбора в этом вопросе», — заключал он и приходил в негодование, когда кто-либо предполагал, что он выступал против технического прогресса.
Но его коллективизм столь же категорически отвергает государственность. Собственность должна быть отменена. Коммуна (в понимании «авторитарного» коммунизма) — есть угнетение и рабство. Иначе говоря, Прудон стремился к сочетанию коммуны и собственности. В этом заключалась его идея ассоциации. Средства производства и обмен не должны управляться ни капиталистическими компаниями, ни государством. Поскольку для людей, которые в них заняты, они являются тем же, чем «улей является для пчел», они должны управляться объединениями рабочих, и только таким образом коллективная сила перестанет «отчуждаться» ради выгоды немногих эксплуататоров.
«Нам, объединившимся или стоящим на пути объединения производителям, — пишет Прудон в стиле манифеста, — нет нужды в государстве. (…) Эксплуатация со стороны государства всегда есть монархия, наемный труд. (…) Мы не хотим управления человека человеком, как не хотим и эксплуатации человека человеком. Социализм — противоположность государственности. (…) Мы хотим, чтобы эти ассоциации явились (…) ядром обширной федерации товариществ и обществ, объединенных общими узами демократической и социальной республики».
Вдаваясь в подробности рабочего самоуправления, Прудон детально перечисляет его основные черты:
— Любой человек, вошедший в ассоциацию, имеет неотъемлемое право на часть имущества компании.
— Каждый рабочий обязан осуществлять свою долю тяжелых и непривлекательных работ.
— Рабочий должен пройти через выполнение различных работ и получение разнообразных знаний, через различные должности и квалификации, обеспечивающие его энциклопедическое образование и обучение. Прудон особенно настаивает на том, чтобы «рабочий прошел через всю серию операций, относящихся к области производства, в которой он занят».
— Должности являются выборными, а правила и устав подлежат одобрению всех участников.
— Вознаграждение должно быть пропорционально типу деятельности, степени навыка и ответственности. Каждый член ассоциации участвует в прибылях пропорционально оказанным им услугам.
— Каждый имеет право добровольного выхода из ассоциации. Каждый имеет право самостоятельно распределять свое время и передавать свои права.
— Входящие в ассоциацию трудящиеся выбирают своих мастеров, инженеров, архитекторов, бухгалтеров. Прудон настаивает на том обстоятельстве, что в среде пролетариата еще недостаточно технических специалистов, в силу чего необходимо привлекать к рабочему самоуправлению «известных промышленников и коммерсантов», которые обучали бы рабочих ведению дел и получали бы за это твердое вознаграждение: «всем найдется место под солнцем революции».
Эта либертарная концепция самоуправления диаметрально противоположна патерналистскому и государственному управлению, предложенному Луи Бланом в его проекте декрета от 15 сентября 1849 г. Автор «Организации труда» хочет создавать рабочие объединения под эгидой государства, финансируемые государством. Он предусматривает для таких ассоциаций авторитарное распределение прибылей в следующей пропорции:
— 25 % в амортизационный фонд;
— 25 % в фонд социального обеспечения;
— 25 % в резервный фонд;
— 25 % для распределения между рабочими.
Прудон и слышать ничего не желает об управлении подобного типа. Для него все объединившиеся в ассоциации трудящиеся должны не «подчиняться государству», а «сами быть государством». «Ассоциация (…) может все сделать, все преобразовать без помощи власти, захватить и подчинить себе саму власть». Прудон хочет «идти к управлению через ассоциацию, а не через управление к ассоциации». Он предупреждает от заблуждения, что государство, в той форме, в которой его себе мыслят «авторитарные» социалисты, допустит свободное самоуправление. И действительно, как сможет оно вынести «рядом с централизованной властью образование враждебных ей очагов»? Прудон провидчески предостерегает: «Ничего невозможно сделать в результате инициативы, стихийности, независимого действия личностей и коллективов, пока существует колоссальная сила, сообщенная государству централизацией».
Необходимо отметить, что именно либертарная, а не государственная концепция управления превалировала на конгрессах Первого Интернационала. Когда докладчик на Лозаннском конгрессе (1867), бельгиец Сезар де Пап,[45] предложил, чтобы государство стало владельцем национализируемых предприятий, Шарль Лонге,[46] в то время анархист, заявил: «Согласен, но при условии, что мы договоримся об определении государства как «коллектива граждан» (…) и о том, что эти службы будут исполняться не государственными чиновниками, (…) а рабочими товариществами». Дебаты возобновляются через год на Брюссельском конгрессе (1868), и тот же докладчик вносит на этот раз подготовленное уточнение: «Коллективная собственность будет принадлежать обществу в целом, но будет находиться в распоряжении рабочих ассоциаций. Государство будет представлять собой лишь федерацию различных рабочих ассоциаций». Уточненная таким образом резолюция была принята.
Однако оптимизм, проявленный Прудоном в 1848 г. по отношению к самоуправлению, был опровергнут фактами. Несколько лет спустя, в 1857 г., Прудон подвергает существующие рабочие объединения суровой критике. Вдохновленные наивными утопическими иллюзиями, они заплатили дорогую цену за недостаток опыта. Они впали в партикуляризм и исключительность. Они начали функционировать, как коллективные эксплуататоры, поскольку были воспитаны на идеях иерархии и господства. Все пороки капиталистических предприятий «еще более разрослись в этих, якобы братских, товариществах». Их раздирали разногласия, соперничество, отступничество, измена. Едва научившись ведению дел, их руководители и управляющие уходили и «открывали свое дело, как хозяева и буржуа». В некоторых случаях сами участники ассоциаций требовали раздела имущества. Из сотен созданных в 1848 г. объединений девять лет спустя осталось всего около двадцати.
Прудон противопоставляет этому узкому и партикуляристскому мышлению концепцию «всеобщего» и «синтетического» самоуправления. Ведь задача будущего — то гораздо больше, чем просто «объединение в ассоциации нескольких сотен рабочих», это «экономическое возрождение нации, составляющей 36 миллионов душ». Будущие рабочие объединения должны, «вместо того чтобы действовать в пользу немногих», работать для всех. Самоуправление требует, следовательно, «определенного воспитания» самоуправляющихся. «Членом ассоциации отнюдь не рождаются, им становятся». Наиболее трудная задача ассоциаций — «цивилизовать своих членов». Ассоциациям не хватало «людей, вышедших из чрева трудящихся масс и научившихся в школе эксплуататоров обходиться без них». Иначе говоря, важнее образовать «человеческий фонд», чем «массу капиталов».
В правовом отношении Прудон первоначально намеревался передать рабочим объединениям право собственности на их предприятия. Теперь же он отвергает такое партикуляристское решение. Чтобы сделать это, он вводит различие между владением и собственностью. Собственность может быть монархической, аристократической, феодальной, деспотичной; владение же — демократическим, республиканским, эгалитарным, что состоит в узуфруктуарном пользовании[47] непередаваемой и неотчуждаемой концессией. Производители должны получать в качестве «аллода»[48], как древние германцы, орудия и средства производства. Но они не должны становиться их собственниками. Это должно заменить собственность, должно стать федеративным совладением, но не государства, конечно, а совокупности производителей, объединенных в широкую сельскохозяйственную и промышленную федерацию.
Прудон выражал огромный энтузиазм по поводу будущего таких пересмотренных и исправленных форм самоуправления: «Это не плод пустого красноречия, это — экономическая и социальная необходимость: близится время, когда мы сможем жить исключительно на этих новых условиях. (…) Классы (…) должны вылиться в одно единое объединение производителей». Достигнет ли успеха самоуправление? «От ответа, который будет дан (…), зависит все будущее трудящихся. Если этот ответ утвердительный, то перед человечеством откроется новый мир; если же он будет отрицательным, то пролетарий может быть уверен (…): нет у него в этом бренном мире ни малейшей надежды».
Основы обмена
На какой же основе должен был быть организован обмен между различными рабочими объединениями? Прудон утверждал поначалу, что меновая стоимость любого товара должна измеряться количеством затраченного труда. Различные производственные объединения сбывают свои изделия по себестоимости. Рабочие получают вознаграждение в виде «трудовых талонов» и покупают в меновых конторах или социальных магазинах товары по себестоимости, выраженной в количестве рабочих часов. Наиболее важный обмен производится путем компенсационного клиринга[49] или через Народный банк, который принимает к оплате трудовые талоны. Этот банк представляет собой одновременно и кредитное учреждение. Он дает в заем рабочим производственным объединениям суммы, необходимые для их нормального функционирования. Эти ссуды выдаются без начисления процентов.
Эта схема, получившая называние «мютюэлизма», была, конечно, немного утопична и не могла быть воплощена в жизнь в условиях капиталистической системы. В 1849 г. Прудон организовал подобный Народный банк, к которому в течение шести недель присоединились около 20 тысяч человек, но просуществовал он недолго. Конечно, было преждевременно думать, что принципы взаимообмена, подобно маслу на горячей сковороде, растекутся повсюду, и вслед за Прудоном утверждать, что «это воистину новый мир, обетованное новое общество, которое будучи привитым к старому, видоизменяет его».
Вопрос о вознаграждении, основанном на оценке затраченного рабочего времени, по разным причинам спорен. «Либертарные коммунисты» школы Кропоткина, Малатесты, Элизе Реклю, Карло Кафиеро[50] не преминули раскритиковать такую систему. Прежде всего, они считали ее несправедливой. «Три часа работы Пьера, — замечает в качестве возражения Кафиеро, — зачастую могут стоить пяти часов работы Поля». Помимо продолжительности, стоимость труда должна определяться и другими факторами: интенсивностью работы, наличием профессиональных и интеллектуальных навыков и пр. Следует также принять во внимание и семейные обстоятельства рабочих.[51] Кроме того, при коллективистском режиме трудящийся остается рабочим по найму, рабом общества, которое покупает и контролирует его труд. Оплата труда на основе количества отработанных часов не может быть идеальным решением проблемы; в лучшем случае это может быть временной мерой. Необходимо покончить с моралью, почерпнутой в бухгалтерских реестрах, с философией «дебета — кредита». Такой способ вознаграждения основан на умеренном индивидуализме, находящемся в противоречии с коллективной собственностью на средства производства. Он не может привести к глубокому революционному преобразованию человека. Он несовместим с «анархией». Новая форма владения требует наличия новой формы оплаты труда. Услуги, оказываемые обществу, не могут быть оценены в денежных единицах. Необходимо, чтобы потребности превалировали над услугами. Продукты труда всех должны принадлежать всем, и каждый может свободно забирать свою долю. «Каждому по потребностям» — таков должен быть девиз «вольного коммунизма».
Кропоткин, Малатеста и их последователи как будто не заметили, что Прудон предвосхитил их критику и пересмотрел свои ранние идеи. В книге «Теория собственности», опубликованной посмертно, он объяснял, что поддерживал идею равной оплаты за равное количество труда лишь в «Первой записке о собственности» 1840 г.: «Я забыл сказать две вещи: во-первых, что труд измеряется в зависимости от его продолжительности и, одновременно, от его интенсивности; во-вторых, что нельзя включать в заработную плату трудящегося ни покрытие расходов на обучение, ни труд, произведенный им в качестве неоплачиваемого подмастерья, ни страховую премию за риск, которому он подвергается и который далеко не одинаков в каждой профессии». Прудон утверждал, что в более поздних работах «исправил» эти «упущения»; позже он предлагал, чтобы кооперативные ассоциации взаимного страхования компенсировали неравные издержки и риски. Более того, Прудон считал, что вознаграждение, выплачиваемое членам рабочих ассоциаций, это не «зарплата», а раздел благ, решение о котором свободно принимают рабочие-члены ассоциации, несущие равную ответственность. В неопубликованной статье Пьер Гаубтманн, один из современных последователей Прудона, отмечает, что самоуправление рабочих не имело бы смысла, если бы не интерпретировалось именно в таком ключе.
Последователи Кропоткина и некоторые другие анархисты полагают должным ставить в вину Прудону, равно как и более последовательному бакунинскому коллективизму, то, что те не пожелали предусмотреть, в какой форме будет осуществляться вознаграждение за труд при социалистическом режиме. Но, по-видимому, эти критики упускают из виду, что оба основателя анархизма не стремились преждевременно заключать общество в жесткие рамки. В этом вопросе они хотели оставить самоуправляющимся ассоциациям широкую свободу выбора. Обоснование такой гибкости и такого отказа от поспешных решений дадут сами «либертарные коммунисты», когда начнут подчеркивать, что при идеальном режиме «продуктов труда будет больше чем достаточно для всех» и что «буржуазные» способы выплаты вознаграждения могут быть заменены «коммунистическими» способами лишь после того, как наступит эра всеобщего изобилия, но не раньше. Составляя в 1884 г. программу анархистского Интернационала, находившегося тогда еще в своем младенчестве, Малатеста признает, что коммунизм может быть немедленно осуществлен лишь в строго ограниченных областях, а в отношении «всего остального» придется «в течение переходной меры» согласиться на коллективизм.
«Чтобы коммунизм стал возможным, потребуется серьезное моральное воспитание членов общества и развитие в них высокого и глубокого чувства солидарности, для возникновения которого недостаточно революционного пыла, тем более что в самом начале не будет материальных условий, способствующих такому развитию».
В канун Испанской революции 1936 г., когда анархизм подвергся испытанию на практике, Диего Абад де Сантильян доказывал практически в тех же самых терминах невозможность немедленного воплощения на практике либертарного коммунизма. По мнению Сантильяна, капиталистическая система не подготовила людей к коммунизму: она не только не воспитывает в них социальные инстинкты и чувство солидарности, но, напротив, любыми способами стремится к искоренению и притуплению подобных чувств.
Сантильян приводит в пример революционный опыт России и других стран, заклиная анархистов быть большими реалистами. Он обвинил их в том, что к наиболее свежим урокам истории они относятся предвзято или с подозрением. Сомнительно, — утверждал он, — что революция сразу же приведет нас к осуществлению нашего анархо-коммунистического идеала. На первом этапе революции коллективистский лозунг «Каждому по труду» больше подойдет к реальной ситуации, чем идеи коммунизма, потому что экономика будет в разрухе, производство значительно снизится, а приоритетом станет обеспечение самым необходимым. Те экономические модели, которые будут избраны, в лучшем случае будут лишь медленно эволюционировать по направлению к коммунизму. Резко загнать людей в клетку, заключить их в жесткие рамки социальной жизни будет означать переход к авторитарной позиции, которая в свою очередь явится препятствием эволюции. Мютюэлизм, коммунизм, коллективизм — все это лишь различные способы достижения одной и той же цели. Возвращаясь к разумному эмпиризму, рекомендованному Прудоном и Бакуниным, Сантильян требует для будущей Испанской революции права на свободный эксперимент: «В каждом населенном пункте, в каждой сфере будет реализована та степень коммунизма, коллективизма или же мютюэлизма, которая может быть достигнута».
На самом деле, как мы увидим далее, опыт испанских «коллективов» 1936 г. продемонстрировал, какие трудности влечет за собой преждевременное воплощение на практике полного коммунизма.
Конкуренция
Из всех норм и правил, унаследованных от буржуазной экономики, одна ставит щекотливую проблему, если она сохранится в коллективистской или самоуправляемой экономике. Речь идет о конкуренции. По мнению Прудона, она является «выражением социальной спонтанности», залогом «свободы» объединений. Более того, в течение долгого времени конкуренция будет, по его мнению, «незаменимым стимулом», в отсутствие которого и без того напряженная промышленная деятельность выродилась бы во «всеобщее отлынивание» от работы. Прудон уточняет:
«Рабочая ассоциация обязуется поставлять обществу товары и услуги по ценам, минимально разнящимся с себестоимостью производства. Таким образом, рабочие ассоциации запрещают себе какие-либо слияния [монопольного типа], подчиняют себя закону конкуренции, а свою отчетность делают прозрачной для общества; оно, в свою очередь, оставляет за собой — в качестве адекватной меры надзора — право распустить такое объединение». «Конкуренция и ассоциация основываются друг на друге. (…) Досаднейшей ошибкой социализма является то, что он расценивает ее [конкуренцию], как ниспровержение общества. Но не может быть (…) и речи об уничтожении конкуренции. (…) Необходимо привести ее в равновесие, я бы даже сказал, установить нечто вроде полицейского контроля».
Верность Прудона принципу конкуренции навлекла на себя сарказм Луи Блана: «Нам никогда не понять тех, кто придумывает какую-то загадочную случку двух противоположных принципов. Прививка ассоциации на древо конкуренции — идея убогая: это все равно как заменить евнухов гермафродитами». Луи Блан, в свою очередь, хотел бы «прийти к единообразной цене», устанавливаемой государством, и воспретить всяческую конкуренцию между цехами, работающими в одной и той же области промышленности. Прудон в ответ возражает, заявляя, что цена «устанавливается лишь конкуренцией, то есть возможностью для потребителя (…) обойтись без услуг того, кто запрашивает за них слишком высокую цену (…)». «Уберите конкуренцию, и общество, лишенное движущей силы, остановится, словно часы, пружина которых ослабла».
Конечно, Прудон не закрывал глаза и на недостатки конкуренции, которые он очень полно описал в своем трактате о политической экономии. Он прекрасно понимал, что она — источник неравенства. Он признает, что «в конкуренции победу одерживают наиболее крупные батальоны». Когда она «анархична» (в уничижительном смысле слова) и существует лишь в угоду частным интересам, то неуклонно порождает гражданскую войну, а, следовательно, в конечном счете, олигархию. «Конкуренция убивает конкуренцию».
Впрочем, он считал, что и отсутствие конкуренции не менее пагубно. Рассматривая в качестве примера табачную промышленность, он отмечал, что ее продукты слишком дороги, а предложение неадекватно просто потому, что она в течение долгого времени оставалась монополией, свободной от конкуренции. Если бы такая ситуация существовала во всех отраслях промышленности, страна никогда бы не смогла свести баланс доходов и расходов.
Но конкуренция, о которой мечтает Прудон, не есть предоставленная сама себе конкуренция капиталистической экономики. Это конкуренция, которой придан высший «социализирующий» ее смысл, конкуренция, стремящаяся действовать на основе справедливого обмена, в духе солидарности и при сохранении индивидуальной инициативы; она принесет обществу те самые богатства, которые уводит у него и расхищает в настоящее время частнокапиталистическое присвоение.
Очевидно, что в этой идее было нечто утопическое. Конкуренция и так называемая рыночная экономика неизбежно ведут к неравенству и эксплуатации даже в том случае, если изначально все поставлены в равные условия. Эту систему невозможно совместить с самоуправлением рабочих иначе как на временной основе, как неизбежное зло, пока: 1) среди рабочих не выработается психология «честного обмена», и, что важнее, 2) общество в целом не перейдет от существования в условиях постоянной нехватки товаров к существованию в изобилии, когда конкуренция потеряет свой смысл.
Даже и в течение такого переходного периода, впрочем, представляется целесообразным ограничить конкуренцию сектором потребительских товаров (как это было сделано в Югославии), в котором, по крайней мере, она обладает тем преимуществом, что защищает интересы потребителя.
Кропоткинская школа и некоторые другие анархические течения нападают на коллективистскую экономику прудоновского типа, основанную на принципе борьбы, когда между соревнующимися сторонами устанавливается равенство в исходной точке лишь для того, чтобы бросить их затем в битву, из которой несомненно выйдут победители и побежденные; когда обмен изделиями будет, в конечном счете, производиться по принципу спроса и предложения, «что погрузит [общество] в полную конкуренцию, в самый обычный буржуазный мир». Такие речи сильно напоминают те, что произносят в наши дни против югославского опыта некоторые его хулители из коммунистического лагеря.[52] Они питают к самоуправлению в целом такую же враждебность, какую вызывает у них конкурентная рыночная экономика, как если бы оба эти понятия по своей сущности и на вечные времена были неотделимы друг от друга.
Единство и планирование
При любых обстоятельствах Прудону было очевидно, что там, где управление осуществляется рабочими ассоциациями, оно должно быть единым. Он особо отмечал «необходимость централизации и единства» и задавался вопросом: «Разве те рабочие объединения, которые формируются с целью управления тяжелой индустрией, не являются выражением единства?» «На место политической централизации мы ставим централизацию экономическую». Однако страх перед авторитарным планированием все-таки заставлял его инстинктивно предпочитать конкуренцию солидаристского толка. Уже позднее анархизм стал проводником либертарной и демократической формы планирования, выработанной снизу вверх федерацией самоуправляемых предприятий.
Бакунин предвидел, что самоуправление открывает перспективы для планирования в мировых масштабах:
«Рабочие кооперативные объединения — новое явление в истории; мы присутствуем сегодня при их зарождении, и сейчас мы можем лишь предполагать, но не утверждать, гигантское их развитие, которое, без сомнения, произойдет, а также новые политические и социальные условия, которые из этого проистекут в будущем. Возможно, и даже более чем вероятно, что, выйдя однажды за пределы местностей, областей и даже нынешних государств, они породят новое устройство всего человеческого общества, которое тогда будет подразделено не на нации, а на промышленные группы».
Тогда они образуют «огромную экономическую федерацию» во главе с верховной ассамблеей. На основе «всемирной статистики, данных, столь же полных, сколь и обширных», такая ассамблея уравновешивала бы спрос и предложение, направляла бы мировое промышленное производство, распределяла бы его между странами таким образом, что более не было бы, или почти не было бы, торговых или промышленных кризисов, вынужденного застоя, бедствий, растрачивания капиталов и впустую затраченного труда.
Полная социализация?
Прудоновская концепция управления посредством рабочих объединений была двусмысленна. Не всегда уточнялось, будут ли самоуправляемые предприятия соревноваться с предприятиями капиталистическими, одним словом, будет ли, как в случае с современным Алжиром,[53] социалистический сектор сосуществовать с частным сектором, или же, напротив, все производство будет социализировано и самоуправляемо.
В свою очередь, Бакунин был последовательным коллективистом. Он ясно видел опасность в параллельном существовании двух секторов. Даже объединенным в ассоциацию рабочим никогда не удастся собрать достаточный капитал, средства производства, чтобы успешно конкурировать с крупным капиталом, накопленным буржуазией. Существовала также опасность того, что капиталистическая среда отравила бы рабочие ассоциации настолько, что внутри них возник бы «новый класс эксплуататоров труда пролетариата». Самоуправление содержит в себе зерна полного экономического освобождения трудящихся, но ростки из них смогут пробиться лишь тогда, когда «капитал, промышленные предприятия, сырье и орудия труда… станут коллективной собственностью рабочих союзов, употребляемой как в промышленном, так и в сельскохозяйственном производстве, а это производство станет свободно организовываться и федерироваться внутри себя». «Общественное переустройство не может произойти в радикальной и решительной манере, если не будет подвергаться изменениям все общество целиком», то есть если не произойдет социальная революция, которая превратит частную собственность в коллективную. В такой социальной организации рабочие будут коллективно своими собственными капиталистами, своими собственными хозяевами. В личной собственности останутся лишь «те вещи, которые и в самом деле нужны лишь для личного использования».
Но, пока социальная революция не свершилась, Бакунин, признавая за производственными кооперативами способность приучать рабочих к организации и ведению дел собственными силами, и отмечая, что кооперативы закладывают основы коллективного рабочего движения, все же считал, что такие островки в лоне капиталистического общества будут лишь ограниченно эффективны. И он призывает рабочих «заниматься в первую очередь забастовками, а не кооперативами».
Рабочий синдикализм
Бакунин также был высокого мнения о роли, которая отведена профсоюзам, «естественным организациям масс» и «единственному эффективному оружию рабочих в борьбе с буржуазией». Для того, чтобы рабочий класс полностью осознал, чего он хочет, и для того, чтобы заронить в нем социалистическую идею, отвечающую его инстинкту, чтобы организовать пролетарские силы вне буржуазного радикализма, Бакунин в гораздо большей степени рассчитывает на профсоюзное движение, чем на идеологов. Будущее, по его мнению, принадлежит национальным и международным отраслевым федерациям профсоюзов.
На первых конгрессах Интернационала рабочий синдикализм не упоминался явно. Но начиная с Базельского конгресса 1869 г., он из-за влияния анархистов вышел на первый план в повестке дня: после отмены наемного труда, профсоюзы образуют зародыш будущего управления; правительство будет заменено советами различных отраслей.
Позднее, в 1876 г. ученик Бакунина Джеймс Гильом[54] написал книгу «Идеи о социальной организации», в которой включил рабочий синдикализм в рамки самоуправления. Он выступал за создание корпоративных федераций рабочих в каждой конкретной отрасли «не для того, чтобы, как раньше, защищать свою зарплату от притязаний со стороны жадных хозяев, а (…) для обеспечения взаимных гарантий доступа к средствам труда, которые в результате соответствующих общих договоренностей стали бы коллективной собственностью всей корпоративной федерации». Такие федерации, в соответствии с перспективами, намеченными Бакуниным, будут играть роль в планировании производства.
Тем самым заполнялся один из пробелов самоуправления, в том виде, в котором наметил его Прудон. В нарисованных им перспективах не хватало одного: таких связей между различными объединениями производителей, которые препятствовали бы им вести дела в эгоистическом духе, смотреть на все «со своей колокольни», не заботясь об общих интересах и игнорируя другие самоуправляемые предприятия. Рабочий синдикализм венчал все это сооружение: он осуществлял самоуправление. Он представляется орудием планирования и обеспечения единства производства. (В наши же дни, выродившийся синдикализм превратился в приводной ремень между объединениями предпринимателей и наемными работниками.)
Коммуны
В ранний период своей деятельности Прудон интересовался практически исключительно проблемой экономической организации нового общества. Его недоверие ко всему, что касалось «политики», привело к тому, что он пренебрег проблемой территориального управления. Он довольствовался указанием на то, что рабочие должны занять место государства, сами стать государством, но он не уточнял, в каких именно формах. В последние годы его жизни «политическая» проблема, которую он рассматривает в анархистской манере, то есть снизу вверх, занимает его все больше. Люди образуют в своей среде, на местном уровне, то, что он именует естественной группой, «представляющей собой небольшой город или политическую организацию, и утверждающую свое единство, свою независимость, свою жизнь или свое собственное движение, свою автономию». «Подобные группы, расположенные в непосредственной близости друг от друга, могут иметь общие интересы; разумеется, если они уживаются и ладят друг с другом, то они объединяются для обеспечения взаимной безопасности и взаимного страхования, образуют группу более высокого уровня». Но здесь призрак ненавистного государства продолжает преследовать мыслителя-анархиста, и он пишет, что никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах местные группы, «объединяющиеся для гарантии своих интересов и развития своего благосостояния, (…) не отступят, не принесут самих себя в жертву новому Молоху».
Тем не менее Прудон относительно четко определяет автономную коммуну. Она представляет собой, по сути, «суверенное существо» и, как таковое, «имеет право управлять сама собой, устанавливать налоги, распоряжаться своим имуществом и доходами, создавать школы для молодежи, назначать учителей» и пр. «Такова коммуна, поскольку такова коллективная жизнь, политическая жизнь. (…) Она отрицает всякие ограничения, только она сама себя может ограничивать; любое внешнее принуждение чуждо ей и представляет собой угрозу для нее».
Как уже было отмечено, по мнению Прудона, самоуправление было несовместимо с авторитарным государством; аналогичным образом и коммуна не могла сосуществовать с централизованной властью, стоящей наверху:
«Никакой компромисс невозможен. Отведите ей какую угодно, даже самую большую долю; с того момента, как она более не зависит от своего собственного права и признает некий высший закон, с того момента, как более крупная группа (…), частью которой она является, будет объявлена верховной по отношению к ней, (…) неизбежно настанет день, когда коммуна окажется в противоречии с этой группой и возникнет конфликт. А если возникает конфликт, то по логике победу одержит более сильная центральная власть, без дискуссий, без суда, без переговоров; ведь дискуссии, дебаты между начальником и подчиненным недопустимы, возмутительны, абсурдны».
Бакунину удалось значительно более последовательно, чем Прудону, вписать коммуну в социальную организацию будущего общества. Ассоциации рабочих-производителей должны были свободно объединяться в рамках коммун; коммуны же, в свою очередь, должны были свободно образовывать федерации. «Спонтанность жизни и деятельности, на протяжении веков удерживаемые в узде всемогущего государства, будут возвращены коммунам в результате отречения государства от власти».
В 1880 г. местным отделением Юрской федерации округа Куртелари[55] был дан такой ответ: «Органом такой местной жизни выступает федерация профессиональных объединений, и именно эта местная федерация образует будущую коммуну». Однако, авторы этого документа охвачены сомнением и задают себе вопрос: «Кто будет составлять договор с коммуной: общее собрание всех жителей или делегации профессиональных объединений?» Они приходят к заключению, что возможны обе системы. Кому будет отдан приоритет: коммуне или профсоюзу? Этот вопрос разделит позднее, в частности, в России и в Испании, «анархо-коммунистов» и «анархо-синдикалистов».
Для Бакунина, коммуна есть прекрасный инструмент экспроприации средств производства в пользу самоуправления. В качестве компенсации за конфискованное имущество именно она на первой фазе социального преобразования общества будет давать самое необходимое всем, лишенным собственности. Внутреннюю организацию такой коммуны Бакунин описал в деталях. Она будет управляться советом, состоящим из выборных делегатов, облеченных императивными мандатами [наказами избирателей], неукоснительно несущих ответственность перед пославшими их людьми и могущих быть отозванными в любой момент. Коммунальный совет выбирает из своего состава исполнительные комитеты в каждой отрасли революционного управления коммуной. Такое распределение обязанностей между многими лицами способствует приобщению к управлению наибольшего числа рядовых участников. Это уменьшает недостатки и неудобства представительной системы, в которой небольшая группа выбранных лиц решает все задачи, а население остается более или менее пассивным на изредка созываемых общих собраниях. Бакунин инстинктивно понял, что советы должны быть «работающими» ассамблеями, одновременно законодательными и исполнительными, и представлять собой «демократию без парламентаризма», как намного позже охарактеризует их Ленин в один из своих «либертарных» моментов. Секция Юрской федерации округа Куртелари, в свою очередь, поясняет эту концепцию:
«Дабы не впасть в ошибки централизованной и бюрократической администрации, мы полагаем, что общие интересы коммуны должны управляться не одной единственной местной администрацией, а различными специальными комиссиями в каждой области деятельности (…). Такой подход лишит администрацию характера постоянного правительства».
Подобная техническая специализация — плодотворная концепция. В свою очередь, надо всячески избегать коммунальной «парламентаризации». Критикуя опыт Парижской Коммуны, Кропоткин ругает народ за то, что он «еще раз учредил в лоне Коммуны представительную систему» и «отдал свою собственную инициативу в руки собрания людей, избранных более или менее случайно». Он сокрушается, что некоторые реформаторы «всегда стремятся любой ценой сохранить правление по доверенности». Он считает, что представительный режим свое отжил. Он представлял собой форму организованного господства буржуазии и должен исчезнуть вместе с ней. «Для новой грядущей экономической фазы мы должны найти новую форму политической организации, основанную на совершенно ином принципе, нежели принцип представительства». Общество должно отыскать формы политических отношений, которые будут ближе к людям, чем представительное правительство, формы, которые «будут в большей степени самоуправлением, управлением общества самим собой».
Эта прямая демократия, доведенная до самых крайних своих последствий, которая, как в плане экономического самоуправления, так и в плане управления территориального, устранит последние остатки какой-либо власти, является, безусловно, для любого социалиста, «авторитарного» или либертарного, искомым идеалом. Однако, вне всякого сомнения, необходимым условием для этого является такая стадия социальной эволюции, при которой массы трудящихся будут обладать необходимыми знаниями и сознанием, а параллельно с этим царство нищеты и лишений отступит перед царством изобилия. Уже в 1880 г., задолго до Ленина, секция округа Куртелари заявила: «Более или менее демократическая практика всеобщего голосования будет все более утрачивать свое значение в научно организованном обществе».
«Государство» — спорный термин
Читатель уже знает, что анархисты отказались использовать термин «государство» даже для описания переходного периода. В этом плане различия в трактовках между «авторитариями» и либертариями не всегда были столь велики. В Первом Интернационале коллективисты, выразителем идей которых был Бакунин, иногда допускали в качестве синонима выражения «социальный коллектив» термины «обновленное государство», «новое революционное государство» и даже «социалистическое государство». Однако вскоре анархисты поняли, что для них довольно опасно было использовать то же слово, что использовали «авторитарии», вкладывая в него при этом другой смысл. Они почувствовали, что новая концепция требовала и нового слова, что использование старого термина могло привести к опасной двусмысленности; поэтому с тех пор они перестали называть именем «государство» социальный коллектив будущего.
Марксисты, со своей стороны, озабоченные тем, чтобы заручиться поддержкой анархистов и победно провести в Интернационале принцип коллективной собственности против последнего реакционного оплота постпрудоновских индивидуалистов, были готовы пойти на уступки в отношении лексикона. Они согласились, сжав зубы, на предложенную анархистами замену слова «государство» «федерацией» или «солидаризацией коммун». В том же духе Энгельс выговаривал своему другу и соотечественнику Августу Бебелю[56] по поводу Готской программы немецких социал-демократов. Он полагал разумным предложить, чтобы тот «повсеместно избавился от термина «государство», заменив его на Gemeinwesen — хорошее старое немецкое слово, означающее то же самое, что и французское слово Commune [коммуна]».
На Базельском конгрессе 1869 г. анархисты-коллективисты и марксисты объединились, чтобы определить, что, после того как собственность будет обобществлена, она будет управляться «солидаризированными коммунами». В одном из своих выступлений на конгрессе Бакунин расставил точки над i:
«Я голосую за коллективизацию общественных богатств, и в особенности земли, в смысле социальной ликвидации. Под социальной ликвидацией я понимаю экспроприацию всех, кто является ныне собственниками, посредством отмены юридического и политического государства, которое является санкционером и единственным гарантом собственности в том виде, в каком она сейчас существует. Что же касается последующих форм организации, (…) я выступаю за солидаризацию коммун (…) с тем большей радостью, что подобная солидаризация подразумевает организацию общества снизу вверх».
Как управлять общественными услугами?
Но достигнутый компромисс отнюдь не развеял всех двусмысленностей, тем более, что делегаты от «авторитарных» социалистов на том же Базельском конгрессе не удержались от восхваления системы государственного управления экономикой. В дальнейшем проблема оказалась особенно щекотливой и сложной, когда был затронут вопрос о крупных областях общественных услуг, таких как железнодорожный транспорт, почта и т. п. В этот момент, на Гаагском конгрессе в 1872 г., уже произошел раскол в Интернационале между сторонниками Бакунина и сторонниками Маркса. Поэтому именно в оставшемся после раскола так называемом «антиавторитарном» или «федералистском» Интернационале и обсуждался вопрос об общественных услугах. Это вызвало новые разногласия между анархистами и более или менее «государственными» социалистами, которые, осудив Маркса за захват власти в МТР, решили остаться с анархистами в одном Интернационале.
Уже потому, что общественные услуги представляют общенациональный интерес, они, разумеется, не могут управляться только рабочими объединениями или только местными коммунами. Прудон уже пытался разрешить это затруднение, «уравновешивая» рабочее управление «общественной инициативой», суть которой он, впрочем, пояснил слишком расплывчато. Так кто же будет управлять общественными услугами? «Федерация коммун», — отвечают либертарии; «Государство», — хотелось бы ответить «авторитариям».
На Брюссельском конгрессе Интернационала в 1874 г. бельгийский социалист Сезар де Пап попытался достичь компромисса между двумя конфликтующими точками зрения. Местные общественные службы должны были отойти к коммунам с тем, чтобы они управлялись местным административным органом, созданным рабочими синдикатами. Общественные службы более крупного масштаба должны были, по его мысли, управляться региональной администрацией, состоящей из людей, назначенных федерацией коммун и находящихся под управлением региональной палаты труда. Общественные службы общенационального масштаба управляются «государством рабочих», то есть государством, «основанным на союзе свободных рабочих коммун». Анархисты с подозрением относились к этим двусмысленным организациям, но де Пап усматривал в этом недоверии лишь недоразумение: в конце концов, разве это не было просто спором по поводу терминов? Если это было так, то он бы удовлетворился тем, что отложил слово «государство» в сторону, сохраняя и даже развивая то, что называлось этим словом, «под любым другим, более приятным названием».
Но большинству анархистов показалось, что доклад на Брюссельском конгрессе ведет к восстановлению государства: по их мнению, по логике вещей «рабочее государство» должно неизбежно превратиться в «авторитарное государство». А если вся ссора представляет собой, действительно, лишь игру в слова, то они не понимают тогда, зачем нужно окрестить новое общество без правительства тем самым именем, которое служило для обозначения того, что предстояло отменить. Позднее, на конгрессе в Берне в 1876 г. Малатеста признал, что общественные службы непременно нуждаются в единой и централизованной организации, но отказался признать необходимость управления ими сверху, со стороны государства. Его оппоненты, как он считал, путают государство с обществом, «живым органическим телом». В 1877 г. на всеобщем социалистическом конгрессе в Генте Сезар де Пап признал, что пресловутое рабочее или народное государство «действительно, в течение некоторого периода, будет являться лишь государством наемных работников». Но это «будет лишь переходным периодом в силу обстоятельств», по истечении которого этот докучливый некто обязательно расстанется со своими орудиями труда и передаст их непосредственно рабочим объединениям. Такая перспектива, столь же далекая, сколь и проблематичная, не успокоила анархистов: государство никогда не отдаст того, чем оно однажды завладело.
Федерализм
Резюмируем: будущее либертарное общество должно было иметь двойную структуру — экономическую, в форме федерации самоуправляющихся рабочих объединений, и административную, в форме федерации коммун. Оставалось только увенчать, а вместе с тем и соединить воедино все это здание в целом с помощью концепции, которая могла бы быть распространена на весь мир, — федерализма.
По мере того как мысль Прудона становилась более зрелой, в ней стала выделяться и преобладать федералистская идея. Один из его последних трудов был озаглавлен «О федеративном принципе», и мы уже знаем, что в конце своей жизни он охотнее называл себя федералистом, чем анархистом. Мы больше не живем в эпоху античных полисов, которые, кстати, уже в те времена объединялись между собой на федеративных принципах. Проблема нашего времени заключается в необходимости управления большими странами. «Если бы размеры государства, — замечает Прудон, — никогда не превышали границ города или коммуны, я бы предоставил каждому полную свободу выбора, и этим все было бы сказано. Но не будем забывать, что речь идет об огромных агломерациях территорий, в которых города, местечки, поселки и хутора исчисляются миллионами». Не может быть и речи о том, чтобы общество распалось на микромиры. Необходимо единство.
Но «авторитарии» стремятся к управлению такими локальными группами по законам «завоевания». «Я же считаю, — возражает им Прудон, — что в силу самого закона единства, это абсолютно невозможно».
«Все эти группы (…) являются нерушимыми организмами (…), которые не могут быть лишены их суверенной независимости, равно как и житель города не может, в силу того, что он выступает в качестве гражданина, лишиться своих прерогатив свободного человека. (…) Все, чего можно достигнуть, (…) — это создать непримиримый антагонизм между общим суверенитетом и каждым из частных суверенитетов, заставить одну власть восстать против другой; одним словом, воображая, что развиваешь единство, создавать раскол».
При такой системе «унитарного поглощения» городки или естественные группы будут «всегда приговорены к исчезновению в лоне более крупного населенного пункта, агломерации, которую можно назвать искусственной». Централизация, заключающаяся в «удержании в рамках правительственного нераздельного владения групп, которые природа создала автономными», представляет собой «для современного общества подлинную тиранию». «Это система, характерная для империализма, коммунизма, абсолютизма», — распаляется Прудон, добавляя одно из тех обобщений, на которые он был большой мастак: «Все эти слова — синонимы».
Напротив, единство, истинное единство, централизация, истинная централизация, были бы нерушимы, если бы правовая связь, договор о взаимопомощи и обоюдности, пакт о федерации были бы заключены между различными территориальными единицами.
«Централизация общества свободных людей (…) обуславливается и обеспечивается договором. Социальное единство (…) есть результат свободного объединения граждан. (…) Для того чтобы нация проявилась в своем единстве, необходимо, чтобы это единство было централизовано (…) во всех его функциях и правах; нужно, чтобы централизация осуществлялась снизу вверх, от окружности к центру, и чтобы все функции были независимы и управлялись каждая по себе. Централизация тем сильнее, чем больше множатся ее очаги».
Федеративная система является противоположностью правительственной централизации. Власть и свобода, два вечно борющихся принципа, вынуждены всегда идти на соглашение друг с другом. «Федерация разрешает все трудности, возникающие из соглашения между свободой и властью. Французская революция заложила предпосылки нового порядка, секретом которого обладает ее наследник, рабочий класс. Этот новый порядок, новое устройство, заключается в следующем: объединить все народы в «конфедерацию конфедераций»». Выражение употреблено неслучайно: «всемирная конфедерация» было бы слишком огромно; нужно, чтобы крупные объединения федерировались бы между собой. И любящий прорицать Прудон провозглашает: «Двадцатый век откроет эру федераций».
Бакунин лишь развил и усилил федералистские идеи Прудона. Подобно Прудону, он признавал превосходство федеративного единства перед единством «авторитарным»: «Когда ненавистная мощь государства больше не будет принуждать личности, объединения, ассоциации, коммуны, области, районы жить вместе, они будут гораздо более тесно связаны и образуют значительно более живые, более реальные, более мощные единства, чем те, что их заставляют образовывать сегодня под одинаково давящим и изнурительным для всех гнетом государства». Авторитарии «вечно смешивают (…) формальное, догматическое и правительственное единство с единством живым и реальным, которое может возникнуть лишь из наиболее свободного развития всех личностей и всех коллективов и из федеративного и абсолютно свободного союза (…) рабочих ассоциаций в коммуны, а затем коммун в регионы, регионов в нации».
Бакунин настаивает на необходимости промежуточного звена, своего рода эстафеты, между коммуной и национальным федеративным органом: на провинции или регионе, свободной федерации автономных коммун. Но не надо думать, что федерализм приведет к изоляции, к эгоизму. Солидарность неотделима от свободы. «Коммуны, оставаясь абсолютно автономными, ощущают себя (…) солидарными между собой и, ни в чем не умаляя своей свободы, тесно объединяются». В современном мире моральные, материальные и интеллектуальные интересы создали реальное и мощное единство между различными частями одной нации и между разными нациями. И именно это единство переживет государство.
Федерализм, однако, — это палка о двух концах. Во время Французской революции федерализм жирондистов[57] был реакционным, роялистская школа Шарля Морраса[58] выступала в защиту «регионализма». В некоторых странах, таких как США, федеральная конституция использовалась теми, кто лишал цветное население гражданских прав. Бакунин считал, что только социализм может придать федерализму революционное содержание. По этой причине его испанские последователи выказали не очень большой энтузиазм в отношении буржуазной федералистской партии Пи-и-Маргаля,[59] который называл себя прудонистом, и даже в отношении ее «кантоналистского» левого крыла в период краткого и неудачного существования республики 1873 г.
Интернационализм
Из федералистского принципа логически вытекает интернационализм, то есть федеративная организация наций «в большой и братский интернациональный союз людей». Бакунин и здесь изобличает буржуазную утопию федерализма, не основанного на интернационалистском и революционном социализме. Он значительно опередил свою эпоху и был, как сказали бы сегодня, «европейцем»; он уповает на Соединенные Штаты Европы, единственный организм, способный «предотвратить гражданскую войну между различными народами, входящими в европейскую семью». Но он предостерегает против европейской федерации, которая объединила бы государства «в том виде, в каком они существуют сейчас».
«Ни одно централизованное бюрократическое, а, значит, военное, государство, пусть даже и именуемое республикой, никогда не вступит вполне искренне и с серьезными намерениями в какую-либо международную конфедерацию. По самой своей сути такое государство, которое является открытым или тайным отрицанием всякой внутренней свободы, в каждый момент является постоянным объявлением войны, угрозой существованию соседних с ним стран». Потому любой союз с реакционным государством стал бы «предательством революции». Соединенные Штаты Европы, а затем и всего мира, возможны только после того, как будет сброшен старый порядок, целиком строящийся на насилии и принципе централизованной власти. С другой стороны, любые отдельно взятые страны, где социальные революции увенчались успехом и где они были построены по одинаковым принципам, должны свободно объединиться в революционную федерацию, несмотря на существующие ныне границы.
Подлинный интернационализм основывается на самоопределении и его неизбежном следствии — праве на отделение. «Любой индивид, — развивает Бакунин мысль Прудона, — любая ассоциация, любая коммуна, любая область, любой регион, любая нация имеют абсолютное право располагать и распоряжаться самими собой, объединяться или же не объединяться, вступать в союз с кем захотят и разрывать соглашения без какого-либо так называемого исторического права и независимо от обычаев их соседей». «Право на свободное объединение, равно как и на свободное отделение, является первым, наиважнейшим изо всех политических прав, без которого конфедерация всегда будет лишь замаскированной централизацией».
Но по мысли анархистов подобный принцип вовсе не порожден раскольничеством или изоляционизмом. Напротив, они «убеждены в том, что по признании права на отделение, отделение будет невозможным, поскольку национальные единства, перестав быть результатом насилия и исторической лжи, станут образовываться свободно». Тогда, и лишь тогда, они станут «действительно сильными, плодотворными и нерасторжимыми».
Позднее Ленин, а затем первые съезды Третьего Интернационала позаимствуют у Бакунина эту концепцию, которую большевики положат в основу своей национальной политики и антиколониальной стратегии. Но, в конечном счете, они откажутся от нее в пользу авторитарной централизации и перекрашенного империализма.
Деколонизация
Отметим, что федерализм по логике вещей привел его основателей к пророческому предвосхищению проблемы деколонизации. Различая «завоевательное» единство и единство «рациональное», Прудон замечает, что «любой организм, выходящий за свои точные пределы и стремящийся к захвату или аннексии прочих организмов, теряет в силе то, что выигрывает в размере, и движется к собственному распаду». Чем более город (читай: нация) расширяет свое население и свою территорию, тем больше он приближается к тирании и, в конечном счете, к распаду.
«Предположим, что он образует рядом с собой, на некотором расстоянии, придатки, колонии: рано или поздно эти колонии или придатки превратятся в новые города, которые сохранят с материнским городом лишь федеративную связь или же не сохранят ее вовсе. (…) Когда новый город сможет сам себя обеспечить, он сам провозгласит свою независимость: по какому праву материнский город обращается с ним как с вассалом, как со своим хозяйством, своей собственностью? Так, в наши дни Соединенные Штаты освободились от Англии; Канада также освободилась, по крайней мере, фактически, если и не официально. Австралия также находится на пути к отделению по взаимному согласию с материнской державой. Точно так же рано или поздно Алжир будет конституционно признан африканской Францией, только если мы в силу низких и эгоистических мотивов не будем продолжать удерживать его в нашей власти с помощью силы и нищеты».
Бакунин также устремляет свой взор на слаборазвитые страны. Он сомневается в том, что империалистическая Европа «сможет удержать в рабстве восемьсот миллионов азиатов». «Восток со своими восьмьюстами миллионами усыпленных и порабощенных людей, составляющими две трети человечества, конечно же, будет вынужден проснуться и прийти в движение. Но в каком направлении и для чего?»
Он открыто провозгласил «свои симпатии к любому национальному восстанию против любого угнетения». Он предлагает угнетенным народам вдохновляющий пример национального восстания испанцев против Наполеона: несмотря на громадный перевес императорских войск над отрядами повстанцев-партизан, захватчикам не удалось насадить своей власти, и после пятилетней борьбы это закончилось изгнанием французов из Испании.
Каждый народ «имеет право быть самим собой, и никто не имеет права навязывать ему свою одежду, свои обычаи, свой язык, свои мнения и свои законы». Но, по его мнению, не может быть истинного федерализма без социализма. Он желает, чтобы национальное освобождение происходило «как в политических, так и в экономических интересах народных масс», а «не с честолюбивым намерением образовать мощное государство». Любая революция за национальную независимость, «происходящая вне народа, а, следовательно, неспособная восторжествовать без поддержки привилегированного класса (…), будет непременно направлена против народа» и будет, следовательно, «движением ретроградным, пагубным, контрреволюционным».
Было бы прискорбно, если бы деколонизированные страны освобождались от внешнего бремени лишь для того, чтобы попасть под местное политическое и религиозное иго. Чтобы освободить такие страны, необходимо «уничтожить в их народных массах веру в любую власть, как божественную, так и человеческую». Национальный вопрос исторически отступает перед социальным вопросом. Нет другого спасения, кроме как в социальной революции. Успех отдельной, изолированной, национальной революции невозможен. Социальная революция непременно должна стать революцией мировой.
Бакунин предвидел, что вслед за деколонизацией последует создание все более широкой международной федерации революционных народов: «Будущее за созданием европейско-американского интернационального союза. Затем, уже значительно позже, эта великая европейско-американская нация сольется с азиатской и африканской агломерацией».
Этот анализ приводит нас к преддверию XXI века.
Часть 3. Анархизм в революционной практике
1880–1914
Анархизм отрывается от рабочего движения
Теперь настало время проверить анархизм в действии, что приводит нас в канун XX века. Либертарные идеи, безусловно, сыграли определенную роль в революциях XIX века, но не самостоятельную. Прудон сформировал негативное мнение о революции 1848 г. еще до ее начала. Он критиковал ее как политическую революцию, как буржуазную ловушку, и, в самом деле, большинство из этого было правдой. Более того, если верить Прудону, она была неуместной, а использование баррикад и уличных столкновений — устаревшим, ибо сам он мечтал о другом, спокойном пути к победе: мютюэлистском коллективизме. Что касается Парижской Коммуны, то, несмотря на то, что она спонтанно откололась от «традиционной государственнической централизации», она была продуктом «компромисса», как заметил Анри Лефевр, неким «единым фронтом» между прудонистами и бакунистами, с одной стороны, и якобинцами и бланкистами, с другой. Революция была «смелым, ясно выраженным отрицанием государства», но Бакунину пришлось признать, что анархисты из Интернационала были «ничтожным меньшинством» в ее рядах.
Однако благодаря деятельности Бакунина анархизм удалось привить массовому движению пролетарского, антиполитического и интернационалистского характера — Первому Интернационалу. Но примерно около 1880 г. анархисты начинают высмеивать «робкий Интернационал первого периода» и стремятся создать на его месте то, что Малатеста в 1884 г. описал как «воинственный Интернационал», который был бы коммунистическим, анархическим, антирелигиозным, революционным и антипарламентским в одно и то же время. Это пугало оказалось очень хрупким: анархизм вырывал себя из рабочего движения, в результате чего он захирел и погряз в сектантстве и активизме меньшинства.
Чем был вызван этот упадок? Одной из его причин явилось ускоренное промышленное развитие и быстрое завоевание пролетариатом политических прав, что сделало рабочих более восприимчивыми к парламентскому реформизму. Отсюда — захват международного рабочего движения политиканской, ориентированной на участие в выборах, реформистской социал-демократией, стремящейся не к социальной революции, а к легальному завоеванию буржуазного государства и к удовлетворению сиюминутных требований.
Анархисты, оказавшись слабым меньшинством, отказались от мысли бороться внутри широкого рабочего движения. Под предлогом сохранения чистоты доктрины, в которой сочетание утопических предвосхищений и ностальгических обращений к «золотому веку» теперь было широко распространено, Кропоткин, Малатеста и их друзья отвернулись от пути, начертанного Бакуниным. Они упрекали анархистскую литературу и самого Бакунина в том, что те слишком «пропитались марксизмом». Они замкнулись на себе. Они сорганизовались в небольшие группки прямого действия, в которые полиция без затруднений засылала своих информаторов.
После отхода Бакунина от дел и последовавшей вскоре после этого смертью, начиная с 1876 г. в анархизм проник химерический и авантюристический вирус. На конгрессе в Берне был брошен лозунг «пропаганды действием». Первый наглядный урок был преподан Кафиеро и Малатестой. 5 апреля 1877 г. под их руководством около тридцати вооруженных активистов внезапно сошли с гор в итальянском местечке Беневенто, сожгли коммунальные архивы небольшого села, раздали неимущим содержимое кассы сборщика налогов, совершили попытку установить «либертарный коммунизм» в миниатюре, сельский и инфантильный, и, в конце концов, преследуемые, затравленные, окоченевшие от холода, сдались без сопротивления.
Три года спустя, 25 декабря 1880 г., Кропоткин взывал в своей газете «Le Revolte» («Бунтовщик»): «Постоянный бунт словом, в печати, кинжалом, ружьём, динамитом (…) — все для нас приемлемо, что вне законности». От «пропаганды действием» до индивидуальных покушений оставался один шаг. И вскоре он был сделан.
Если отступничество рабочего класса было одной из причин, по которой анархисты обратились к терроризму, то «пропаганда действием», со своей стороны, способствовала, в некоторой степени, пробуждению усыпленных рабочих. Как утверждает Робер Лузон в статье, напечатанной в газете «Revolution Proletarienne» в ноябре 1937 г., пропаганда действием была «ударом гонга, вырвавшим французский пролетариат из состояния прострации, в которое погрузили его резня Коммуны, прелюдией к основанию ВКТ[60] и массового синдикального движения 1900–1910 гг.». Это несколько оптимистичное утверждение, поправляющее или дополняющее[61] свидетельство Фернана Пеллутье[62], молодого анархиста, перешедшего в революционный синдикализм: по его мнению, использование динамита отвратило рабочих, в значительной степени разочарованных парламентским социализмом, от исповедания либертарного социализма; никто из них не осмеливался объявить себя анархистом из страха показаться сторонником обособленного, индивидуального бунта в ущерб коллективному действию.
Сочетание бомбы и кропоткинских утопий дало социал-демократам оружие, которое они охотно использовали против анархистов.
Социал-демократы осуждают анархистов
В течение многих лет социалистическое рабочее движение делилось на два непримиримых лагеря: в то время как анархизм скатывался одновременно к терроризму и ожиданию тысячелетнего царства, политическое движение, причислявшее себя, более или менее жульнически, к марксизму, погрязало в «парламентском кретинизме». Как напоминает позднее ставший синдикалистом анархист Пьер Монат,[63] «революционный дух во Франции умирал (…) с каждым годом. Революционность Геда (…) существовала лишь на словах или, пуще того, была лишь избирательной и парламентской; революционность Жореса шла куда дальше: она была просто-напросто, и к тому же неприкрыто, министерской и правительственной». Во Франции разрыв между анархистами и социалистами начался, когда в 1880 г. на Гаврском конгрессе зарождающаяся Рабочая партия активно занялась избирательной деятельностью.
В 1889 г. в Париже социал-демократы разных стран решили возродить после долгого перерыва практику международных социалистических конгрессов, открыв тем самым путь к созданию Второго Интернационала. Некоторые анархисты сочли своим долгом участие в них. Их присутствие вызывало острые столкновения и инциденты. Социал-демократы, бывшие в большинстве, подавляли любые возражения со стороны своих противников. На Брюссельском конгрессе в 1891 г. анархисты были изгнаны под шиканье и свист. Но значительная часть английских, голландских, итальянских рабочих депутатов-реформистов также ушла со съезда в знак протеста. На следующем съезде, состоявшемся в Цюрихе в 1893 г., социал-демократы заявили, что отныне будут допускать на съезды, кроме профсоюзных организаций, лишь те социалистические партии и группировки, которые признают необходимость «политической борьбы», то есть борьбы за свержение буржуазной власти путем избирательных бюллетеней.
На Лондонском съезде в 1896 г. несколько французских и итальянских анархистов обошли это исключающее условие, придя в качестве делегатов от профсоюзов. Это вовсе не было военной хитростью: анархисты, как мы увидим далее, только что встали на путь реальности; они вступили в синдикальное движение. Но когда один из них, Поль Делесаль, попытался подняться на трибуну, его грубо сбросили вниз с лестницы, и он даже поранился. Жорес обвинил анархистов в том, что они превратили синдикаты в революционные и анархистские группировки и дезорганизовали их, равно как пришли дезорганизовать съезд, «принеся тем самым большую пользу буржуазной реакции».
На этом конгрессе лидеры немецких социал-демократов, убежденные сторонники участия в выборах, Вильгельм Либкнехт[64] и Август Бебель, показали себя непримиримыми противниками анархистов, так же, как это случилось ранее в Первом Интернационале. При поддержке Элеоноры Эвелинг, дочери Маркса, считавшей анархистов «сумасшедшими», они провели свои решения и постановили исключить участие во всех будущих конгрессах всех, каких бы то ни было, «антипарламентариев».
Позднее в работе «Государство и революция» Ленин протянул анархистам букет, в котором розы прикрывали шипы, отдавая им должное перед социал-демократами. Он упрекал последних в том, что они «оставили анархистам монополию критики парламентаризма» и обозвали эту критику «анархистской». Нет ничего удивительного в том, что пролетариат парламентских стран, которому надоели и опротивели такие социалисты, все более и более переносил свои симпатии на анархизм. Социал-демократы приписывали анархистам любую попытку сломать хребет буржуазному государству. Анархисты «метко» указали «на оппортунистский характер идей о государстве, исповедуемых большинством социалистических партий».
Маркс, опять же, по мнению Ленина, согласен с Прудоном в том, что оба они стоят за «ломку нынешней государственной машины». «Эту аналогию между марксизмом и анархизмом Прудона и Бакунина оппортунисты не желают видеть». Социал-демократы затеяли дискуссию с анархистами «немарксистским» образом. Их критика анархизма сводится к чисто буржуазной банальности: «Мы признаем государство, а анархисты — нет!» Таким образом анархисты находятся в выгодном положении и могут ответить этой социал-демократии, что она отступает от своего долга, заключающегося в революционном воспитании рабочих. Ленин бичует антианархистскую брошюру русского социал-демократа Плеханова,[65] «крайне несправедливую к анархистам», «софистическую», «полную грубых рассуждений, стремящихся доказать, что нет разницы между анархистом и бандитом».
Анархисты в профсоюзах
В 1890-е гг. анархисты зашли в тупик. Оторванные от мира рабочих, монополизированного социал-демократами, они замыкались в маленьких сектах, запирались в неприступных башнях из слоновой кости, бесконечно пережевывая положения все более нереалистической идеологии или же совершали и поддерживали индивидуальные акты террора, все больше подвергаясь репрессиям и преследованиям.
Кропоткин одним из первых раскаялся и признал тщетность и бесплодность «пропаганды действием». В 1890 г. он утверждал в серии статей, «что надо быть с народом, который требует не отдельного действия, а присутствия людей действия в своих рядах». Он предостерегает от «иллюзии, что можно победить коалиции эксплуататоров с помощью нескольких килограммов взрывчатки». Он проповедует возврат к массовому синдикализму, зародышем и распространителем которого был Первый Интернационал: «громадный союз, объединяющий миллионы пролетариев».
Для того чтобы оторвать рабочие массы от одурачивающих их мнимых социалистов, анархисты считали своим насущным долгом проникновение в профсоюзы. В статье «Анархизм и рабочие профсоюзы», опубликованной в 1895 г. в анархистском еженедельнике «Les Temps nouveaux» («Новые времена»), Фернан Пеллутье излагает новую тактику. Анархизм прекрасно может обойтись без динамита, он должен идти в массы для того, чтобы распространять в самых широких кругах анархистские идеи, а также чтобы вырвать синдикальное движение из узкого круга корпоративной системы, в которой оно до сих пор прозябало. Профсоюз должен стать «практической школой анархизма». Разве эта лаборатория экономической борьбы, оторванная от предвыборного соперничества и управляемая анархически, не является организацией одновременно революционной и либертарной, единственной, способной уравновесить и уничтожить пагубное влияние социал-демократических политиков? Пеллутье связывал рабочие профсоюзы с либертарным коммунистическим обществом, остающимся конечной целью анархистов: «В день, когда разразится революция, не выступят ли они в качестве почти либертарной организации, готовой сместить существующий порядок и фактически уничтожить политическую власть, организации, каждая из частей которой контролирует средства производства, управляет своими делами, управляет сама собой со свободного согласия ее членов?»
Позднее, на международном анархистском конгрессе в 1907 г., Пьер Монат заявил: «Синдикализм (…) открывает анархизму, слишком долго замкнутому в себе, новые перспективы и надежды». С одной стороны, «синдикализм (…) вернул анархизму чувство его рабочего происхождения, а с другой стороны, немало способствовал популяризации идеи прямого действия и направлению рабочего движения на революционный путь». На том же съезде, после довольно бурной дискуссии, была принята обобщающая резолюция, начинающаяся следующим принципиальным заявлением: «Международный анархический конгресс рассматривает синдикаты одновременно как боевые организации в классовой борьбе за улучшение условий труда и как союзы производителей, способные послужить преобразованию капиталистического общества в анархическое коммунистическое общество».
Но не без труда силились анархо-синдикалисты направить либертарное движение по новому, избранному ими пути. Сторонники анархической «чистоты» питали к синдикалистскому движению сильное недоверие. Они упрекали его за то, что оно слишком приземленно, слишком практично. Они обвиняли его в том, что ему нравится пребывать в капиталистическом обществе, что оно является его неотъемлемой частью, замыкается на сиюминутных требованиях. Они оспаривали его притязание на то, что оно сможет само разрешить социальную проблему. На конгрессе 1907 г. Малатеста, резко возражая Монату, утверждал, что для анархистов рабочее движение есть средство, но не цель: «Синдикализм есть, и всегда будет, лишь законническим и консервативным движением без какой либо иной достижимой цели кроме улучшения условий труда (да и то под вопросом!)» Будучи ослеплено преследованием сиюминутных выгод и преимуществ, синдикальное движение отвлекает рабочих от последней и решительной борьбы: «Рабочих надо не столько призывать к прекращению работы, сколько к ее продолжению, но на свой собственный счет». И, наконец, Малатеста предостерегает от консерватизма профсоюзной бюрократии: «В рабочем движении бюрократ и чиновник представляют собой опасность, сравнимую лишь с парламентаризмом. Анархист, согласившийся стать освобожденным работником и получать зарплату от синдиката, потерян для анархизма».
На это Монат возражал, что синдикальное движение, как любая человеческая деятельность, безусловно, не лишено недостатков: «Я вовсе не собираюсь их скрывать, поскольку считаю, что лучше, чтобы они всегда были на виду, чтобы можно было на них реагировать». Он признавал, что профсоюзный бюрократизм вызывал жесткую, зачастую оправданную критику. Но он возражал против упрека в намерении принести анархизм и революцию в жертву синдикализму: «Как и для всех, собравшихся здесь, анархизм есть наша конечная цель. Но, поскольку времена изменились, мы также изменили нашу концепцию движения и революции (…). Если бы вместо того, чтобы высокомерно критиковать прошлые, настоящие и даже будущие пороки синдикализма, анархисты плотнее занимались своей деятельностью, любая возможная опасность для синдикализма была бы навсегда предотвращена».
Яростный гнев сектантов от анархизма не был совсем уж беспочвенным. Но та разновидность синдикатов, которую они осуждали и отвергали, принадлежала уже минувшей эпохе: синдикаты, вначале чисто и узко корпоративные, а затем идущие на поводу у социал-демократических политиков, распространились во Франции за годы, последовавшие за подавлением Коммуны. Синдикализм же классовой борьбы, возрожденный проникновением в него анархо-синдикалистов, представлял для «чистых» анархистов другое неудобство: он якобы формировал свою собственную идеологию, был «самодостаточным». Его наиболее яркий представитель, Эмиль Пуже,[66] утверждал: «Превосходство синдиката над прочими формами объединения личностей заключается в том, что в нем дело частичных улучшений и более решительное дело социального преобразования ведутся одновременно и параллельно. Именно потому, что синдикат отвечает этому двойному стремлению (…), нимало не принося настоящее в жертву будущему, а будущее — настоящему, именно поэтому синдикат предстает как объединение par excellence».
Стремление нового синдикализма утвердить и сохранить свою «независимость», заявленное в знаменитой хартии, принятой в 1906 г. на конгрессе ВКТ в Амьене, было в гораздо меньшей степени направлено против анархистов, а в большей степени пыталось сбросить опеку буржуазной демократии и ее представителя в рабочем движении: социал-демократии. Кроме этого новый синдикализм желал сохранить спаянность синдикального движения в связи с размножением соперничающих с ним политических сект, существовавших во Франции до эпохи «социалистического единства». Из работы Прудона «О политической способности рабочих классов», являвшейся для них Библией, революционные синдикалисты почерпнули, в частности, идею «отделения»: став отдельным классом, пролетариат должен отказаться от всякой поддержки противостоящего ему класса.
Некоторые анархисты, тем не менее, были шокированы тем, что рабочий синдикализм хотел обойтись и без их покровительства. «В корне ложная доктрина, — восклицает Малатеста, — угрожающая самому существованию анархизма». Ему вторит Жан Грав:[67] «Синдикализм может — и должен — быть самодостаточным в своей борьбе против хозяйской эксплуатации, но не может притязать на то, что один он может разрешить социальную проблему». Он «был в меньшей степени самодостаточным, когда потребовалось, чтобы понимание того, чем он является, каким он должен быть и что должен делать, пришло к нему извне».
Несмотря на подобные упреки и обвинения и благодаря революционной закваске, привнесенной в него анархистами, обращенными в синдикализм, синдикалистское движение во Франции, как и в других латинских странах, стало в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, силой, с которой приходилось считаться не только буржуазии, правительству, но и социал-демократическим политикам, потерявшим отныне в значительной степени контроль над рабочим движением. Философ Жорж Сорель[68] считал такое вхождение анархистов в синдикаты одним из величайших событий своего времени. Анархистская доктрина растворилась в движении масс, но для того, чтобы вновь обрести себя в новых формах и закалиться.
Либертарное движение было отныне пропитано и насыщено слившимися анархистской и синдикалистской идеями. Французская ВКТ вплоть до 1914 г. являлась эфемерным продуктом такого синтеза. Но наиболее совершенным и наиболее долговечным его результатом была испанская Национальная конфедерация труда (НКТ), основанная в 1910 г., благодаря распаду радикальной партии политика Александра Леру. Один из глашатаев испанского анархо-синдикализма, Диего Абад де Сантильян, не преминул воздать должное Фернану Пеллутье, Эмилю Пуже и другим анархистам, понявшим необходимость распространять свои идеи, в первую очередь, в экономических организациях пролетариата.
Анархизм в Российской революции
Если второе дыхание анархизма открылось в революционном синдикализме, то революция 1917 г. в России дала ему третье. Это заявление может стать первым сюрпризом для читателя, привыкшего думать о великом революционном движении 1917 г. как о заслуге и достижении исключительно большевиков. Российская революция, на самом деле, была огромным массовым движением, волной, поднявшейся из глубины народных масс, которая превосходила и поглощала все идеологические образования. Она принадлежала не каким-то отдельным личностям, но народу. В той мере, в какой она была подлинной революцией, шедшей снизу вверх и спонтанно создающей органы прямой демократии, она несла в себе все характеристики социальной революции с либертарными тенденциями. Тем не менее, относительная слабость российских анархистов не позволила им использовать ситуацию, которая была исключительно благоприятна для победы их идей.
Революция, в конечном счете, была перехвачена и искажена насилием, по мнению одних, или хитростью, по мнению других, команды профессиональных революционеров, сгруппировавшейся вокруг Ленина. Но оба эти поражения (с одной стороны, анархистов, с другой стороны, подлинной народной революции), тем не менее, не означали бесплодности либертарных идей. Во-первых, коллективное присвоение средств производства больше не было под вопросом, и это гарантировало почву, на которой, возможно, в один прекрасный день социализм «снизу» сможет восторжествовать над государственной регламентацией; более того, российский опыт предоставил возможность для некоторых российских и зарубежных анархистов извлечь тяжелые уроки из этого временного поражения, уроки, которые и сам Ленин, похоже, осознал накануне собственной смерти. В подобном контексте возможно в целом рассмотреть проблему революции и анархизма. По мнению Кропоткина, поддержанного Волиным, она научила анархистов тому, как не следует делать революцию. Советский опыт вовсе не доказал, что либертарный социализм неосуществим, а, наоборот, в значительной мере подтвердил пророческую верность взглядов основателей анархизма и, в частности, их критику авторитарного социализма.
Либертарная революция
Отправной точкой революции 1917 года стал 1905 год, когда появился новый вид революционных органов: Советы. Они родились среди фабричных рабочих Санкт-Петербурга в ходе спонтанной всеобщей забастовки. В условиях практически полного отсутствия профсоюзного движения и профсоюзных традиций, Советы заполнили вакуум и взяли на себя функции координации борьбы бастующих предприятий. Анархист Волин был участником небольшой группы, находившейся в тесной связи с рабочими и их чаяниями, которую посетила идея создания Советов. Сообщаемые им сведения совпадают с тем, что писал позднее Троцкий, ставший председателем Петроградского Совета несколько месяцев спустя. В своем описании событий 1905 г. он писал без каких-либо бранных намерений, а совсем наоборот: «Организация Совета по своему объективному смыслу означает создание возможностей дезорганизации правительства, означает организацию «анархии», означает, следовательно, предпосылку революционного конфликта».
Этот опыт закрепился в сознании рабочих, и когда в феврале 1917 г. разразилась вторая Российская революция, ее лидерам не пришлось изобретать что-то новое. Рабочие начали стихийно захватывать фабрики. Советы возродились по собственной инициативе трудящихся, снова застав профессиональных революционеров врасплох. По признанию Ленина, массы крестьян и рабочих были «раз в сто левее» большевиков. Престиж Советов был настолько велик, что только от их имени и по их призыву Октябрьское восстание могло начаться.
Несмотря на их энергию, тем не менее, Советам недоставало однородности, революционного опыта и идейной подготовки. Это делало их легкой добычей политических партий с сомнительными революционными идеями. Хотя партия большевиков была небольшой организацией, она была единственной действительно организованной революционной силой, которая знала, куда она движется. У нее не было соперников среди радикальных левых в политической или профсоюзной областях. Она имела в своем распоряжении первоклассные кадры и развернула, как признавал Волин, «лихорадочную, ожесточенную, сокрушительную активность».
Тем не менее, партийная машина, в рамках которой в то время Сталин был еще малоизвестным деятелем, всегда рассматривала Советы как обременительных конкурентов. Незамедлительно после захвата власти спонтанное и непреодолимое стремление к социализации производства канализировалось, в первую очередь, в установление рабочего контроля над производством. Декрет от 14 ноября 1917 г. узаконил участие рабочих в управлении предприятиями и установлении цен; это уничтожило коммерческую тайну и вынудило работодателей публиковать их корреспонденцию и бухгалтерские документы. Если верить Виктору Сержу,[69] «намерения лидеров революции не выходили за эти рамки». В апреле 1918 г. они «по-прежнему намеревались … создавать смешанные компании, в которых и Советское государство, и русский, и иностранный капиталы принимали бы участие». «Инициатива экспроприационных мер исходила от масс, а не от власти».
Уже 20 октября 1917 г. на первом съезде фабрично-заводских комитетов было принято предложение, вдохновлявшееся анархическими идеями. Была принята резолюция, которая требовала, чтобы «рабочий контроль над производством и контрольные комиссии представляли собой не только проверочные комиссии, но (…) являлись бы ячейками будущего, уже сейчас подготавливающими передачу производства в руки трудящихся». «Сразу после Октябрьской революции, — как писала Анна Панкратова,[70] — эти анархистские тенденции обозначились тем более легко и успешно, что капиталисты оказали самое бурное сопротивление проведению в жизнь декрета о рабочем контроле и продолжали противиться вмешательству трудящихся в производство».
Однако очень скоро выяснилось, что рабочий контроль есть не что иное, как полумера, зачастую неэффективная и нескладная. Предприниматели занимались саботажем, утаивали свою наличность и запасы, изымали инструмент, всячески провоцировали рабочих или попросту увольняли их. Иногда они использовали фабзавкомы просто-напросто в качестве агентов или помощников в управлении, а иногда даже считали полезным и целесообразным национализировать свои предприятия. Рабочие отвечали на эти маневры захватом предприятий и их использованием для получения личного дохода. «Мы не прогоняем фабрикантов, — говорили рабочие в своих резолюциях, — но мы возьмем производство в свои руки, если те не хотят обеспечивать функционирование фабрик». Панкратова добавляет, что в этот первый период «хаотичной» и «примитивной» социализации фабзавкомы «зачастую брали на себя управление заводами, владельцы которых были отстранены или бежали».
Очень скоро рабочий контроль начал уступать место социализации. Ленин буквально силой принуждал своих более робких подчиненных, бросая их в «плавильный котел живого народного творчества» и заставляя их говорить на подлинно либертарном языке. Основой революционного переустройства должно было быть рабочее самоуправление. Только оно могло возбудить в массах тот революционный энтузиазм, который делал невозможное возможным. Когда каждый чернорабочий, каждый безработный, каждая кухарка смогли бы увидеть фабрики, землю, администрацию в руках объединений рабочих, служащих, управленцев, крестьян; когда продовольственное снабжение осуществлялось бы демократически избранными, спонтанно созданными комитетами и т. д.; «когда вся беднота увидит и почувствует это, никакая сила не сможет победить социальную революцию». Казалось, что будущее открывалось Республике Советов.
Волин писал, что «чтобы произвести впечатление на народные массы, завоевать их доверие и поддержку, партия большевиков бросила лозунги, которые до той поры были характерны именно для анархизма». «Вся власть Советам!» был лозунгом, который массы понимали в либертарном смысле. Петр Аршинов[71] сообщает, что рабочие понимали идею власти Советов как собственное право управлять сами собой, социально и экономически. На третьем Всероссийском съезде Советов, в начале 1918 г., Ленин заявил, что «анархические идеи принимают теперь живые формы». Вскоре после этого, на седьмом съезде партии (6–8 марта 1918 г.), он провел тезисы, в которых речь шла, помимо прочего, о социализации производства, управляемого рабочими организациями (профсоюзами, фабзавкомами и т. д.), об устранении института профессиональных чиновников и бюрократов, полиции и армии, о равенстве зарплаты и окладов, об участии всех членов Советов в управлении государством и в государственном администрировании, о постепенном полном отмирании государства и отмене денег. На съезде профсоюзов (весной 1918 г.) Ленин охарактеризовал заводы как «самоуправляющиеся коммуны производителей и потребителей». Анархо-синдикалист Максимов[72] утверждал даже, что «большевики отказались не только от теории постепенного отмирания государства, но и от марксистской идеологии в целом. Они превратились в своего рода анархистов».
Авторитарная «революция»
Но столь дерзкое равнение на инстинкт и революционную температуру масс, хоть и смогло обеспечить большевикам руководство революцией, не отвечало ни их традиционной идеологии, ни их истинным намерениям. Издавна они были «авторитариями», приверженцами понятий государства, диктатуры, централизации, руководящей партии, управления экономикой сверху — всего, что противоречило подлинно либертарной концепции советской демократии.
В работе «Государство и революция», написанной накануне Октябрьского восстания, как в зеркале отражалась двойственность идей Ленина. Под некоторыми страницами этой работы вполне могли бы подписаться либертарии, и, как мы видели выше, в ней отдается должное, по крайней мере, частично, анархистам. Тем не менее, этот призыв к «революции снизу» сопровождается охранительной речью в пользу «революции сверху». Концепция иерархической, централизованной государственной системы не скрыта между строк, но, напротив, откровенно выражена: государство сохранится после захвата власти пролетариатом и отомрет только после переходного периода. Как долго продлится это чистилище? От нас этого не скрывают, — об этом говорится даже с некоторым облегчением, а не с сожалением, — что процесс будет «медленным» и «долгим». То, что породит революция, будет, при видимости власти Советов, «пролетарским государством» или «диктатурой пролетариата», «буржуазным государством без буржуазии», признается сам автор, когда он раскрывает свои сокровенные мысли. Это всепожирающее государство, безусловно, намерено захватить все.
Ленин следует учению современного ему немецкого государственного капитализма с его военной экономикой (Kriegswirtschaft). Организация крупной современной индустрии капитализмом с ее «железной дисциплиной» является для него еще одной моделью. Он особенно очарован государственной монополией, такой как почта, телеграф, и восклицает: «Какой восхитительно совершенный механизм! Вся экономическая жизнь, организованная как почтовое ведомство, (…) — вот государство, вот экономическая основа, которые нам нужны». Он заключает, что стремление обойтись без «власти», без «субординации» — лишь «анархистские мечтания». Как раз перед этим он рассуждал о том, чтобы поручить производство и обмен рабочим ассоциациям, самоуправлению. Но это лишь недоразумение, небольшая путаница. Он не скрывает своего магического рецепта: все граждане должны стать «служащими и рабочими единственного всеобщего государственного треста», все общество должно превратиться «в большую контору и большую фабрику». Советы, конечно же, остаются, но подчиняются рабочей партии, историческая задача которой — «руководить» пролетариатом.
Наиболее здравомыслящие и трезвые из российских анархистов не были введены в заблуждение. Еще на пике ленинского «либертарного» периода они призывали рабочих быть начеку. В их газете «Голос труда» в последние месяцы 1917 — начале 1918 гг. можно было прочесть, за подписью Волина, такие провидческие предостережения:
«Укрепив, упрочив и узаконив свою власть, большевики, будучи социал-демократами, политиками и государственниками, то есть людьми власти, начнут из центра — властным, повелевающим образом — устраивать жизнь страны и народа. Они будут приказывать и распоряжаться из Петрограда по всей России. Ваши Советы и другие организации на местах должны будут понемногу стать простыми исполнительными органами воли центрального правительства. (…) Будет водворяться властный, политический, государственный аппарат, который сверху начнет все зажимать в свой железный кулак. Места, Советы, организации должны будут слушаться и повиноваться. (…) И горе тому, кто не будет согласен с центральной властью и не сочтет нужным и полезным подчиняться ей!» «”Вся власть Советам!” превратится на деле во власть партийных лидеров в центре».
По мнению Волина, все более и более анархические настроения масс принуждали Ленина к тому, чтобы на некоторое время свернуть со своей старой дорожки. Он теперь позволял государству, власти, диктатуре остаться только на час, на краткий миг. А затем должен прийти «анархизм». «Но, Бог мой! Разве вы не предвидите, граждане социалисты, что скажет Ленин, когда нынешняя власть укрепится и станет возможно не прислушиваться к голосу масс?» Тогда он вернется на старые проторенные пути. Он создаст «марксистское государство» более совершенного типа.
Было бы, конечно, рискованно утверждать, что Ленин и его соратники сознательно устраивали массам ловушку. В них было больше доктринального дуализма, чем преднамеренного двуличия. Противоречия между двумя полюсами их мысли были настолько очевидными, настолько бросающимися в глаза, что можно было предвидеть, что эти полюса в скором времени разойдутся в ходе дальнейших событий. Либо анархический путь развития и давление масс заставили бы большевиков отказаться от авторитарного характера их концепции, либо, напротив, упрочение их власти, одновременно с утратой пыла народной революции, заставило бы их забросить в чулан эти поползновения анархистского толка.
Но тут вмешались новые факторы, изменившие исходные условия задачи: ужасные условия гражданской войны и иностранная интервенция, дезорганизация транспорта, нехватка технических специалистов. Это подталкивало большевистских руководителей к исключительным мерам, к диктатуре, к централизации, к тому, чтобы обратиться к политике «железного кулака». Анархисты, тем не менее, отрицали, что это было результатом исключительно «объективных» причин, имевших внешний характер по отношению к революции. В определенной степени они были вызваны, по мнению анархистов, внутренней логикой авторитарных концепций большевизма, произволом чрезмерно бюрократизированной и крайне централизованной власти. Волин считает, что, кроме прочего, именно некомпетентность государства и его стремление всем руководить и все контролировать сделали его неспособным перестроить и наладить экономическую жизнь страны и привели к подлинному «краху», выразившемуся в парализации промышленности, в разорении сельского хозяйства, в разрыве всяческих связей между различными отраслями экономики.
В качестве примера Волин рассказывал историю бывшего нефтеперерабатывающего завода Нобеля в Петрограде. Он был брошен своими владельцами, и четыре тысячи рабочих решили управлять им коллективно. После тщетных обращений к большевистскому правительству они попытались обеспечить производство и жизнь предприятия своими собственными силами. Рабочие поделились на мобильные группы, которые попытались обеспечить топливо, сырье, сбыт и транспортные средства. В отношении последних они уже начали переговоры со своими товарищами железнодорожниками. Правительство рассердилось. Оно, несущее ответственность за страну в целом, не могло допустить, чтобы каждый завод поступал, как ему заблагорассудится. Заводской комитет упорствовал и созвал общее собрание рабочих. Народный комиссар труда лично потрудился прийти, чтобы предостеречь рабочих от «акта грубого нарушения дисциплины». Он подверг бичеванию их «анархические и эгоистичные» взгляды. Он угрожал им увольнением без выходного пособия.
Рабочие возразили в ответ, что не требуют никаких привилегий: правительству надо лишь дать рабочим и крестьянам возможность действовать тем же образом по всей стране. Тщетно. Правительство настояло на своей точке зрения, и завод был закрыт.
Этот рассказ Волина подтверждается свидетельством коммунистки Александры Коллонтай.[73] В 1921 г. она жаловалась на то, что многочисленные случаи проявления рабочей инициативы заканчиваются крахом из-за бумажной волокиты и бесплодных разглагольствований администрации: «Сколько горечи испытывают рабочие (…), когда они видят и знают, что если бы им дали право и возможность действовать, они смогли бы все осуществить сами (…). Инициатива ослабевает, желание действовать умирает».
Фактически власть Советов продолжалась только несколько месяцев, с октября 1917 г. до весны 1918 г. Очень быстро у фабзавкомов были отобраны их полномочия и права под предлогом того, что самоуправление не учитывает «рациональных» нужд экономики, ведет к развитию эгоизма предприятий, конкурирующих друг с другом, спорам из-за скудных средств, стремлению выжить любой ценой, в то время как другие заводы важнее «для государства» и лучше оснащены. Одним словом, это привело, по словам А. Панкратовой, к раздроблению экономики на «автономные производственные единицы того типа, который был идеалом анархистов». Безусловно, зарождающееся рабочее самоуправление не было безупречным. Оно с трудом и наощупь пыталось создать новые формы производства, не имевшие прецедента в истории человечества. Оно, конечно, и ошибалось, шло подчас по ложному пути, что было ценой ученичества, первого опыта. Как утверждает Коллонтай, коммунизм «мог родиться лишь в процессе практических поисков, возможно, ошибок, но на основе созидательных сил самого рабочего класса».
Но руководители партии придерживались иного мнения. Они были очень рады забрать у фабзавкомов власть, которую те отдавали им скрепя сердце. Уже в 1918 г. Ленин подчеркивает свое предпочтение «единоначалия» в управлении предприятиями. Рабочие должны «безоговорочно» подчиняться единой воле руководителей производственного процесса. Все большевистские вожди, рассказывает Коллонтай, «испытывали недоверие к творческим способностям рабочих коллективов». К тому же в администрации преобладали многочисленные мелкобуржуазные элементы, оставшиеся от прежнего русского капитализма, которые очень быстро приспособились к советским порядкам, заняли ответственные посты в различных комиссариатах и стремились к тому, чтобы экономическое управление было поручено отнюдь не рабочим организациям, а им самим.
Государственная бюрократия все более и более вмешивалась в управление экономикой. С 5 декабря 1917 г. промышленность была подчинена Высшему совету народного хозяйства, которому было поручено самовластно координировать деятельность всех производственных органов. Съезд Советов народного хозяйства (26 мая — 4 июня 1918 г.) принял постановление об учреждении дирекций предприятий, две трети членов которых назначались областными советами или Высшим советом народного хозяйства, и лишь одна треть выбиралась рабочими на местах. Декрет от 28 мая 1918 г. распространяет коллективизацию на всю промышленность в целом, но одновременно и преобразовывает стихийную социализацию первых месяцев революции в национализацию. Высший совет народного хозяйства отвечал за управление национализированной промышленностью. Директора и инженерно-технический состав остаются на занимаемых должностях в качестве государственных служащих. На втором съезде совнархозов в конце 1918 г. фабрично-заводские комитеты были решительно осуждены за их попытки управлять фабриками вместо дирекций предприятий.
Для приличия, выборность фабзавкомов продолжала существовать, но представитель коммунистической ячейки теперь зачитывал составленный заранее список кандидатов, а открытое голосование осуществлялось путем поднятия руки в присутствии вооруженной «коммунистической гвардии» предприятия. Всякий, кто выступал против предложенных кандидатов, подвергался экономическим санкциям (снижению зарплаты и т. д.). Как объясняет Аршинов, воцарился лишь один вездесущий хозяин — государство. Отношения между рабочими и этим новым хозяином вновь стали теми же, что были прежде между трудом и капиталом. Был восстановлен наемный труд, только теперь в облике долга перед государством.
Функции Советов стали чисто номинальными. Они были трансформированы в институты правительственной власти. «Вы должны стать основной ячейкой государства», — заявил Ленин на Всероссийском съезде Советов 27 июня 1918 г. По выражению Волина, их роль была сведена к «чисто административным и исполнительным органам, занимающимся незначительными местными делами и целиком подчиненным «директивам» центральных властей: правительства и руководящих органов партии». У них не осталось «ни тени власти». На Третьем съезде профсоюзов (апрель 1920 г.) докладчик комитета, Лозовский, признал: «Мы отказались от прежних методов рабочего контроля и сохранили от них лишь государственный принцип». Отныне этот контроль должен осуществляться государственным органом: Рабоче-крестьянской инспекцией (Рабкрин).
Отраслевые профсоюзные объединения, бывшие централизованными структурами, вначале служили большевикам для того, чтобы ограничить и подчинить себе фабрично-заводские комитеты, по своей сути федеративные и свободные. С 1 апреля 1918 г. слияние этих двух типов организации стало свершившимся фактом. Отныне профсоюзы, под надзором партии, стали играть дисциплинарную роль. Профсоюз металлистов Петрограда наложил запрет на «дезорганизаторские инициативы» заводских комитетов и осудил их «опаснейшее» стремление передавать в руки рабочих те или иные предприятия. Было заявлено, что в этом заключается худшее подражание производственным кооперативам, «идея которых давным-давно уже обанкротилась» и которые «не замедлят вскоре превратиться в капиталистические предприятия». «Все предприятия, брошенные или саботированные их владельцами, продукция которых необходима национальной экономике, должны быть подчинены государственному управлению». «Недопустимо», чтобы рабочие брали предприятия в свои руки без одобрения профсоюзных органов.
После этой предварительной операции захвата профсоюзы, в свою очередь, были укрощены, лишены любой автономии, подвергнуты чисткам; их съезды откладывались, их члены подвергались аресту, их организации распускались или же сливались в более крупные объединения. В ходе этого процесса любые анархо-синдикалистские тенденции были уничтожены, а профсоюзное движение стало полностью подчинено государству и единственной партии.
То же произошло и в отношении потребительских кооперативов. В начале революции они стали возникать повсюду, росли количественно, объединялись на федеративных началах друг с другом. Их преступление состояло в том, что они были вне контроля партии, к тому же в них просочилось некоторое число социал-демократов (меньшевиков). Вначале стали лишать местные магазины средств снабжения и транспорта под предлогом борьбы против «частной торговли» и «спекуляции» или даже без каких-либо предлогов вообще. Затем внезапно были закрыты все независимые кооперативы, а вместо них бюрократическим способом были созданы потребительские кооперативы при комиссариате по продовольствию и производственные кооперативы при Высшем совете народного хозяйства. Многие кооператоры были брошены в тюрьмы.
Рабочий класс на это не отреагировал ни достаточно быстро, ни достаточно решительно. Он был рассеян, разобщен, изолирован в необъятной, отсталой, в преобладающем большинстве сельской стране, обессилен лишениями и революционной борьбой, и, хуже того, деморализован. К тому же лучшие его представители ушли на фронты гражданской войны или же влились в партийный или правительственный аппарат. Несмотря на это, некоторое число рабочих чувствовали себя обманутыми, незаконно лишенными своих революционных завоеваний и прав, взятыми под опеку, униженными высокомерием, надменностью и произволом новых властей, и отдавали себе отчет в истинной природе пресловутого «пролетарского государства». Так, летом 1918 г. недовольные рабочие московских и петроградских предприятий избрали делегатов из своей среды, стремясь тем самым противопоставить подлинных «фабричных уполномоченных» комитетам предприятий, созданным властями. Как рассказывает Коллонтай, рабочий чувствовал, видел и понимал, что его отстранили, отодвинули в сторону. Он мог сравнить образ жизни советских бюрократов и чиновников со своей жизнью. А ведь на нем, по крайней мере, теоретически, зиждилась «диктатура пролетариата».
Но когда рабочие окончательно прозрели, было уже поздно. Власть успела прочно утвердиться, сорганизоваться, в ее распоряжении был репрессивный аппарат, способный сломить любую попытку независимого движения масс. По словам Волина, ожесточенная, но неравная борьба, длившаяся три года и практически неизвестная за пределами России, противопоставила авангард рабочего класса государственному аппарату, упорно отрицавшему разрыв, произошедший между ним и массами. С 1917 г. по 1919 г. происходили все более многочисленные забастовки в крупных промышленных городах, главным образом в Петрограде, и даже в Москве. Как мы увидим далее, они были жестоко подавлены.
Внутри самой правящей партии возникла «Рабочая оппозиция», которая требовала возврата к советской демократии и самоуправлению. На десятом съезде партии в марте 1921 г. один из ее глашатаев, Александра Коллонтай, распространяла брошюру с требованием свободы инициативы и организации для профсоюзов, а также избрания центрального административного экономического органа страны «советом производителей». Брошюра была конфискована и запрещена. Ленин заставил участников съезда практически единогласно принять резолюцию, уподоблявшую тезисы «рабочей оппозиции» «мелкобуржуазным анархистским извращениям»: «синдикализм», «полуанархизм» оппозиционеров, представляли, по его мнению, «непосредственную опасность» для монополии на власть, осуществляемую партией от имени пролетариата.
Борьба продолжалась и внутри центрального руководства профсоюзов. Томский и Рязанов были исключены из президиума и отправлены в ссылку, поскольку они настаивали на независимости профсоюзов от партии. Лидера «Рабочей оппозиции» Шляпникова постигла та же участь, и он вскоре последовал за вдохновителем другой оппозиционной группы, Г. И. Мясниковым, рабочим, инициатором казни великого князя Михаила в 1917 г. Он состоял в партии на протяжении 15 лет до революции, провел более семи лет в тюрьме и держал 75-суточную голодовку. В ноябре 1921 г. он осмелился заявить в брошюре, что рабочие потеряли доверие к коммунистам, потому что партия не имеет больше общего языка с рядовыми рабочими и теперь использует против рабочих репрессивные меры, которые использовала против буржуазии в 1918–1920 гг.
Роль анархистов
Какую роль играли русские анархисты в этой трагедии, в ходе которой революция либертарного типа превратилась в свою противоположность? В России не было либертарных традиций: и Бакунин, и Кропоткин стали анархистами заграницей. Ни тот, ни другой никогда не действовали в качестве анархистов в России. Их произведения, по крайней мере, до революции 1917 г., издавались заграницей, зачастую даже на иностранном языке. Лишь некоторые отрывки из них с трудом, подпольно, попадали в Россию в крайне ограниченном количестве. Все общественное, социалистическое и революционное воспитание русских не имело абсолютно ничего общего с анархизмом. Наоборот, как пишет Волин, «передовая российская молодежь читала литературу, в которой социализм неизменно был представлен в свете государственном». Умами владела правительственная идея: они были заражены германской социал-демократией.
Анархисты были лишь «горсткой людей без влияния»; их было, самое большее, несколько тысяч. Их движение, по словам того же Волина, было «в ту пору еще очень слабым, чтобы оказывать непосредственное влияние на события». Кроме того, по большей части они были интеллигентами индивидуалистического толка, слишком мало связанными с рабочим движением. Нестор Махно,[74] который, как и Волин, являлся исключением, и на своей родной Украине боролся в самой гуще масс, строго судит в своих воспоминаниях российский анархизм, который «был в хвосте событий, а подчас даже вне их».
Однако такое суждение кажется несколько несправедливым. Анархисты сыграли далеко не малую роль в событиях между Февральской и Октябрьской революциями. Троцкий не раз соглашался с этим в его «Истории русской революции». Отважные и активные, несмотря на свою малочисленность, они были принципиальными противниками Учредительного собрания еще тогда, когда большевики не совершили поворота к антипарламентаризму. Они выдвинули лозунг «Вся власть Советам!» задолго до того, как это сделали большевики. Это они вдохновляли движение за социализацию жилья, зачастую вопреки желанию большевиков. Еще до Октября рабочие захватывали заводы в некоторой степени под влиянием анархо-синдикалистов.
В революционные дни, положившие конец буржуазной республике Керенского, анархисты были на переднем крае вооруженной борьбы, в частности в Двинском полку, который под командованием старых анархистов Грачева и Федотова вытеснил из Кремля контрреволюционных «кадетов». Учредительное собрание было разогнано отрядом анархиста Анатолия Железнякова: большевики лишь утвердили свершившийся факт.[75] Многочисленные партизанские отряды, сформированные анархистами или руководимые ими (отряды Мокроусова, Черняка и др.), упорно сражались против белых армий с 1918 г. по 1920 г.
Не было ни одного крупного города, в котором не существовали бы анархистские или анархо-синдикалистские группы, распространявшие довольно большое количество печатных материалов — газет, журналов, листовок, брошюр, книг. В Петрограде выходило два еженедельника, в Москве — ежедневная газета (каждое издание тиражом по 20–25 тысяч экземпляров[76]). По мере того, как революция углублялась и затем отрывалась от народных масс, количество сторонников анархизма постепенно росло.
Французский капитан Жак Садуль,[77] посланный в Россию, писал в рапорте, датированном 6 апреля 1918 г.: «Анархистская партия самая активная, самая воинственная из оппозиционных групп и, вероятно, самая популярная… Большевики озабочены». В конце 1918 г., согласно Волину, это влияние «достигло таких масштабов, что большевики, не допускавшие никакой критики — и, тем более, противоречий или оппозиции, — серьезно обеспокоились». По его словам, для большевистского правительства «допущение анархистской пропаганды означало (…) самоубийство. Оно сделало все возможное, чтобы сначала воспрепятствовать, затем запретить, а в итоге подавить грубой силой всякое проявление либертарных идей».
Большевистское правительство стало насильственно закрывать анархистские организации и запрещать анархистам вести любую деятельность или пропаганду. В Москве в ночь на 12 апреля 1918 г. подразделения Красной гвардии, вооруженные до зубов, внезапно напали на двадцать пять особняков, занятых анархистами.[78] Последние, думая, что они атакованы белогвардейцами, ответили стрельбой. Вскоре, рассказывает Волин, власти предприняли более жесткие насильственные меры: тюремные заключения, запреты организаций и казни. «Четыре года этот конфликт держал в напряжении большевистскую власть, играя все более заметную роль в событиях Революции, пока либертарное движение не было окончательно подавлено вооруженной силой (конец 1921 года)».
Ликвидировать анархистов удалось тем более легко, что они разделились на две фракции, одна из которых отказалась дать себя закабалить большевикам, а другая позволила им приручить себя. Последние ссылались на «историческую необходимость», проявляя лояльность к режиму и оправдывая, по крайней мере, в то время, его диктаторские действия. Для них важнее всего было победно завершить гражданскую войну, подавить контрреволюцию.
Более непримиримые анархисты считали эту тактику близорукой. Ведь именно бюрократическая немощность правительственного аппарата, народное разочарование и недовольство питали контрреволюционные движения. Кроме того, власти душили революцию, больше не проводя различия между сторонниками либертарной революции, которые осуждали ее методы деятельности, и преступной деятельностью противников революции справа. Принять диктатуру и террор означало для анархистов самим стать их жертвами, это была самоубийственная политика. В конечном счете, присоединение к большевикам так называемых «советских анархистов» способствовало разгрому других, непримиримых, которые были обозваны «лжеанархистами», безответственными мечтателями, оторванными от действительности, бестолковыми путаниками, вносящими раздор, буйными сумасшедшими и даже бандитами и контрреволюционерами.
Наиболее блистательным, а, следовательно, наиболее влиятельным, из примкнувших к большевикам анархистов был Виктор Серж. Он работал на режим и публиковал брошюры на французском языке, в которых защищал его от критики со стороны анархистов. Написанная им позднее книга «Первый год русской революции» в значительной степени представляет собой оправдание ликвидации Советов большевиками. Партия — или, скорее, ее руководящая элита — представлена в ней как мозг рабочего класса. Только вожди, надлежащим образом избранные из его авангарда, могли решать, что может и что должен делать пролетариат. Без них массы, организованные в Советы, были бы лишь «неисчислимым множеством людей прошлого со смутными чаяниями, в которых мелькают вспышки ума».
Виктор Серж был, безусловно, слишком здравомыслящим и трезвым, чтобы иметь какие-либо иллюзии относительно подлинной природы Советской власти. Но власть еще была осенена ореолом престижа первой победоносной пролетарской революции; ее ненавидела и предавала позору мировая контрреволюция; и это было одной из причин, — наиболее достойных, — по которой Серж, как и многие другие революционеры, считал уместным придерживать свой язык. Летом 1921 г. в частном разговоре он говорит Гастону Левалю,[79] прибывшему в Москву в составе испанской делегации на III конгресс Коминтерна: «Коммунистическая партия теперь осуществляет не диктатуру пролетариата, но диктатуру над пролетариатом». По возвращении во Францию Леваль публикует в газете «Le Libertаire» статьи, в которых, опираясь на точные факты, сравнивает то, что Виктор Серж конфиденциально шепнул ему на ухо, с публичными высказываниями последнего, расцененными им как «сознательная ложь». В книге «Проживая свою жизнь» Эмма Гольдман,[80] американская анархистка, встречавшая Виктора Сержа в период его деятельности в Москве, тоже не очень-то ласкова с ним.
Махновщина
Если слабые, относительно небольшие ячейки анархистов в городах удалось ликвидировать относительно легко, то ситуация была совершенно иной на юге Украины, где крестьянин Нестор Махно создал сильную сельскую анархическую организацию, как экономическую, так и военную. Maхно был сыном бедных украинских крестьян; в 1919 г. ему было тридцать лет. Еще будучи очень молодым, он участвовал в революции 1905 г., став анархистом. Приговорив его к смерти, царский режим затем смягчил наказание до восьми лет каторги, которые Махно провел, в основном, в кандалах, в Бутырской тюрьме, бывшей единственной школой, в которой он когда-либо учился.[81] По крайней мере, некоторые из пробелов в своем образовании он восполнил с помощью товарища по заключению Петра Аршинова.
Сразу после Октябрьской революции Maхно взял на себя инициативу по организации масс крестьян в автономную область на территории примерно 280 на 250 километров, с семью миллионами жителей. Ее южный конец достигал Азовского моря в порту Бердянск, а центр находился в Гуляй-Поле, крупном селе с численностью населения 20–30 тысяч человек. Это был традиционно мятежный регион, ставший ареной сильных беспорядков в 1905 г.
Все началось с Брест-Литовского договора (март 1918 г.), приведшего к оккупации Украины немецкой и австрийской армиями, а также к восстановлению реакционного режима, который первым делом вернул прежним владельцам земли, совсем недавно отобранные у них революционными крестьянами. Крестьяне защищали свои недавние завоевания с оружием в руках, как против реакции, так и против несвоевременного и неуместного вторжения в сельскую местность большевистских комиссаров и их слишком тяжелой реквизиции. Это грандиозное крестьянское восстание воодушевлял поборник справедливости, народный заступник, что-то вроде анархистского Робина Гуда, прозванный крестьянами «батькой» Махно. Первым его военным достижением было взятие Гуляй-Поля в середине сентября 1918 г. Перемирие, подписанное 11 ноября, вызвало отступление германо-австрийских оккупационных сил и дало Махно уникальную возможность создать запасы оружия и продовольствия.
Впервые в истории принципы либертарного коммунизма были воплощены на практике в освобожденной части Украины, и, в той мере, в какой это позволяли обстоятельства гражданской войны, там установилось самоуправление. Земли, служившие яблоком раздора между крестьянами и прежними владельцами, стали обрабатываться сообща крестьянами, сгруппированными в «коммуны» и «вольные трудовые Советы». В них царили принципы братства и равенства. Все (мужчины, женщины, дети) должны были работать в меру своих сил. Товарищи, избранные на временные управляющие должности, возвращались по истечении срока к своей привычной работе вместе с другими членами коммуны.
Каждый Совет был только исполнителем воли крестьян в местности, жителями которой он избирался. Производственные единицы на федеративной основе объединялись в рамках уезда, уезды — в рамках губернии. Советы являлись составной частью целостной экономической системы, основанной на социальном равенстве. Они должны были быть целиком и полностью независимыми от какой-либо политической партии. Никакой политик не мог диктовать в них свою волю под прикрытием советской власти. Членами их должны были быть подлинные трудящиеся, служащие исключительно интересам трудовых масс.
Когда партизаны Maхно занимали новые населенные пункты, они развешивали плакаты, гласившие: «Свобода крестьян и рабочих принадлежит им самим и не должна страдать от каких бы то ни было ограничений. Крестьяне и рабочие должны самостоятельно действовать, организовываться, договариваться между собой во всех областях жизни, как они хотят и считают нужным. (…) Махновцы могут лишь помогать им, высказывать свое мнение, давать советы. (…) Но они ни в коем случае не могут и не хотят управлять ими, предписывать им что бы то ни было».
Когда позднее, осенью 1920 г., махновские делегаты заключили недолговечное соглашение с большевистской властью, они настаивали на принятии следующего дополнения: «организация в районе действий махновской армии местным рабоче-крестьянским населением вольных органов экономического и политического самоуправления, их автономия и федеративная (договорная) связь с государственными органами советских республик». Ошеломленные большевистские переговорщики выделили это дополнение из соглашения и связались по этому поводу с Москвой, где, разумеется, оно было сочтено «абсолютно неприемлемым».
Одной из относительных слабостей махновщины была нехватка в ней анархистов-интеллектуалов, но движение отчасти получило неустойчивую поддержку извне. Первоначально помощь пришла из Харькова и Курска, где анархисты, вдохновленные Волиным, в 1918 г. создали конфедерацию «Набат». В 1919 г. они провели съезд, на котором объявили, что они «окончательно и категорически против вхождения» в Советы, превратившиеся «в политические органы (…), покоящиеся на началах власти, государственности, управления и мертвящей централизации сверху». Большевистское правительство расценило это заявление как объявление войны, и «Набат» был вынужден прекратить свою легальную деятельность. Позже, в июле, Волин добрался до ставки Махно и объединился с Петром Аршиновым, чтобы работать в культурно-просветительской комиссии движения. Он председательствовал на съезде, прошедшем в октябре в городе Александровске, где было принято «Общее положение о вольном совете».
В этих съездах принимали участие делегаты от крестьян и участников партизанского движения. Фактически, гражданская организация была расширением крестьянской повстанческой армии, использующей тактику партизанской войны. Эта армия была на редкость мобильна, способна проходить до 100 километров в день, благодаря не только своей коннице, но также и своей пехоте, передвигавшейся на запряженных лошадьми легких повозках с рессорами.[82] Эта армия была организована на либертарных основах добровольчества. Выборное начало было последовательно применено на всех уровнях, а дисциплина была свободно согласованной: правила, устанавливаемые в ней, утверждались общими собраниями партизан и строго соблюдались всеми.
Вольные отряды Махно создали множество проблем вторжению белых армий, в то время как отряды Красной армии большевиков были не очень эффективны. Последние воевали только вдоль железных дорог и никогда не отходили далеко от своих бронепоездов, на которых бежали при первом поражении, порой не принимая на поезд даже всех собственных бойцов. Они внушали мало доверия крестьянам, которые, в отрыве друг от друга, остававшиеся в своих деревнях и лишенные оружия, были в полной власти контрреволюционеров. Аршинов, историк махновщины, писал, что «честь победы над деникинской контрреволюцией осенью 1919 г. принадлежит, главным образом, махновцам».
Но Махно всегда отказывался поставить свою армию под верховное командование Троцкого, руководителя Красной Армии, после того, как Красная гвардия влилась в нее. Тогда великий революционер решил ополчиться против повстанческого движения. 4 июня 1919 г. он издал приказ, запрещавший следующий съезд махновцев, обвиненных в выступлении против Советской власти на Украине. Этот приказ клеймил любое участие в съезде как акт «государственной измены» и предписывал арест делегатов. Так Троцкий впервые подал пример того, что через восемнадцать лет повторят испанские сталинисты в отношении анархистских бригад: он отказал в оружии соратникам Махно, нарушив тем самым свой долг помощи с целью впоследствии обвинить их в «измене» и в том, что они дали Белой армии победить себя.
Эти две армии, однако, пришли к соглашению снова, уже во второй раз, когда чрезвычайная опасность, вызванная интервенцией, потребовала, чтобы они действовали вместе. Впервые это произошло в марте 1919 г. против Деникина, во второй раз — летом и осенью 1920 г. перед угрозой белых сил Врангеля, которые, в конце концов, были уничтожены при активном участии Махно. Но как только критическая опасность миновала, Красная Армия вернулась к военным операциям против партизан Махно, отвечавших ударом на удар.
К концу ноября 1920 г. власти зашли так далеко, что подготовили засаду. Большевики пригласили командиров крымской группы махновцев принять участие в военном совете. Там они были немедленно арестованы ЧК, политической полицией, и расстреляны, в то время как их партизаны были разоружены. Одновременно регулярными войсками было начато наступление на Гуляй-Поле. Все более и более неравная борьба между либертариями и авторитариями продолжалась в течение еще девяти месяцев. Тем не менее, в итоге побежденный превосходящими и лучше экипированными силами Махно вынужден был прекратить борьбу. Он сумел найти убежище в Румынии в августе 1921 г. и впоследствии достиг Парижа, где намного позже умер от болезней и бедности. Это стало концом эпической истории махновщины. По словам Петра Аршинова, махновщина была примером независимого движения рабочих масс и, следовательно, источником вдохновения для рабочих мира.
Кронштадт
В феврале-марте 1921 г. рабочие Петрограда и моряки Кронштадтской крепости подняли восстание, вдохновленные стремлениями весьма похожими на те, что были у революционных крестьян-махновцев.
Вследствие нехватки продовольствия, топлива и транспорта материальные условия городских рабочих стали невыносимы, а любое выражение недовольства подавлялось режимом, который становился все более и более диктаторским и тоталитарным. В конце февраля забастовки вспыхнули в Петрограде, Москве и нескольких других крупных промышленных центрах. Рабочие требовали хлеба и свободы; они шли от одной фабрики к другой, закрывая их, вовлекая все новых людей в свои демонстрации. Власти ответили оружейным огнем, а трудящиеся Петрограда, в свою очередь, митингом протеста, собравшим 10 тысяч рабочих.
Кронштадт — военно-морская база, находящаяся на острове в Финском заливе, покрытом льдом в течение зимы, в тридцати километрах от Петрограда. Ее население составляли моряки и несколько тысяч рабочих, занятых на военно-морских предприятиях. Кронштадтские моряки были в авангарде революционных событий 1905 и 1917 гг. По выражению Троцкого, они были «гордостью и славой русской революции». Гражданское население Кронштадта сформировало свободную коммуну, относительно независимую от властей. Огромная городская площадь в центре крепости служила народным форумом, вмещавшим более 30 тысяч человек.
В 1921 г. моряки, конечно же, не обладали той же самой революционной натурой и тем же самым составом, как в 1917 году.[83] В гораздо большей степени, чем у их предшественников, призыв осуществлялся из крестьянства. Но у моряков оставался воинственный дух и, как следствие их прежних выступлений, матросы помнили о праве принимать активное участие в рабочих митингах в Петрограде. Когда рабочие бывшей столицы забастовали, кронштадтцы послали к ним своих представителей, возвращенных назад силами правопорядка. Во время двух массовых митингов, прошедших на главной площади, моряки приняли требования забастовщиков как свои собственные. На втором митинге, прошедшем 1 марта, шестнадцать тысяч матросов, рабочих и солдат находились вместе с М. Калининым, главой государства, председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК).[84] Несмотря на его присутствие, они приняли резолюцию, требующую созыва в течение следующих десяти дней конференции рабочих, красногвардейцев и моряков Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии, независимой от политических партий. Они также призвали к роспуску политотделов, отмене привилегий для каких бы то ни было политических партий и расформированию коммунистических боевых отрядов в армии и коммунистических отрядов на фабриках.
Вне всякого сомнения, они нападали на существующую монополию на власть правящей партии. Повстанцы Кронштадта смело назвали эту монополию «узурпацией». Позволим разгневанным морякам сказать самим за себя, просмотрев страницы официального издания этой новой Коммуны, кронштадтских «Известий Временного революционного комитета». Коммунистическая партия, присвоившая себе власть, имела, по их мнению, лишь одну заботу: сохранить власть любыми средствами. Коммунистическая партия оторвалась от масс. Она оказалась неспособной вывести деревню из состояния глубокого кризиса. Она потеряла доверие рабочих. Она стала бюрократической. Советы, лишенные власти, были извращены, подчинены, ими манипулировали. Профсоюзы превратились в орудие государства. Всемогущий полицейский аппарат тяготел над людьми, проводя в жизнь волю партии с помощью оружия и террора. Экономическая жизнь стала не обещанным социализмом, основанным на свободном труде, а жестким государственным капитализмом. Трудящиеся были всего лишь наемными работниками этого национального треста, эксплуатируемыми так же, как прежде. Не признающие авторитетов жители Кронштадта дошли до того, что выразили сомнение относительно непогрешимости верховных вождей революции. Они дерзко высмеивали Троцкого и даже Ленина. Их непосредственными требованиями были восстановление всех свобод и свободных выборов во все органы советской демократии, но за этими требованиями скрывались более отдаленные цели с четким анархическим содержанием — «Третья революция».
Восставшие действительно намеревались остаться в русле социальной революции и обязались сохранить ее завоевания. Они объявили, что не имеют ничего общего с желающими «возродить кнут царизма», повстанцы не скрывали своего намерения лишить «коммунистов» власти, чтобы «рабочие и крестьяне вновь не стали рабами». Но при этом они не сжигали всех мостов между собой и режимом, с которым еще надеялись «найти общий язык». Наконец, если они требовали свободу слова, то не для кого попало, а только для искренних сторонников революции: анархистов и «левых социалистов» (формулировка, которая исключала социал-демократов меньшевиков).
Дерзость восставших Кронштадта была слишком большой, и Ленин и Троцкий не могли стерпеть. Большевистские вожди раз и навсегда отождествили революцию с коммунистической партией, и все, что шло вразрез с этим мифом, в их глазах было «контрреволюцией». Большевики увидели опасность для ортодоксии марксизма-ленинизма. Кронштадт напугал большевиков тем более, что они управляли от имени пролетариата, и внезапно их полномочия оспаривались движением, которое, как они знали, было подлинно пролетарским. Вдобавок Ленин отстаивал более чем упрощенную концепцию того, что единственной альтернативой диктатуре его собственной партии была реставрация царизма. Государственные деятели Кремля в 1921 г. приводили такие же доводы, как и их последователи намного позже, осенью 1956 г.: Кронштадт был предшественником Будапешта.[85]
Троцкий, человек с «железным кулаком», взял на себя личную ответственность за подавление восстания. Он объявил «мятежникам»: «Если вы будете упорствовать, вас перестреляют как куропаток!» К морякам отнеслись как к «белогвардейцам», сообщникам интервентов западных держав и «парижской фондовой биржи». Они должны были быть приведены к покорности силой оружия. Анархисты Эмма Гольдман и Александр Беркман,[86] нашедшие убежище на «родине рабочих» после депортации из Соединенных Штатов, тщетно послали письмо Зиновьеву, настаивая на том, что использование силы нанесет «неисчислимый ущерб социальной революции», и заклиная «большевистских товарищей» уладить конфликт через братские переговоры. Петроградские рабочие не могли прийти на помощь Кронштадту, так как сами уже стали жертвой террора в городе, находящемся на военном положении.
Личный состав отправленных на подавление восстания войск был подготовлен из тщательно отобранных солдат, поскольку многие красногвардейцы не желали стрелять в своих братьев по классу. Эти силы были отданы под командование бывшего царского офицера и будущего маршала Тухачевского. Артиллерийский обстрел крепости начался 7 марта. Следуя лозунгу «Пусть знает весь мир!», осажденные жители выпустили последнее обращение: «Стоя по пояс в братской крови трудящихся, кровавый фельдмаршал Троцкий первым открыл огонь по Революционному Кронштадту, восставшему против владычества коммунистов для восстановления подлинной власти Советов». Атакующая сторона преодолела замерзший Финский залив 18 марта и подавила «мятеж» массовыми убийствами.
Анархисты не принимали участие в этом столкновении. Тем не менее, революционный комитет Кронштадта пригласил двух анархистов присоединиться к нему: Е. Ярчука,[87] основателя Кронштадтского Совета в 1917 г., и В. Волина, впрочем, тщетно, поскольку те были к этому времени заключены в тюрьму большевиками. Как отмечает Ида Метт,[88] историк Кронштадтского восстания, анархистское влияние оказывалось на него «лишь в той мере, что анархисты также распространяли идею рабочей демократии». Но, хоть анархисты и не вмешались прямо в это событие, они солидаризовались с ним: «Кронштадт, — писал позднее Волин, — был первой совершенно независимой попыткой народных масс освободиться от ярма и осуществить социальную революцию, решительно и смело предпринятой самими трудящимися без «политических вождей» и наставников». В свою очередь Александр Беркман пишет: «Кронштадт развеял миф пролетарского государства; он доказал, что диктатура коммунистической партии и революция в действительности несовместимы».
Анархизм живой и мертвый
Несмотря на то, что анархисты не участвовали прямо в Кронштадтском восстании, режим не замедлил воспользоваться случаем, подавив восстание, положить конец идеологии, которая продолжала представлять опасность для него. Несколькими неделями ранее, 8 февраля, в России умер старик Кропоткин, и на грандиозные похороны собралось более 100 тысяч человек. Над толпой среди красных флагов можно было увидеть и черные знамена анархистских групп, на которых было написано: «Где власть, там нет свободы». Согласно биографам Кропоткина, это была «последняя большая демонстрация против большевистской тирании», и многие, принявшие участие в ней, больше требовали свободы, нежели славили великого анархиста.
Сотни анархистов были арестованы после Кронштадта, и спустя несколько месяцев анархистка Фанни Барон и восемь ее товарищей были расстреляны в подвале московской тюрьмы ЧК. Радикальный анархизм получил смертельный удар. Но за пределами России анархисты, которые пережили Российскую революцию, проделали титаническую работу по критике и ревизии анархистской доктрины. Эта работа вновь вдохновила либертарную мысль и сделала ее более конкретной. Уже в сентябре 1920 г. съезд Конфедерации анархистов Украины «Набат» категорически отверг выражение «диктатура пролетариата», видя, что это ведет к диктатуре над массами той части пролетариата, которая интегрирована в партию — чиновников и горстки лидеров. Незадолго до смерти Кропоткин опубликовал письмо к трудящимся Западной Европы, в котором с сожалением осудил возвышение ужасающей бюрократии: «Согласно моему взгляду, эта попытка построить коммунистическую республику на основе строго централизованного государственного коммунизма под железным законом партийной диктатуры в конце концов потерпит крах. На России мы учимся, как нельзя вводить коммунизм».
В 1921 г. в выпуске французской газеты «Le Libertaire» за 7–14 января было опубликовано патетическое обращение русских анархо-синдикалистов к мировому пролетариату: «Товарищи, положите конец власти вашей буржуазии, как мы это сделали здесь. Но не повторяйте наших ошибок; не допустите установления государственного коммунизма в ваших странах!». В 1920 г. немецкий анархист Рудольф Роккер,[89] позднее живший и умерший в Соединенных Штатах, написал работу «Банкротство русского государственного коммунизма», которая была издана в 1921 г. Это был первый анализ вырождения Российской революции. С его точки зрения, пресловутая «диктатура пролетариата» не была выражением воли одного класса, но была диктатурой партии, претендующей говорить от имени класса и держащейся у власти силой штыков. «Под названием «диктатуры пролетариата» в России развился новый класс, комиссарократия, который угнетает широкие массы так же, как это делал старый режим». Систематическое подчинение всех аспектов общественной жизни всесильному правительству, обеспеченному всеми прерогативами, «не могло не привести в конце концов к иерархии чиновников, которая стала губительной для развития Российской революции. Большевики не только позаимствовали модель государственного аппарата у предшествующего режима, но получили всеохватывающую власть, какую не присваивало себе ни одно другое правительство».
В июне 1922 г. группа русских анархистов, находящихся в изгнании в Германии, опубликовала небольшую разоблачительную книгу, подписанную именами А. Горелика, А. Комова[90] и В. Волина, — «Гонения на анархизм в Советской России». Волин сделал французский перевод, который появился в начале 1923 г. Книга содержала алфавитный список мучеников российского анархизма. В 1921–1925 гг. Александр Беркман и Эмма Гольдман опубликовали ряд брошюр о драматических событиях, свидетелями которых они оказались в России.[91]
В свою очередь спасшиеся махновцы, получившие убежище на Западе, Петр Аршинов и сам Нестор Махно, обнародовали свои свидетельства.[92]
Два великих либертарных классических труда о Российской революции, «Гильотина за работой. Двадцать лет террора в России» Г. П. Максимова и «Неизвестная революция» Волина,[93] вышли много позже, во время Второй мировой войны. Они были написаны с завершенностью мысли, ставшей возможной благодаря прошедшим годам.
Максимову, чей отчет появился в Америке, уроки прошлого принесли уверенную надежду на лучшее будущее. Новый правящий класс в СССР не может быть и не будет вечным, и в скором будущем либертарный социализм победит. Объективные условия двигают его развитие вперед: «Разве это возможно… чтобы рабочие хотели возвращения капиталистов на их предприятия? Никогда! Потому что они восстали именно против государства и его бюрократии». Чего рабочие хотят, так это замены авторитарного управления производством их собственными фабричными советами и объединения этих советов в обширную народную федерацию. Чего они хотят, так это рабочего самоуправления. Точно так же, крестьяне понимают, что не может быть поставлен вопрос о возврате к индивидуалистической экономике. Коллективное хозяйство — единственное решение вместе с сотрудничеством сельских общин и фабричных советов, и профсоюзов: короче говоря, дальнейшее развитие программы Октябрьской революции заключается в полной свободе.
Волин решительно утверждал, что любой эксперимент по российской модели может привести только к «государственному капитализму, худшему варианту капитализма, который не имеет абсолютно ничего общего с путем человечества к социалистическому обществу». Эта модель способствует диктатуре единственной партии, что неизбежно ведет к подавлению свободы слова, прессы, объединений и действий, даже для революционных течений, с единственным исключением для партии власти, и к «социальной инквизиции», которая душит «самый дух революции». Волин утверждал, что Сталин «не свалился с луны»: Сталин и сталинизм, с его точки зрения, есть логическое следствие авторитарной системы, основанной и установившейся между 1918 и 1921 гг. «Таков главный урок грандиозного и решающего большевистского эксперимента: урок, который блестяще подтвердил либертарный принцип и вскоре, в свете событий, станет понятен всем, кто терпит лишения, страдает, думает и борется».
Анархизм в итальянских рабочих советах
После революционных событий в России, сразу же после Первой мировой войны, итальянские анархисты шли в течение некоторого времени рука об руку со сторонниками власти Советов. Российская революция вызвала глубокий отклик у итальянских трудящихся, в частности, у их авангарда, металлургов севера Италии. 20 февраля 1919 г. Итальянская федерация рабочих металлургов добилась заключения соглашения, предусматривавшего выборы «внутренних комиссий» на предприятиях. В дальнейшем она пыталась преобразовать эти органы рабочего представительства на предприятиях в заводские советы управленческого толка, проведя целую серию забастовок с занятием заводов.
Поводом к последней из забастовок, состоявшейся в конце августа 1920 г., был локаут, объявленный хозяевами предприятий. Металлурги решили сообща продолжать производство своими собственными силами. Они попытались поочередно, с помощью убеждения и принуждения, договориться о сотрудничестве с инженерами и мастерами, но безуспешно. Управление фабриками, таким образом, пришлось осуществлять техническим и административным рабочим комитетам. Самоуправление продержалось довольно долгое время: первоначально рабочие получили помощь от банков, а когда затем в ней было отказано, они выпустили свои собственные деньги, чтобы платить рабочим заработную плату. Поддерживалась очень строгая дисциплина, был запрещен алкоголь и организованы вооруженные патрули для самообороны. Между самоуправляемыми предприятиями установилась очень тесная связь и солидарность. Руда и уголь складывались в общее хранилище и распределялись по справедливости.
Но на этой стадии требовалось либо расширить движение, либо отступить. Реформистское крыло профсоюзов пошло на компромисс с хозяевами. Прошло чуть более трех недель оккупационной стачки, и рабочим пришлось освободить заводы в обмен на обещание введения рабочего контроля, которое, впрочем, не было выполнено хозяевами. Революционное крыло движения, левые социалисты и анархисты, кричали об измене, но тщетно.
Это левое крыло располагало теорией, печатным органом, рупором. Первый номер еженедельника «Ордине нуово» («Ordine Nuovo», «Новый строй») вышел в Турине 1 мая 1919 г. Его редактором был левый социалист Антонио Грамши, помогали ему профессор философии Туринского университета, исповедовавший анархистские идеи и писавший под псевдонимом Карло Петри, а также ядро туринских либертариев. На заводах группа «Ордине нуово» опиралась, в частности, на двух ведущих анархо-синдикалистских активистов в металлургической отрасли, Пьетро Ферреро и Маурицио Гарино. Манифест «Ордине нуово» был подписан совместно социалистами и либертариями, которые сошлись на том, что рассматривали фабричные советы как «органы, подходящие для будущего коммунистического управления как отдельными фабриками, так и обществом в целом».
Группа «Ордине нуово» стремилась заменить классический, традиционный синдикализм структурой заводских советов. Она была отнюдь не враждебна по отношению к синдикатам, которые считала «крепкими позвонками большого пролетарского тела», но критиковала, на манер Малатесты в 1907 г., упадок бюрократического и реформистского профсоюзного движения, ставшего неотъемлемой частью капиталистического общества. Она изобличала органическую неспособность профсоюзов играть роль орудий пролетарской революции.
С другой стороны, «Ордине нуово» приписывала рабочим советам все мыслимые достоинства. Она рассматривал их как органы, объединяющие рабочий класс, единственные органы, которые могут поднять рабочих выше узких интересов разных отраслей и связать «организованных» в профсоюзы рабочих с «неорганизованными».
Она приписывала советам заслугу формирования психологии производителя и подготовки трудящегося к самоуправлению. Благодаря советам самый простой рабочий мог понять, что захват предприятия есть конкретная, доступная ему перспектива. Советы расценивались как прообраз социалистического общества.
Итальянские анархисты обладали более реалистичным складом ума и были менее многословны, чем Антонио Грамши, поэтому иногда они не отказывали себе в том, чтобы иронически прокомментировать драматургические излишества его проповедей в пользу рабочих советов. Разумеется, они были осведомлены о достоинствах рабочих советов, но все же не были склонны гиперболизировать их. Грамши осуждал реформизм профсоюзов, не без причины конечно, но анархо-синдикалисты указывали, что в нереволюционный период рабочие советы также могут выродиться в органы классового сотрудничества.
Те из них, кто являлся наибольшими приверженцами синдикализма, считали также несправедливым, что «Ордине нуово» одинаково резко клеймила реформистский синдикализм и синдикализм революционный, исповедуемый их профсоюзным объединением, Итальянским синдикальным союзом (ИСС).[94]
Наконец, и это самое главное, анархисты в некоторой мере были встревожены двусмысленным и внутренне противоречивым толкованием, которое «Ордине нуово» давала прототипу рабочих советов — российским Советам. Конечно, перо Грамши часто выводило эпитет «либертарный», он ломал копья в баталиях с закоснелым авторитарием Анджело Таской, предлагавшим недемократическую концепцию «диктатуры пролетариата», которая сводила роль рабочих советов к простому инструменту коммунистической партии, при этом размышления Грамши клеймились как «прудонистские». Но Грамши был недостаточно хорошо осведомлен о событиях в России, чтобы видеть разницу между свободными Советами первых месяцев революции и прирученными Советами большевистского государства. В силу этого его формулировки были двусмысленными. Он усматривал в рабочих советах «модель пролетарского государства», которое, по его представлениям, должно было стать частью мировой системы — Коммунистического Интернационала. Он силился примирить большевизм с постепенным отмиранием государства и демократической интерпретацией «диктатуры пролетариата».
Итальянские анархисты поначалу приветствовали российские Советы с энтузиазмом, лишенным критического духа. 1 июня 1919 г. один из них, Камилло Бернери,[95] опубликовал статью, озаглавленную «Автодемократия», прославлявшую большевистский режим как «наиболее практический эксперимент всеобщей демократии в невиданном до сих пор масштабе» и «антитезис централизаторскому государственному социализму». Однако год спустя, на конгрессе Итальянского союза анархистов, Маурицио Гарино держал совсем иную речь: Советская власть, установленная в России большевиками, по своей природе противоположна рабочему самоуправлению, как его понимают анархисты. Она «формирует базу для нового государства, неизбежно централизованного и авторитарного».
В дальнейшем пути итальянских анархистов и сторонников Грамши разошлись. Последние заявили, что социалистическая партия, как и профсоюзы, есть организация, интегрировавшаяся в буржуазную систему, и, следовательно, не только не необходимо, но и не обязательно вступать в нее (правда, они сделали «исключение» для коммунистических групп внутри соцпартии, которые позднее, после раскола в Ливорно 21 января 1921 г., образовали Итальянскую коммунистическую партию, вошедшую в Коминтерн).
Итальянским же анархистам пришлось расстаться с некоторыми из своих иллюзий и вспомнить о том, что летом 1919 г. в письме из Лондона Малатеста предостерегал их от «нового правительства, установившегося [в России] над революцией, чтобы затормозить ее и подчинить частным целям одной партии (…) или, скорее, руководителей одной партии». Эта диктатура, — провидчески утверждал старый революционер, — «с ее декретами, карательными санкциями, исполнителями и, сверх того, вооруженными силами, которые должны служить для защиты революции от внешних врагов, но завтра будут служить для того, чтобы навязать трудящимся волю диктаторов, остановить ход революции, укрепить и упрочить новые интересы и защищать от масс новый привилегированный класс. Ленин, Троцкий и их соратники являются, конечно, искренними революционерами, но они готовят правительственные кадры, которые послужат тем, кто придет после них, чтобы воспользоваться революцией и убить ее. Они сами будут первыми жертвами своих собственных методов».
Два года спустя Итальянский союз анархистов собрался на съезд в Анконе 2–4 ноября 1921 г. и отказался признать российское правительство в качестве представителя революции, вместо этого осудив его как «главного врага революции», «угнетателя и эксплуататора пролетариата, от имени которого оно якобы осуществляет власть». В том же году либертарный писатель Луиджи Фаббри[96] приходит к следующему заключению: «Критическое изучение Российской революции имеет огромное значение (…), потому что западные революционеры смогут упорядочить свои действия с целью по возможности избежать ошибок, на которые российский опыт пролил свет».
Анархизм в Испанской революции
Советский мираж
Отставание субъективного сознания относительно объективной реальности — одна из констант истории. Урок, вынесенный российскими анархистами и свидетелями российской трагедии начиная с 1920 г., стал известен другим и признан ими лишь несколько лет спустя. Ореол первой победоносной пролетарской революции в одной шестой части света был таким ярким, что международное рабочее движение долгое время оставалось зачарованным этим чудесным примером. По образу российских Советов повсюду зародились «Советы» — не только в Италии, как можно увидеть из предыдущей главы, но также в Германии, Австрии, Венгрии. В Германии система Советов явилась основным пунктом программы «Союза Спартака» Розы Люксембург и Карла Либкнехта.
В 1919 г. в Мюнхене, после убийства Курта Эйснера, министра-президента Баварской республики, была провозглашена Баварская советская республика, в правительство которой вошел, в том числе, анархистский писатель Густав Ландауэр, позднее также, в свою очередь, убитый контрреволюционерами. Его друг и соратник, анархистский поэт Эрих Мюзам,[97] написал «Марсельезу Советов», в которой рабочие призывались к оружию, но не для того, чтобы образовывать батальоны, а для того, чтобы образовать Советы по образцу Советов России и Венгрии и покончить со старым многовековым миром рабства.
Но в сентябре 1920 г. германская оппозиционная группа, ратовавшая за «коммунизм Советов» (Rate-Kommunismus), отделилась от Коммунистической партии Германии и образовала Коммунистическую рабочую партию Германии (КАПД). Идея Советов вдохновляла и подобную группу в Голландии, возглавляемую Германом Гортером и Антоном Паннекуком. Первый, в ходе острой полемики с Лениным, не побоялся возразить, в чисто анархистском духе, непогрешимому вождю Российской революции: «Мы все еще в поисках истинных вождей, не стремящихся господствовать над массами и не предающих их, и пока мы их не найдем, мы хотим, чтобы все происходило снизу вверх, в силу диктатуры самих масс. Если мой проводник в горах ведет меня к пропасти, лучше его не иметь вовсе». Второй провозгласил, что Советы были формой самоуправления, которая могла бы заменить правительства старого мира; так же, как Грамши, он не проводил разницы между ними и «большевистской диктатурой».
Во многих местах, в частности, в Баварии, Германии, Голландии, анархисты принимали деятельное участие в теоретическом и практическом становлении системы Советов.
В Испании анархо-синдикалисты были не меньше других ослеплены Октябрьской революцией. На Мадридском конгрессе Национальной конфедерации труда (10–20 декабря 1919 г.) была принята резолюция, в которой говорилось, что «эпопея русского народа воодушевила всемирный пролетариат». Единодушно, «без малейшего колебания, подобно девушке, отдающейся своему возлюбленному», съезд проголосовал за временное вступление в Коммунистический Интернационал по причине его революционного характера, выразив при том пожелание созыва всемирного рабочего съезда, который определит основы, на которых будет создан истинный Интернационал трудящихся. Однако диссонансом прозвучали несколько робких голосов: Российская революция есть революция «политическая» и не воплощает либертарный идеал. Съезд с ними не посчитался. Он принял решение направить делегацию на II конгресс Третьего Интернационала, открывшийся в Москве 15 июля 1920 г.
Но ко времени конгресса эта любовная связь была уже на грани разрыва. Делегата, представляющего испанских анархо-синдикалистов, пытались заставить принять участие в организации Интернационала революционных профсоюзов, но он воспротивился, когда ему предложили текст, который призывал к «завоеванию политической власти», «диктатуре пролетариата» и предполагал органическое взаимодействие между профсоюзами и коммунистическими партиями, которое тонко маскировало под словом «взаимодействие» подчинение первых последним. На последующих заседаниях Коминтерна профсоюзные организации разных стран были представлены делегатами от коммунистических партий соответствующих стран, а предполагаемый Красный Интернационал профсоюзов открыто контролировался Коминтерном и его национальными секциями. Представитель испанской делегации Анхель Пестанья воскликнул после того, как изложил либертарную концепцию социальной революции: «Революция не есть и не может быть делом партии. Партия способна в любой момент устроить государственный переворот. Но государственный переворот не есть революция». И в заключение добавил: «Вы говорите нам, что без коммунистической партии революция произойти не может, что без завоевания политической власти никакое освобождение невозможно, и что без диктатуры вы не можете уничтожить буржуазию: все это лишь беспочвенные утверждения».
После возражений делегата НКТ коммунисты сделали вид, что исправят резолюцию в отношении «диктатуры пролетариата». В конечном счете, Лозовский, тем не менее, опубликовал текст резолюции в первоначальном виде, без изменений, предложенных Пестаньей, но с его подписью. Троцкий с трибуны в течение часа громил испанского делегата, а когда тот попросил дать ему возможность ответить на нападки, председательствующий объявил прения закрытыми.
Проведя несколько месяцев в Москве, Пестанья покинул Россию 6 сентября 1920 г., глубоко разочарованный всем увиденным. Рудольф Роккер, к которому он приезжал в Берлин, рассказывает, что тот был похож на «потерпевшего кораблекрушение». Ему не хватило мужества, чтобы открыть правду своим испанским товарищам. Разрушить огромные надежды, зарожденные в них Российской революцией, казалось ему подобным жестокому убийству. Сразу же по возвращении в Испанию он был брошен в тюрьму и поэтому избежал тяжкой обязанности говорить первым.
Летом 1921 г. новая делегация НКТ приняла участие в III конгрессе Коммунистического Интернационала, а также в учредительном съезде Красного Интернационала профсоюзов. Среди делегатов НКТ были молодые неофиты, обращенные в русский большевизм, как, например, Хоакин Маурин и Андрес Нин,[98] а также французский анархист Гастон Леваль, обладавший холодным умом. Рискуя быть обвиненным в том, что он «льет воду на мельницу буржуазии» и «помогает контрреволюции», последний предпочел не молчать. Не рассказать массам, что победителем в России оказалась не революция, а государство, не «показать им за спиной живой революции государство, парализующее и убивающее ее», было гораздо хуже, чем молчание. Именно в таких словах изложил он это во Франции в газете «Le Libertaire» в ноябре 1921 г. Вернувшись в Испанию и считая, что «любое честное и лояльное сотрудничество» с большевиками невозможно, он порекомендовал НКТ аннулировать свое членство в Третьем Интернационале и в ее якобы профсоюзном филиале.
Таким образом, опереженный Пестанья решился опубликовать свой первый отчет и дополнить его затем вторым, где он открывал правду о большевизме:
«Принципы коммунистической партии прямо противоположны тому, что она утверждала и провозглашала в первые часы революции. Российская революция и коммунистическая партия по своим принципам, средствам, методам и конечным целям диаметрально противоположны. (…) Коммунистическая партия, став абсолютным хозяином власти, постановила, что тот, кто не думает по-коммунистически («коммунистически», разумеется, на ее собственный манер), не имеет права думать. (…) Коммунистическая партия отторгла у пролетариата все святые права, данные ему революцией».
Пестанья ставит под сомнение правомочность Коммунистического Интернационала: являясь простым продолжением Российской коммунистической партии, он не может представлять революцию в глазах мирового пролетариата.
Национальный съезд НКТ в Сарагоссе в июне 1922 г., которому и предназначался этот отчет, решил выйти из Третьего Интернационала или, точнее, из его профсоюзного суррогата, Красного Интернационала профсоюзов, и направить делегатов на международную анархо-синдикалистскую конференцию, состоявшуюся в Берлине в декабре того же года, из которой родилась Международная Ассоциация Трудящихся (МАТ). Слово «международная» в названии носило призрачный характер, поскольку кроме крупного испанского профобъединения из других стран в нее вошли очень малые силы.
Этот разрыв породил ярую ненависть Москвы к испанскому анархизму. Подвергнувшись нападкам со стороны НКТ, Хоакин Маурин и Андрес Нин вышли из нее и образовали Коммунистическую партию Испании (КПИ). В мае 1924 г. Маурин в одной из своих брошюр объявил смертельную войну своим прежним товарищам: «Окончательное уничтожение анархизма — трудная задача в стране, где рабочее движение в течение полувека подвергалось анархистской пропаганде. Но мы их уничтожим».
Анархическая традиция в Испании
Итак, испанские анархисты очень быстро извлекли урок из Российской революции, что способствовало более интенсивной подготовке ими противоположной ей революции. Упадок и вырождение «авторитарного» коммунизма усилили их стремление к торжеству коммунизма либертарного. Жестоко разочаровавшись в советском мираже, они усмотрели в анархизме, как писал позднее Сантильян, «последнюю надежду на возрождение в этот мрачный период».
Либертарная революция была более или менее подготовлена в сознании народных масс, равно как и в мысли либертарных теоретиков. Анархо-синдикализм был, как отмечает Хосе Пейратс,[99] «в силу своей психологии, своего темперамента и своих реакций, самым испанским сектором во всей Испании». Он был двойственным продуктом сложного происхождения. Он соответствовал одновременно отсталому состоянию слаборазвитой страны, в которой условия сельской жизни оставались архаичными, и развитию в некоторых ее областях современного пролетариата, порожденного индустриализацией. Оригинальность испанского анархизма заключалась в своеобразной смеси пассеизма [ухода в прошлое] и футуризма. Симбиоз этих двух тенденций был далек от совершенства.
В 1918 г. НКТ насчитывала более миллиона членов. В промышленности она была сильна в Каталонии и, гораздо меньше, в Мадриде и Валенсии; но ее корни не менее глубоко проникали в села, к бедным крестьянам, где была жива еще традиция сельской коммуны с примесью местных особенностей, обычаев и духа взаимопомощи. Писатель Хоакин Коста составил в 1898 г. опись пережитков и наследия этого «аграрного коллективизма». Во многих деревнях еще существовали земли, находившиеся в общинной собственности, которые предоставлялись безземельным крестьянам или которые использовались совместно с другими деревнями под общие пастбища или другие «коммунальные» нужды. В регионах, где господствовали крупные землевладельцы, в частности, на юге страны, сельскохозяйственные поденные рабочие предпочитали обобществление земли ее разделу.
Кроме того, аграрный коллективизм был подготовлен многими десятилетиями анархистской пропаганды в деревне, например, с помощью популярных брошюрок Хосе Санчеса Роса. НКТ имела большое влияние, в частности, среди крестьян юга (Андалусия), востока (район Леванта, близ Валенсии) и северо-востока (Арагон, вокруг Сарагосы).
Этот двойной — промышленный и сельский — фундамент испанского анархо-синдикализма направил «либертарный коммунизм», к коему причисляли себя анархо-синдикалисты, по двум несколько расходящимся направлениям: коммунитарному и синдикалистскому. Коммунитаризм имел более сепаратистский и более сельский характер, можно даже сказать, более южный, поскольку одним из основных его бастионов являлась Андалусия. Синдикализм был более интеграционистским, более городским, а также более северным, поскольку основным его очагом была Каталония. Теоретики анархизма несколько колебались, и мнения их по этому вопросу разделялись.
У одних, отдавших свое сердце Кропоткину и его эрудированной, но наивной и упрощенной идеализации средневековых общин, отождествляемых с испанской традицией примитивной крестьянской общины, не сходил с уст лозунг «свободной коммуны». Различные практические попытки либертарного коммунизма имели место во время крестьянских восстаний, последовавших за установлением республики в 1931 г. По взаимному и свободному соглашению группы мелких крестьян-землевладельцев решили работать сообща, делить прибыли на равные части и брать предметы потребления «из общего котла». Они свергли местные муниципалитеты и заменили их выборными комитетами. Они наивно считали, что освободились от окружающего общества, налогов и военной повинности.
Другие, причислявшие себя к традиции Бакунина, способствовавшего возникновению в Испании рабочего коллективистского, синдикалистского и интернационалистского движения, и его ученика Рикардо Мельи, были заняты скорее настоящим, чем «золотым веком», и были большими реалистами. Они стремились к экономической интеграции и считали разумным на довольно длительный переходный период установить вознаграждение в зависимости от фактических часов работы, а не устанавливать распределение по потребностям. В комбинации локальных профсоюзов и отраслевых промышленных федераций они усматривали экономическую структуру будущего.
Однако в НКТ на протяжении долгого времени преобладали местные профсоюзы (sindicаdos unicos), наиболее близкие к рядовым труженикам, лишенные корпоративного эгоизма и бывшие одновременно материальным и духовным домом для пролетариев. Они более или менее смешали в умах простых членов профсоюзов понятия «профсоюза» и «коммуны».
Еще одна проблема разделяла испанских анархо-синдикалистов, повторяя на практике теоретический диспут, имевший место на международном анархистском конгрессе в 1907 г. и противопоставивший синдикалистов анархистам. В НКТ повседневная борьба за свои права и в защиту своих требований породила реформистскую тенденцию, перед лицом которой Федерация анархистов Иберии (ФАИ), основанная в 1927 г., взяла на себя миссию защищать целостность анархистской доктрины. В 1931 г. синдикалистское крыло выпустило так называемый «Манифест тридцати», в котором оно восставало против «диктатуры» меньшинств в синдикалистском движении, провозглашало независимость синдикализма и его притязание обходиться собственными силами. Некоторое число профсоюзов вышло из НКТ, и если раскол все же был предотвращен в канун июльской революции 1936 г., реформистское крыло продолжало настаивать на своем в профсоюзном объединении.
Идейный багаж
Испанские анархисты последовательно издавали на испанском языке все важнейшие и даже второстепенные работы международной анархической мысли. Тем самым они спасли от забвения, а подчас даже от уничтожения, традиции одновременно революционного и свободного социализма. Как писал Аугустин Сухи, немецкий анархо-синдикалист, посвятивший себя испанскому анархизму: «На собраниях профсоюзов и групп, в их газетах, брошюрах и книгах, проблема социальной революции обсуждалась непрестанно и систематическим образом».
Сразу же после провозглашения в Испании республики в 1931 г. появился богатый урожай «предвосхищающих» работ: Пейратс приводит далеко неполный, как он сам говорит, перечень из примерно пятидесяти произведений и подчеркивает, что эта «навязчивая идея революционного созидания», выразившаяся в распространении большого количества книг, во многом способствовала открытию для народа пути к революции. Так, брошюра Джеймса Гильома «Размышления о социальной организации» (1887) стала известна испанским анархистам по большим заимствованиям из нее Пьера Бенара в его книге «Рабочие синдикаты и социальная революция», вышедшей в Париже в 1930 г. В 1931 г. Гастон Леваль опубликовал в Аргентине, куда он эмигрировал, «Экономические проблемы испанской революции», непосредственно вдохновившие значительный труд Диего Абада де Сантильяна, о котором речь пойдет несколько ниже.
В 1932 г. доктор Исаак Пуэнте, сельский врач, возглавивший через год повстанческий комитет в Арагоне, опубликовал несколько наивный и идеалистический «Программный очерк либертарного коммунизма», идеи которого были приняты 1 мая 1936 г. Сарагосским съездом НКТ.
Сарагосская программа 1936 г. определяла механизмы прямой демократии в деревне с замечательной точностью. Совет коммуны должен был избираться на общем собрании жителей, а также формироваться из представителей различных технических комитетов. Общие собрания должны были созываться так часто, как этого требовали интересы коммуны, по запросу технических комитетов или прямому требованию самих жителей. Различные ответственные должности не должны были носить руководящего либо бюрократического характера. Должностные лица (за исключением некоторых технических специалистов и статистиков) должны были параллельно исполнять свои производственные обязанности так же, как и все остальные, встречаясь в конце рабочего дня для обсуждения второстепенных деталей, не требующих утверждения общими собраниями.
Рабочие должны были получить удостоверение производителя, в котором записывалось бы количество выполненного труда, оцененного в днях, которое затем обменивалось на товары. Нетрудоспособные должны были просто получить потребительские карточки. Никаких абсолютных норм не было: автономия коммун должна была уважаться. Если бы коммуны сочли это необходимым, то они могли установить иную систему внутреннего обмена, при условии, конечно, что та никоим образом не затрагивала интересы других коммун. Право на коммунальную автономию в то же время не освобождало от долга коллективной солидарности в рамках местных и региональных федераций коммун.
Одним из главных вопросов для участников Сарагосского конгресса был вопрос о духовной культуре. На протяжении всей жизни каждому должен был быть обеспечен доступ к науке, искусству и всевозможным исследованиям при условии, что все это совмещалось с участием человека в производстве материальных благ. Осуществление такой параллельной деятельности обеспечило бы равновесие и здоровье человеческой натуры. Общество больше не должно было быть разделенным на работников физического и умственного труда: все должны были быть одновременно и теми, и другими. Окончив свой дневной труд в качестве производителя, человек оставался бы абсолютным хозяином собственного свободного времени. НКТ предвидела, что нематериальные потребности начали бы выражаться в гораздо более развитой форме, как только освобожденным обществом были бы удовлетворены материальные нужды.
На протяжении долгого времени испанские анархо-синдикалисты стремились к сохранению автономии так называемых «аффинити-групп».[100] В их рядах было много приверженцев натуризма[101] или вегетарианства, особенно среди бедных крестьян юга. Оба эти образа жизни считались способными преобразовать человека и подготовить его к либертарному обществу. Участники Сарагосского конгресса НКТ не забыли рассмотреть вопрос о судьбе групп натуристов и нудистов, «не подчиняющихся индустриализации». Конгресс решил, что если такие группы не могли удовлетворить все свои потребности по причине нехватки чего-либо, их делегаты на встречах конфедерации могли бы достичь экономических договоренностей с другими сельскохозяйственными и промышленными коммунами. Не вызывает ли это улыбку? Накануне грандиозных и кровопролитных социальных преобразований НКТ не считала глупым пытаться учесть бесконечно разнообразные устремления отдельных людей.
Что касается преступления и наказания, Сарагосский конгресс придерживался идей Бакунина, утверждавшего, что социальное неравенство является главной причиной совершаемых преступлений, и, следовательно, если исчезнут причины, порождающие преступления, то в большинстве случаев перестанут существовать и сами преступления. Конгресс подтверждал, что человек не является плохим от природы. Проступки отдельных личностей как нравственные, так и касающиеся производства, должны рассматриваться на народных ассамблеях, которые в каждом конкретном случае постараются найти справедливое решение.
Либертарный коммунизм не признает иных исправительных методов кроме превентивных, профилактических, взятых из арсенала медицины и педагогики. Если какая-то личность, будучи жертвой патологических явлений, наносит ущерб гармонии, которая должна царить среди людей, ее неуравновешенность подвергается лечению, а одновременно с этим в ней стремятся стимулировать нравственные чувства и социальную ответственность. В качестве средства от эротических страстей, которые выходят за рамки уважения свободы других, Сарагосский съезд предлагал «смену обстановки», считая это средство эффективным как против болезней тела, так и против любовной болезни. Профсоюзное объединение, однако, сомневалось в том, что обострение таких «исступлений» могло произойти в условиях сексуальной свободы.
Когда в мае 1936 г. съезд НКТ принимал Сарагосскую программу, никто, конечно, не рассчитывал, что уже через два месяца пробьет час ее воплощения на практике. В действительности, социализация земли и промышленности, последовавшая за победой революции 19 июля, в значительной степени отклонилась от этой идиллической программы. Хотя слово «коммуна» встречалось в каждой ее строке, для социалистических производственных групп был вскоре принят термин «коллективы». Это был не просто вопрос терминологии: создатели испанского самоуправления многое почерпнули и из другого источника.
Действительно, проект экономической структуры, представленный за два месяца до конгресса в Сарагосе Диего Абадом де Сантильяном в его книге «Экономический организм революции», был совсем иным.
Сантильян не был, как многие другие, бесплодным и строгим эпигоном великих анархистов XIX века. Он сожалел, что анархистская литература двадцати пяти — тридцати последних лет столь мало занималась конкретными проблемами новой экономики и не открыла оригинальных перспектив для будущего, в то время как на всех языках анархизм породил изобилие трудов, в которых концепция свободы обсуждалась исключительно абстрактным образом. В сравнении с этими неудобоваримыми произведениями, ему представлялись блестящими доклады, сделанные на национальных и международных конгрессах Первого Интернационала. В них, отмечал Сантильян, можно найти гораздо более глубокое понимание экономических проблем, чем в последующие периоды.
Сантильян не был человеком отсталым, он был человеком своего времени. Он знал, что «бурное развитие современной промышленности создало целый ряд новых задач, предвидеть которые в прошлом было невозможно». Нет никаких сомнений в невозможности возвращения к римским колесницам или примитивным формам ремесленного производства. Экономическая обособленность, местечковое мышление, «малая родина», дорогая сердцам многих испанских крестьян, ностальгирующих по золотому веку, маленькие средневековые «вольные коммуны» Кропоткина — все это должно быть сдано в музей древностей. Все это остатки устаревших общинных концепций.
С экономической точки зрения не может существовать никаких «вольных коммун»: «Наш идеал — коммуна ассоциированная, являющаяся частью федерации, интегрированная в общую экономику страны и других территорий, присоединившихся к революции». Коллективизм, самоуправление не есть замена частной собственности одним многоголовым владельцем. Земля, фабрики, шахты, транспортные средства являются продуктами труда всех и поэтому должны служить всем. В наше время экономика не может быть ни местной, ни даже национальной, но только мировой. Характерной чертой современной жизни является слияние всех производительных и распределительных сил. «Обобществленная экономика, управляемая и планируемая, является настоятельной необходимостью и соответствует тенденциям развития современного экономического мира».
Для выполнения функции координации и планирования Сантильян предусматривает Федеральный экономический совет, не имеющий политической власти, но представляющий собой простой координационный орган, осуществляющий экономическое и административное регулирование. Он получает директивы снизу, от заводских советов, объединенных одновременно в синдикальные советы по отраслям промышленности и в местные экономические советы. Федеральный совет, таким образом, это итоговое звено приема указаний от двух цепочек органов, основанных на территориальном и на производственном принципе. Низовые органы предоставляют ему статистику, что позволяет в любой момент быть в курсе действительной экономической ситуации. Таким образом, он может выявить основные недостатки, области, в которых необходимо неотложно развивать новые отрасли промышленности или новые зерновые культуры. «Жандарма более не потребуется, когда верховная власть будет заключаться в цифрах, в статистике». Государственное принуждение в такой системе неэффективно, оно бесплодно и даже невозможно. Федеральный совет следит за распространением новых норм, взаимодействием регионов, за укреплением общенациональной солидарности. Он стимулирует поиск новых методов работы, новых производственных и сельскохозяйственных технологий. Он распределяет рабочую силу между различными регионами и отраслями экономики.
Нет сомнения, что Сантильян многому научился у Российской революции. С одной стороны, она научила его остерегаться опасности возрождения государственного и бюрократического аппарата, но, с другой, научила тому, что победоносная революция не может избежать прохождения через промежуточные экономические формы,[102] в которых какое-то время продолжает существовать то, что Маркс и Ленин называли «буржуазным правом». Например, не может идти и речи об отмене банковской и денежной системы одним махом. Эти учреждения должны быть преобразованы и использованы в качестве временного средства для организации обмена, чтобы обеспечить функционирование жизни общества и подготовить путь к новым экономическим формам.
Сантильян сыграл важную роль в Испанской революции: он был, последовательно, членом Центрального комитета антифашистской милиции (с конца июля 1936 г.), членом Экономического совета Каталонии (с 11 августа) и министром экономики правительства Каталонии (с середины декабря).
«Аполитичная» революция
Итак, Испанская революция в достаточной мере созрела как в головах либертарных мыслителей, так и в народном сознании. Поэтому не вызывает удивления, что испанские правые восприняли победу Народного фронта на выборах в феврале 1936 г. именно как начало революции. И действительно, массы, не медля, расширили слишком узкие рамки победы, принесенной выборами. Презирая правила парламентской игры, они не дожидались даже образования нового правительства, чтобы освободить заключенных. Крестьяне перестали платить арендные платежи землевладельцам, сельскохозяйственные работники захватили землю и начали ее обрабатывать, сельские жители избавились от своих муниципалитетов и установили самоуправление, железнодорожники вышли на забастовку, требуя национализации железных дорог. Строительные рабочие Мадрида потребовали введения рабочего контроля, что являлось первым шагом к социализации.
Военные под руководством генерала Франко ответили путчем на эти симптомы революции. Но тем самым они только поспособствовали развитию революции, которая фактически уже началась. В частности, в Мадриде, Барселоне, Валенсии, почти в каждом крупном городе, за исключением Севильи, народ перешел в наступление, осадил казармы, строил баррикады на улицах и занимал стратегические пункты. Повсеместно рабочие откликнулись на призыв своих профсоюзов. С полным презрением к смерти, с открытой грудью и голыми руками поднялись они в атаку против франкистских бастионов. Им удалось захватить вражескую артиллерию. Они вовлекали солдат в свои ряды.
Благодаря этому народному порыву, военный путч был остановлен в течение первых двадцати четырех часов. После этого стихийно началась социальная революция, неравномерно развивавшаяся в различных городах и регионах. Нигде она не достигла такой безудержной стремительности, как в Каталонии и, в частности, в Барселоне. Когда вновь образованные власти оправились от удивления, то обнаружили, что их попросту больше не существует. Все указывало на то, что существование государства, полиции, армии, администрации утратило свой смысл. «Гражданская гвардия» (Guardia civil) была разогнана или ликвидирована, победившие рабочие самостоятельно обеспечивали порядок. Самой неотложной задачей стало обеспечение продовольствием: комитеты распределяли продукты питания на баррикадах, превращенных в лагеря, а позже открыли общественные столовые. Квартальные комитеты организовали администрацию, а военные комитеты — отправку рабочей милиции на фронт. Народные дома превратились в настоящие муниципалитеты. Это уже была не просто «защита республики» от фашизма, это была Революция. Революция, которой не потребовалось создавать, как в России, свои органы власти по частям: выборы советов потеряли смысл в силу повсеместного присутствия анархо-синдикалистской организации, из которой выделялись различные базовые комитеты. В Каталонии НКТ и ее сознательное меньшинство, ФАИ, обладали гораздо большим влиянием, чем ставшие призрачными власти.
Ничто не мешало рабочим комитетам, особенно в Барселоне, де-юре захватить власть, которую они уже осуществляли де-факто. Но они этого не сделали. На протяжении десятилетий испанские анархисты предупреждали людей об обмане «политики» и подчеркивали примат «экономики». Они постоянно стремились отвлечь людей от буржуазной демократической революции, для того чтобы направить их к революции социальной, посредством прямого действия. На заре революции анархисты рассуждали примерно следующим образом: пусть политики делают, что хотят, мы «аполитичны» и возьмем в свои руки экономику. 3 сентября 1936 г. в «Информационном бюллетене НКТ-ФАИ» была опубликована статья под заголовком «Бесполезность правительства», в которой утверждалось, что проходящая экономическая экспроприация в силу самого своего факта приведет к «ликвидации буржуазного государства, которое умрет от удушья».
Анархисты в правительстве
Но очень скоро подобная недооценка правительства уступила место обратному отношению, и испанские анархисты неожиданно стали сторонниками использования правительства. Вскоре после революции 19 июля в Барселоне прошла встреча между анархистом Гарсией Оливером и президентом Генералитата (правительства) Каталонии буржуазным либералом Компанисом. Тот был готов уйти в отставку, но в итоге остался при исполнении своих обязанностей. НКТ и ФАИ отказались устанавливать анархическую «диктатуру» и объявили о своей готовности сотрудничать с другими левыми организациями. В середине сентября НКТ обратилась к премьер-министру центрального правительства Ларго Кабальеро с предложением создать Совет обороны из 15 представителей, в котором анархисты удовлетворились пятью местами. Тем самым они высказались за идею участия в министерствах, но под другим названием.
В конце концов анархисты получили министерские портфели в двух правительствах: сперва в Каталонии, а позже в Мадриде. Камилло Бернери, итальянский анархист, находившийся в Барселоне, 14 апреля 1937 г. написал открытое письмо товарищу министру Федерике Монтсени, упрекая ее в том, что анархисты находились в правительстве только в качестве заложников и ширмы «для политиков, заигрывающих с [классовым] врагом».[103] Правда заключалась в том, что государство, с которым испанские анархисты согласились объединиться, оставалось буржуазным государством, чьи официальные лица и политики зачастую имели всего лишь поверхностную лояльность по отношению к республике. Каковы же были причины подобного отступничества? Испанская революция была пролетарским ответом на контрреволюционный государственный переворот. Необходимость сражения антифашистской милиции против когорт генерала Франко с самого начала придала революции характер самозащиты, военный характер. Анархисты перед лицом общей опасности сочли, волей-неволей, что им не избежать объединения со всеми прочими профсоюзными силами и даже с политическими партиями, намеренными преградить путь военному путчу. По мере усиления поддержки франкизма со стороны фашистских государств, «антифашистская» борьба превратилась в настоящую войну классического типа, в войну тотальную. Либертарии могли в ней участвовать, лишь все более отказываясь от своих принципов, как в плане политическом, так и в военном. Они ошибочно решили, что победу революции возможно обеспечить, лишь выиграв войну, и, как признает Сантильян, «принесли все в жертву» войне. Тщетно Бернери оспаривал приоритет войны как таковой и заявлял, что разгром Франко может быть достигнут лишь войной революционной. Затормозить революцию означало притупить основное оружие республики — активное участие масс. Более того, республиканской Испании, подвергшейся блокаде со стороны западных демократий и серьезной угрозе наступления фашистских войск, чтобы выжить, потребовалось прибегнуть к советской военной помощи. А помощь эта могла быть оказана лишь при выполнении двух условиях: во-первых, она должна была пойти на пользу, в основном, коммунистической партии и, как можно меньше, анархистам; во-вторых, Сталин отнюдь не желал торжества в Испании социальной революции не только потому, что она была бы либертарной, но и потому, что она экспроприировала бы капиталы, инвестированные Англией, предполагаемым союзником СССР в «хороводе демократий» против Гитлера. Испанские коммунисты отрицали даже сам факт революции: с их точки зрения, законное правительство всего лишь подавляло военный путч. После кровавых дней мая 1937 г. в Барселоне, когда рабочие были разоружены военными силами под командованием сталинистов, анархисты во имя единства антифашистской борьбы запретили рабочим принимать ответные меры. Мрачное упорство, с которым они впали в ошибку «Народного фронта» вплоть до окончательного разгрома республиканцев, выходит за рамки этой книги.
Успехи самоуправления
Тем не менее, в экономике — в области, которой они придавали наибольшее значение, — испанские анархисты показали себя гораздо более непреклонными под давлением масс, а компромиссы, на которые им пришлось пойти, носили более ограниченный характер. В значительной мере самоуправление в сельском хозяйстве и промышленности смогло расправить свои крылья. Но, по мере усиления государства и ужесточения тоталитарного характера войны, обострилось противоречие между буржуазной республикой в состоянии войны и опытом коммунизма, или скорее либертарного коллективизма. В конечном итоге отступить пришлось, более или менее, именно самоуправлению, которое было принесено в жертву на алтарь «антифашизма».
По словам Пейратса, методичное изучение этого опыта еще только предстоит, и это будет непростой задачей, поскольку самоуправление было представлено в большом количестве вариантов в разных местах и в разное время. Этот вопрос заслуживает более пристального внимания, поскольку известно об этом относительно немного. Даже в самом республиканском лагере самоуправление более или менее замалчивалось, а то и просто хулилось. Гражданская война поглотила его и по сей день продолжает вытеснять из человеческой памяти. О нем нет ни слова в фильме «Умереть в Мадриде». Но все же, может быть, именно в нем и сосредоточилось самое положительное в наследии испанского анархизма.
На следующий же день после свершения революции 19 июля, явившейся грозным народным ответом на заявление Франко, промышленники и крупные землевладельцы впопыхах побросали свое добро и собственность и бежали за границу. Рабочие и крестьяне завладели оставленным имуществом. Батраки решили продолжать обрабатывать землю собственными силами. Все они совершенно стихийно объединились в «коллективы». 5 сентября созванный НКТ в Каталонии региональный съезд крестьян проголосовал за коллективизацию земли под контролем и управлением профсоюзов. Социализации подлежало движимое и крупное недвижимое имущество фашистов. Мелкие же землевладельцы могли свободно выбирать между частной и коллективной формой собственности. Это решение было узаконено несколько позднее: 7 октября 1936 г. центральное республиканское правительство конфисковало без какого-либо возмещения имущество «лиц, замешанных в фашистском мятеже». Эта мера была неполной с точки зрения закона, поскольку узаконивала лишь небольшую часть захвата имущества, уже стихийно осуществленного народом: крестьяне провели экспроприацию, не делая различия между теми, кто участвовал в военном путче, и теми, кто в нем не участвовал.
В слаборазвитых странах, где ощущалась большая нехватка технических средств, необходимых для крупного земледелия, бедные крестьяне в большей степени бывали соблазнены частной собственностью, доселе еще им не известной, чем социалистическим сельским хозяйством. Однако в Испании либертарное воспитание вкупе с коллективистской традицией компенсировали техническую неразвитость, противодействовали индивидуалистическим поползновениям крестьян, толкая их сразу же к социализму. Крестьяне победнее сделали такой выбор, а более обеспеченные, как в Каталонии, держались за индивидуальное хозяйство. Подавляющее большинство сельскохозяйственных работников (90 %) предпочло с самого начала вступить в коллективы. Тем самым был скреплен союз крестьян с городскими рабочими, поскольку последние были сторонниками обобществления средств производства по самой природе своих функций. Кажется, что социалистические настроения в сельской местности были даже более распространены, чем в городах.
Сельскохозяйственные коллективы создали для себя двойную систему управления: производственного и местного. Эти две функции были разделены, но в большинстве случаев существовали профсоюзы, которые брали их на себя или контролировали.
Для управления производством общее собрание трудящихся крестьян выбирало в каждом селе управляющий комитет. За исключением секретаря все остальные его члены продолжали заниматься физическим трудом. Работа была обязательной для всех здоровых мужчин от восемнадцати до шестидесяти лет. Крестьяне разделялись на группы по десять или более человек с делегатом во главе. Каждой группе отводилась зона земледелия или поручалась определенная функция, с учетом возраста членов группы и вида работ. Каждый вечер управляющий комитет принимал делегатов групп. Для решения местных административных вопросов коммуна часто созывала жителей на общее собрание, заслушивая отчеты об их работе.
Все было собрано в общий фонд, за исключением одежды, мебели, личного хозяйства, мелкого домашнего скота и птицы, садово-огородных участков для семейного использования. Ремесленники, парикмахеры, сапожники и т. д. сгруппировались в коллективы. Общинные овцы были собраны в стада по несколько сотен голов, а пастухи равномерно распределяли эти стада в горах.
Были испробованы различные системы распределения продуктов: одни, основанные на коллективизме, другие более или менее коммунистические, третьи — результат сочетания первых двух. В большинстве случаев вознаграждение устанавливалось в зависимости от потребностей членов семьи. Каждый глава семьи получал в счет ежедневной платы талон в песетах, который он мог обменять лишь на потребительские товары в коммунальных магазинах, часто располагавшихся в бывших церквях или пристройках к ним. Неиспользованная сумма клалась в песетах на индивидуальный резервный счет. Можно было получить из нее деньги на карманные расходы, но в ограниченном количестве. Аренда жилья, электричество, медицинская помощь, лекарства, услуги по уходу за престарелыми и т. п. были полностью бесплатными, как и школы, часто расположенные в бывших монастырях и обязательные для детей до четырнадцати лет, которым воспрещалось заниматься ручным трудом.
Вступление в коллектив оставалось добровольным, в соответствии с извечной заботой анархистов о свободе. Никакого давления на мелких землевладельцев не оказывалось. Поскольку они добровольно держались в стороне от общины, они не могли ждать от нее услуг и выгод, так как утверждали свою самодостаточность. Однако они вполне могли по собственной воле участвовать в общем труде и сдавать в коммунальные магазины свою продукцию. Они допускались на общие собрания, имели право на некоторые коллективные блага и преимущества. Им воспрещалось только иметь больше земли, чем они могли обрабатывать самостоятельно, и ставилось единственное условие: ни в чем ни самим, ни посредством своего имущества не нарушать социалистического порядка. Тут и там социализированные земли укрупнялись путем добровольного обмена на участки, принадлежащие крестьянам-собственникам. В большинстве социализированных сел количество единоличников, будь то крестьяне или торговцы, сокращалось с течением времени. Они чувствовали себя изолированными и предпочитали вступать в коллективы.
Однако кажется, что группы, применявшие коллективистский принцип вознаграждения за каждый рабочий день, оказались более устойчивыми, чем те, более малочисленные, где попробовали слишком быстро установить полный коммунизм, отмахнувшись от эгоизма, еще крепко сидевшего в человеческом сознании, особенно среди женщин. В некоторых селах, где деньги были отменены и население пользовалось общим фондом, где производство и потребление было ограничено узкими рамками одного коллектива, стали давать знать о себе неудобства и недостатки такой парализующей автаркии; индивидуализм вскоре одержал верх, вызвав распад общин в силу выхода из них мелких собственников и землевладельцев, вошедших в них, не приобретя подлинного коммунистического сознания.
Коммуны объединялись в местные федерации, в свою очередь, входившие в региональные федерации. Все земельные участки местной федерации образовывали, теоретически,[104] единое целое, без размежевания. Солидарность между деревнями достигла предела, а компенсационные кассы позволяли поддерживать беднейшие коллективы. Инструменты, сырье и избыточная рабочая сила предоставлялись в распоряжение нуждающихся общин.
Степень социализации на селе была различной, в зависимости от провинции. В Каталонии, местности, где преобладали мелкие и средние землевладения, где крестьяне имели сильные индивидуалистические традиции, социализация свелась лишь к нескольким показательным коллективам. Напротив, в Арагоне более трех четвертей земли было социализировано. Здесь прошла анархистская милиция, Колонна Дуррути,[105] по дороге на Северный фронт для сражения с франкистами. Следствием этого было установление революционной «власти», построенной снизу, единственной в своем роде, в республиканской Испании и стимулировавшей созидательную инициативу сельских тружеников. Было образовано около 450 коллективов, насчитывавших в общей сложности около полумиллиона членов. В пяти провинциях Леванта, наиболее богатой части Испании (со столицей в Валенсии), возникло около 900 коллективов. Они охватывали 43 % населенных пунктов, 50 % производства цитрусовых и 70 % их сбыта. В Кастилии было образовано около 300 коллективов, в которых участвовало 100 тысяч крестьян. Социализация охватила также Эстремадуру и частью Андалусии. В Астурии[106] она вызвала несколько робких, но быстро сошедших на нет попыток к сопротивлению.
Необходимо отметить, что этот «социализм снизу» не был, как думают некоторые, делом одних только анархо-синдикалистов. Самоуправленцы часто были, по свидетельству Гастона Леваля, «либертариями, сами того не ведая». В последних из перечисленных нами провинций, инициатива коллективизации исходила от крестьян социал-демократов, католиков и даже коммунистов, как, например, в Астурии.
Самоуправление в сельском хозяйстве, бесспорно, было успешным, за исключением случаев, когда оно саботировалось его противниками или было прервано войной. Успехи были достигнуты отчасти по причине отсталого состояния испанского сельского хозяйства. Побить прежние «рекорды» крупных землевладельцев было нетрудно, поскольку рекорды эти были плачевны. Около десяти тысяч землевладельцев обладали половиной территории Пиренейского полуострова. Они предпочитали оставлять значительную часть своих земель под паром, чем дать образоваться классу независимых фермеров или пойти на выплату батракам приличной заработной платы, что нанесло бы ущерб их положению средневековых властителей. Тем самым они сдерживали освоение природных богатств испанской земли.
Земельные участки укрупнялись, земля теперь обрабатывалась на больших пространствах в соответствии с общим планом и указаниями агрономов. Благодаря советам агротехников производительность возросла на 30–50 %. Увеличилась площадь засеваемых пространств, усовершенствовалась методика труда, человеческая, животная и механическая энергия стала использоваться гораздо рациональнее. Сельскохозяйственные культуры стали более разнообразными, развивалось орошение земель, лес был частично восстановлен, открывались питомники, строились хлева, создавались сельскохозяйственные технические училища, оборудовались показательные фермы, скот подвергался селекции и давал прирост, заработали вспомогательные области промышленности. Социализация показала свое превосходство как над уклонявшимися от ведения хозяйства крупными землевладельцами, оставлявшими невозделанными некоторую часть земель, так и над мелкими землевладельцами, которые обрабатывали землю по устаревшей технологии, засевали ее низкокачественными семенами, не употребляли удобрений.
Сельскохозяйственное планирование, по крайней мере, наметилось. В его основу легла статистика производства и потребления, поступавшая от коллективов, собираемая соответствующими окружными комитетами, а затем группируемая региональным комитетом, контролировавшим качество и количество производимой продукции. Торговля за пределами региона была возложена на региональный комитет, который собирал товары на продажу и в обмен на них приобретал товары, необходимые региону в целом.
Лучше всего сельский анархо-синдикализм проявил свои организаторские способности, как и способности к интеграции, в Леванте. Экспорт цитрусовых требовал наличия современных коммерческих методов; они были с блеском внедрены, вопреки некоторым, часто обостренным, конфликтам с крупными частными производителями.
Культурное развитие шло рука об руку с развитием материальным: началось обучение взрослых грамоте, региональные федерации составляли программы лекций, кинопоказов, театральных представлений в селах.
Эти успехи были обусловлены не только силой профсоюзной организации, но также и, в значительной степени, интеллектом и инициативой людей. Крестьяне, хотя большинство из них было неграмотными, продемонстрировали уровень социалистического сознания, практический здравый смысл, дух солидарности и жертвенности, который приводил в восхищение иностранных наблюдателей. Феннер Броквэй, тогда член британской Независимой лейбористской партии (позднее ставший лордом), посетив коллектив в Сегорбе, писал: «Состояние духа крестьян, их энтузиазм, их вклад в общее дело, гордость, которую они испытывают, — все это достойно восхищения».
Самоуправление было также опробовано в промышленности, в особенности в Каталонии, наиболее промышленно развитом регионе Испании. Рабочие, чьи работодатели бежали, стихийно взяли на себя обязанности по поддержанию работы фабрик. Более чем четыре месяца фабрики Барселоны, над которыми развивался черно-красный флаг НКТ, управлялись революционными рабочими комитетами без какого-либо содействия или вмешательства государства, иногда даже без квалифицированной помощи управленцев. Определенную роль сыграло то, что рабочих поддержали специалисты. В России в 1917–1918 гг. и в Италии в 1920 г. во время кратких экспериментов по захвату фабрик инженеры отказывались помогать новому опыту социализации; в Испании, напротив, многие из них тесно сотрудничали с рабочими с самого начала.
В октябре 1936 г. в Барселоне состоялся профсоюзный съезд, на котором были представлены 600 тысяч трудящихся, целью которого была социализация промышленности. Рабочая инициатива была узаконена декретом каталонского правительства от 24 октября 1936 г., который, утверждая свершившийся факт, привносил в самоуправление элемент правительственного контроля. Были созданы два сектора: социалистический и частный. Были национализированы заводы, на которых было занято свыше ста рабочих (заводы с пятьюдесятью рабочими подвергались национализации по требованию трех четвертей трудового коллектива), заводы, владельцы которых были объявлены народным трибуналом «мятежниками» или прекратили производство, а также предприятия, важное значение которых для национальной экономики оправдывало их изъятие из частного сектора (в действительности, было социализировано большое число прогоревших или влезших в долги предприятий).
Самоуправляемым заводом руководил управляющий комитет, состоявший из 5–15 членов, представлявших различные профессии и службы. Они назначались на общем собрании рабочими сроком на два года, причем половина из них сменялась ежегодно. Комитет назначал директора, которому делегировал часть или все свои полномочия. На очень больших заводах выбор директора требовал утверждения организацией, под опекой которой находилось предприятие. Кроме того, в каждый управляющий комитет назначался правительственный контролер. В сущности, это было не полное самоуправление, а разновидность со-управления в тесной связи с правительством.
Управляющий комитет мог быть отозван либо общим собранием, либо генеральным советом соответствующей отрасли промышленности (состоящим из четырех представителей управляющих комитетов, восьми представителей рабочих, четырех квалифицированных технических специалистов, назначаемых надзорной организацией). Этот генеральный совет планировал работу и устанавливал распределение прибылей. Его решения подлежали неукоснительному исполнению.
На предприятиях, оставшихся в частном секторе, выборный рабочий комитет контролировал производство и условия труда «в тесном сотрудничестве с предпринимателем».
Система оплаты труда на обобществленных фабриках была оставлена нетронутой. Каждый рабочий продолжал получать фиксированную заработную плату. Прибыли не распределялись на уровне предприятия. В результате социализации зарплата выросла совсем ненамного и была ниже, чем в секторе, оставшемся частным.
Декрет от 24 октября 1936 г. представлял собой компромисс между стремлением к автономному управлению и тенденцией к государственной опеке и, одновременно, соглашение между капитализмом и социализмом. Он был составлен министром-анархистом и утвержден НКТ, поскольку анархистские руководители участвовали в правительстве. Как они могли возражать против вмешательства правительства в самоуправление, когда сами держали в своих руках рычаги власти? Проникнув в овчарню, волк, в конце концов, понемногу начинает в ней хозяйничать.
На практике выяснилось, что, несмотря на значительные полномочия, которыми располагали генеральные советы в каждой отрасли промышленности, рабочее самоуправление могло привести к эгоистичному сепаратизму, к своего рода «буржуазному кооперативизму», как отмечает Пейратс, поскольку каждое производственное предприятие заботилось лишь о собственных интересах. Были коллективы богатые и бедные. Одни могли себе позволить выплачивать относительно высокие зарплаты, в то время как другие с трудом могли платить столько же, сколько до революции. Одни в избытке располагали сырьем, другим его не хватало и т. п. Такое отсутствие равновесия было довольно быстро устранено путем образования центральной уравнительной кассы, позволявшей справедливо распределять ресурсы. В декабре 1936 г. профсоюзное совещание, проходившее в Валенсии, решило координировать деятельность различных отраслей производства в общем и органичном ключе, что должно было позволить избежать вредного соперничества и растраты усилий.
На этой стадии профсоюзы реорганизовали целые отрасли экономики, закрыв сотни мелких предприятий и сосредоточив производства на тех, что были лучше оснащены. Например, в Каталонии количество литейных цехов было сокращено с более чем 70 до 24, кожевенных заводов — с 71 до 40, стекольных заводов — со 100 до 30. Тем не менее, промышленная централизация под профсоюзным контролем не могла развиваться столь быстро и в той мере, как того желали бы анархо-синдикалистские плановики. Почему? Потому что сталинисты и реформисты противились конфискации имущества у среднего класса и свято чтили частный сектор.
В других промышленных центрах республиканской Испании каталонский декрет об обобществлении не действовал, а коллективизация была не так широко распространена, как в Каталонии. Однако частные предприятия нередко имели комитеты рабочего контроля, как, например, в Астурии.
В целом, промышленное самоуправление было столь же успешным, как и самоуправление в сельском хозяйстве. Свидетели не скупились на хвалебные речи, в частности, в отношении хорошего функционирования самоуправляемых городских коммунальных служб. Некоторые заводы, если не все, управлялись прекраснейшим образом. Социализированная промышленность внесла значительный вклад в антифашистскую войну. Несколько оружейных фабрик, построенных в Испании перед 1936 г., были расположены за пределами Каталонии: их владельцы, и правда, опасались каталонского пролетариата. Поэтому в районе Барселоны была необходимость перестраивать заводы в большой спешке таким образом, чтобы они могли служить обороне республики. Рабочие и специалисты соревновались друг с другом в энтузиазме и инициативе, и очень скоро военная техника, сделанная в значительной степени в Каталонии, поступила на фронт. Не меньше усилий было затрачено на производство химических продуктов, необходимых для военных целей. Обобществленная промышленность шла вперед столь же быстро и в области гражданских запросов; впервые в Испании началась переработка текстильных волокон, обрабатывалась конопля, пенька, рисовая солома и целлюлоза.
Подрыв самоуправления
В то же время кредитование и внешняя торговля остались в руках частного сектора, так как этого пожелало буржуазное республиканское правительство. Государство контролировало банки и заботилось о недопущении в них самоуправления. Многие коллективы, не имевшие оборотного капитала, жили на наличные средства, захваченные в момент июльской революции 1936 г. В дальнейшем им пришлось прибегать в своей повседневной работе к подручным средствам, таким как, например, конфискация драгоценностей и ценных вещей, принадлежавших церквям, монастырям и франкистам. Для того чтобы финансировать нужды самоуправления, НКТ намеревалась создать «конфедеративный банк». Но конкурировать с финансовым капиталом, убереженным от социализации, было утопией. Единственным решением было передать весь финансовый капитал в руки организованного пролетариата. Но НКТ, находившаяся в плену Народного фронта, пойти на это не осмелилась.
Но основным препятствием была враждебность, вначале скрытая, а затем и открытая, которую питали к самоуправлению руководящие штабы различных политических сил республиканской Испании. Самоуправление обвиняли в нарушении «единства фронта» между рабочим классом и мелкой буржуазией, а, следовательно, в том, что оно «подыгрывает» франкистам. (Что вовсе не мешало его хулителям отказывать в оружии либертарному авангарду, вынужденному на Арагонском фронте безоружным противостоять фашистским пулеметам, за что его же потом опять же упрекнули в «бездеятельности».)
Декрет от 7 октября 1936 г., частично узаконивавший сельскую коллективизацию, был утвержден коммунистическим министром сельского хозяйства Винсенте Урибе. Вопреки видимости, декрет этот был пропитан антиколлективистским духом и ставил своей целью деморализовать крестьян, живших в социализированных группах. Узаконивание коллективизации было подчинено очень жестким и запутанным юридическим правилам. Коллективы были вынуждены придерживаться строжайших сроков, а те из них, что не были легализованы в срок, автоматически ставились вне закона, и их земля должна была быть возвращена прежним владельцам.
Урибе побуждал крестьян не вступать в коллективы и настраивал их против коллективизации. В одной из своих речей в декабре 1936 г., обращаясь к мелким частным землевладельцам, он заявил им, что оружие коммунистической партии и правительства находится в их распоряжении. Он предоставлял им импортные удобрения, в которых отказывал коллективам. Вместе со своим коллегой-сталинистом Хуаном Коморерой, министром экономики Генералитата Каталонии, он свел мелких и средних землевладельцев вместе в реакционный синдикат, в дальнейшем присоединив к нему торговцев и даже некоторых крупных землевладельцев, замаскированных под мелких собственников. Они отобрали у рабочих профсоюзов организацию продовольственного снабжения Барселоны и передали ее в руки частной торговли.
В конце концов, правительственная коалиция после разгрома революционного авангарда в Барселоне в мае 1937 г.[107] не остановилась перед ликвидацией сельскохозяйственного самоуправления силой оружия. Декрет от 10 августа 1937 г. провозгласил роспуск Регионального совета обороны Арагона под предлогом, что тот «остался вне течения централизации». Вдохновитель этого совета, Хоакин Аскасо,[108] был обвинен в «продаже драгоценностей», целью которой в действительности было стремление изыскать средства для коллективов. Немедленно после этого 11-ая походная дивизия под командованием сталиниста Листера перешла, с помощью танков, в наступление против коллективов. Она прошла через Арагон, словно через вражескую территорию. Руководители социализированных предприятий были арестованы, помещения заняты, а затем закрыты, управляющие комитеты распущены, коммунальные склады обчищены, мебель переломана, стада истреблены. Коммунистическая пресса изобличала «преступления принудительной коллективизации». Около 30 % арагонских коллективов были полностью уничтожены.
Тем не менее, несмотря на подобную жестокость, сталинизму в целом не удалось принудить арагонских крестьян стать частными землевладельцами. Сразу же после прохождения дивизии Листера большинство свидетельств о частном владении, которые крестьяне были вынуждены подписать под дулом пистолета, были уничтожены, а коллективы были восстановлены. Как пишет Ж. Мунис, «это был один из наиболее вдохновляющих эпизодов Испанской революции. Крестьяне еще раз проявили свои социалистические убеждения, несмотря на правительственный террор и экономический бойкот, которым они подвергались».
Восстановление арагонских коллективов имело, кроме прочего, и одну не столь героическую причину: коммунистическая партия осознала задним числом, что причинила вред жизненным силам сельского хозяйства, подвергла опасности сохранение урожая (по причине нехватки рабочей силы), деморализовала бойцов на Арагонском фронте и опасно усилила средний класс землевладельцев. Тогда она попыталась поправить нанесенный ущерб и восстановить часть коллективов. Но новые коллективы не достигли ни размеров, ни качества обработки земель, ни численного состава первых коллективов (многие участники последних, спасаясь от преследования, укрылись на фронте в анархистских подразделениях или были брошены в тюрьмы).
В Леванте, Кастилии, в провинциях Уэска и Теруэль имели место аналогичные вооруженные нападения — со стороны республиканцев — на сельскохозяйственное самоуправление. Тем не менее, всеми правдами и неправдами коллективы уцелели на многих территориях, которые еще не были захвачены войсками Франко, особенно в Леванте.
Более чем двусмысленная политика правительства Валенсии в области сельского социализма способствовала поражению Испанской республики: бедные крестьяне не всегда ясно сознавали, что сражаться за республику было в их интересах.
Несмотря на свои успехи, самоуправление в промышленности саботировалось административной бюрократией и «авторитарными» социалистами. Была начата грандиозная клеветническая кампания в печати и по радио, подвергавшая сомнению, в частности, честность управления заводских советов. Центральное республиканское правительство отказало каталонскому самоуправлению в каких-либо кредитах, даже когда министр экономики Каталонии, анархист Фабрегас, предложил самоуправлению в качестве гарантии аванса внести один миллиард песет на счета в сберегательных кассах. Когда в июне 1937 г. сталинист Коморера стал министром экономики, он лишил самоуправляемые заводы сырья, которым щедро наделял частный сектор. Он также не оплатил социализированным предприятиям поставки, заказанные каталонским правительством.
Центральное правительство располагало радикальным средством для того, чтобы задушить коллективы: национализация транспорта позволила ему снабжать одних и перекрывать поставки другим. Кроме того, оно закупило за границей обмундирование, предназначавшееся для республиканской армии вместо того, чтобы обратиться к текстильным предприятиям Каталонии. Под предлогом нужд национальной обороны правительство декретом от 22 августа 1937 г. отменило на металлургических и горнодобывающих предприятиях статьи каталонского декрета о социализации от октября 1936 г., объявив его «противоречащим духу конституции». Прежние мастера и директора, изгнанные самоуправлением или, скорее, не согласившиеся занять посты технических специалистов на самоуправляемых предприятиях, вернулись на свои места с жаждой мести.
Конечной точкой явился декрет от 11 августа 1938 г., милитаризовавший предприятия, работавшие на нужды обороны, передав их в подчинение министерства вооружения. На заводы в избытке хлынула бюрократия. Предприятия подверглись вторжению толпы инспекторов и директоров, обязанных своим назначением лишь политической принадлежности, а именно недавним вступлением в коммунистическую партию. Рабочие были деморализованы тем, что их лишили контроля над предприятиями, созданными ими самими по частям в первые, критические месяцы войны. Производство, в результате, пострадало.
В других отраслях каталонское промышленное самоуправление продолжало существовать до тех пор, пока Испанская республика не была сокрушена. Однако оно функционировало в замедленном темпе, поскольку промышленность потеряла свои основные рынки сбыта, ощущался дефицит сырья, а правительство лишило предприятия кредитов, необходимых для его приобретения.
Подведем итоги: новорожденные испанские коллективы сразу же оказались в смирительной рубашке войны, осуществлявшейся классическими военными методами, войны, во имя или под предлогом которой республика обрезала крылья своему собственному авангарду и пошла на компромисс с внутренней реакцией.
Тем не менее, урок, данный коллективами, является вдохновляющим. В 1938 г. он вдохновил Эмму Гольдман на такие хвалебные слова: «Коллективизация промышленности и земли предстает как величайшее достижение любого революционного периода. Даже если Франко суждено победить, а испанским анархистам суждено быть уничтоженными, идея, рожденная ими, будет жить». В своей речи 21 июля 1937 г., произнесенной в Барселоне, Федерика Монтсени четко обозначила альтернативы: «С одной стороны, приверженцы власти и тоталитарного государства, экономики, управляемой государством, социальной организации, военизирующей всех людей и превращающей государство в единоличного хозяина, в великого посредника; с другой стороны, управление шахтами, полями, заводами и цехами самим рабочим классом, организованным в профсоюзные федерации». Это дилемма не только Испанской революции. Быть может завтра в мировом масштабе она станет основным вопросом всего социализма.
Заключение
Поражение Испанской революции лишило анархизм его единственного оплота в мире. Он вышел из этого испытания сокрушенным, разобщенным, в некоторой степени дискредитированным. Приговор, вынесенный ему историей, был слишком суров и во многих отношениях несправедлив. Не он был настоящей — и в любом случае уж точно не главной — причиной победы франкистов. Опыт самоуправляющихся коллективов как в сельском хозяйстве, так и в промышленности разворачивался в трагических, неблагоприятных условиях, но в целом продемонстрировал вполне положительные результаты. Этот опыт был, однако, не до конца понят, недооценен и оклеветан. Авторитарный социализм, наконец, избавился от нежелательного конкурента в лице социализма либертарного и на многие годы стал хозяином положения в мире. Какое-то время казалось, что государственный социализм может быть оправдан благодаря военной победе СССР над нацистами в 1945 г. и бесспорными, внушительными успехами в технической области.
Однако именно крайности этой системы вскоре вызвали внутренние противоречия, которые вели к ее отрицанию. Это породило идею о необходимости смягчения парализующей государственной централизации, о том, что производственные предприятия должны иметь больше автономии, что рабочие будут иметь стимул трудиться больше и лучше, если будут принимать участие в управлении предприятиями. В одной из стран, ставших вассалами Сталина, зародилось то, что в медицине называется «антителами». Югославия Тито освободила себя от тяжелого ярма, превращавшего ее в своего рода колонию. Там произошла переоценка догм, антиэкономический характер которых теперь бросался в глаза. Югославские коммунисты обратились к изучению уроков прошлого. Они открыли для себя труды Прудона и стали черпать идеи в его предвосхищениях. Исследовались также малоизвестные либертарные идеи в работах Маркса и Ленина. Между прочим, было извлечено на свет понятие «отмирания государства», которое не исчезло, конечно, целиком из политического словаря государственно-социалистических режимов, но которое стало не более чем ритуальной формулой, лишенной своего содержания. Изучив краткий период, во время которого большевизм идентифицировал себя с пролетарской демократией снизу, с Советами, Югославия подобрала слово, произнесенное и затем быстро забытое теми, кто одержал победу в итоге Октябрьской революции: самоуправление. Она также обратила внимание к зародившимся в то же самое время, благодаря распространению «революционной заразы», зародышам фабричных советов в Германии и Италии, а также, намного позже, в Венгрии. Как пишет во французском журнале «Arguments» итальянец Роберто Гвидуччи, возник вопрос: не может ли «идея Советов, которые были подавлены сталинизмом по очевидным причинам», «быть поднята снова в современных терминах».[109]
Когда Алжир был деколонизирован и добился независимости, его новое руководство стремилось узаконить и упорядочить стихийный захват крестьянами и рабочими оставленного европейскими собственниками имущества. Они черпали вдохновение из югославского прецедента и взяли югославское законодательство в этом вопросе за основу.
Если не подрезать самоуправлению крылья, оно, несомненно, станет учреждением с демократическими, даже либертарными тенденциями. Подобно испанским коллективам 1936–1937 гг., самоуправление стремится передать экономику под управление непосредственных производителей, для чего на каждом предприятии выборным путем создается трехуровневое представительство рабочих: верховное общее собрание (ассамблея), совет рабочих — меньший совещательный орган и, наконец, административный комитет, который является исполнительным органом. Законодательство обеспечивает определенные гарантии против бюрократизации: избранные лица не могут бесконечно осуществлять свои полномочия, они должны быть непосредственно вовлечены в производство и т. д. В Югославии кроме общих собраний (ассамблей) рабочие могут также проводить референдумы, а на очень крупных предприятиях общие собрания проводятся в производственных цехах.
Большую важность также придают местному сообществу (коммуне), по крайней мере, в теории, или в качестве обещания на будущее, и здесь гордятся преобладанием представителей самоуправляющихся трудящихся. В теории управление общественными делами также снова должно стать децентрализованным, и осуществляться на местном уровне во все больших масштабах.
Однако на практике все выглядит по-иному. В этих странах самоуправление возникает в рамках диктаторского, военного, полицейского государства, скелет которого сформирован единственной партией. У руля стоит авторитарная и патерналистская власть, которая находится вне контроля и вне критики. Налицо несовместимость авторитарных принципов политического правления и либертарных принципов управления экономикой.
Кроме того, определенная степень бюрократизации проявляет себя даже на уровне предприятий, несмотря на предосторожности, предусмотренные в законодательстве. Большинство рабочих еще недостаточно созрело для того, чтобы эффективно участвовать в самоуправлении. Они испытывают недостаток образования и технических знаний, не избавились до конца от старого мышления наемных работников и слишком охотно отдают свои полномочия в руки делегатов. Это позволяет меньшинству быть реальными управляющими предприятия, обладать всевозможными привилегиями и делать все так, как им нравится. Они утверждаются на руководящих постах, управляют без контроля снизу, теряют связь с реальностью и отдаляются от рядовых рабочих, к которым часто относятся с высокомерием и презрением. Все это деморализует рабочих и настраивает их против самоуправления.
Наконец, государственный контроль часто осуществляется так неосмотрительно и жестко, что «самоуправленцы» в действительности вообще не занимаются управлением. Государство утверждает членов правления в органы самоуправления, не принимая во внимание, соглашаются ли последние или нет, хотя, согласно закону, с ними нужно консультироваться. Эти бюрократы зачастую чрезмерно вмешиваются в управление и иногда ведут себя так же, как прежние хозяева. На очень крупных югославских предприятиях члены правления назначены исключительно государством; эти должности розданы маршалом Тито своей «старой гвардии».
Кроме того, югославское самоуправление сильно зависит от государства в финансовом плане. Оно существует благодаря кредитам, предоставляемым государством, и свободно распоряжается лишь малой частью своей прибыли, а остальное выплачивает казначейству в счет погашения долга. Доход, полученный из самоуправляющегося сектора, используется государством не только для того, чтобы развивать отсталые сектора экономики, но также и на оплату в значительной степени бюрократизированного правительственного аппарата, армии, полиции и на поддержание собственного престижа, затраты на что являются иногда чрезмерными. Когда членам самоуправляемых предприятий неадекватно платят, это притупляет энтузиазм в отношении самоуправления и противоречит самим его принципам.
Свобода действия каждого предприятия, кроме того, жестко ограничена, поскольку каждая организация является субъектом централизованных экономических планов власти, которые составляются без участия рядовых работников. В Алжире самоуправляемые предприятия также обязаны уступить государству право распоряжаться сбытом значительной части своей продукции. Кроме того, они помещены под наблюдение «органов опеки», которые должны оказывать техническую и бухгалтерскую помощь, но на практике стремятся заместить органы самоуправления и принять на себя их функции.
Вообще, бюрократия тоталитарного государства противоречит требованиям самоуправления и автономии. Как предвидел Прудон, самоуправление плохо терпит любую внешнюю по отношению к себе власть, которая стремится не к социализации, а к национализации, то есть к прямому управлению со стороны государственных чиновников. Задача последних состоит в том, чтобы посягнуть на самоуправление, уменьшить его полномочия и, фактически, поглотить его.
Единственная партия страны [в рамках однопартийной системы] не менее подозрительно относится к самоуправлению и, соответственно, плохо выносит конкурента. Она, как удав, стремится задушить самоуправление в своих объятиях. Партия имеет ячейки на большинстве предприятий и настоятельно пытается принять участие в управлении, дублировать органы, избранные рабочими, или свести их к роли послушных инструментов, выхолащивая выборы и составляя списки кандидатов заранее. Партия пытается побудить советы рабочих лишь утверждать решения, уже принятые заранее, а также стремится управлять и формировать национальные съезды трудящихся.
Некоторые самоуправляемые предприятия реагируют на авторитаризм и тенденции к централизации, проводя политику изоляционизма. Они ведут себя так, как если бы они были ассоциацией мелких собственников, и пытаются действовать только ради непосредственной выгоды вовлеченных в производство рабочих. Они стремятся сокращать количество рабочих мест, чтобы делить прибыль между меньшим количеством работников. Они также стремятся произвести всего понемногу, вместо того чтобы обеспечивать специализацию. Они посвящают время и энергию тому, чтобы обходить планы или инструкции, разработанные в интересах всего общества. В Югославии была разрешена свободная конкуренция между предприятиями как в качестве стимула, так и для защиты потребителя, но на практике тенденция к автономии привела к сильному неравенству результатов при эксплуатации предприятий и к иррациональности в экономике.
Таким образом, самоуправление можно уподобить маятнику, который раскачивается между двумя крайностями: чрезмерной автономией или чрезмерной централизацией, «властью и анархией», управлением снизу или управлением сверху. В течение нескольких лет Югославия, по сути, заменяет централизацию автономией, а затем автономию централизацией, постоянно реконструируя свои учреждения, до сих пор не достигнув в этом «золотой середины».
Большинства недостатков самоуправления можно было бы избежать или исправить их, если бы существовало подлинное профсоюзное движение, независимое от власти и от единственной партии, движение, возникающее непосредственно в среде рабочих и в то же самое время организующее их, вдохновленное духом испанского анархо-синдикализма. В Югославии и Алжире, однако, профсоюзное движение либо играет второстепенную роль, выступает в качестве «лишней шестеренки», либо подчинено государству, единственной партии. Соответственно, оно не способно адекватно выполнять функцию примирения автономии с централизацией, которую могло бы исполнять намного лучше, чем тоталитарные политические организации. Фактически, профсоюзное движение, которое действительно идет от рабочих, видящих в нем свое собственное отражение, будет самым эффективным органом для того, чтобы согласовать центробежные и центростремительные силы, для того, чтобы «уравновесить», как выразился Прудон, противоречия самоуправления.
Эта картина, однако, не должна казаться совсем удручающей. У самоуправления, конечно, есть сильные и стойкие оппоненты, которые не оставляют надежды на то, что оно потерпит неудачу. Но оно, фактически, показало себя очень динамичным в тех странах, где эксперименты продолжаются. Оно открыло новые перспективы для рабочих и вернуло им некоторое удовлетворение от своего труда. Оно начало открывать им основы подлинного социализма, который влечет за собой постепенное исчезновение системы наемного труда, раскрепощение производителя, его движение к свободному самоопределению. Самоуправление также привело к увеличению производительности труда. Несмотря на неизбежные трудности и ошибки начального периода, оно записало на свой счет неоспоримые положительные результаты.
Небольшие группы анархистов, следившие, правда, издалека, за путями развития югославского самоуправления, испытывали к нему смесь симпатии и недоверия. Они чувствуют, что этот эксперимент воплощает некоторые черты их идеала в действительность, но он не развивается по идеальному сценарию, предусмотренному либертарным коммунизмом. Напротив, эксперимент проводится в рамках авторитарной структуры, которая вызывает отторжение у анархистов. Нет сомнения, что эта структура делает самоуправление хрупким: всегда есть опасность, что оно будет поглощено раковой опухолью авторитаризма. Однако при более пристальном и беспристрастном взгляде на самоуправление, как мне кажется, можно разглядеть, скорее, обнадеживающие черты.
В Югославии самоуправление — фактор, способствующий демократизации режима. Это создало более здоровые предпосылки для поддержки в кругах рабочего класса. Партия начинает действовать как вдохновитель, а не управляющий. Ее кадры должны становиться более адекватными представителями масс, более чувствительными к их проблемам и стремлениям. Как отмечает Альберт Мейстер, молодой французский социолог, который поставил себе задачу изучения этого явления на месте, самоуправление несет в себе «демократический вирус», который, в конечном счете, проникает также и в партию. Самоуправление для партии как «тонизирующее средство», которое объединяет низшие партийные эшелоны с рабочими массами. Это развитие настолько очевидно, что оно заставляет югославских теоретиков говорить на таком языке, который счел бы своим любой либертарий. Например, один из них, Стане Кавчич, констатировал: «В будущем ударная сила социализма в Югославии не может быть политической партией и государством, действующим сверху вниз, но народом, гражданами, имеющими статус, позволяющий им действовать снизу». Он уверенно продолжает, что самоуправление все более и более ослабляет «твердую дисциплину и подчинение, которые характерны для всех политических партий».
Менее явная тенденция прослеживается в Алжире, поскольку там эксперимент начался позже и все еще подвергается сомнению. Причина может быть найдена в том факте, что в конце 1964 г. Хосин Захоуан, позже глава координационного совета Фронта национального освобождения, публично осудил тенденцию «органов опеки» занимать место выше членов групп самоуправления и осуществлять руководство ими. Он писал: «Когда это происходит, социализм перестает существовать. Происходит только смена формы эксплуатации рабочих». В завершение этого автор статьи требовал, чтобы трудящиеся «действительно стали хозяевами своего производства», чтобы ими больше не «манипулировали ради достижения целей, чуждых социализму».[110]
* * *
Итак, с какими бы трудностями ни сталкивалось самоуправление, в каких бы противоречиях оно ни плутало, оно уже сейчас позволяет массам пройти на практике через школу прямой демократии, действующей снизу вверх, оно позволяет им развиваться, поощряет и стимулирует свободную инициативу, внушает людям чувство ответственности, вместо того чтобы поддерживать — как это происходит в условиях государственного коммунизма — старые привычки к пассивности, подчинению и комплекс неполноценности, унаследованные от системы угнетения. Но даже если это обучение является иногда трудоемким, а продвижение медленным, если оно обременяет общество дополнительными издержками, если оно работает ценой некоторых ошибок и некоторого «беспорядка», многие из наблюдателей, однако, считают, что эти трудности, задержки и издержки, эти болезни роста менее вредны, чем ложный порядок, ложный блеск, ложная «эффективность» государственного коммунизма, который уменьшает значимость человека, убивает инициативу, парализует производство и, несмотря на материальные продвижения, полученные высокой ценой, дискредитирует самую идею социализма.
Даже СССР переоценивает свои методы экономического управления и продолжит это делать, если существующая тенденция к либерализации не сменится откатом к авторитаризму. Прежде чем уйти со своего поста, 15 октября 1964 г., Хрущев, казалось, понял, хотя робко и запоздало, потребность в децентрализации управления промышленностью. В декабре 1964 г. «Правда» опубликовала пространную статью «Общенародное государство», в которой автор стремился определить структурные изменения, отделяющие форму государства «обозначаемого как государство для каждого» от «диктатуры пролетариата»; а именно, продвижение к демократизации, участию масс в управлении общества через самоуправление, к оживлению советов, профсоюзов и т. д.
Французская «Le Monde» от 16 февраля 1965 г. опубликовала статью Мишеля Тату, озаглавленную «Большая проблема: освобождение экономики», разоблачающую самое серьезное зло, «проблемы советской бюрократической машины в целом, в особенности, в экономике». Высокий технический уровень, которого достигла советская экономика, делает верховенство бюрократии в управлении недопустимым. В настоящее время директора предприятий не могут принять решение по любому поводу, не обращаясь, по крайней мере, к одной, а чаще к полудюжине различных инстанций. «Никто не обсуждает замечательный технический, научный и экономический прогресс, достигнутый за тридцать лет сталинского планирования. В результате эта экономика находится теперь в группе развитых экономик, но старые структуры, которые позволили добиться этого уровня, теперь ей совсем не подходят». «Гораздо больше, чем частные реформы, необходимо глубокое изменение образа мысли и методов, своего рода новая десталинизация, которая обязана положить конец ненормальной инерции, проникающей на каждый уровень государственной машины». Однако, как указал Эрнест Мандель в своей статье во французском журнале «Les Temps Modernes», децентрализация не может останавливаться на предоставлении автономии директорам предприятий, она должна привести к реальному самоуправлению рабочих.
В своей небольшой книжке Мишель Гардер предсказывает в СССР «неизбежную» революцию. Но, вопреки своим явно антисоциалистическим взглядам, автор сомневается, вероятно, через силу, в том, что «агония» теперешнего режима сможет привести к возврату частного капитализма. Напротив, он считает, что будущая революция примет старый лозунг 1917 года: «Вся власть Советам!» Возможно, она также будет опираться на пробудившийся и ставший подлинным социализм. И, наконец, в результате такой революции на смену нынешней жесткой централизации придет децентрализованная федерация: «В силу одного из тех парадоксов, которыми богата история, именно во имя Советов может исчезнуть режим, ложно именуемый советским».
Такое слишком оптимистичное заключение схоже с мнением левого обозревателя Жоржа Гурвича, который также пришел к подобному заключению. Он полагает, что тенденции к децентрализации и самоуправлению рабочих только начинают проявляться в СССР, но что успех этого процесса показал бы, «что Прудон был прав в гораздо большей степени, чем, возможно, думал сам».
На Кубе система построена по советскому образцу. В своей работе «На Кубе: социализм и развитие» Рене Дюмон, французский специалист по экономике режима Кастро, сожалеет о ее «сверхцентрализации» и бюрократизации. Он, в особенности, подчеркивает «авторитарные» ошибки министерского отдела, который пытался управлять фабриками самостоятельно, а закончил с точно противоположными результатами: «пытаясь создать централизованную организацию, каждый заканчивает практически одинаково, (…) допуская осуществление чего угодно, потому что одному нельзя обеспечить контроль над всем, что является существенным». Он подвергает критике также и государственную монополию распределения: паралича, к которому она приводит, возможно было бы избежать, «если бы каждая производственная единица сохранила за собой функцию снабжения». «Куба повторяет бесполезный цикл экономических ошибок социалистических стран», — доверительно сообщил Дюмону один высокопоставленный и знающий польский товарищ. Автор завершает призывом к кубинскому режиму перейти к автономии также и в сельском хозяйстве, к федерациям небольших фермерских кооперативов. Он не боится дать название средству для улучшения экономики, — самоуправлению, — которое может отлично быть совмещено с планированием.
* * *
Либертарная идея после некоторого перерыва вышла из тени, в которую она попала из-за действий ее недоброжелателей. В значительной части мира человек сегодня выступает в роли подопытного кролика государственного коммунизма, но только теперь проявляются результаты этого опыта. Коммунизм внезапно обращается к черновым наброскам нового общества самоуправления, которое пионеры анархизма рисовали в XIX веке, обращается с живым любопытством и зачастую извлекая из этого пользу. Конечно, он не использует их целиком, но извлекает из них уроки, получает вдохновение для того, чтобы попытаться разрешить задачу, поставленную на вторую половину ХХ столетия: сломать экономические и политические путы того, что слишком просто назвали «сталинизмом», и сделать это, не отказываясь от фундаментальных принципов социализма. Напротив, он стремится сделать это таким образом, чтобы обнаружить или заново открыть формы подлинного социализма, то есть социализма, объединенного со свободой.
Прудон во время революции 1848 г. мудро посчитал, что он не в праве ожидать от тех, кто ее совершал, немедленного продвижения к «анархии». Отказавшись от своей программы-максимум, он набросал схематически либертарную программу-минимум: постепенное сокращение власти государства, параллельное развитие власти людей «снизу» через то, что он называл клубами, а человек ХХ века — Советами. Поиск такой программы является осознанной задачей многих современных социалистов.
* * *
Хотя возможность возрождения для анархизма, таким образом, открыта, ему не удастся полностью реабилитировать себя, если он будет не в состоянии опровергнуть ложные интерпретации и в теории, и на практике, жертвой которых он так долго был. Как мы видели, в 1924 г. Хоакин Маурин нетерпеливо стремился покончить с анархизмом в Испании, когда писал, что тот может сохраниться лишь в «некоторых странах, отсталых в экономическом отношении», где массы «цепляются» за него, потому что у них полностью отсутствует «социалистическое образование», и они находятся «во власти своих естественных инстинктов». Он делал вывод: «Любой анархист, который преуспевает в самосовершенствовании, образовании и обладающий ясностью ума, автоматически прекращает быть анархистом».
Французский историк анархизма Жан Мэтрон[111] просто перепутал «анархию» и дезорганизацию. Несколько лет назад он предполагал, что анархизм умер вместе с XIХ веком, поскольку наша эпоха — это эпоха «планирования, организации и дисциплины». Позже британский автор Джордж Вудкок[112] счел возможным упрекнуть анархистов в идеализме, в сопротивлении господствующему потоку истории, в идеалистическом видении будущего, основанного на наиболее привлекательных возможностях умирающего прошлого. Другой английский исследователь, Джеймс Джолл,[113] настаивает, что анархисты устарели, поскольку их идеи направлены против развития крупномасштабной промышленности, против массового производства и потребления и основаны на ретроградном романтичном видении идеализированного общества ремесленников и крестьян и полном игнорировании фактов ХХ века и экономической организации.[114]
На предыдущих страницах я попытался показать, что это ложный образ анархизма. Работы Бакунина лучше всего выражают природу конструктивного анархизма, который делает ставку на организацию, самодисциплину, основан на интеграции, на федерализме и добровольной централизации. Он опирается на крупномасштабную современную промышленность, современные методы и современный пролетариат, а также интернационализм в мировом масштабе. В этом отношении анархизм современен и принадлежит ХХ веку. Скорее уж, государственный коммунизм идет не в ногу с потребностями современного мира.
В 1924 г. Хоакин Маурин неохотно признал, что на всем протяжении истории анархизма «признаки спада» «сменялись внезапным возрождением». Будущее может показать, что только в этом утверждении испанский марксист и оказался прав.
Послесловие
Майская революция 1968 г. во Франции стала чисткой, выметанием паутины из всех углов. Она проводилась молодежью, причем не только молодежью студенческой, но и молодежью рабочей, объединенной возрастом и общими условиями отчуждения. В университетах, так же как и на фабриках и в профсоюзах, диктатуре взрослых в лице начальников, хозяев и профсоюзных бонз был брошен вызов. Более того, эта диктатура основательно пошатнулась. Произошедший взрыв был подобен удару грома, он был заразительным, разрушительным и в значительной мере анархическим по своему характеру.
В основе его лежала критика не только буржуазного общества, но и постсталинского коммунизма, критика, которая углублялась в университетских кругах год от года и достигла дотоле небывалой остроты. Эта критика подпитывалась, в частности, объявлением войны, получившем свое выражение в памфлете «О нищете студенческой жизни» (De la misère en milieu étudiant)[115] небольшой группы ситуационистов. Она была вдохновлена студенческими волнениями в разных странах, в особенности в Германии.
Она выбрала в качестве своего оружия прямое действие, сознательное и последовательное пренебрежение законом, захват рабочих мест. Она не боялась отвечать на репрессии со стороны властей революционным насилием; она бросала вызов всему существующему мироустройству, всем существующим структурам, всем полученным в наследство идеям; она отрицала монологи профессуры как проявление патронирующего монархизма; она отрекалась от культа громких имен и настаивала на анонимности и коллективности. Всего за несколько недель этот подъем молниеносно обернулся обучением подлинной демократии, диалогом тысяч голосов, общением всех со всеми.
Эта критика жадно пила из фонтана свободы. На бесчисленных собраниях и форумах каждому человеку было дано право полного выражения своего мнения. Общественные места превратились в амфитеатры, дорожное движение было парализовано, а участники обсуждений сидели на тротуарах, неспешно, подробно и открыто вырабатывая стратегию будущей уличной войны. Этот революционный пчелиный рой гудел во дворах, коридорах и аудиториях Сорбонны. Здесь каждое без исключения революционное течение могло выставлять и распространять свою пропагандистскую литературу.
Либертарии воспользовались этим моментом свободы, чтобы отказаться от своего прежнего, узкого взгляда на мир. Они боролись бок о бок с революционерами-марксистами «авторитарного» толка, не сводя старые счеты, на время забыв о прошлых разногласиях. Черный флаг реял рядом с красным, без конкуренции, без конфликта, по крайней мере, в течение самой острой фазы конфликта, когда братство сплотило всех под знаменами борьбы против общего врага.
Всякая власть отрицалась и, что еще страшнее для нее, высмеивалась. Миф о старике-провидце из Елисейского дворца[116] был не столько подорван серьезными аргументами, сколько поднят на смех в карикатурах и сатире. Пустопорожняя болтовня парламентариев была повержена смертельным оружием — безразличием; один из самых длинных маршей студентов по улицам столицы проходил мимо дворца Бурбонов,[117] но даже не удостоил его своим вниманием.
Одно волшебное слово эхом повторялось в течение славных недель мая 1968 года на фабриках и в университетах. Оно было темой бесчисленных собраний, толкований, отсылок к историческим прецедентам, детального изучения современных событий, имевших к нему хотя бы частичное отношение, — этим словом было самоуправление. Особенный интерес вызывал пример испанской коллективизации 1936 г. По вечерам рабочие приходили в Сорбонну, чтобы узнать больше об этом новом для них решении общественных проблем. Когда они отправлялись обратно к себе в мастерские, обсуждения все равно продолжались — теперь возле молчащих станков. Конечно, революция мая 1968 г. не воплотила самоуправление в жизнь, но она была недалека, можно даже сказать — всего лишь в шаге от этого. Идея самоуправления глубоко укоренилась в умах людей с тем, чтобы рано или поздно снова заявить о себе.
Краткая библиография
Французское издание книги Даниэля Герена было снабжено краткой библиографией — списком литературы, рекомендованной для более глубокого изучения затронутых автором тем. Поскольку большая часть упомянутых там изданий по-прежнему недоступна на русском языке, а за последние годы вышло большое количество новых книг, мы позволили себе заменить библиографию Герена своей, более современной и доступной для российских читателей. Часть этих текстов, а также значительное число других книг и статей об анархизме также доступно на сайтах aitrus.info, avtonom.org, bakunista.nadir.org, goodbooks.noblogs.org, makhno.ru, ru.theanarchistlibrary.org.
Анархизм
Анархизм (Сб., ГПНБ, М., 1999).
Антология современного анархизма и левого радикализма. В 2 тт. (М., «Ультракультура», 2003).
Боровой А.А. Анархизм (М., URSS, 2010).
Вард К. Анархизм. Очень краткое введение. (М., «АСТ — Астрель», 2009).
Гелдерлоос П. Анархия работает (М., «Радикальная теория и практика», 2012).
Гелдерлоос П. Консенсус: принятие решений в свободном обществе (М., «Радикальная теория и практика», 2010).
Неттлау М. Очерки по истории анархических идей (Детройт, Спичка, 1991)
Рябов П.В. Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках. Анархические письма (М., URSS, 2010).
Рябов П.В. Философия классического анархизма (проблема личности) (М., «Вузовская книга», 2007).
Скирда А. Индивидуальная автономия и коллективная сила. Обзор либертарных идей и практик от Прудона до 1939 г. (Париж, «Громада», 2002).
Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории (М., «Новое литературное обозрение», 2007).
Эльцбахер П. Анархизм (М., «АСТ — Москва», 2009).
Woodcock G. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements (1962).
Макс Штирнер
Штирнер М. Единственный и его собственность.
Маккей Дж. Г. Макс Штирнер: его жизнь и творчество (М., URSS, 2010).
Пьер-Жозеф Прудон
Туган-Барановский М.И. Прудон: его жизнь и общественная деятельность (М., URSS, 2011).
Прудон П.Ж. Что такое собственность? (М., Изд-во политической литературы, 1998).
Прудон П.Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти (М., URSS, 2011).
Прудон П.Ж. Французская демократия (О политической способности рабочих классов) (М., URSS, 2011).
Прудон П.Ж. Политические противоречия: Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции) (М., URSS, 2011).
Михаил Бакунин
Бакунин М.А. Избранные сочинения (М., «Правда», 1989).
Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма (М., «Наука», 1987).
Бакунин М.А. Анархия и порядок (М., «Эксмо-пресс», 2000).
Бакунин М.А. Избранные труды (М., РОССПЭН, 2010).
Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем (под ред. Ю.Стеклова). В 4 тт. (М., 1934–1935, незавершенное).
Бакунин М.А. Избранные сочинения. В 5 тт. (М. — Пг., «Голос труда», 1919–1921).
Боровой А.А. Бакунин (М., «КУБ», 1994).
Демин В.Н. Бакунин (М., «Молодая гвардия», 2006. Серия «Жизнь замечательных людей»).
Материалы для биографии М.А.Бакунина. В 3 тт. (М., Госиздат, 1923–28).
Пирумова Н.М. Бакунин (М., «Молодая гвардия», 1970. Серия «Жизнь замечательных людей»).
Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А.Бакунина (М., «Наука», 1990).
Стеклов Ю.М. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность. В 4 тт. (М., Изд-во Коммунистической академии, 1926–1927).
Leier M. Bakunin. The Creative Passion (New York, 2006).
McLaughlin P. Mikhail Bakunin: The Philosophical Basis of His Anarchism (New York, 2002).
Oeuvres Completes de Bakounine. 7 vols. (Paris, 1979).
Петр Кропоткин
Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции
Кропоткин П.А. Записки революционера (М., «Мысль», 1990).
Кропоткин П.А. Речи бунтовщика (М., URSS, 2011).
Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия (М., «Правда», 1990).
Кропоткин П.А. Этика (М., Изд-во политической литературы, 1991).
Кропоткин П.А. Избранные труды (М., РОССПЭН, 2010).
Маркин В.А. Кропоткин (М., «Молодая гвардия», 2006. Серия «Жизнь замечательных людей»).
Маркин В.А. Неизвестный Кропоткин (М., «Олма-пресс», 2002).
Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин (М., «Наука», 1972).
Петр Алексеевич Кропоткин (под ред. И.И. Блауберг, М., РОССПЭН, 2012).
Петр Алексеевич Кропоткин и проблемы моделирования историко-культурного развития цивилизации: материалы научной конференции (СПб., 2005).
Woodcock G., Avakumović I. Peter Kropotkin: From Prince to Rebel (Montreal, Black Rose Books, 1990).
Эррико Малатеста
Малатеста Э. Избранные сочинения. Краткая система анархизма (М., URSS, 2011).
Mаlаtestа, His Life аnd Ideаs (London, Freedom Press, 1965).
Первый Интернационал
Бакунин М.А. Избранные сочинения. В 5 тт. (М. — Пг., «Голос труда», 1919–1921). Т.4.
Гильом Дж. Интернационал (Воспоминания и материалы 1864–1878 гг.). В 2 тт. (Пг. —М., «Голос труда», 1922)
Гильом Дж. Карл Маркс и Интернационал (Пг. —М., «Голос труда», 1920).
Лебедев Н.К. К истории Интернационала: Этапы международного объединения трудящихся (М., URSS, 2010).
Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. 2-е изд. Т.16–18.
Первый Интернационал и Парижская Коммуна. Документы и материалы (М., 1972).
Парижская Коммуна 1871 г.
Бакунин М.А. Парижская коммуна и понятие о государственности / Бакунин М.А. Избранные сочинения. В 5 тт. (М. — Пг., «Голос труда», 1919–1921). Т.4.
Маркс К. Гражданская война во Франции (разные издания).
Революционный синдикализм и анархо-синдикализм
Дамье В.В. История анархо-синдикализма (М., URSS, 2010).
Дамье В.В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. В 2 тт. (М., «Новое литературное обозрение», 2006, 2007).
Пато Э., Пуже Э. Как мы совершим революцию (М., URSS, 2010).
Российская революция и анархизм
Анархисты: Документы и материалы 1883–1935 гг. В 2 тт. (М., РОССПЭН, 1998).
Аршинов П.А. История махновского движения (Запорожье, «Дикое поле», 1995).
Волин В.М. Неизвестная революция (М., «Праксис», 2005).
Голованов В.Я. Махно (М., «Молодая гвардия», 2008. Серия «Жизнь замечательных людей»).
Кронштадт 1921. Документы о событиях в Кронштадте весной 1921 г. (М., международный фонд «Демократия», 1997).
Махно Н.И. Воспоминания (М., «Терра», 1996).
Махно Н.И. Азбука анархиста (М., «Вагриус», 2005).
Махно Н.И. На чужбине. 1924–1934. Записки и статьи (Париж, «Громада», 2004).
Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918–1921. Документы и материалы (М., РОССПЭН, 2006).
Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия (М., РОССПЭН, 1996).
Скирда А. Нестор Махно, казак свободы. Гражданская война и борьба за вольные Советы в Украине 1917–1921 (Париж, «Громада», 2001).
Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания 1917–1939 (М., ИВИ РАН, 1998).
Шубин А.В. Махно и махновское движение (М., МИК, 1998).
Шубин А.В. Анархия — мать порядка. Между красными и белыми (М., «Эксмо», 2005).
Эврич П. Восстание в Кронштадте. 1921 (М., «Центрполиграф», 2007).
Эврич П. Русские анархисты (М., «Центрполиграф», 2006).
Berkman A. The Russian Tragedy (разные издания).
Berkman A. The Kronstadt Rebellion (разные издания).
Berkman A. The Bolshevik Myth (разные издания).
Goldman E. My Disillusionment in Russia. My Further Disillusionment in Russia (разные издания).
Goldman E. Living My Life (разные издания).
Maximoff G.P. The Guillotine at Work. Twenty years of Terror in Russia (Chicago, 1940; репринт — 1975).
Испанская революция 1936–1939 гг.
Дамье В.В. Забытый Интернационал. Международное анархо-синдикалистское движение между двумя мировыми войнами. В 2 тт. (М., «Новое литературное обозрение», 2006, 2007).
Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания 1917–1939 (М., ИВИ РАН, 1998).
Шубин А.В. Великая Испанская революция (М., URSS, 2011).
Примечания
1
Объяснение этого и других терминов вы найдете в тексте книги и примечаниях.
(обратно)2
В этой книге постоянно встречаются термины «либертарий» и «либертарный». В общем смысле они являются синонимами русских слов «анархист» и «анархический», «вольный», «свободный». (В свое время прилагательное «либертарный» также пытались перевести на русский язык с помощью немного неуклюжего слова «свободнический».) Противоположностью определения «либертарный» является «авторитарный», то есть основанный на принципе власти, жесткий и властный по своему характеру. Соответственно, если «либертарий» — синоним анархиста, свободомыслящего человека, то его противоположностью выступает «авторитарий» — поборник власти, носитель властнической психологии. Анархисты рассматривают и социалистическую, левую традицию как разделенную на две, зачастую непримиримые части, — сторонников анархического, вольного, либертарного общества (сюда относят собственно анархистов и некоторые родственные течения, в основе которых лежат принципы свободного объединения, самоуправления, федерализма, уважения к свободе личности) и сторонников социализма авторитарного или государственного, строящегося на принципах централизма, иерархии, государственной власти и принуждения.
(обратно)3
Прудон, Пьер-Жозеф (1809–1865) — французский общественный деятель и мыслитель социалистического направления, сформулировавший основные положения современного анархизма и впервые открыто провозгласивший себя анархистом. Антигосударственные, федералистские идеи Прудона оказали большое влияние на социалистическую мысль и рабочее движение XIX–XX вв.
(обратно)4
Анри, Эмиль (1872–1894) — французский анархист, сторонник «пропаганды действием». Приговорен к смертной казни на гильотине за организацию взрыва в кафе около парижского вокзала Сен-Лазар в знак протеста против казни анархиста Огюста Вайяна. Последними словами Анри были: «Смелее, товарищи! Да здравствует Анархия!»
(обратно)5
Гед, Жюль (1845–1922) — французский социалист, основатель Рабочей партии и один из вождей социал-демократического Второго Интернационала.
(обратно)6
Штирнер, Макс (1806–1856, наст. имя Шмидт, Иоганн Каспар) — немецкий философ-младогегельянец, сформулировавший идеи индивидуалистического анархизма в своей книге «Единственный и его собственность»
(обратно)7
Бакунин, Михаил Александрович (1814–1876) — анархист, деятель российского и международного революционного движения, участник Первого Интернационала, в котором он противостоял государственническому направлению, представленному социал-демократами и марксистами, выступал за безгосударственный федеративный социализм. Идеи и деятельность Бакунина оказали большое влияние на революционно-освободительное и народническое движение в России, привели к появлению в Европе организованного анархического движения в 1860–1870-е гг.
(обратно)8
Кропоткин, Петр Алексеевич (1842–1921) — деятель российского и международного революционного движения, ученый. Анархо-коммунистические идеи Кропоткина оказали большое влияние на анархическое и социалистическое движение. С 1876 г. по 1917 г. — в эмиграции, вернулся в Россию после Февральской революции.
(обратно)9
Малатеста, Эррико (1853–1932) — итальянский анархист, ученик и соратник М. Бакунина.
(обратно)10
Волин, Всеволод Михайлович (1882–1945, наст. фамилия Эйхенбаум) — деятель российского и международного анархического движения, участник махновского движения. Его работа «Неизвестная революция» (1946, на русском языке — 2005) представляет собой критический анализ революционного движения в России и рассказ о революции 1917–1921 гг. и участии в ней анархистов.
(обратно)11
Равашоль, Франсуа Клавдий (1859–1892) — французский анархист, прославившийся актами индивидуального террора. Казнен на гильотине. Имя Равашоля стало символом анархического терроризма конца XIX в.
(обратно)12
Речь идет о польском восстании 1863–1864 гг. Бакунин участвовал в нем неудачно — зафрахтованный польскими повстанцами корабль, на котором они плыли через Балтийское море, не дошел до места назначения.
(обратно)13
На могиле Кропоткина на Новодевичьем кладбище в Москве выбита надпись, говорящая о том, что там лежит выдающийся географ. Политический режим в СССР трактовал кропоткинский анархизм (и анархизм вообще) как мелкобуржуазное, сугубо утопическое течение, враждебное марксизму-ленинизму.
(обратно)14
Во время Первой мировой войны Кропоткин выступил в поддержку стран Антанты (включая Россию) против Австрии и Германии. Эта позиция была осуждена большинством анархистов, придерживавшихся последовательных антимилитаристских и интернационалистских позиций.
(обратно)15
Дословно — «общее дело».
(обратно)16
От французского слова mutuel — «взаимный».
(обратно)17
Фор, Себастьен (1858–1942) — французский анархист, либертарный педагог. С 1920-х гг. совместно с Волиным выступал с идеей «синтеза» — объединения анархистов различных направлений в рамках общих федераций — в противовес выдвинутой Аршиновым и Махно идее «Платформы», фактически выступавшей за создание централизованной анархической партии.
(обратно)18
Путаница, однако, на этом не закончилась, потому что кроме анархистов и либертариев есть еще и либертарианцы — сторонники крайней версии либерализма, резко выступающие против государства. В США и некоторых других странах они представлены либертарианскими партиями, часть представителей этого направления называют себя «анархо-капиталистами». Для их описания корректнее использовать прилагательное «либертарианский», оставив термин «либертарный» за анархистами и некоторыми другими родственными социалистическими течениями.
(обратно)19
День международной солидарности трудящихся Первое мая отмечается в память казненных чикагских рабочих-анархистов. 1 мая 1886 г. рабочие организации Чикаго, в которых было сильно влияние анархистов, проводили забастовку и манифестацию за введение 8-часового рабочего дня, в ходе которой неизвестным лицом была брошена бомба в полицию, после чего та открыла огонь по демонстрантам, убив и ранив несколько десятков человек. По этому делу были арестованы восемь анархистов и, несмотря на то, что вина ни одного из них в том, что он бросил бомбу, не была доказана, четверо из них были казнены в ноябре 1887 г., еще один покончил жизнь самоубийством в тюрьме, а трое получили тюремные сроки. В память о казненных и погибших анархистах — Альберте Парсонсе, Адольфе Фишере, Георге Энгеле, Августе Шписе и Луисе Линге — международное рабочее движение начиная с 1890 г. отмечает Первое мая ежегодными манифестациями.
(обратно)20
Амон, Огюстен Фредерик Адольф (1862–1945) — французский социальный исследователь.
(обратно)21
Реклю, Жан Элизе (1830–1905) — французский анархист, соратник Бакунина и Кропоткина, историк и географ, автор многотомной работы «Земля и люди».
(обратно)22
Люмпен-пролетариат (от нем. Lumpen — «лохмотья») — термин, впервые введенный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в работе «Немецкая идеология» для обозначения низших слоев пролетариата, не участвующих в общественно-полезном производстве и неспособных достичь классового сознания. Позднее «люмпенами» стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и др.).
(обратно)23
Персонаж «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака, беглый каторжник.
(обратно)24
Сторонником воздержания от участия в выборах и голосовании.
(обратно)25
Распай, Франсуа Венсан (1794–1878) — французский революционер, деятель республиканского и левого движения, также известен как химик, ботаник, физиолог.
(обратно)26
Кавеньяк, Луи Эжен (1802–1857) — французский генерал и государственный деятель, главный организатор расправы над парижскими рабочими во время подавления июньского восстания 1848 г.
(обратно)27
Луи-Наполеон, или Наполеон III (1808–1873, полное имя — Шарль Луи Наполеон Бонапарт) — племянник Наполеона Бонапарта, первый президент Французской республики (1848–1852), впоследствии провозгласивший себя императором (1852–1870) и создавший авторитарный полицейский режим Второй Империи. Отстранен от власти в ходе Франко-прусской войны 1870–71 гг. Последний монарх Франции.
(обратно)28
Преимущественно, главным образом (лат.).
(обратно)29
Первый Интернационал (Международное товарищество рабочих) — первая массовая международная организация рабочего класса, основана в 1864 г. в Лондоне. Прекратила свое существование как единая организация после раскола в 1872 г. между авторитарными социалистами (социал-демократами и сторонниками Маркса), с одной стороны, и антиавторитарными социалистами (бакунистами и прудонистами), с другой. Марксистский Интернационал в лице Генерального совета формально просуществовал в США до 1876 г., Анархистский Интернационал действовал в Европе до 1877 г. Сторонники парламентаризма и государственного социализма впоследствии создали социал-демократический Второй Интернационал, анархо-синдикалисты позднее, в 1922 г., объединились в Международную ассоциацию трудящихся (МАТ).
(обратно)30
Имеются в виду Народные фронты в Испании, Франции и некоторых других странах в 1930-е гг.
(обратно)31
Примо де Ривера, Мигель (1870–1930) — испанский военный и политический деятель, в 1923–1930 гг. — диктатор, председатель правительства при короле Альфонсо XIII.
(обратно)32
Арвон, Анри (1914–1992) — французский историк общественной мысли, автор многочисленных популярных брошюр о различных направлениях философии, включая анархизм.
(обратно)33
Оставим это утверждение на совести автора, который на протяжении многих лет стремился создать собственную концепцию «либертарного марксизма» (поначалу даже «либертарного марксизма-ленинизма»), пытаясь не обращать внимания на изрядную долю авторитаризма, присутствовавшего в марксизме с самого начала
(обратно)34
Вейтлинг, Вильгельм (1808–1871) — германский коммунист-утопист.
(обратно)35
Винсент де Поль (1581–1660) — французский католический деятель, впоследствии причисленный к лику святых; занимался помощью больным, бедным, каторжникам и брошенным детям. Гизо, Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский политический и государственный деятель либерально-консервативного направления, считается одним из создателей теории борьбы классов, позднее систематизированной Карлом Марксом. Талейран, Шарль Морис де (1754–1838) — французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трех режимах, известный мастер политической интриги; его имя стало едва ли не нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности.
(обратно)36
Последователи Луи Огюста Бланки (1805–1881), французского социалиста и революционера, отдававшего приоритет заговорщической деятельности и террору против властей.
(обратно)37
Третий Интернационал (Коммунистический Интернационал, Коминтерн) — международная организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919–1943 гг., создана по инициативе большевиков и В. И. Ленина в противовес социал-демократическому Второму Интернационалу.
(обратно)38
Сантильян, Диего Абад де (1897–1983, наст. имя Синесио Ваудилио Гарсия Фернандес) — экономист, ведущий деятель анархического движения в Испании и Аргентине.
(обратно)39
Вейль, Симона (1909–1943) — французский философ и религиозный мыслитель, в 1920–30-е гг. симпатизировала марксизму и анархизму.
(обратно)40
Не называя Штирнера. К тому же у нас нет уверенности в том, что Прудон его читал. — Прим. автора.
(обратно)41
Люксембург, Роза (1871–1919) — одна из наиболее влиятельных деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии, теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из основателей «Союза Спартака» и Коммунистической партии Германии. После революции 1917 г. в России выступила с критикой большевистской диктаторской политики, которую считала «несомненной диктатурой, но не пролетариата, а кучки политиканов». Убита в ходе подавления войсками революционных выступлений берлинских рабочих.
(обратно)42
Паскаль, Блез (1623–1662) — французский математик, физик и теолог, изобретатель счетной машины, писал так (Мысли, 72): «Мир — безграничная сфера, центр которой всюду, а поверхности нет нигде». — Прим. пер.
(обратно)43
Лефевр, Анри (1901–1991) — французский социолог и философ — неомарксист.
(обратно)44
Блан, Луи (1811–1882) — французский политический деятель, социалист, участник революции 1848 г.
(обратно)45
Пап, Сезар де (1842–1890) — деятель рабочего движения, организатор бельгийской секции Первого Интернационала, впоследствии один из основателей Бельгийской рабочей партии.
(обратно)46
Лонге, Шарль (1839–1903) — французский журналист и революционер, участник Парижской Коммуны и Первого Интернационала. Был женат на одной из дочерей Карла Маркса, Женни.
(обратно)47
Узуфрукт — право пользования чужим имуществом и доходами от него при условии сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения.
(обратно)48
Согласно средневековым законам, аллод — выделенное в полную власть феодальное земельное владение, наследственная, неотторгаемая собственность.
(обратно)49
Клиринг — безналичные расчеты между странами или предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путем взаимозачета.
(обратно)50
Кафиеро, Карло (1846–1892) — итальянский анархист, соратник Михаила Бакунина в Первом Интернационале, автор популярного переложения «Капитала» Карла Маркса для рабочих на итальянском языке.
(обратно)51
Сравните схожее рассуждение в «Критике Готской программы», написанной Карлом Марксом в 1875 г., но опубликованной лишь в 1891 г. — Прим. автора.
(обратно)52
В конце 1940-х гг. коммунистическое правительство Югославии во главе с Иосипом Броз Тито вступило в открытый конфликт со Сталиным и с тех пор проводило самостоятельный от руководства СССР политический курс на международной арене. Начиная с середины 1950-х гг. Югославия провозгласила курс на создание собственной модели социализма, в основе которой лежало рабочее производственное самоуправление, которое, впрочем, носило ограниченный характер. Руководство СССР заклеймило «югославский путь» как «извращение» социализма.
(обратно)53
Речь идет о политике самоуправления в Алжире, провозглашенной после обретения страной независимости в 1962 г. Она также носила ограниченный характер и затем была свернута
(обратно)54
Гильом (Гийом), Джеймс (1844–1916) — швейцарский социалист и анархист, соратник Бакунина в Первом Интернационале, один из лидеров Юрской федерации Интернационала, сторонник коллективистского анархизма. Автор работы по истории Интернационала, биографии Михаила Бакунина и ряда других сочинений.
(обратно)55
Куртелари — округ в Швейцарии с центром в одноименном городе. Юрская федерация входила в состав Первого Интернационала, придерживаясь анархистских идей.
(обратно)56
Бебель, Август (1840–1913) — германский социал-демократ и деятель рабочего движения, один из основателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
(обратно)57
Жирондисты — одна из основных политических партий в эпоху Великой Французской революции, противостоявшая якобинцам.
(обратно)58
Моррас, Шарль (1858–1862) — французский публицист, представитель воинствующего имперского национализма, основатель монархической организации «Аксьон Франсэз». В годы Второй мировой войны поддерживал коллаборационистское правительство маршала Петена, выступал как ярый антисемит.
(обратно)59
Пи-и-Маргаль был премьер-министром в период между 1873 и 1874 гг., когда в Испании была ненадолго установлена республика. Когда в январе 1937 г. Федерика Монтсени, анархистка, занявшая пост министра в республиканском правительстве, восхваляла регионализм Пи-и-Маргаля, Гастон Леваль заметил ей, что тот далеко не являлся верным последователем Бакунина. — Прим. автора.
(обратно)60
Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) — крупнейшее профсоюзное объединение Франции, в котором в конце XIX— начале XX в. под влиянием анархистов превалировали революционно-синдикалистские идеи.
(обратно)61
Роберт Лузон указал автору, что с диалектической точки зрения это заявление и то, что имел в виду Пеллутье, не являются взаимоисключающими: терроризм оказал противоречивое воздействие на рабочее движение. — Прим. автора.
(обратно)62
Пеллутье, Фернан (1867–1901) — французский анархист и революционный синдикалист, организатор Федерации бирж труда, впоследствии слившейся с ВКТ. Его идеи оказали влияние на ВКТ в ее революционно-синдикалистский период.
(обратно)63
Монат, Пьер (1881–1960) — французский анархист и революционный синдикалист, активист ВКТ.
(обратно)64
Либкнехт, Вильгельм (1826–1900) — один из основателей и лидеров германской социал-демократии.
(обратно)65
Плеханов, Георгий Валентинович (1856–1918) — российский социал-демократ (начинал как народник-бакунист), организатор первой в России марксистской группы «Освобождение труда» (1883), один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) и лидер ее меньшевистского крыла, деятель Второго Интернационала. Герен пишет здесь о брошюре Плеханова «Анархизм и социализм».
(обратно)66
Пуже, Эмиль (1860–1931) — французский анархист и революционный синдикалист, в 1901–1908 гг. — вице-секретарь ВКТ, один из авторов Амьенской хартии (1906).
(обратно)67
Грав, Жан (1854–1939) — французский анархо-коммунист, редактор влиятельной анархистской газеты «Les Temps nouveaux».
(обратно)68
Сорель, Жорж Эжен (1847–1922) — французский философ, марксист, теоретик революционного синдикализма.
(обратно)69
Серж, Виктор (1890–1947, наст. имя — Кибальчич, Виктор Львович) — деятель анархического, затем коммунистического движения, франкоязычный писатель. Родился в Бельгии в семье революционеров-эмигрантов из России. С 1919 г. — в России, примкнул к большевикам, был активным деятелем Коминтерна. В 1923 г. примкнул к Левой оппозиции, за что в 1928 г. исключен из партии, затем сослан. В результате международной кампании в защиту Сержа ему было разрешено покинуть СССР в 1936 г. Автор мемуаров («От революции к тоталитаризму: воспоминания революционера») и ряда романов. В последние годы жизни — активный критик сталинизма и тоталитаризма.
(обратно)70
Панкратова, Анна Михайловна (1897–1957) — советский историк, партийный и общественный деятель, автор ряда работ по истории фабзавкомов и рабочего контроля.
(обратно)71
Аршинов, Петр Андреевич (1886–1938) — деятель российского и международного анархического движения. Анархист с 1906 г., участник Российской революции 1905–1907 гг. В 1910–1917 гг. на каторге, где познакомился с Нестором Махно. После революции 1917 г. принимал участие в деятельности различных анархистских организаций, в 1919–1921 гг. — активный участник махновского движения на Украине, которому впоследствии посвятил книгу («История махновского движения»). С 1921 г. — в эмиграции. Редактор журнала «Дело труда», автор «Организационной платформы Всеобщего союза анархистов» (1926 г.), вызвавшей большие дискуссии в анархистском движении. В 1931 г. призвал анархистов пересмотреть отношение к «диктатуре пролетариата», затем вернулся в СССР, отрекся от анархизма. Впоследствии арестован и расстрелян.
(обратно)72
Максимов, Григорий Петрович (1893–1950) — российский анархо-синдикалист, один из лидеров Союза анархо-синдикалистской пропаганды, а затем Российской конфедерации анархистов-синдикалистов. Выслан из Советской России в составе группы анархистов в 1922 г. В эмиграции редактировал ряд анархистских журналов на русском языке («Голос труженика», «Дело труда», «Дело труда — Пробуждение»). Автор исследования по истории большевистского террора — «Гильотина за работой. Двадцать лет террора в России» (по-английски — 1940 г., русское издание готовится к печати).
(обратно)73
Коллонтай, Александра Михайловна (1872–1952, урожд. Домонтович) — деятельница российского и международного социалистического и женского движения, член большевистской партии с 1915 г. В 1921 г. в ходе дискуссии о профсоюзах Коллонтай возглавила «Рабочую оппозицию», затем осужденную как синдикалистский и анархистский уклон в РКП(б). С 1923 г. — на дипломатической работе.
(обратно)74
Махно, Нестор Иванович (1888–1934) — деятель российского и международного анархического движения, в 1918–1921 гг. — лидер народного повстанческого движения на Украине. Анархист с 1906 г., участник Российской революции 1905–1907 гг. В 1910 г. приговорен к смертной казни, затем замененной каторгой. В 1917 г. освобожден из тюрьмы революцией, вернулся на Украину, где стал одним из лидеров анархического движения и главой местного Совета в селе Гуляй-Поле. С 1918 г. — командир партизанских повстанческих отрядов, сражавшихся против австро-германских оккупантов, украинских националистов, белогвардейцев. На территории, контролировавшейся махновцами, была установлена власть вольных Советов, проводились социалистические мероприятия. Повстанческая армия под руководством Махно заключала несколько военных союзов с Красной Армией, сыграв большую роль в разгроме белых, но неоднократно объявлялась большевиками вне закона и подвергалась репрессиям. В 1921 г. махновщина была окончательно ликвидирована, Махно с группой соратников ушел за границу. С 1925 г. Махно в Париже, где совместно с П. Аршиновым участвует в группе «Дело труда» и одноименном журнале. Умер в 1934 г. в Париже. Автор воспоминаний по истории революции на Украине и махновского движения.
(обратно)75
Герен несколько вольно трактует эти события.
(обратно)76
Имеются в виду газеты «Буревестник» (Петроград, 1917–1918), «Голос труда» (Петроград, Москва, 1917–1918), «Анархия» (Москва, 1917–1918).
(обратно)77
Глава французской военной миссии в России во время Первой мировой войны и начавшейся революции.
(обратно)78
На самом деле были задействованы отряды ВЧК и воинские части, в том числе латышские стрелки.
(обратно)79
Леваль, Гастон (1895–1978, наст. имя Пилар, Роберт) — французский анархо-синдикалист, принимавший участие в деятельности анархистского движения в Испании, Аргентине и Франции. Участник и историк Испанской революции 1936–1939 гг.
(обратно)80
Гольдман, Эмма (1869–1940) — деятельница международного анархистского движения. Родилась в Российской империи, с 1885 г. — в США. В 1919 г. депортирована в Советскую Россию вместе с большой группой анархистов российского происхождения. После подавления Кронштадтского восстания покинула Россию (в конце 1921 г.). Выступала как ярый критик большевистской диктатуры, опубликовав ряд работ на эту тему. В 1936–1939 гг. принимала участие в Испанской революции и оказывала помощь испанским анархистам.
(обратно)81
На самом деле Махно получил начальное школьное образование.
(обратно)82
Имеются в виду пулеметные тачанки, впервые появившиеся именно у махновцев.
(обратно)83
Это расхожая марксистская теория, которая нуждается в доказательстве. К сожалению, ее некритически повторяет в своих работах и Пол Эврич, американский историк российского анархизма и Кронштадтского восстания.
(обратно)84
Формально Калинин занимал высшую должность в структуре советского государства, но фактически она была номинальной.
(обратно)85
Имеется в виду Венгерская революция 1956 г., в ходе которой также создавались рабочие советы.
(обратно)86
Беркман, Александр (1870–1936) — деятель международного анархистского движения. Родился на территории Российской империи, с 1888 г. — в США. Организатор покушения на предпринимателя Генри Клея Фрика в отместку за жестокое подавление забастовки сталелитейщиков (1892). Провел 14 лет в тюрьме. Затем совместно с Эммой Гольдман редактировал ряд анархистских изданий. В 1919 г. депортирован из США в Советскую Россию. В конце 1921 г. покинул СССР. В Европе выступил с рядом критических работ против большевиков. Страдая от болезней, покончил с собой в 1936 г. незадолго до Испанской революции.
(обратно)87
Ярчук, Ефим (Хаим) Захарович (1882–1938) — анархист, в 1917 г. — депутат Петроградского Совета и член исполкома Кронштадтского Совета, активист Союза анархо-синдикалистской пропаганды и соредактор газеты «Голос труда». В октябре 1917 г. — член Петроградского Военно-революционного комитета (от анархистов), участник штурма Зимнего дворца. Позднее участвовал в деятельности Российской конфедерации анархистов-синдикалистов и Конфедерации анархистов Украины «Набат», неоднократно арестовывался большевиками, а в 1922 г. выслан из России. В 1925 г. получил разрешение вернуться в СССР, отрекся от анархизма, позднее расстрелян.
(обратно)88
Метт, Ида (1901–1973, наст. фамилия Гильман) — участница российского и международного анархического движения. Арестовывалась большевиками, затем в 1924 г. бежала из России. С 1926 г. жила во Франции и Бельгии. Принимала участие в деятельности группы «Дело труда» в Париже совместно с Аршиновым и Махно. Автор работ о Кронштадтском восстании и воспоминаний о Несторе Махно.
(обратно)89
Роккер, Рудольф (1873–1958) — деятель германского и международного анархо-синдикалистского движения, автор масштабного исследования «Национализм и культура» (1937), а также ряда работ по истории анархизма.
(обратно)90
Горелик, Анатолий (1890–1956, наст. имя и отчество Григорий Владимирович) — активист российского и международного анархического движения. Анархист с 1904 г., в 1909–1917 гг. — в эмиграции, после революции участвовал в деятельности анархических групп на Украине, неоднократно арестовывался большевиками. В 1922 г. выслан из СССР, автор упомянутой брошюры о гонениях на анархистов в Советской России. В 1920-е гг. редактор газеты «Голос труда» в Аргентине (на русском языке, закрыта в 1930 г.), активист анархо-синдикалистского движения. В 1940 г. разбит параличом, последующие 16 лет провел прикованным к постели, умер в Буэнос-Айресе. О другом авторе брошюры, А. Комове, сведений найти не удалось.
(обратно)91
Александр Беркман издал последовательно брошюры The Russian Revolution and the Communist Party (1921, написана совместно с Александром Шапиро, Алексеем Боровым, Эммой Гольдман и Рудольфом Роккером), The Russian Tragedy (1922), The Kronstadt Rebellion (1922), а в 1925 г. опубликовал свой дневник, который он вел в России — The Bolshevik Myth. Эмма Гольдман опубликовала свои воспоминания о пребывании в Советской России (в двух частях — My Disillusionment in Russia (1923), My Further Disillusionment in Russia (1924)). О России она также рассказывает в своих воспоминаниях Living My Life (1931).
(обратно)92
Имеются в виду трехтомные «Воспоминания» Н. Махно и книга П. Аршинова «История махновского движения».
(обратно)93
Maximoff G.P. The Guillotine at Work. Twenty years of Terror in Russia (Chicago, 1940. Готовится издание на русском языке). Волин В. М. Неизвестная революция (М., «Праксис», 2005).
(обратно)94
Итальянский синдикальный союз (ИСС, Unione Sindacale Italiana, USI) — итальянское анархо-синдикалистское профобъединение, основано в 1912 г. В 1922 г. вошло в состав Международной ассоциации трудящихся (МАТ), анархо-синдикалистского Интернационала. В период расцвета в ИСС состояло около 500 тыс. человек. Был разгромлен после прихода к власти в Италии фашистов. Восстановлен в 1950 г., но в настоящее время крайне малочислен.
(обратно)95
Бернери, Камилло (1897–1937) — итальянский анархист, публицист, философ. Сражался добровольцем в Испании в составе анархических подразделений. Резко критиковал руководство НКТ за вхождение в правительство. Убит коммунистами в Барселоне во время майских столкновений 1937 г.
(обратно)96
Фаббри, Луиджи (1877–1935) — итальянский анархист. После прихода к власти в Италии фашистов жил в Европе, затем в Уругвае.
(обратно)97
Эйснер, Курт (1867–1919) — германский левый социалист, один из организаторов социалистической революции в Баварии в ноябре 1918 г. Убит контрреволюционером в феврале 1919 г., что привело к провозглашению недолговечной Баварской советской республики в апреле 1919 г. Известный германский социалист и анархист Густав Ландауэр (1870–1919) ненадолго стал комиссаром просвещения и народного образования в первом правительстве республики, а другой анархист, поэт и писатель Эрих Мюзам (1878–1934) принимал участие в создании Советов в Баварии. После захвата власти в Баварской республике коммунистами и последовавшего разгрома ее контрреволюционными силами, Ландауэр был убит 1 мая 1919 г., а Эрих Мюзам посажен в тюрьму. Мюзам был впоследствии убит нацистами в первом концентрационном лагере в Ораниенбурге в 1934 г.
(обратно)98
Хоакин Маурин (1896–1973) и Андрес Нин (1892–1937) — активисты испанской НКТ, затем перешедшие на позиции ленинизма. Позднее оба стали активистами Рабочей партии марксистского единства (ПОУМ) в Испании, сражавшейся против франкистов и ставшей жертвой репрессий со стороны сталинистов. В 1937 г. Андрес Нин был сначала арестован, затем выкраден из тюрьмы и убит агентами НКВД в Испании.
(обратно)99
Peirats, J. La CNT y la revolucion espanola. Полное английское издание — The CNT in the Spanish Revolution.
(обратно)100
Аффинити-группа (от англ. affinity — близость) — небольшая группа активистов (как правило, от 3 до 20 человек), работающих совместно на принципах прямого действия. Впервые появились в Испании в XIX веке и вскоре стали одним из широко распространенных способов организации анархистов (теперь и во всем мире).
(обратно)101
Натуризм (от лат. natura — природа) — течение, в основе которого лежит максимальное приближение человека к природе для оздоровления тела и духа. Термин также часто используется как синоним нудизма — отказа от одежды и пропаганды наготы. Оба течения были распространены среди анархистов Испании и других стран.
(обратно)102
Не следует путать с промежуточными политическими формами, которые анархисты, в отличие от марксистов, отрицают. — Прим. автора.
(обратно)103
Международная ассоциация трудящихся (МАТ), в которую входила НКТ, провела чрезвычайный конгресс 11–13 июня 1937 г. в Париже, на котором испанский анархо-синдикалистский профцентр упрекали за участие в правительстве и совершенные уступки. Воспользовавшись этим, Себастьен Фор решил опубликовать серию статей, озаглавленных «Смертельный наклон», в нескольких номерах газеты «Le Libertaire» (8, 15 и 22 июля). В них содержалась жесткая критика решения испанских анархистов войти в правительство. Недовольная этим НКТ добилась смещения секретаря МАТ Пьера Бенара. — Прим. автора.
(обратно)104
«Теоретически», поскольку было несколько судебных разбирательств между деревнями по этому поводу. — Прим. автора.
(обратно)105
Дуррути, Буэнавентура (1896–1936) — известный деятель испанского и международного анархистского движения. В годы Испанской революции — командир легендарного анархистского добровольческого соединения, Колонны Дуррути. В составе Колонны Дуррути сражались анархисты из Испании, Франции, Италии, США, Германии и других стран.
(обратно)106
Однако в северных не контролируемых анархистами областях, где во владение большими поместьями в авторитарной манере вступили муниципалитеты, батраки, к сожалению, не почувствовали, что это было революционным преобразованием: их зарплаты и условия труда не изменились, а самоуправления не было. — Прим. автора.
(обратно)107
мая 1937 г. республиканские правительственные силы и полиция попытались захватить центральную телефонную станцию Барселоны, контролировавшуюся НКТ-ФАИ. В ходе вооруженных столкновений 3–8 мая анархистов поддержала Рабочая партия марксистского единства (ПОУМ), которая затем сама стала жертвой правительственных репрессий (это решение было принято под давлением сталинистов, боровшихся против троцкистов). Первоначально анархисты выступили совместно с ПОУМ, но затем умеренная часть руководства НКТ пошла на соглашение с правительством и фактически закрыла глаза на разгром ПОУМ. Один из лидеров партии, Андрес Нин, был арестован, а затем выкраден из тюрьмы агентами НКВД и убит. В ходе майских событий в Барселоне аналогичная судьба постигла и некоторых анархистов, в частности, итальянца Камилло Бернери, резко критиковавшего вхождение анархистов в правительство.
(обратно)108
Аскасо Будрия, Хоакин (1906/1907–1977) — испанский анархист, член НКТ, руководитель Регионального совета обороны Арагона. Не путать с другим известным анархистом — Франсиско Аскасо (1901–1936) — его родственником, убитым в самом начале революции.
(обратно)109
Здесь и далее Герен пишет о дискуссиях по поводу самоуправления и социализма, имевших место в среде коммунистов и социалистов в 1950–1960-е гг., а также об опыте самоуправления в Югославии, Алжире и др. странах.
(обратно)110
Позднее Захоуан был смещен со своего поста в результате военного переворота и стал одним из лидеров подпольной социалистической оппозиции.
(обратно)111
Maitron, Jean. Histoire du mouvement anarchiste en France (1880–1914) (1951, 1955).
(обратно)112
Woodcock, George. Anarchism: A History of Libertarian Ideas and Movements (1962).
(обратно)113
Joll, James. The Anarchists (1964).
(обратно)114
Джеймс Джолл недавно написал автору, что после прочтения этой книги он в какой-то мере пересмотрел свои взгляды. — Прим. автора.
(обратно)115
По-русски опубликован в 2012 г. издательством «Гилея».
(обратно)116
Имеется в виду тогдашний президент Франции Шарль Де Голль.
(обратно)117
В бывшем дворце Бурбонов заседает нижняя палата французского парламента.
(обратно)




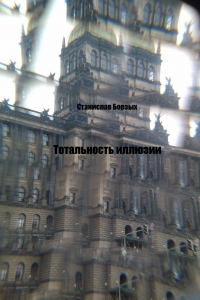
Комментарии к книге «Анархизм: от теории к практике», Даниэль Герен
Всего 0 комментариев