Иван Сергеевич Аксаков Журналистика – выражение общественного мнения, а не какая-нибудь законодательная власть
К числу самых интересных слухов, которыми полнятся теперь Москва и Петербург, принадлежат, бесспорно, слухи о преобразовании Главного управления по делам печати. По словам петербургских газет, в городе рассказывают: одни – будто управление имеет как-то примкнуть к сенату; другие – будто оно организуется в самостоятельное учреждение; третьи, наконец, – будто имеется в виду создать новое министерство «полиции», в ведение которого отойдет и литература. В какой степени достоверны эти толки – мы не знаем, но не в этом покуда дело. Довольно уже и того, что они существуют, и существуют, конечно, не без основания.
Сегодня ровно три года как состоялось Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 6 апреля 1865 г., то есть ныне действующее законоположение о печати. В именном указе, данном Правительствующему Сенату от того же числа, сказано, что правила этого нового законоположения установляются лишь «впредь до дальнейших указаний опыта» и ввиду «переходного положения судебной у нас части». Последнее выражение объясняется тем, что в то время новые судебные уставы не только не были еще нигде введены в действие, но не были даже и изданы. Очевидно, что законоположение, сочиненное, по словам самого законодателя, под условием «переходного состояния судебной части», тем уже самым признано несоответствующим условиям нового времени, когда судебная часть уже вышла из переходного состояния и окончательно определилась. Так как слова Высочайшего указа не могут же идти мимо в русской государственной жизни, то не в этом ли обстоятельстве должны мы искать основание слухам о преобразовании существующей системы контроля над русской печатью?.. Во всяком случае, если закон 6 апреля издан был лишь «впредь до указаний опыта», то не имеем ли мы права заключить из упомянутых толков, что указания опыта были не совсем в пользу ныне действующего порядка?
Почему же так? В чем же собственно обличалась его неудовлетворительность? Мы разумеем «неудовлетворительность» в смысле правительственном: мнение же литературы об этом законе давно известно, и не оно может интересовать нас в настоящую минуту. Всматриваясь в «указания опыта», мы прежде всего приходим к следующему выводу: тогда как в Англии при строгих, почти драконовских законах, установилась на практике печать вольная, как воздух, на славу и здоровье этой великой страны, – в России происходит явление совершенно обратное: как ни мало заслуживают название либеральных законы, установившие систему предостережений, – практика у нас строже закона. Это обстоятельство очень важно. Никакое законоположение о печати не может, конечно, обнять всех случаев, всех разнообразных видов воплощения мысли в слове: неизбежная недостаточность внешних правил естественно восполняется толкованием закона в его применении и нигде поэтому практика закона не играет такой роли, как в деле литературы. По этой-то практике познается настоящее внутреннее отношение правительства к правам печати, его взгляд на свободу слова. Следовательно, все дело именно в этом взгляде, – и какие бы новые исправления ни были сделаны в Положении 6 апреля, куда бы ни примкнуло Главное управление, для нас это имеет значение второстепенное, если взгляд правительства остался все тот же.
Все зависит и будет зависеть именно от этого взгляда. Чтобы точнее определить и оценить этот взгляд, постараемся отрешиться от нашего личного пристрастия к свободе слова и взглянуть на нее – в интересах не столько литературы, сколько самого правительства.
Можно смотреть на печать как на силу враждебную, от которой следует всячески ограждаться и отчураться. Можно ласкать себя надеждою, что достанет уменья и власти славить человеческую мысль и выражение ее в слове, закупорить ее как в сосуде и выпускать как пар, по мере казенной надобности и через штемпелеванные клапаны. Можно видеть в свободе слова лишь неизбежное зло, но все же зло, и делать уступки этой свободе, вынужденные только крайнею необходимостью, так сказать, нехотя – de mau-vaise grace и de mauvaise humeur, как выразился Эмиль Олливье по поводу новейшего закона о печати, изобретенного французским правительством.
Можно, напротив того, относиться к печати как к силе союзной, как к вернейшему проводнику свободного общественного мнения, – как к сокровищнице мысли и ума миллионов, восполняющей неизбежную скудость единичного ума и мысли в правителях. Можно признавать свободу слова не только не злом, хотя бы и необходимым, а величайшим вожделенным благом, без которого также немыслимы жизнь духа и нормальное развитие человеческих обществ, как немыслимы без света и воздуха жизнь и нормальное развитие физической природы человека…
Различие взглядов ведет и к различию последствий. Взгляд на литературу как на силу враждебную, создает под конец действительно силу враждебную, озлобленную, мятежную, наступательную или, по крайней мере, систематически оппозиционную, неослабную в борьбе за свое существенное право. Попытки сковать и закупорить человеческую мысль производят опасные взрывы, а всякие вынужденные уступки, роняя достоинство правительства, не удовлетворяют тех, для кого они делаются, не внушают доверия и не содействуют миру. Чем отрицательнее отношение правительства к печати, чем оборонительнее положение, в которое оно становится к ней, чем больше принимает оно мер для своего ограждения, – тем отрицательнее и отношение печати к правительству, тем труднее оборона, тем недостаточнее с каждым днем становятся меры ограждения, тем чаще возникают столкновения, тем сильнее плодятся призрачные страхи, а с ними заботы и хлопоты администрации, – тем неудовлетворительнее оказываются всякие законы о печати. За либеральным законом последуют неминуемо стеснительные дополнения; вместе с развитием литературы обречен расти, усложняться и самый контроль. Одним словом, держась этого взгляда, администрация необходимо попадает в то, что французы называют un cercle vicieux.
Напротив того, чем благоприятнее относится администрация к свободе слова, – тем проще, тем немногосложнее и самые законы о печати; чем меньше администрация расположена пугаться и опасаться литературы, тем меньше призрачных пугал, тем искреннее печатное слово, – а чем оно искреннее и откровеннее, тем оно неопаснее. От этих общих суждений перейдем к нашей русской практике и ее примерами поясним нашу мысль.
Было бы клеветою и ложью утверждать, будто в отношениях нашего правительства к печати существует какая-либо систематическая враждебность. Да и не может быть такой враждебности по принципу ни у одного просвещенного правительства. Тем не менее нельзя отрицать, что в отношениях русского правительства к печати проявляется недоверчивость, по нашему мнению, ничем не оправдываемая. С тех пор как журналистика в России стала несколько свободнее, она успела оказать не одну действительную услугу правительству. В течение трехлетия со дня издания закона 6 апреля 1865 года не произошло, кажется, никакого особенного вреда, никакой опасности для государства, и еще менее для нравов, так как с большею свободою слова стали свободнее и сильнее раздаваться здравая мысль и честная критика. Вот на эти-то «указания опыта» смеем советовать правительству обратить свое особенное внимание. Но пойдем далее. Присутствие начала недоверчивости в законах о печати доказывается всеми теми мерами предосторожности, которыми обставлено разрешение и издание газет и журналов, издание книг не свыше и свыше 10 листов, с нормальным объемом печатного листа, – целой организацией контроля над литературой и, наконец, тем «административным произволом», как выражается сама «Северная Почта», который нашел себе выражение в системе предостережений. Но начало недоверчивости, однажды положенное в основание, не может, как и всякое иное начало, не развиваться последовательно и логически. А потому и самое законоположение о печати, – как бы, по-видимому, ни было оно либерально и немного сложно, – в дальнейшем своем развитии, под воздействием этого начала, будет уклоняться все более и более в сторону не либеральную, будет усложняться все более и более новыми дополнительными статьями – в смысле ограничения свободы печатного слова. Так не можем же мы не признать, что именно в этом смысле, а не с целью дать больший простор слову, состоялись все добавления к закону 6 апреля в течение последних трех лет.
Так, например, если основная мысль учреждения Главного управления по делам печати есть централизация надзора за литературой, то как ни дорого стоит оно, с двумя цензурными комитетами и с отдельными цензорами (более 200 тыс. руб. в год), едва ли через несколько лет не разрастется оно в целое министерство. Теперь вся литературная и журнальная производительность сосредоточена по преимуществу в столицах, но с развитием местной провинциальной литературы объем занятий, круг надзора и ведомства Главного управления должен расшириться и, наконец, дойти до громаднейших размеров. Вообразим себе только, какова должна быть деятельность центрального учреждения, надзирающего за печатным выражением мысли 80-миллионного населения, на пространстве целой части света, посредством сотни цензурных комитетов и тысячи цензоров, прочитывающих миллионы печатных листов? Дух захватывает при одной мысли о колоссальности такого механизма. Но до этого еще далеко, возразят нам: зачем доводить ad absurdum? Конечно, далеко, – но разве администрация не на этом пути? И разве верность пути не определяется тем пределом, к которому он доводит?
Вообще, в основании наших законов о печати лежит, кажется, такое рассуждение: «свобода печати желательна, – слова нет, но без ее излишеств и увлечений; надобно в отношении к ней найти mezzo termine, juste milieu, золотую средину, и устроить дело так, чтоб иметь от печати одни выгоды и удобства, без ее вреда и неудобств, – чтобы образовать печать приличную, благонравную, пуще всего благонамеренную и даже, пожалуй, либеральную, но поводливую, слушающуюся указаний и т. п.». Одним словом, рассуждение известное, но, к сожалению, на практике несостоятельное. Условия самой природы этих вещей таковы, что выгоды и удобства, желательные и даже необходимые для правительства в «просвещенной» или стремящейся к просвещению стране, не могут иметь место без неудобств и невыгод, – как не может быть плода без кожи, огня без жару (или, употребляя сравнение, самое убедительное по своей пошлости), «розы без шипов». Что-нибудь одно: или вовсе не признавать никакой словесности, или же признать ее такою, какая она есть, не искажая ее натуры: в противном случае, это будет уже не литература, как выражение мысли и чувств страны, а какая-то ложь, нарядившаяся в ее платье. Если вы хотите искренности в слове, так должны допустить каждому право говорить своим голосом, как бы даже груб или неблагозвучен он ни был; где нельзя говорить своим голосом, там не может быть и искренней речи, и вместо нее будет раздаваться одна благонамеренная фистула. Не доказанная ли уже давно истина, что никакой механизм и внешний порядок не заменит творчества органической жизни? А если это так, если обойтись без живых органических сил нельзя ни государству, ни обществу, то можно ли, признавая по необходимости права жизни, отнять у жизни то, что делает жизнь жизнью, в чем заключается условие ее творчества? Что лучше: жизнь или подобие жизни, – жизнь с своею свободою, со всею кажущеюся нестройностью, разнообразием, разноголосицей своих отправлений и проявлений, – или подобие жизни, то есть мертвенность и ложь, со внешним благоустройством и наружным порядком? Человеческое же слово только тогда и может быть названо словом, когда оно вполне живо, следовательно, вполне свободно; тогда только может оно дать добрый плод. Слово же, сдавленное и стесненное в своей свободе, слово неискреннее – гнилой дает плод.
Таким образом, та администрация, которая поставит себе задачею направлять литературу, вести слово на поводах, вытягивать его в струнку, муштровать, подчинять его благообразному однообразию, порождает сама для себя непреодолимые трудности и неудобства. Угнаться за всеми уклонениями печатного слова от правительственной нормы приличия и порядка, за всеми бесконечно разнообразными, неуловимыми проявлениями общественной мысли – нельзя: под тяжелую руку карающей власти попадается всегда только самая откровенная, стало быть, в известном смысле честная речь, и ускользнет речь лукавая. При усилении же надзора, при принятии более строгих мер контроля, убивается неминуемо всякая жизнь слова, а этого результата ни одно просвещенное правительство не желает и желать не может. Из этой дилеммы выход один – отказаться от всякой попытки руководствовать словом, как не только бесполезной, но и вредной. Само собою разумеется, что, говоря о слове, мы не имеем в виду тех случаев, когда слово перестает быть выражением мысли и переходит само в категорию внешнего, противозаконного действия. Но для отыскания тонкой черты, разграничивающей слово от действия, нельзя обозначить никаких общих признаков и правил: она определяется на самом данном факте, которого оценка никоим образом не может входить в атрибуты административной личной власти, а может, по самому существу своему, принадлежать только суду.
Заключим несколькими практическими замечаниями в интересах и с точки зрения самого правительства.
Современное положение нашей печати ненормально, – в этом нельзя не согласиться. С одной стороны, она находится в тяжкой, унизительной, противной ее призванию зависимости от администрации, вредной для искренности и правды; с другой, она производит нередко и на администрацию не должное, даже вредное давление, связывает свободу ее действий. С одной стороны, печатному слову оказывается обидное неуважение, чуть не презрение; с другой – и этому не раз бывали примеры – не только общество, но и администрация относятся к нему чуть не с подобострастием. Вместо того чтобы быть выражением общественного мнения, у нас общественное мнение есть выражение печати, или, лучше сказать, личного мнения того или другого журнала; печать навязывается обществу с своими воззрениями, являясь не только его руководителем, но иногда и тираном. Одним словом, печать у нас, особенно периодическая, не познала еще свои пределы, – чему виною, по большей части, существующее законоположение. Область действия и область мнения, область правительства и область литературы – две совершенно различные области, как по природе своей, по своему призванию, так и по характеру своих отправлений. Обращаясь специальнее к периодической печати, скажем прямо, что мы лично, желая для себя независимости, считаем совершенно ненормальным всякое возведение журнализма чуть не на степень какой-то государственной деятельности. Никаких «государственных заслуг» за частным редактором мы не полагаем, не считаем его принадлежащим к синклиту или заслуживающим особого места в ектений, вместе с «градоначальниками», «военачальниками» и т. д. Деспотизм печати нам так же противен, как и всякий деспотизм, – нам равно противно стеснение свободы нашего слова, как и стеснение нашим словом свободы чужого мнения. В России же на деле видится другое, – видится даже, что иной администратор, хотя бы из второстепенных, вступая в должность, паче всего беспокоится о том, что скажет про него «Москва» или «Московские Ведомости», руководствоваться ли ему требованием редактора А. или редактора К. (которые, надо заметить, тянут оба в противоположные стороны), – и как бы, последуя одному, не попасть в опалу к другому?.. Жалкое положение!
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
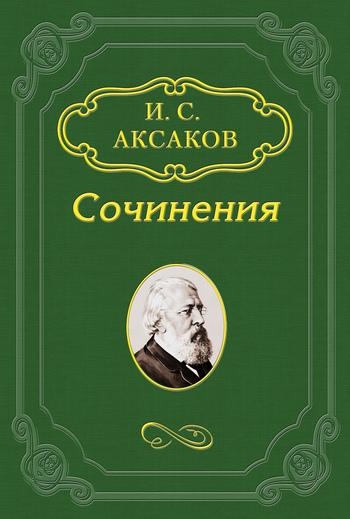




Комментарии к книге «Журналистика – выражение общественного мнения, а не какая-нибудь законодательная власть», Иван Сергеевич Аксаков
Всего 0 комментариев