Иван Сергеевич Аксаков История одного госпиталя
В некоем царстве, в тридесятом государстве жил-был военный госпиталь, что говорится, процветал. Больных в приходе было очень много, и больные мерли исправно и быстро, но память об них не вдруг умирала, и еще долго после смерти они продолжали жить в расходных книгах аптекаря и эконома, – даже нередко, по предписанию доктора, переводились в разряд «слабосильных», то есть требующих для себя пищи более укрепительной – более ценной. Отчетность производилась в отличном порядке; в реестрах, ведомостях, ежедневных табличках и рапортичках, «порции» больным, кому слабые, кому крепкие, кому половинные, кому полные, расписывались с удивительною аккуратностью, лекарства назначались частехонько самые дорогие, и все свидетельствовало о том, что начальство не щадило денежных средств для «наивозможно лучшего» содержания больных. Госпитальный писарь красивым военно-писарским почерком выводил в списке имена: Ивана Петрова, Петра Иванова, Семена Иванова, Андрея Иванова, Гордея Иванова, Ивана Иванова и проч., и проч. – то есть бесконечное множество имен и отечеств нижних чинов, так что глаз начальства, не зацепляясь ни за какое прозвище, невольно скользил по однообразным именам и отечествам и останавливался только на цифре итога. Одним словом – все обстояло благополучно, как следует. Городок, в котором благоденствовал госпиталь, то есть госпитательные власти, начиная от больничных сторожей и фельдшеров, находился вообще в условиях самых счастливых: центральное управление было от него за несколько сот верст, о ревизии давно уже не было слышно, а начальствующие, которым госпиталь подчинялся непосредственно, были люди своего ремесла и ведомства, люди – свои. С своими же что за счеты! Отношения госпиталя к начальству были самые мирные, патриархальные, так сказать семейные, – вполне благонадежные, – и в силу-то этих отношений случилось так, что в госпиталь, устроенный на 400 кроватей, принято было однажды (и очень недавно) больных семьсот человек. Размещение было конечно тесное; но если больные и жаловались на это неудобство, так госпитальные власти и в особенности эконом – вовсе не жаловались.
Все шло прекрасно, как вдруг пронесся слух, что в край определен новый главный начальник, с которым нельзя было входить ни в какие сделки, но пред которым госпиталю следовало явиться исправным. Триста больных лишних против положенного по штату числа кроватей – беспорядок! Конечно, можно было бы сослаться, и даже с некоторым основанием, на эпидемию и другие случайные обстоятельства, внезапно усилившие прилив больных, но выговора все-таки нельзя было бы миновать, и выговора строгого как от нового начальника края, так и от своих домашних начальников: зачем дал себя госпиталь застать врасплох?! И в самом деле, где ни проезжал начальник, везде «порядок и благополучие» утешали его сердце, – следовательно, неисправность госпиталя тем еще резче бросилась бы в глаза начальника – и огорчила бы его сердце!.. Как тут быть? Сошлись доктора и все власти госпитальные, посоветовались, потолковали и решили: лишних 300 больных, выписав задним числом в исходящую книгу, немедленно отправить на подводах в другой госпиталь, отстоявший в 400 верстах от первого… При этом власти ласкали себя надеждою, что ревизор успеет побывать и в другом госпитале и остаться им довольным – прежде чем странствующие больные доползут на подводах до места своего назначения. Время года для отправки было не совсем удобно, да и переезд был слишком долог, – но что до этого? Ведь ревизор уже близко, так раздумывать тут уже некогда. Кого же однако отправить? Опять собрались доктора, и вот один из них предложил – отправить тех больных, которые потруднее. «И резонно», отвечали хором все остальные, – резонно: потому, во-первых, что вид труднобольных всегда тяжело действует на душу непривычного посетителя, особенно же начальника, – расстраивает нервы, производит неприятное впечатление, которое может быть невыгодно и для госпитальных властей, и даже для всего ведомства; между тем желательно, да уж и по обычаю службы требуется, чтоб больные смотрели бодро и весело на ревизующее начальство; во-вторых, потому, что с труднобольными возни и хлопот несравненно больше, чем с легкобольными, а в-третьих, потому, что им ведь все равно придется умереть скоро: так неделью раньше, неделью позже, на койке или на подводе, не все ли это одинаково? Резонно. Решено и сделано; триста трудных больных отправлены на подводах, в сквернейшую погоду, верст за 400, и, как верно предугадали доктора, – большею частью не дошли до места назначения и перемерли дорогою на подводах. Начальник – благонамереннейший человек в мире, благонамереннейший, но неопытный в хитростях госпитального управления – остался госпиталем и властями отменно доволен, – и удовольствие было обоюдное. Мы слышали, что потом чей-то донос раскрыл начальнику всю истину, вследствие чего наряжено было строгое следствие, коего последствием был только выговор госпитальному начальству.
Рассказанное нами не вымысел, а сущая правда. Мы ошиблись, может быть, немного в подробностях, в числе верст, в числе больных, но в основе своей факт верен. И хотя это случилось не у нас, конечно, а в тридесятом государстве, но по аналогии с тем, что бывало, а может быть бывает еще и теперь у нас, на Руси, – едва ли кто станет отрицать возможность этого факта. Да, кто из читателей, положа руку на сердце, решится утверждать, что подобное дело несбыточно, что оно есть исключительный одинокий случай? Всякий, порывшись в своих воспоминаниях, непременно найдет в них и доказательства в пользу правдоподобности этого – весьма недавнего – события: оно не только правдоподобно, не только не исключительно, но увы, носит на себе знакомые, родные нам – типические черты!
Где бы ни случилось, когда бы ни случилось это происшествие, но оно было, – и что еще хуже – оно возможно, и возможность эта не отвергается общественным сознанием. Триста человеческих жизней Петровых, Ивановых, Семеновых, безвестных, подневольных жизней, выброшенных за окно, растерянных по дороге ради чиновничьей трусости; наконец наша вера в сбыточность этого явления, наше внутреннее сознание, что оно не есть исключительный и одиночный случай, – вот что наполняет душу стыдом и безотчетным страхом. Кто виноват в этих трехстах смертях?.. Многие, конечно, охотно бы свалили вину на правительство, но это едва ли было бы справедливо: никакое правительство, как правительство, не может ни желать, ни терпеть подобных распоряжений, – но виноваты люди, общественная среда, воспитывающая таких людей, виноваты мы все, все общество, на всех нас лежит этот грех!.. Эти грехи, к сожалению, обыденное явление в нашей общественной жизни, эти люди – наши сограждане, члены нашего общества, эта трусость нам понятна и не возмущает нашей общественной совести, и не омрачает наших радужных гражданских надежд!.. Но мы не для того взялись за перо, чтоб писать дифирамбы гнева и негодования; мы хотим отнестись к занимающему нас вопросу с наивозможно меньшим раздражением и со всею тою серьезностью, которой он заслуживает.
Нам кажется, что историки, публицисты и вообще политики слишком мало дают значения тому участию, которое в историческом развитии обществ принадлежит нравственным истинам, вечным началам любви и правды. А между тем они, эти начала, суть главные, хотя и незаметные факторы или двигатели общественной жизни народов, дают им то или другое направление, обуславливают их развитие, не только внешнее, но и внутреннее. Нам приходится вновь повторить, что уже мы не один раз говорили. Начало нравственное живет и движется своим внутренним логическим процессом и исторические «наказания», или «счастливые случайности», злые или добрые последствия, в сущности не что иное, как логические нравственные выводы из нравственного же положения, воплощенного каким-либо историческим фактом. Всякое уклонение от нравственных истин проявляется ложью не только во внутреннем развитии, но даже во внешнем устройстве, подрывает материальное преуспеяние, подтачивает жизнь исторических обществ. С общественным организмом, как и с организмом отдельного человека, случается иногда так, что он кажется совершенно здоровым по внешнему своему виду, даже и сам почитает себя обретающимся в вожделенном здравии, – если же и замечает в себе присутствие недуга, то не дает ему никакой цены, а между тем внутренняя скрытая болезнь или пренебрегаемый недуг втайне разъедает силы организма и сказывается сознанию в своем истинном значении большею частью уже тогда, когда и самое врачеванье помочь не может!.. Могучая рука внезапно опускается, пораженная бессилием, ясная мысль тускнеет, понятия путаются, шаг неверен и идет вкось и в сторону. К таким или подобным результатам приводят причины не только материальные, но и нравственные. Конечно, нравственные причины оказываются преимущественно и в последствиях нравственных, но только преимущественно; нет сомнения, что они, если не непосредственно, то косвенно отражаются и на материальной стороне жизни. Если, например, постоянно, долговременно, повсеместно совершающаяся неправда обращается в какой-либо стране в хроническое нравственное зло; если кривосуд, например, перестает быть, как говорится, изолированным, то есть уединенным фактом, и сумма таковых фактов образует целую атмосферу кривды, – то общество, пораженное таким хроническим недугом, воспитавшееся в такой удушливой нравственной атмосфере, непременно слабеет, хилеет, чахнет, становится непроизводительным, перестает давать государству потребных ему доблестных граждан – следовательно, лишается само и лишает государство средств и орудий для правильных органических отправлений. Кажется, это ясно, но постараемся сделать нашу мысль еще яснее. Какая бы ни была система государственного управления, как бы ни старалась она определить и взвесить все с математическою точностью и обеспечить внешним образом правильность суда и администрации, все же живой организм никогда не снизойдет до бездушной покорности машины, – и приходится поневоле, половину, если не более, служебных действий основывать на доверии. Так, например, если мелкий чиновник подлежит контролю, и исправность чиновника гарантирована контролем, то кто же гарантирует вам исправность самого контроля? Если последний не заслуживает веры, то вы учреждаете над контролем новый контроль, – но, не доверяя и ему, над вторым контролем учреждаете третий и т. д., и т. д., – так что под конец вам все же придется кому-нибудь да поверить. Итак, без нравственного доверия, без участия нравственного элемента, не может идти никакое управление в мире. Следовательно, чем шире, крепче и надежнее доверие, тем плавнее, быстрее, свободнее от излишних и многоценных формальностей контроля совершается ход дел государственных, тем тверже и могущественнее власть, тем с большим правом может она рассчитывать на свои средства и силы. Следовательно, общественная нравственность состоит в прямой связи не только с внутренним, но и с внешним развитием государства. Следовательно, все что служит симптомом общественной нравственности, служит в то же время симптомом общественного и государственного здоровья и крепости. Следовательно, не даром говорит народная пословица, что «царства стоят на правде и держатся правдой». Следовательно, сумма деяний, вроде рассказанного нами события в военном госпитале, способна разрушительно действовать на общественное здоровье и крепость и ослабить самое могущество государственное…
Кажется, все обстоит благополучно, и вдруг, в минуты гордого торжества, откуда ни возьмись, нежданные-негаданные, давно позабытые, явятся грозными обличителями – и те триста мертвых, которых загубила напрасно бездушная трусость (взлелеянная общественною же атмосферою), и все те сотни, тысячи невинных жертв общественной безнравственности, явятся и потребуют общество на суд и расплату! Таков нравственный закон, что зло должно быть или отомщено, то есть попросту породить злые плоды, привести к злым последствиям, или же возмещено преизбытком добра, искуплено наказанием, страданием; то есть должно быть сознано, должно произвести в сознающем горечь сознания, боль сожаления и раскаяния и вызвать из глубины духа такие силы добра, которые были бы в состоянии уврачевать эту боль. Этот закон одинаков как для отдельных людей, так и для целых обществ. Общество не может и не должно относиться равнодушно к таким злым деяниям, которые получили характер явлений обыкновенных в его жизни, так сказать – общественных; ответственность за них падает на все общество, на всех вместе и каждого порознь. Конечно, дело состоит не в том, чтоб посыпав пеплом главу, наложить на себя пост и епитимью; общественное покаяние совершается иначе: оно состоит в строгом самообличении и самоосуждении, оно совершается в области общественного сознания, выражается в возбуждении и просветлении общественной совести, в нравственной реакции общественного духа, – в устремлении всех общественных сил на искоренение зла. Если бы общественная совесть содрогнулась при виде общественных язв, – то уже это одно было бы благотворно и спасительно. Если б она только дрогнула!.. Но мы не видим, чтоб она содрогалась. Был великий художник, который, болея за общество, смягчал свое отрицательное отношение к общественной жизни юмором своих обличительных художественных произведений и думал исправить общество смехом, – смехом самого общества над пошлостью и пороком, представленными ему как в зеркале. Но и смех не помог. Ничто не проняло общества, хотя оно громко смеялось и хохотало, присутствуя, например, в театрах при представлениях «Ревизора», – так что, под конец своей жизни, художник прибавил к последней сцене своей бессмертной пьесы – горькие слова, обращенные городничим к публике: «Чему смеетесь? Над собой смеетесь!».
Да, довольно смеяться. Время смеха прошло. Теперь становится не до смеха. Теперь повторение госпитальных проделок (мы берем их как прототип всех проделок такого рода) и прежнее добродушное к ним отношение общества не могут быть извинены неведением, неразвитостью, путаницей нравственных понятий. Света брошено довольно на все наши общественные язвы, столько света, что, казалось, открытый вид их не позволит успокоиться обществу, пока оно их не уврачует. Но общество нашло этот вид для своего взора возмутительным и невыносимым – и не излечивши их, отвратило глаза свои в сторону. Оно искало – на чем бы ему отдохнуть и опереться, и случай не замедлил представиться. Услужливые публицисты заголосили хором о прогрессе, воскурили фимиам либерализму, окружили общество всевозможными призраками какой-то общественной либеральной жизни, поздравили его с зрелостью, поднесли ему на блюде готовое общественное мнение, – и воспели его патриотизм. Прогресс, либерализм, патриотизм!.. Прогресс, к которому привязаны гири всевозможной гражданской кривды! Либерализм, который почти ни во что вменяет жизнь Ивановых, Петровых и им подобных (считаемых обыкновенно массами, общею цифрою итога), либерализм, который, мечтая о конституции, воздыхает о погибшем крепостном праве! Патриотизм, любовь к отечеству, любовь к России, которая губит кривдой и ленью силы России, наносит ей удары злее всяких внешних врагов! О, Россия, Россия! Как ты славна, как ты богата, как ты могуча, как обширна, как велик твой народ, каким призванием почтена ты в семье славянских народов, в истории человечества! Все тебе дано!.. И в то же время, как бессильно твое общество, как дрябла твоя гражданская нравственность!..
«Бестактно», «не вовремя», «неуместно», – слышим мы заранее с разных сторон. «К чему охлаждать патриотический порыв общества? Зачем раздражать его, разбивать его мечты о самом себе?.. Мы думали, что редактор „Дня“ – патриот, а выходит, что он не патриот, бранит общество и Россию» и проч., и проч. Бестактно, неуместно. – Нет, именно у места и кстати! Именно теперь, вовремя, должно быть предупреждаемо общество о тех внутренних опасностях, которые ему грозят ввиду опасностей внешних. Именно теперь, в минуту патриотического одушевления, должны быть указываемы обществу те подвиги, которые могут быть совершены только при помощи истинного, разумного патриотизма! Или вы думаете, что люди, способные переморить триста больных, чтоб видом их не огорчить начальства и не навлечь себе выговора, – патриоты?.. Или дела подобного рода, возможность таких дел свидетельствует, по вашему мнению, о патриотизме? Или вы сомневаетесь еще в том, что такая ноша неправд обессиливает плечи русского богатыря? Или вы еще можете мечтать о завоеваниях русского духа, когда наша общественная среда прилагает такие старания к его растлению? Или вы надеетесь, что вам удастся разрешить возникшие исторические задачи вне разрешения ваших задач внутренних, – и вы не видите, что вопрос польский тесно связан с вашим собственным внутренним вопросом и что от успехов вашего общественного развития, вашей общественной нравственности зависит судьба всего Западного края?.. Или вы воображаете, что можно так поступать с людьми, как поступает госпиталь NN, и так относиться к этому делу, как относится наше общество, – и в то же время предъявлять притязания на влияние и господство?.. Вы надеетесь на вашу материальную силу, вы гордитесь ею, но
Бесплоден всякой дух гордыни, Не верно злато, сталь хрупка,но ведь сила, одна материальная сила, ничего не творит и не организует, ничему не даст жизни – без силы нравственной… Ее воспитайте! Силу нравственную, общественную воспитайте, – и на этом-то проявите свой патриотизм, свою любовь к России, если только вы ее действительно любите!..
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


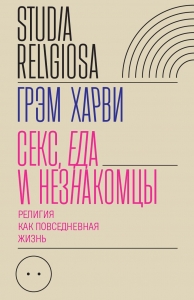
Комментарии к книге «История одного госпиталя», Иван Сергеевич Аксаков
Всего 0 комментариев