Дмитрий Дарин Русский лабиринт (сборник)
© Дарин Д.А., 2013
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Проза дальнего следования
Помимо чтения прозы Дмитрия Дарина, у меня есть ещё опыт – разговоров с ним. Разговоры бывают разные – например, «за жизнь вообще»; а тут – о нашей, о русской жизни. Так что это даже совсем и не помимо даринского творчества, а прямо по существу его.
Дмитрий Дарин, например, уговорил меня дважды вчитаться в его повесть «Барак». И это же я советую каждому: словно проехаться вместе с автором по России поездом дальнего следования. Сказал ведь один советский поэт (имени его не назову, не хочу вас задеть): «Садись-ка, миленький, в автобус – и с населеньем поезжай». Так и надо; ведь где-то здесь проступит и объёмность, и существо дела.
Кто-то может ощутить и разницу с писателем – ну, в каких-нибудь отдельных взглядах. Но главное – почувствовать родство. Что до меня, то помню время, когда мне совсем нечего было сказать о людях, подобных Дарину. Во первых, если вам двадцать или около, а будущему писателю только год, он заслуживает лишь надежд, но никак не оценки. Во-вторых, посудите сами: у нашего поколения была война, то есть её сиротские последствия, тяжёлый труд с детства и даже пролитая кровь (ну, скажем, наименьшее: ГДР, Польша, Венгрия). А у них? Так что на своём третьем десятке – я «каких-то там пятнадцатилетних» не жаловал; и даже родившиеся в 1943—1944-м были мне несколько подозрительны: ибо чем занимались в войну их отцы-матери?
Так думалось и в школе, и в университете, где я учился вместе с людьми послевоенного рождения.
Так думалось; но думалось всё же… неверно. В лице Павлика Горелова, Александра Сегеня, Сергея Лыкошина, Сергея Куличкина, Михаила Попова, Евгения Шишкина я встретил людей, не хуже нас знающих, что такое правда. Они не менее русские, чем мы, и их память восходит к тем же святыням, что и наша. И даже жалко, что вот Павлик, острый, хваткий и зоркий, вдруг удалился куда-то в сторону.
Однако мы о Дарине. Список, что я только что выстроил, можно сокращать, но среди настоящих и достойных – Дарину самое место. Да он и покрепче многих названных. Сын морского офицера, обошедшего все материки, он внук человека, что был примерно одних лет с нашими отцами (а ведь это фронтовики). В наших войсках, причем отборнейшего свойства, служил и он. Сужу только по его речи и языку: видал человек виды! Живо и хлёстко. Причем подлинный писатель, он умеет жить чужими жизнями, чужой судьбой. Как мы многие, как двенадцать миллионов человек, он вроде топчет сейчас в основном московскую землю. Но, досконально зная всю нашу страну, от Мурманска до Сталинграда и Владивостока, он к истерикам и кошмарам нынешней столицы не имеет никакого отношения.
Кроме разве что отношения резко отрицательного и презрительного. Вглядитесь в иные закоулки «Русского лабиринта»: мир вероломства, ворованных состояний; мир дутых величин, мир ходкого бизнеса мыльных пузырей и ад нищеты. Орды телевизионных холуёв всего этого.
И рад бежать, да некуда; ужасно! И как раз Дмитрий Дарин с этим мороком – в состоянии войны. Так что пускай мы, увы, не воспроизвели в детях самих себя и своих отцов; но если, поколением моложе, у нас есть такие, как Дмитрий Дарин, на них в вихре нынешних шабашей можно положиться. Кое в чём важном для всех они разберутся не хуже нас многогрешных.
Дарин и разбирается в происходящем. Он, как я узнал, глубокий эконом: то есть – экономист и доктор наук по этой части. Слыша слово «экономика» сегодня, хочется схватиться за пистолет. Но Дарин-художник знает гораздо большее, чем деньги – товар – деньги, и мир, где всё только продается и покупается, ему как раз чужд.
И если заговорить теперь о другом – о симпатичном писателю рядовом русском нестоличном человеке, то и он, конечно, не лишён слабостей; и лишь по чувству юмора и по своей доброжелательности Дарин ему охотно прощает многое. А ведь не надо бы? А ведь нашему автору заметно – в гуще обыденно-сносного – то, что так скорбно засвидетельствовал его кумир, для каждого русского хороший парень Серёжа Есенин? Есенин, кстати, герой чуть ли не всей даринской публицистики, даже отчасти его прозы; и он говорил:
Видел ли ты, как коса в лугу скачет, / Ртом железным перекусывая ноги трав? / Оттого, что стоит трава на корячках, / Под себя коренья подобрав … Так и мы – вросли корнями крови в избы, / Что нам первый ряд подкошенной травы?
И вот почему он нас, первый ряд подкошенных, не волнует-то? А просто —
Только бы до нас не добрались бы, Только нам бы, только б нашей не скосили, как ромашке, головы.Хотя сейчас-то ясно – беда добралась до любого, особенно если он сам по себе. По всему по этому в книге «Русский лабиринт» Дмитрий Дарин и его герои вдумываются, есть ли выход. Иногда это делает сам писатель – то есть делает прямо, как арбитр, в своих художественных сюжетах или же как собственно публицист. А иногда герои, саморазвиваясь, даже и без указки автора и словно вслепую, но тоже ищут правды, ищут хотя бы лазейки из окружения захватчиков и полицаев, из сетей лжи. Излечился же калека (в одноимённом рассказе) от паралича воли, от ненависти к людям. Вспомнили же, как это у Дарина, бывшая жена и далекая-далекая дочь своего бывшего главу семьи бедолагу Платона. Это тоже лазейка к свету. И нашла же сестра давно потерянного брата, как ещё в одном рассказике?
К примеру, я – по прочтении как раз этой вещи – заплакал. Казалось бы, чего плакать-то? У меня самого ни сестра, ни брат никуда не терялись; отец – он знаю в какой братской могиле: мирно лежит под Мозырем; и не бандит-хулиган его убил, а немец. Но все равно: разбирает какое-то…простите, чувство. Таково дарование писателя: будить родственное отношение к хорошему. Да он это даже и осознанно проповедует: непротивление добру. А ведь мы не только боимся зла в других: мы гасим добро в себе; не знаю, сам ли писатель пришёл к этому или услышал от умного попутчика, – однако если и мы примем это правило, вреда миру не будет.
Следуйте же, обогащая свой опыт, за далёкими маршрутами Дарина. Как много мест можно повидать: Ишим, Листвянка, Бодайбо; с детства люблю сами эти слова, сам их вкус и запах. Уверяю: там живут точно так, как рассказывает Дарин. Вчитайтесь в тот же «Барак», вглядитесь в сию русскую резервацию – с явными отголосками горьковского «На дне» и с подсказкой: вот и мы через 100 лет, а опять попали туда же. Перед нами – срез множества наших вопросов; он даже и в коротком рассказе «Гитлер» – снова беседа разномастных попутчиков-пассажиров. Это срез и наших судеб, и нашей демографии – от людей пропащих, незаможних-лядащих и немудрящих до бодрых, твёрдых и настоящих, как в «Дне десантника». Они ведь должны выжить, сохранив человеческий облик; причём сохранить не только собственное «я», но и наше братское, семейное, общенародное «мы».
Стойко-непримиримая к супостатам, часто явно наступательная и нередко ироничная проза Дарина в этой книге – не первая проба его пера. Но и она достойна приветственного напутствия. В писателе чувствуешь и личное духовное здоровье, и добрую, надёжную и живучую породу. Сообразно этому будут и дальнейшие плоды.
Сергей Небольсин,доктор филологических наук, профессор,ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН,член Правления Союза писателей РоссииПовести
Барак (Повесть)
1
«Опять к Салтычихе приставы нагрянули, – досадливо подумал через лохмотья сна Платон, переворачиваясь на другой бок, к обшарпанной стене, – почему же их только по утрам приносит, ядрена-матрена?»
Утро, а шел первый час пополудни, было утром только в представлении Платона, утверждавшего, что ночь отличается ото дня не наличием солнечного света, а бодрствованием или почиванием субъекта. За такие речи, да за высокий лысый лоб мыслителя он и был прозван Платоном обитателями дома номер 17 по улице Юбилейной на Кегострове, под Архангельском. В этом доме вообще обходились прозвищами или отчествами, разве только детей называли по именам и то небрежно – Колька, Сашка, Петька, Анютка. Салтычиха – было тоже прозвище, данное жильцами за то, что Пелагея все время била своих малолетних ребятишек – как раз Кольку с Анюткой, неизменно ходивших с синяками и ссадинами. Ну, у Кольки еще синяков и от уличных потасовок хватало, какие откудова – он и сам бы не сказал. Салтычиха лупила детей то ли от постоянного горя, то ли от такого же постоянного пьянства, а скорее – от всего вместе. Ютились они в одной комнате без давно пропитой и сожженной в «буржуйке» мебели – в доме не было центрального отопления. В доме вообще много чего не было – газа, канализации, мусоропровода, даже холодной воды, которую носили из колонки почти за версту. Сказать по совести, и дома, построенного еще в конце девятнадцатого века, официально тоже не было – по всем документам его уже снесли под капстроительство. Но именно сюда, в длинное двухэтажное деревянное здание барачного типа, выселяли людей из своих старых квартир за неуплату коммунальных платежей, еще за что-то. Поэтому приставы точно знали, кто тут живет – они их сюда и выселяли. Но как здесь можно было жить, не знал никто, даже они. Салтычиху, ограниченную решением суда в родительских правах, уже который раз пытались лишить детей и отдать их в в детдом. Но Колька с Анюткой, готовые в другой момент и трахнуть спящую мамашу бутылкой по голове, особенно Колька, в момент опасности вцеплялись в ее заплатанную юбку и поднимали такой рев, особенно Анютка, что у хорошенькой ухоженной приставши глаза теряли государственный прицел и наполнялись жалостливым недоумением. Женщина из опеки была предпенсионного возраста и в склоку старалась не лезть, больше отмалчивалась. Салтычиха, словно наседка крыльями, закрывала пухлыми руками своих птенцов и голосила благим, а то и не совсем благим матом. В эту минуту сопровождающие приставшу бойцы физической поддержки кряхтели и отворачивались, будто в них плевали. Да, пожалуй, так и было – Салтычиха в борьбе за детей за речевым аппаратом особо не следила и плевалась не только словами, но и между ними. В следующий же миг она пускалась в мольбы и обещала все наладить и вернуть детей в школу, даже в новой одежде, хотя и вряд ли помнила, в какой класс ходили ее отпрыски. Видя сомнения в рядах противника, Салтычиха потихоньку отталкивала приставов своей необъятной грудью в глубину коридора, переходила на миролюбиво-соглашательскую тональность и клялась в любви ко всем детям города и ненависти ко всем отцам, бросающим своих на произвол судьбы. Разведенная приставша обычно ломалась именно на этом месте и, сделав вид, что верит обещаниям «ей-ей, больше ни капли» и «за деточками моими, за кровиночками уход да ласка теперь будут», на время ретировалась. Бойцы облегченно вздыхали и отпускали автоматы – тащить детей от родной матери, пусть от нее и несло перегаром и вонью, им все-таки не улыбалось, даже по решению суда. Так случилось и на этот раз, и Платон мог наконец-то забыться.
– Трах! Трах! Таррарах! – за окном начали вскрывать асфальт.
– Ну не дадут покоя… – Платон сплюнул на пол и поставил на это же место тощие ноги с неправдоподобно удлиненными ступнями, как на картинах Эль Греко.
День начался для него шумом, а Платон любил тишину. В тишине думалось лучше. Вернее сказать, не думалось. Тишина – это когда можно посидеть спокойно и ни о чем не думать, а так… глядеть из окна на прохожих или на деревья, или на дождь. Тогда и в душе наступала тишина и забывались все заботы о хлебе насущном. А когда шум, мысли сами появляются, появляются да теребят – куда пойти, где халтурку найти, с кем выпить, кто угостит, кому еще не очень много должен и прочая неприятная дребедень. Да и мечтать под шум – ну как помечтаешь? А вспоминать хорошее, что душу согреть может, под строительный грохот пробовали? Ну вот. А тут эта дробилка. Кто дорогу лужливой весной чинить удумал? Тот же дурак, наверное, который ее в такую же слякоть построил. Платон широко зевнул, потянулся, поскреб впалую волосатую грудь и обозрел свое жилище. Картина была безрадостная. На колченогом столе с рваной клеенкой стояли две пустые консервы из-под тушенки, а точнее – полные окурков, издававших холодный смрад. Недоотрезанные крышки напоминали лопухи, только с резными краями, как у крапивы. Под лопухами, среди хлебных крошек, стояли два мутных, залапанных граненых стакана, бутылка из-под водки лежала почему-то на стуле. Платон протянул руку – в бутылке не было ни капли. На этикетке красовались колосья, обрамлявшие, как на гербе, надпись «ПШЕНИЧНАЯ».
– Врут, ядрена-матрена, везде врут, – сморщился Платон, вспоминая вкус, – паленое барахло, пшеница так не воняет.
Платон встал, рванул на себя перекосившуюся от старости раму с остатками белой краски и выбросил бутылку в окно.
– Ты что?! Очумел, туды тебя за яйца? – тут же раздалось снаружи.
Платон отметил про себя, что дробилка заглохла, а он даже не обратил внимания. Если б не заглохла, он бы не услышал вопля, кажись, Шелапута. Хотя странно – Шелапут вчера ночью сторожил на лесозаводе и в это время должен был спать. Платон выглянул в окно – и впрямь Шелапут.
– Да за такое я тебе ноги пообрываю, – грозился Шелапут, показывая рукой на свой полуседой ежик на голове, сухой жилистый мужик неопределенного возраста, когда можно было дать и полтинник и все шестьдесят, – а если б прямо в темя? А?
Шелапут, или Степаныч, действительно мог что-нибудь пообрывать, хулиганил и дрался он всю жизнь, за что в молодости даже отсидел – в драке кого-то пырнули, хоть и не насмерть, Степаныча как участника привлекли, не очень-то докапываясь до правды. Был – был, дрался – дрался, значит, и пырнуть мог. А мог – значит и пырнул, отправляйся, господин хороший, в казенные места, посиди, подумай. Шелапут думал два года, но ничего не особого не надумал, просто в последующих драках ему везло – никто не помер и сильно не покалечился. Погоняло это «Шелапут» пристало к нему еще с зоны, и по имени-отчеству – Алексей Степаныч – его звали редко, даже на работе.
– Да ладно, чего орешь, ядрена-матрена? – огрызнулся Платон. – Не задело ведь?
– Как раз за дело, философ хренов. Я тебе за такое дело вот этим самым пузырем по башке е. ну пару раз, пока не проймет… выпить есть еще, бродяга?
– Куда там, – вздохнул Платон, – вчера все запасы с Ветераном по случаю…ну, в общем, юбилей какой-то битвы или форсирования, не помню уже…
Снова запустилась дробилка, и ответ Шелапута потонул в грохоте. Платон дернул окно, рама привычно скрипнула и встала на место. Шума стало меньше, вони – тоже. Платон положил банки в мусорное ведро – на горку уже вываливавшихся отходов его жизнедеятельности, стряхнул хлебные крошки на пол и стал искать штаны с майкой. Хотя его комнатка и была крошечной, одежда нашлась не сразу – штаны были закопаны в одеяле, а майка почему-то схоронилась под раскладушкой. Воды в трехлитровой банке, из которой Платон умывался и утолял похмельную жажду, как и водки, не осталось ни капли.
– Все кончается, и все – не вовремя, – вздохнул Платон и, накинув рваную в подмышках телогрейку, взял ведро, в другую руку – банку и вышел на свет божий, закрыв комнату огромным ржавым ключом.
Весна в этом году выдалась даже для этих мест холодная, зябкая из-за постоянной мороси. Покрытое низкими тучами небо давило на душу, что вместе с похмельем окончательно портило настроение.
– Холодно, зато не душно, – заметил себе Платон, приучивший себя за пятнадцать лет проживания на Кегострове отыскивать положительное во всем, что его окружало.
По-другому выжить было просто нереально – если хандрить из-за неудавшейся жизни, нищеты и одиночества, быстро сопьешься или вообще – в петлю. А кто поддержит тебя, если сам себя не поддержишь? Поэтому Платон не принимал неприятностей – ни крупных, ни тем более помельче, очень уж близко к сердцу – не копил в себе отрицательную энергию, которой и так в их доме было предостаточно. Бог не выдаст, свинья не съест.
По пути Платон вспомнил, что вчера в правом кармане штанов еще до возлияний мялось несколько купюр. Руки были заняты, а ставить ведро или банку на землю, чтобы потом за ними нагибаться, было лень, поэтому до свалки, что на полдороге к колонке, Платон мог только гадать, остались эти самые хрусты или тоже кончились, как и все – незаметно и не вовремя? Потому – если кончились, то совсем труба и непонятно даже, чем позавтракать. А если не кончились, то хватит ли на пузырь и консервы или на что-нибудь одно? И в таком случае – что предпочесть? И выпить и поесть хотелось с одинаковой силой. С одной стороны – с бутылкой он везде желанный гость, и какой-никакой закуски ему за стакан беленькой отвалят. Хотя и за закуску в компании – один-другой стакан нальют, с другой стороны. Не решив дилеммы, Платон доперся до свалки и вытряхнул ведро. Жестянки из-под консервов, рыбьи головы, пластиковые пивные пузыри, пустые сигаретные пачки и целая гора бычков дополнили собой живописный и грустный мусорный пейзаж. В этих горах, говорили, можно было найти все, что угодно, иногда полезное, иногда – жуткое, например, труп изнасилованной девушки или даже ребенка. Здесь царили жестокие законы – свалка была поделена между бандами бомжей, и нарушителя невидимых границ обычно ждала смерть от ножа или куска водопроводной трубы. Хоронили тут же – закапывали под тряпье или строительный мусор. Через неделю-другую от бывшего человека оставался только скелет – сюда приходили кормиться волки, песцы, всякие падальщики, да и крыс было несчитаное множество. Над свалкой кружили чайки, вороны и какие-то другие птицы, названий которых Платон не знал. Пернатые истошно орали и отталкивали друг друга от добычи.
«И в небе, как на земле, – подумал Платон и, спохватившись, полез в карман, – тю…живем, ядрена-матрена!» Платон не верил своим глазам – в ладони жались друг к другу порядочно десяток… так… не меньше сотни, да не… больше…сто двадцать…сто семьдесят рублей!
Это меняло взгляды на жизнь, и оставшийся путь до колонки Платон шел легким шагом, насвистывая веселый мотивчик. Сегодня он был обеспечен, а завтра…да Бог с ним, завтра, как поется в известной песенке. Будет день и будет пища – это Платон усвоил давно, когда только начинал привыкать к мысли, что все кончено, что жизнь раздавила его окончательно и хода в лучшую или хотя бы бывшую жизнь нет. Бывшая жизнь…как часто мы ее ругаем в настоящем, не веря, что может быть и даже обязательно наступит новая, другая, хуже и злее, ничтожней и безысходнее. А потом та самая обруганная и даже не единожды проклинаемая жизнь становилась мечтой, вернуть бы ее – уже счастье. Платона выкинули, обобрав до нитки, из его собственной квартиры почти в центре Архангельска «черные риелтеры» – по отлаженной «классической» схеме. Обещали разменять на меньшую с доплатой, он подписал какие-то доверенности – и раз! – оказался выписанным из своего дома и прописанным уже в этом гадюшнике – без меньшей и вообще без всякой квартиры и, конечно, без всяких денег. Хотя бывалый Шелапут правильно заметил – надо радоваться, что вообще куда-то вселили, а не просто выкинули на улицу, а то и убить могли. Запросто могли, уверял Шелапут, потом на этой самой свалке кормил бы собой крыс. Платон и радовался, во всяком случае – смотрел на мир с интересом, что есть первый признак душевного оптимизма. С того «размена» прошло уже около пятнадцати лет, и он, скуливший поначалу от горя и бессилия, как-то пообвык, пообтерся…и не пропал, хотя был уверен, что вот оно…все, конец. То шабашка какая-то спасала между пенсиями – а в прежней, еще советской жизни Платон честно отработал инженером на разных «ящиках», даже до главного технолога вырос, через то и квартира ему по партийно-профсоюзной линии вышла. То жена бывшая продуктов пришлет – тоже ведь жалостливая нашлась, когда вместе жили, не жалела, высасывала все соки, орала каждый день, что новой работы не ищет, пенсией от нее отняться хочет. А вот поди ж ты – на расстоянии он ее меньше раздражал, что ли, или совестливей стала с годами. Даже дочь, бросившая отца заодно с матерью, а потом бросившая и мать – две змеи в одной банке не ужились, – от щедрот своего второго мужа ему что-то на сберкнижку пересылала, то одолжит кто-то рублей двести на каких-то радостях, то еще что. Платон мог, конечно, и на алименты на дочь подать. Наверное, больше денег вышло бы, но эта мысль не приходила ему в голову – своя кровинушка, мало ли, что было, что накуролесила, какой с бабы спрос, помогает, значит, помнит – и то хорошо. О том, что это не помощь, а подачки для успокоения небольшого зуда от укусов совести, Платон, конечно же, не думал. Принимал их передачи с благодарностью, торжественно озвучиваемой в тостах в компании за поставленной им по такому случаю бутылочкой.
Вода из колонки поначалу пошла мутноватая, но Платон не стал дожидаться чистой и, наклонившись, начал жадно лакать. Посветление и просветление пришли одновременно, и умиротворенный Платон подставил свою банку под прозрачную холодную струю. Конечно, выгоднее было заиметь большую пластиковую канистру, даже две, чтобы не мотаться так часто к «водопою», но Платон любил гулять. Он, конечно, не подозревал о древнегреческой философской школе перипатетиков, размышлявших только на ходу, но повторял их метод – во время прогулки думалось лучше всего. Вот и сейчас, на обратном пути, Платон задумался, да не о чем-нибудь, а о любви.
Сам он так, как в фильмах, с безумными страстями, подвигами и безрассудными поступками, не любил. Встретил скромную девушку на комсомольской стройке в Братске, в рабочей столовой, подсел, потому что других мест не было. На компоте уже были знакомы. Платон до сих пор помнил, как девушка, кокетливо поправив платок, ответила: «Меня Надя зовут. Надежда. Но для тебя – можно Надя». Это вот «для тебя» сразу зацепилось в сознании и повело его дальше уже по новой дороге. Ожидание под окнами женского общежития с полевыми цветочками, пара походов в кинотеатр «Смена», посиделки в кафе «Северянин» и неизбежный ЗАГС. Жили обычно: то дружно, то ссорились, в основном, из-за «несанкционированного» злоупотребления зарплатой на «пивных дружков», как называла его корешей жена, но так…не собачились до потери человеческого облика. А когда родилась дочка Зиночка и Платон, разумеется, стал приносить все деньги домой, то причина для ссор вообще исчезла. Собачиться стали, когда наступили перестройка и свобода предпринимательства. Надя оказалась женщиной хваткой и уже скоро «рулила» кооперативом по производству пластмассовых изделий – стульев для кафе, посуды и прочей мелочи. Но эта мелочь давала вполне крупный доход, и статус Платона в семье начал неуклонно снижаться, пока не сполз на уровень приживальщика. Сначала Платон не отвечал на ворчания обабившейся и заматеревшей жены, в которой уже с большим трудом можно было узнать комсомолку Надю, уходил, если «не по пиву», с какой-нибудь книжкой – а читать он на вынужденном досуге стал много, хотя и бессистемно. Потом стал огрызаться, а когда не помогло – по совету пивных дружков «подправил прическу». Это было не так, чтобы кулаком в глаз, как принято в деревне, но и легкой пощечины оказалось достаточно, чтобы Надя собрала вещи, взяла в охапку дочку и свалила навсегда, как потом выяснилось – на заранее подготовленные позиции. Квартира в другом городе была уже давно куплена и обставлена, и даже сожитель был уже намечен. Платон разом оказался без семьи и без финансовых перспектив. Вкусив пару недель нежданной свободы, он еле-еле вышел из запоя и начал думать – что дальше. Но судьба – если не кряж, то – овраг, и первая же комбинация с разменом квартиры кончилась полудобровольным переездом на Кегоостров. Но странное дело – почему-то с уходом чувства обреченности на его место пришла не злоба, а понимание радости жизни, даже такой, можно сказать, полужизни, и людей, ее населяющих. Платон глядел на все со стороны, как смотрят туристы на берег с палубы речного судна – хорошая погода, красивый пейзаж, люди, снующие по своим делам – это было и близко, но и отделяло от них чем-то, словно забортной водой. Платон научился смотреть несравнительно и отстраненно – на прошлое – из прошлого, на настоящее – из настоящего. И даже на себя, Сергея Васильевича Соломатина, бывшего инженера и главу семейства, он смотрел, как Платон – турист, проплывший желтый пляж, на котором когда-то и сам вдоволь плескался.
– Если бывает любовь, куда она потом исчезает? – задал себе вечный вопрос Платон, не обратив внимания, что задал его вслух.
Если бы его соседи увидели, что он разговаривает сам с собой, подняли бы на смех. Но Платон, крепко держа банку с водой, шел к дому, погруженный в свои мысли, и не замечал, что иногда шевелит губами. Платон понимал, что идеального совпадения в любви не бывает, а если и бывает, то ненадолго – как у поезда с перроном. Нелепо себе представлять только поезд или только вокзал, эти две вещи друг без друга не существуют. Но если один и тот же поезд стоит на одном и том же вокзале, значит, что-то не так, представить себе такое тоже сложно, прикованные друг к другу, обе эти вещи теряют смысл и тоже, значит, существовать не могут. Из этого Платон заключил, что вечной любви быть не может, но главное – так же не может быть вечной нелюбви, а это значит, что на его вокзал когда-нибудь приедет тот самый, нужный поезд, необходимо только набраться терпения. Необходимо также хотя бы по мере возможности любить тех, кто рядом, чтобы не разучиться и быть готовым, когда придет тот самый поезд. Платон усмехнулся сам себе: как это ты себе представляешь – любить Шелапута или Салтычиху или теряющего человеческий облик Артиста? А вот так, опять усмехнулся Платон, если не любить, но хотя бы терпеть, не ненавидеть, как ненавидел всякую живую тварь Артист. Когда-то сыгравший в громких эпизодах любимого несколькими поколениями фильма, Артист за несколько десятков лет не получил ни одной главной роли, а на вторых ролях играть уже отказывался. Так в бессильной злобе и спился. Как его занесло к ним в барак и как его вообще занесло на Север, никто точно не знал, а Артист не распространялся. Махал только рукой да натужно кашлял – от курева, а может, и от какой легочной болезни. Как нарочно, первым на глаза Платону, подходившему уже к дому, попался именно Артист – несмотря на холод, в одной майке, тот вываливал мусор за соседние кусты. Платон этого никогда не понимал – к чему загаживать собственную территорию, отнес бы мусор куда подальше, если до свалки переть неохота. Сегодняшняя бутылка, полетевшая в Шелапута через окно, не в счет – это был стихийный протест обманутого потребителя. А вообще за русскими людьми это водится – на всех пляжах, на лужайках в лесу и в других местах отдыха всегда за ними остаются горы мусора. Нет, чтобы с собой увезти и выбросить где-нибудь, так нет – оставляют, будто считают, что убирать за собой некрасиво. Даже, если урн рядом понатыкано, мимо урны как-то проще. Нет в массе у русского человека такого домашнего чувства, хозяйского к своей земле и не было никогда. Или было когда-то, да правители отбили. Одним днем живет, будто никто на это место и даже он сам никогда не вернется. Бездомие какое-то в крови. Даже у тех, кто не в бараках, а во вполне благоустроенных квартирах живет. А ведь выйдет такой «обеспеченный» в чисто поле, обозреет даль, вздохнет глубоко и счастливо – эх, красота…а потом, выпив, пустую бутылку в эту красоту забросит, да посильнее, чтоб непременно разбилась – другим на проклятия.
– Артист, тут уже помойка целая, ядрена-матрена…на хрена – лето разогреется – вонь пойдет страшная! – издалека крикнул Платон, коря себя за давешнюю бутылку.
Артист повернулся и приложил руку к бровям, прям, как Илья Муромец на коне, нет, скорее, Алеша Попович – худосочным телом на Муромца не тянул. А вообще из-за своей майки, седых патл и бородки он больше напоминал пропившегося дотла загульного дьяка.
– А ты чего? Уполномоченный по помойкам? Где хочу, там и разгружаю, усек? – узнав Платона, огрызнулся Артист.
Платон ничем не ответил, кричать больше не хотелось, а когда подошел поближе, Артист уже скрылся в подъезде. А неплохо бы иметь уполномоченных по помойкам и свалкам, подумал Платон, невольно повернув голову в сторону кустов, куда «разгрузился» Артист, – оттуда белел кусок пластикового пакета. Неплохо бы и уполномоченных по бывшим артистам завести или сделать Доску почета наоборот – Доску позора и вывешивать хари таких артистов, а то природу такими вот пакетами, а людей злостью отравляет, еще подумал Платон. Найдя в тех же кустах свою давешнюю бутылку из-под «Пшеничной», он положил ее себе в пустое ведро (и чего не взял по пути – еще раз посетовал на себя) и открыл дверь в подъезд. В вечной темноте пахло людской и кошачьей мочой, и неизвестно, чей запах был хуже. Ступеньки были давно стоптаны, и Платон очень осторожно – не раз на них поскальзывался и падал, даже очень чревато падал – поднялся на второй этаж и подошел к своей двери. Из коммунальной кухни в конце коридора доносились женский мат и запах маргарина – хозяйки готовили на плите, не поделив ее толком. Платон вспомнил, что сегодня ничего не ел, и сразу ощутил звериный голод. Можно было пойти на кухню и разведать, кому там готовится обед, потом сбегать за бутылкой и присоединиться к едокам на равных правах, но в момент бабских раздоров это делать было бы неразумно. Какая-то закуска могла остаться и у Ветерана, не все же он к нему вчера притаранил, а опохмелиться старый, конечно, не откажется. Конечно, до ларька, где продавались пельмени и сосики, было не так далеко и с его богатством он мог вполне и обойтись без других участников, но Платона тянуло больше на трапезу, чем на примитивную жратву. То есть, чтобы было с кем поговорить за стаканом и добрым закусоном. Платон поставил банку на пол, чтобы достать ключ из оттопырившегося под его тяжестью кармана штанов, и вдруг сразу заметил засунутый под петли клочок бумаги. Сдержав любопытство, он не стал читать в коридоре, зашел внутрь, осторожно установил банку на законное место рядом с умывальником и только тогда сел за разноногий стол и расправил бумагу. Это оказалось письмо.
2
Иван Селиванович Грищенко проснулся по обыкновению рано. В доме он вставал раньше всех, даже других стариков. На фронте мечта выспаться шла сразу за мечтой вернуться домой целым или хотя бы живым, а насколько целым – как получится. Но когда первая, главная мечта сбылась, сон навсегда остался коротким, рваным и беспокойным. Что снилось, Иван Селиванович никогда точно не помнил, но всегда, просыпаясь, первым делом озирался. Может, снилось что-то из разведки, куда он ходил через линию фронта десятки раз, может, искал оставшихся в живых в дзоте, который накрыло первым снарядом как раз в ту рассветную минуту, когда он выскочил до ветру, а может, оглядывался на сверкающие на солнце стволы чекистских пулеметов, когда вылезал из окопа в безнадежную штрафную атаку. В доме его все звали Ветераном, и, хотя Ивана Селивановича его имя-отчество устраивало больше, он особо не возражал – здесь он был один ветеран, не спутаешь. Хоть он выпил вчера по-стариковски немного – в основном, все вылакал Платон, – желудок как-то неприятно тянуло. Все-таки это не от водки, даже такой самопальной, какой угощал сосед, все-таки гастрит, если не начинающаяся язва. Денег на полноценное медицинское обследование Ивану Селивановичу не хватало – куда уж там, несколько пенсий уйдет. Самолечением тоже не получалось: в единственной на острове аптеке повертели его льготные рецепты и привычно пожали плечами – нет таких лекарств. «Должны быть», – настаивал Иван Селиванович. «Должны все Путину», – отхамилась продавщица.
Кляня Зурабова и заодно всю нынешнюю власть за хренетизацию его личных льгот, Иван Селиванович надел брюки и пиджак – еще из благословенных советских времен – на мятую рубашку, в которой его вчера затянуло в пьяненький сон, и вышел на прогулку. Одёжа была ничего, сносная, в том смысле, что износа ей не было – надежно шила «Большевичка», ничего не скажешь. Только пиджак был с дырьями от вырванных орденов и медалей – грабанули Ивана Селивановича в прошлом годе, лихо грабанули. Зашли трое, в масках, как в «Ментах», не посмотрели на возраст, скрутили руки за спиной и положили седой бородой в пол. Денег тогда тоже взяли, но немного, от пенсии уже почти ничего не оставалось, а впрок, на похороны он не копил – уж как-нибудь похоронят, а жить сейчас надо. А вот ордена и медали забрали. И не просто, а вырвали, грубо, с корнем. Теперь было похоже на прорехи от осколков – будто ему в атаке снова прошило грудину. Было так обидно, что Иван Селиванович и кричать не смог, когда эти подонки ушли, плакал только в пол да мычал. Хорошо, Салтычиха случайно заглянула, развязала, на ноги поставила. Утешала, как могла, даже всплакнули вместе. Но Иван Селиванович все-таки фронтовик, не баба какая, взял себя в руки и пошел в милицию. Там дежурный лейтенантик смотрел, вертел коряво написанное заявление, морщился, но ветерана все-таки уважил, составил протокол, все честь по чести. Только вот полгода никаких новостей от милиции не было, сейчас, говорят, орденов много награбили, поди найди. По совету Артиста Иван Селиванович даже на телевидение написал – на всякий «пожарный», но эффект был тот же, то есть никакого.
Магазин, вернее, ларек типа советского сельпо– настоящие продовольственные магазины, называемые не по-русски супермаркетами, были только в городе, еще был закрыт, а к чаю на завтрак ничего не осталось. Чая, честно сказать, тоже не было. Не осталось даже кефира, а для желудка утренний кефир – самое милое дело. Иван Селиванович остановился и прислонился к худосочной сосне – вдруг скрутило живот. Что-то в последнее время рези в животе участились. «Надо все-таки к врачу сходить, не затягивать», – который раз подумал Иван Селиванович Но, когда через пару минут «раскрутило» и боль исчезла, исчезла и мысль о докторе. Иван Селиванович выпрямился, вдохнул прохладный воздух и стал нарезать бодрым шагом большие круги вокруг их богадельни. Так Иван Селиванович называл свой дом на Юбилейной – большинство обитателей были уже пенсионного возраста, и только три семьи были относительно молодые. Ну и Салтычиху, конечно, старухой не назовешь при всем желании, хоть и запойная. Как молодые, да еще с детьми жили в их доме, без всяких удобств, даже неприхотливый ветеран представлял себе с трудом. Ладно, стариканы – много ль надо, они и солнцу в окошке рады. А тут дело молодое – и в гости пригласить, и самим праздник устроить, и детишкам опять же уют создать. А у них – потолки в первый же дождь протекают, по стенам кругом плесень ползет. Сами стены – в трещинах, гляди – обвалятся, ютятся с разнополыми детьми в одной комнатушке, общая кухня в жиру и копоти. Коридор и подъезд каждую осень и весну превращаются в хлюпающее грязное болото – убирать и взялся бы кто-нибудь, да не бесплатно же. А жильцы здесь над каждой копеечкой трясутся. Одну бабоньку привечал всей душой Иван Селиванович – красивая русской хорошей красотой, незлобивая, всегда у него о здоровье справится. И имя красивое – Василина. Муж ейный – Сергей – работал то ли сварщиком, то ли крановщиком в порту. Тоже мужик положительный – сильно не пил, как Артист, к примеру, или тот же Платон, бабу свою не бил и вообще – не шумел. Денег, конечно, много с такой профессией не заработаешь, в том смысле – на человеческую квартиру не накопишь, но тут уж ничего не поделаешь. Терпели и в глубине души верили в какой-нибудь случайный жизненный поворот, а пока все на детей у них шло – маленького Сережу и Леночку, девчушку, на мать похожую, с длинной русой косой. За то, что Василина в отличие от других баб своего мужа не пилила, не изводила из-за денег, Иван Селиванович ее крепко уважал, называл при встрече дочкой. И действительно, о такой дочке мечтал Иван Селиванович. Единственное, о чем вообще серьезно мечтал. После войны два раза женился, и оба раза неудачно – Бог детей не давал. Ни первая, ни вторая жена долго терпеть бездетность не пожелали и сбежали к более «плодовитым» мужикам. В их нападки, что, мол, на детей не способен, он поначалу поверил, испугался даже и от этого испуга долго к врачам не ходил – а вдруг правда? А потом и срок сам собой вышел – состарился для женитьбы. Ну, если не для женитьбы, так для отцовства точно – мужская сила иссякла вся. Что факт – обе бывшие от новых мужей родили, о чем не преминули сообщить в письмах, да с ехидцей – мол, сам все понимаешь, сам виноват. И грех измены тем самым с себя сняли – за ради потомства баба на все пойдет и все оправдает. Больше писем ни одна, ни другая не присылали – как сговорились. Известно, бабы – одной породы, думают и живут одинаково – для себя и детей, не разделяя. Потому, если взбредет ей в башку, что вот это для ребенка лучше, никакой мужик не вышибет. А на самом-то деле, может, ребенку и хуже от мамашиной опеки, если вдуматься, а лучше-то как раз ей самой, но не поспоришь, мол, я – мать, и все тут. Изредка только берегиня попадется, да тем алмаз и богат, что редко встречат. Вот Василина – Васька, как бабы на кухне промеж себя ее звали – завсегда подчеркивала – Иван Селиванович часто на прогулке наблюдал – слушайте, мол, отца, он наш защитник, он добытчик, он глава семьи и раз что-то требует, значит, надо слушаться. Правильно, очень правильно детей воспитывала Василина, и за это любил ее Иван Селиванович еще больше.
Ларек наконец-то открылся – это было видно по первым покупателям. Сделав еще один круг, Иван Селиванович подошел к окошку – небольшая очередь уже рассосалась, и можно было выбрать еду, не торопясь. Он попросил назвать ему все виды чая и колбасок, которые были в ассортименте, хотя наличествующих денег все равно хватило бы на самое дешевое, что он всегда и покупал. Хорошо знавшая его вкус, вернее, возможности, рыжая продавщица Марина поморщилась, но все-таки процедила сквозь зубы названия и цены. Иван Селиванович, повздыхав и покачав головой, попросил пачку краснодарского чая, две банки тушенки и круглого «Дарницкого». Другие сорта хлебов Иван Селиванович не признавал. Нет у них такого, чтобы твердую горбушку полумесяцем отрезать, а это самое вкусное, если на нее еще горяченького мясца или шмат докторской положить да с чайком закушать. Вернувшись в свою комнатенку, Иван Селиванович выложил одну тушенку в старенький, пузатый, еще советской сборки холодильник «Юрюзань» – в его пустых недрах одинокая консерва сразу приняла сиротливый вид, – вторую поставил на стол, положил рядом хлеб и стал налаживать чай. Чайника у старика не было – как-то забыл выключить газ на кухне, он и расплавился. Крику тогда от бабья было столько, что Иван Селиванович решил новый не покупать и вообще на кухне показываться только в исключительных случаях. Тем более, у него был кипятильник, и кипятильник хороший, но куда-то делся. То ли соседи сперли, уходя из гостей, Артист или Шелапут тот же, то ли с орденами бандиты прихватили. Сейчас Иван Селиванович кипятил воду в «походных» условиях – двумя бритвенными лезвиями с присоединенными к ним электрическими проводами. Сунул концы в розетку – через полминуты, пожалуйста, можно заваривать. Пока вскрываешь банку – уже забулькало. Щепотка чая, горбуха хлеба, зацепил вилкой шмат свинины с жирком – и наступает блаженный момент утоления. А потом – и насыщения. Много ли старику надо?
За окном раздался хлопок автомобильной дверцы. Хлопок громкий, казенный – свои машины с таким шумом не закрывают. Иван Селиванович подошел к окну – действительно, из рафика выгружались бойцы ОМОНа, предводимые симпатичной дамочкой в кителе.
«Наверное, к Салтычихе, больше не к кому», – верно рассудил Иван Селиванович и отошел к столу – это действо стало регулярным и потому неинтересным.
Раньше он в благодарность за освобождение от бандитских пут одевал свой «простреленный» пиджак и ходил Салтычихе на помощь, заступаться, пару раз даже беседовал с этой не очень-то на поверку и злой приставшей. Но Салтычихе помощь не требовалась, даже мешала, как пехота иногда мешает танку форсировать водное препятствие – она, выставив обе «пушки», теснила даже ОМОН. Так или иначе, детей у нее все не забирали, хотя мамаша их лупила по-прежнему. Тогда Иван Селиванович заступался за детей, и Салтычиха, кстати, на него, как на ОМОН, не перла – признавала за своего, а только всплескивала руками да сокрушалась – озоруют сорванцы, приворовывают, наверное, а Колька и курит уже небось. Доказывать Салтычихе, что за детьми призор да пригляд нужны, тогда и шляться, где попало, не будут, было бесполезно – в ход шли те же аргументы, и по всему выходило, что дети виновны уже в самом факте своего существования. Иван Селиванович только качал головой, вздыхал, думая про себя, что бабы все поголовно дуры, даны мужику в наказание, и отступался. Но когда Колька – Анютка была совсем ребенком, да и девчонке неинтересно – забегал к нему и распахнутыми от восторга глазами рассматривал его боевые награды и желтые, потрепанные фотографии из военного альбома, старик умилялся, гладил Кольку по голове и рассказывал случаи из фронтовой жизни. К распахнутым глазам прибавлялся так же распахнутый рот. Иван Селиванович всегда находил для своего «пионера» какую-нибудь конфетку или леденец и напутствовал правильными словами.
– Смотри, мамку не забижай.
Колька только усмехался, да отмахивался.
– Ее забидишь, она сама кого хошь… – и убегал в какую-то свою растрепанную дворовую жизнь.
В коридоре начался шум – Салтычиха заняла оборону. Иван Селиванович покачал головой, покряхтел, достал вчерашние «Известия» и стал в который уже раз перечитывать. Очков Иван Селиванович не носил – что-что, а из здоровья зрение осталось в норме. Газету старик купил специально – вдруг там что-нибудь про годовщину форсирования реки Прут, когда их 1-й Украинский взял Черновицы и вышел к Карпатам. Вчера утром он вник во все, набранные самым мелким шрифтом сообщения – про то, что его волновало, не было ни слова. Читать «скисшие» новости было неинтересно, а вот разные политические обзоры – вполне. Да оно так и надежней со второго захода – сразу-то все и не поймешь, а может, еще и между строк чего додумать можно.
«Правительство решило не делать Героям Советского Союза и России неприятные “подарки” к 9 мая. Имеющиеся у них натуральные льготы останутся в неприкосновенности. Однако те граждане, кто получит звание Героя России с 2006 года, останутся без льгот, – читал вслух медленно Иван Селиванович. – …Сегодня в Орле состоится заседание организационного комитета “Победа”, на котором вице-премьер… должен дать ответ, как улучшить социальное положение 4 тыс. обладателей звания Героев – Советского Союза, Социалистического Труда и России. Глава социального департамента аппарата правительства… в понедельник на совещании у премьер-министра… сделал министрам выговор за то, что они до сих пор тянут с одобрением проекта закона о статусе героев. Он разработан депутатами Государственной думы и ушел на согласование во все ведомства. “Дума рассчитывает принять этот закон до 9 мая”. “Завтра этот вопрос будет поставлен в Орле”, – обеспокоился и вице-премьер…»
– Обеспокоился он, – усмехнулся Иван Селиванович и стал читать дальше.
«…Суть законопроекта в том, чтобы монетизировать некоторые льготы героям, заменив их ежемесячными выплатами в размере 3, 5 тыс. рублей. Однако на заседании выяснилось, что не всем министерствам такой закон нравится. “Поправки к закону о статусе героев не продвигают, как мне кажется, ситуацию вперед”, – заявил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. По его словам, нынешние льготы лучше полностью заменить деньгами…»
Натолкнувшись опять на Зурабова, Иван Селиванович сплюнул.
«…Выход нашла замминистра финансов… Она предложила разделить героев на существующих и будущих – тех, кому соответствующее звание будет присвоено после 1 января 2006 года. “Старым” героям сохранят все натуральные льготы в их нынешнем виде – от проезда на городском транспорте до вневедомственной охраны и ремонта протезов. “Новые” герои вместо натуральных льгот получат высокую денежную компенсацию. Михаил Зурабов тут же предложил, чтобы “старые” герои могли при желании отказаться от натуральных льгот и “присоединиться” к получателям денежных компенсаций. Эту идею министры сразу же утвердили.
“Сегодня мы прояснили ситуацию, должны… встать в режим форсирования решений”, – радостно отметил премьер-министр».
– Чего радоваться-то? – прокомментировал Иван Селиванович. – Они только сегодня прояснили себе ситуацию, а где лекарства льготные, когда прояснять будут? Когда ветераны сами собой помрут, что ли? Особенно от язвы. У них небось в правительстве животы-то не болят. Если только от обжорства.
3
В приоткрытую без стука дверь просунулась лобастая голова Платона, глаза его блестели.
– Чего поделываешь, Ветеран? – В Платоновской интонации чувствовалась какая-то игривость.
– Дрова рублю, – буркнул Иван Селиванович, недовольно отложил газету в сторону.
Платон, не обращая внимания на недружелюбный тон хозяина, зашел внутрь и прикрыл дверь. Глаза его сияли. В одной руке Платон держал бутылку беленькой, в другой – раскрытое письмо. Иван Селиванович молча наблюдал, как тот почти по-хозяйски уселся за стол, бережно положил подальше письмо, свинтил крышку у «пузыря» и начал озираться в поисках посуды.
– В трюмо стаканы, забыл, что ли? – опять буркнул Иван Селиванович, не предпринимая никакой попытки встать с дивана.
Платон, не переставая сиять, достал два граненых лафетничка из старорежимных времен – при демократии таких почему-то не делали, – налил до краев и, видя, что хозяин рад гостю меньше, чем бутылке, поднял оба стаканчика и покрутил ими в воздухе.
– Ветеран, ну что ты как нерусский, в самом деле? Обиделся, что я твою речку вчера перепутал, так пардоньте, в самом деле. Водяра паленая была, а ты как-то неразборчиво назвал – у меня память на названия отшибать стало. Не скукоживай душу, садись, выпьем – у меня сегодня тоже повод есть, да еще какой!
При этих словах Платон погладил конверт.
Иван Селиванович пару раз вздохнул, однако спустил ноги с дивана.
– У тебя, Платон, бутылка – уже повод.
– Вот раскряхтелся же на старости лет, – продолжал благодушествовать Платон, все еще держа лафетники в воздухе, – садись, говорю, хороший повод, настоящий. Даже, можно сказать, святой.
Иван Селиванович принял в руки «парящий» над столом стакашек и присел на край стула, мол, знаем мы ваши поводы, хлопнем по одной, и пора непрошеным гостям «честь знать». Платон молчал, только смотрел на Ветерана с полублаженной улыбкой.
– Ну? – задосадился Иван Селиванович, которому уже и самому захотелось хряпнуть, несмотря на давешнюю боль в желудке.
Платон еще чуть потомил, потом вскинул руку со стаканом.
– За деда!
Иван Селиванович остановил свой лафетник у самого рта, так что чуть пролилось.
– За какого-такого деда?
Осушивший за полсекунды свой стакашек, Платон крякнул, обтер губы и не спеша пояснил:
– За меня, вот за какого!
Иван Селиванович внимательно посмотрел на Платона, перевел глаза на конверт и, все поняв, заулыбался в седую бороду.
– Да ну?
– Вот тебе и ну, ядрена-матрена… – Счастливый Платон засуетился с бутылкой. – Представляешь, только отошел до свалки мусор выбросить – ничего не было, а прихожу – письмо торчит в дверях. Я сразу почуял – хорошая весть, не повестка какая-нибудь или вызов какой, в общем, сразу почуял. Потом гляжу – от Зинки письмо, ну, от дочки моей, значит. Когда это она мне писала? Только так, на книжку чего переведет без всяких там лишних комментариев. А тут письмо, да еще заказное. Потому и открывать не стал – смотался сначала за пузыриком, у тебя, кстати, закусить есть чего?
Иван Селиванович, чуть поколебавшись, открыл «Юрюзань» и достал последнюю консерву.
– Живем, ядрена-матрена! – Потирая руки, обрадовался Платон. – Хлеб найдется?
Нашелся и хлеб. Платон разлил и, смачно пережевывая закусь, продолжал:
– Ну вот. Прибегаю я, значит, обратно, хотел сначала пузырек открыть, ну…приготовиться чтоб…
– Ты не отвлекайся, Матрена, – заметил Иван Селиванович.
– Да я не отвлекаюсь, я, как было, рассказываю. Ну вот, сбил…
– Ты письмо получил, – напомнил Ветеран.
– Ну да. Открываю, значит… – Платон взял конверт в руки и показал, как он его открывал. – Достаю письмо, начинаю читать, а там сразу – бах! – поздравляю, мол, папаша, ты теперь не только папаша, но и дедушка. Твоя дочь Зинаида. Во как, ядрена-матрена! – Платон положил конверт обратно, схватил свой стаканчик и махнул, даже не чокнувшись.
– И что, все письмо? – удивился Иван Селиванович.
– Не, не все, конечно. Только я дальше не читал – сразу к тебе.
– Дай-ка.
– В смысле налить? – спросил полублаженный Платон.
– В смысле письмо!
– А… держи, – Платон бережно передал конверт и снова взялся за бутыль.
Иван Селиванович достал листок в линейку из школьной тетрадки.
– Так… поздравляю… стал дедушкой… ребенок здоровый…имени еще не дали. – Ветеран поднял глаза. – Так ты что, не прочитал, кто у тебя – сын или дочка?
Платон помотал головой.
– Селиваныч, веришь, духу не хватило, решил сначала к тебе.
– Ну, точно… Матрена. Сын у тебя, понял… дедуля?
Платон выпустил воздух из щек, будто штангу с груди сбросил.
– Дорогой мой Ветеран, Селиваныч мой дорогой, давай за внука, здоровый, вишь… как назовут-то, а? В честь деда небось не назовут, а жаль. Да куда там – в честь деда, нужен им такой дед? – Платон как-то сразу, без переходного состояния, пустился в печаль. – Им и отец такой не нужен был, а я уже было размечтался…
– Хорош кручиниться, – усмехнулся Иван Селиванович, возвращая письмо. – Ты внимательно дочитай, в гости зовут, на крестины.
– Да ну? – удивился Платон, вчитываясь в строчки. – Действительно. Вот же какая ядрена-матрена выходит. Столько лет – ни весточки, а тут… зовут даже… приглашают.
В глазах у Платона сверкнули слезы. Иван Селиванович взял бутылку и налил Платону до краев.
– Радуйся, дурак. Твой род продолжился, а ты плакать собрался. Давай за продолжение твоей фамилии! Готов?
– Готов, готов… – Платон утер глаза и счастливо улыбнулся. – Вишь, как оно вышло?
– Вижу… Матрена ты наша. Не у всех так получается. Поздравляю! – Иван Селиванович грустно улыбнулся в широкую бороду и хлопнул Платона по плечу. – От сердца поздравляю! Молоток!
Скоро Платон отправился еще за бутылкой и закуской, по пути заглянул на кухню – рассказать всем бабам про свое счастье, но там осталась только Василина. Платон тут же поделился новостью, Василина всплеснула руками и поцеловала Платона в щеку.
– Молодец, Платоша, извиняюсь, Сергей Васильевич, ой, молодец!
– Приглашаю в гости, – важно сказал Платон, – сегодня гулять будем. Приходи, Вась, и Серегу непременно захвати. Я сегодня счастливый!
Пока Платон снова бегал за беленькой, весть облетела весь дом. Не успел виновник торжества занести в свою каморку пакет с продуктами и вытащить из кармана штанов заветный бутылешник, в дверях появилась Салтычиха.
– Ты, говорят, сегодня дедом стал?
– Ну, не совсем сегодня…пока письмо шло…
– Неважно. – Салтычиха занесла в комнату свое крупнокалиберное тело, поглотив половину свободного пространства. – Поздравляю и – вот… – откуда-то на столе появилась бутылка без опознавательных знаков с чем-то красным. – Собственного настоя… на калине.
– Благодарствуй, Пелагея. – Платон весь светился. – Сади…присаживайся, куда удобно. Я пока колбаски нарежу.
– Да ладно, резальщик тоже, – благодушно заворчала Салтычиха, – дай сюда. Это дело бабье. Разливай пока.
– А что разливать-то, ядрена-матрена, водочку или эту твою настойку?
– Да что хошь, все одно ничего не останется.
– Тоже верно, – согласился Платон и взялся за магазинное, все-таки здесь риска было меньше.
– А! Парад-алле! – в комнату вихляющей походкой зарулил Артист и, копируя Высоцкого, прохрипел: – Ну-с, граждане уголовнички, займемся делом?
– Сам ты уголовник, – не разобралась в искусстве Салтычиха, – да еще халявщик.
– Художника обидеть может каждый, как говорится, – не очень обижаясь, пожаловался Артист, подходя к столу и вынимая, как давеча сам Платон, бутылку из кармана штанов. – Берег для себя, на какой-нибудь праздничный случай… – Артист закашлял в кулак с зажатым пузырем. – А вот, вишь, праздник тебе выпал. Усек?
– Усек. Садись, прочистим трубы пока.
– Прочистим трубы, начистим зубы, – пропел Артист и подставил стакан.
– Подожди, Ветерана надо позвать, я у него начинал, в смысле, отмечать.
– Пропустите ветерана, у меня же ноют раны, – опять пропел Артист и пододвинул стакан вплотную к открытой бутылке. – Он сейчас сам завалится – я видел, как он пиджак свой драный надевал.
– Не драный, дурак ты, а ограбленный, – «культурно» подправила Салтычиха, выкладывая колбасные дольки на единственную нещербатую тарелку.
– Какая разница, все равно сейчас придет. Не томи, Платон!
Сергей Васильевич разлил полных три стакана – бутылка почти опустела. Салтычиха тяжело опустилась на стул, жалобно скрипнувший под ее могучим телом.
– Ну что, родимый, за внучка твоего, чтоб ему здоровьица да счастья поболе дедулиного!
Платон и Артист вздохнули на слове «счастье» и, чокнувшись с Салтычихой, задрали головы.
– Как твои внука назвать думают? – под лучок спросил Артист.
– Не знаю. Но не в честь деда, это точно, – снова вздохнул Платон.
– А с чего это дедовское имя им не подходит? – возмутилась Салтычиха. – Дети вообще вредные, это я даже как мать могу сказать. Пока растут – мучайся с ними, следи, сопли и говно вытирай, воспитывай, а потом начинается: мать плохая, все не по-ихнему, ты им только добра желаешь, а они за твое же добро тебя же в ребро.
– Так люди устроены, – философски заметил Артист. – Плохое лучше запоминается. Усек?
– Ну и чего такого плохого Платон, к примеру, своей Зинке сделал? – настаивала Салтычиха. – Кормил, растил, а потом не нужен стал – все! Жинка сбежала, дочь всегда за матерью, как нитка за иголкой, – и пропал мужик. Я вообще удивляюсь, что они про тебя вспомнили, Платон. На крестины хоть позвали?
– Позвали, позвали, – успокоил Платон, открывая бутылку Артиста, – вот скоро поеду, насчет билетов разузнаю да и поеду. Сегодня какой день?
– Среда, кажись, – подсказал Артист.
– Ну вот, на выходные и поеду. – Платон взял в руки стакан. – Наверное…
Открылась дверь, и в комнату вошел Ветеран, как и говорил Артист, в полной форме, то есть в пиджаке и кепке и со стулом в руках.
– Так и знал, что гости уже свободные места заняли, – пояснил Ветеран и подставил стул к пиршественному столу.
Платон перехватил свой стакан другой рукой и налил новому гостю.
– За нового… напомни, как твоя фамилия, Васильич? – начал Ветеран.
– Соломатины мы, – горделиво сказал Платон.
– Ну вот. За нового в этом мире Соломатина!
– Ура! – закричал Артист.
Салтычиха смахнула неожиданную слезу и тоже крикнула: ура!
Когда зашли Василина с мужем Сергеем, в комнате стало так тесно, что Платон, уступив место Василине, пересел на тахту. На столе прибавилось водки и пирогов с пыла. Их сегодня и готовила Василина, когда на кухню заглядывал Платон. По случаю удаленности Платона от стола разливал Артист.
Сергей встал с чайной чашкой в руке – свободных стаканов уже не было – и сперва прокашлялся, как делают люди, не привыкшие говорить речи.
– Ну что сказать…
– Устроены так люди, – подхватил было Артист, но Салтычиха грозным взглядом пресекла балаган.
– Что я хотел сказать… вот у нас с Васечкой двое детишек, Ленка и Петька…
– Дай им Бог здоровья, – прочувственно встряла Салтычиха, любившая чужих и потому более абстрактных детей больше, чем своих собственных, очень конкретных.
– Спасибо, Пелагея, – прижал руку к сердцу Сергей. – Ну вот, значит… двое у нас. Мы, когда имена им давали, имели в виду моего отца и Василинову мать.
– Тещу всегда надо иметь… в виду, – не выдержал Артист.
– Я – Сергей Петрович, а Петька, выходит, будет Петром Сергеевичем, – не обращая внимания, продолжил тостующий. – Ну и Лену, как Васину мать, назвали, конечно. У наших родителей, когда они узнали, счастья было – словами и не опишешь. В общем, я к чему – давайте выпьем за родителей за наших и за нас, родителей наших детей, и когда наши дети сами родителями станут, вот. Как у Платона, чтобы они нас тоже не забывали и за нас чтобы поднимали… э… свои бокалы.
– Платон, не зря говорится – любите ваших внуков, они отомстят вашим детям, усек? – прокомментировал Артист после того, как все поставили посуду.
– Злой ты все-таки, – заметил Ветеран. – Все сидят, как люди, рождение нового человека празднуют… Сразу видать, что людей не любишь.
Артист согнулся во внезапном кашле. Ветеран хотел было хлопнуть его по спине, но Артист показал рукой – не надо.
– Ой, не стоит, папаша, меня лечить, усек? Ты что, доктор? – Откашлявшись, Артист зло блеснул глазами через навернувшиеся слезы. – Меня тоже не очень-то любили, за что я любить должен? Помню, один режиссер мне как-то говорит, а я уже пробы прошел, не могу тебя, мол, утвердить, мне чуть не из ЦК по твоему поводу звонили…
– Брось, Артист, надоел, – опять нахмурилась Салтычиха.
Артист, побаивавшийся Салтычиху, умевшую разбираться даже с ОМОНом, только махнул рукой и снова разлил.
– Нет, правда, Сергей Васильевич, это же какое счастье – новый человечек в семье, родная плоть, новая душа. Ваша дочь, наверное, самый счастливый человек на земле сейчас. – Василина вся сияла, как будто это она родила. – Давайте за нее выпьем. Ее же Зинаида зовут? Вот – за Зинаиду!
– Молодец, Васька! – горячо поддержала Салтычиха. – А то эти стервецы за бабу и выпить не догадаются. Вам бы хоть раз родить попробовать, узнали бы, что почем.
– Ну, вот еще! А если бы бабы не рожали, зачем они вообще нужны? – осмелел Артист.
– Еще неизвестно, кто кому больше нужен, – припечатала Салтычиха. – Я, вона, своих одна-одинешенька воспитываю, и ничего. Так что за Зинку!
Мужики переглянулись – совсем недавно от такого «воспитания» ее детей в детдом забирали, – но без комментариев выпили за Платонову дочку.
Сергей, муж Василины, накрыл ладонью свою чашку, когда Артист разливал очередной раз.
– Мне на работу рано утром.
Василина тоже убрала стакан из-под бутылки, мол, еще есть.
– Платон, а ты чего там в стороне отмалчиваешься? – повернулась Салтычиха, стул при этом жалобно скрипнул.
– Не… я не отмалчиваюсь. Мне хорошо просто, давно так не было, – мягко улыбнулся Платон.
– И пить меньше стал, – упрекнул Артист, которому Платон свой стакан тоже не отдал, – брезгуешь, Платон?
– Я?! Да я вчера…три дня пил! – вышел из нирваны Платон и встал со стаканом. – Лей полный, ядрена-матрена!
– Другое дело, – похвалил Артист, не любивший напиваться первым.
– А в какой город-то поедешь? – спросил Ветеран.
Платон, хотя и знал, для верности достал из кармана телогрейки конверт и посмотрел на обратный адрес.
– В Рязань.
– Издалека до-ол-го… – напел по обыкновению Артист и снова зашелся в кашле.
Его седые волосы на целую минуту рассыпались над стаканом.
– Ты бы с куревом завязывал, – посоветовала Салтычиха, – туберкулез наживешь. Или еще чего хуже.
– Не каркай, женщина! – Артист, как нарочно, достал пачку «Явы». – Прям доктора кругом.
– Дай мне тоже одну, – попросил Сергей, Василинин муж.
– Ты ж не пьешь, – удивился Артист.
– Я ж не водку, а сигарету попросил. А пить-то я пью, но так…эпизодически.
– Вся жизнь – один затянувшийся эпизод, – заметил Артист, протягивая пачку. – Кури на здоровье.
– Что я – один с полным стаканом сидеть буду? – напомнил Платон.
– И то верно, – спохватился Артист. – Давайте за деда Платона.
– Чего-то вы, мужики, зачастили, – проворчала Салтычиха, но выпила со всеми.
Платон подошел к столу и взял последний пирожок.
– Ребята, закуска на исходе. Ларек работает еще?
– На меня не рассчитывайте, – сразу сказал Ветеран, – я пойду уже, притомился чего-то.
– Эх, старость – не радость, – покачал головой Артист, – скажи просто, что складываться не хочешь.
– Пустой ты человек, Артист, – нахмурился Ветеран, – ничего в тебе, кроме злобы, нету. Ты до моих лет доживи, я уж не говорю, чтоб ты с мое похлебал, не дай Бог, потом будешь разбираться – кто чего хочет, а кто чего может. Все, пошел. Спасибо за угощение, Платон.
– Человек – это звучит грустно… – Артист хотел развить, но снова поперхнулся кашлем.
– Не надо никуда бегать, у нас еще пироги есть, сейчас принесу. – Василина легко поднялась со стула и вышла вслед за Ветераном.
– Золото у тебя, а не жена, – сказал Сергею Платон, которому совсем не хотелось куда-то уходить из теплой компании, пусть даже за закуской.
Артист потянулся за Салтычихинской настойкой.
– Как сказал Сократ – усек, Платон, не Платон, а Сократ. Так вот, он сказал: женись в любом случае. Повезет – станешь счастливчиком, не повезет – станешь философом. Вот поэтому Серега – счастливчик, а мы с тобой философы. И неизвестно еще, кому лучше. За философов!
– Ты вот все гундишь, а про свою жену никогда никому не рассказывал, – внимательно посмотрела на Артиста Салтычиха – Ты вообще женат-то был?
– Есть только миг между прошлой и будущей, именно он называется жизнь, – отмахнулся Артист, мол, все там были, и разлил красноватую жидкость на троих. Сергей снова отказался.
– За нас с Платоном!
Вернулась Василина с корзинкой и красноречиво посмотрела на мужа. Сергей начал подниматься.
– Посошок хоть прими, – понял Платон.
– Ну, если немного… на посошок, то можно.
Выпили «на ход ноги», и вдруг неожиданно, как это всегда бывает за каждым столом на Руси, Салтычиха запела. Закрыв глаза, покачиваясь всем своим пышным телом, выводила низким грудным голосом:
– Окра-асился месяц багря-янцем, где во-олны бушуют у ска-ал…
Василина присела на край тахты, подложила ладонь под щеку и подхватила:
– Пое-едем, красо-отка, ката-а-ться, давно-о я тебя поджида-ал…
Мужики внимательно слушали. Сергей снова уселся и наклонил голову. Жалостливая песня наполнила собой комнату и людей, в ней сидящих.
Всю ночь волно-овалося мо-оре, шуме-ела морска-а-я волна, Поу-утру приплы-ыли два тру-упа и ще-епки того челно-ока…– Эх, красиво, только грустно, – сказал умиленный Платон. – А вот эту?
По Дону гуля-я-ет, по Дону гуля-я-ет, по Дону гуля-я-ет казак моло-о-дой…Теперь подхватили остальные. Все, о чем не хочется говорить обычными мелкими словами, сказано в широкой, глубокой, как Волга, русской песне.
В дверь заглянула чумазая детская головка.
– Мам, мам, меня Колька послал, говорит, что он голодный, – заскулила Анютка, Пелагеева дочка.
Салтычиха, которая в другой раз могла в дочь и обувкой запустить, растрогалась от песен настолько, что позвала Анютку к себе, посадила на колени и погладила по голове.
– Вот, возьми пирожок пока, отнеси, сейчас я приду.
– А я тоже голодная, – осмелела девочка, – можно, я пирог съем?
– Пелагея, бери все пироги, я после еще напеку, – сразу предложила Василина и, уловив заминку в Салтычихиных глазах, заверила: – Бери, бери.
Салтычиха махом допила свой стакан, вздохнула, взяла дочь на руки и встала.
– Спасибо, Вась, я потом чем-нибудь отвечу.
– Да ладно, Пелагея, что мы, не православные, что ль?
– Прощевайте. Тебе, Платон, удачно к внуку съездить.
– Да увидимся еще, Сал…Пелагея, – сказал Платон, галантно поднимаясь с места, – заглядывай.
С уходом Салтычихи веселье, хотя и с грустинкой, а все ж веселье, как-то рассыпалось. Попробовали было еще спеть, но как-то выходило натужно – души не забирало. Вскоре Василина забрала домой мужа, и Платон с Артистом остались вдвоем. Пить было уже почти нечего – только на самом дне бутылки плескалась красная жидкость.
– А ты уверен, Платон, что это вообще можно пить? – запоздало поинтересовался Артист, разглядывая бутылку на свет.
– Завтра так и так узнаем. Наливай, ядрена-матрена.
– Усек, – согласился Артист, – тут как раз по полстакана.
Платон смотрел, как стакан изнутри «окрашивался багрянцем», и думал, что странно как это выходит – пока не выпьешь с русским человеком, ничего о нем толком не узнаешь. У стакана вот много граней, и все одинаковые. А у человека, которому этот стакан предложишь, граней еще больше, и все разные. Вон, Салтычиха, к добру от людей не приученная, а благодарность ведает. Даже прожженный алкаш Артист не всю душу, наверное, пропил, по песне видно. Жалко, что Ветеран ушел, его Платон всерьез уважал – не только за то, что воевал, а за то ещё, что он этим напоказ не гордился, не злоупотреблял своим ветеранством, как многие. И от жизни не озлобился, как Артист, к примеру. Да и этот, если разобраться, шипит больше, прямого зла-то не причиняет.
– Ты чего глазами застыл? – вывел его из задумчивости Артист. – Пойло уже себя показывает?
– Да нет, мысли разные приходят.
– Ты помнишь, по поводу чего мы пьем-то, мыслитель? У тебя внук родился! Хотя и имени еще нет, а человек уже есть. Усек? Чтоб ему повезло в этой… в этой… – Артист хотел ругнуться, но передумал или подходящего слова не нашел. – Этой корявой жизни, так вот, Платон.
Мужики хряпнули по последней и расстались. Артист, как это бывает у алкоголиков, почувствовал, что сейчас резко, вдруг опьянеет и некрасиво завалится куда-нибудь под стол. Он встал и, уже сильно шатаясь, вышел, не тратя остатка сил на прощальные слова. Платона тоже чего-то заштормило и повело на постель – наверняка с Салтычихинской бормотухи.
4
Это утро было похоже на предыдущее, как одна консервная банка на другую. Платон, вставший с похмелья раньше обычного, снова пошкандыбал на свалку, прихватив посуду для воды. Всю дорогу его занимала одна, теперь простая, не пернатая, а очень даже насущная и земная мысль – какую одежду у кого одолжить для поездки в Рязань? И еще – какие подарки купить, чтобы и не одалживаться особо, но и чтобы Зинка не фыркала. Что дарят в таких случаях, Платон, как и всякий холостой мужик, не имел ни малейшего представления. Решил справиться у Василины – не без задней мысли, что, кроме совета, перепадет и что-нибудь материальное – из сохранившихся детских вещей. Ничего, что большое, на вырост пойдет. В принципе, от вчерашних богатств еще что-то шуршало, но ведь – на билет надо (сколько он мог стоить по нынешним временам, Платон не имел понятия), да и до пятницы тоже дожить надо. Зато, как приедет, и наестся от пуза, и с гостями выпьет по-законному, и вообще развеется. Платон точно решил задержаться у дочки не меньше, чем на неделю, ну, если совсем уж попрут, то дня три – это точно. Дед он или не дед, в конце концов? Платон даже выпрямил спину, чуть не уронив банку с водой. В принципе, хороший пиджак и приличную сорочку можно было бы одолжить у Артиста, у них с ним комплекция похожая. Вот с обувью дела обстояли сложнее. Артист зимой и летом ходил в одних только кедах, да и размер у него меньше – сорок первый или сорок второй, а Платон носил сорок третий. Василинин Серега – много крупнее Платона, небось лапища сорок пятого размера. У Ветерана, даже если и было бы чем одолжиться, так у старика стыдно спрашивать. Платон подумал было про Шелапута, но по размышлению от его услуг отказался – не дай Бог с его обувкой что случится, потом неприятностей не оберешься.
«Хорошо, наверное, этим самым… грекам было жить, – вспомнил Платон вчерашний разговор за Сократа. – В одних сандалиях ходили и в туниках. Ни пиджаков тебе, ни брюк, перекинул ткань на плечо и иди себе, куда хочешь, философствуй. Чем проще, тем лучше, древние-то это знали». Платон представил себе, как он в древнегреческом хитоне заявляется на квартиру Зинке и у той округляются глаза и отваливается челюсть. А у него еще и венок на голове – вот картина! Даже сам заулыбался – так забавно вышло бы.
– Чего лыбишься, Платон? – навстречу подходил Шелапут.
Платон подобрал губы – еще не хватало, чтобы его за блаженного приняли.
– Да радость у меня, Зинка внука принесла.
– Да слыхал уже. – Шелапут остановился. – В Рязань поедешь?
Платон не очень удивился осведомленности соседа – здесь новости распространялись, как пожар в ветреную погоду.
– Собираюсь вот… – тут Платон решился. – Слышь, Ше… Степаныч, я насчет бот каких-нибудь хотел у тебя спросить. У тебя размер вроде походящий.
– А чего ж намедни на гулянку не позвал, там и спросил бы? – прищурился Шелапут.
– Я всех звал, кого встретил, – смутился Платон, про Шелапута он не то чтобы забыл, а даже надеялся, что тот не придет, в его присутствии всегда приходилось держаться настороже.
– А в дверь постучать? – Шелапут склонил набок свой белесый ежик и прищурился еще больше.
– А самому зайти, соседа навестить? – в тон переспросил Платон, чтобы Шелапут не заметил его смущения.
Чуткий на интонации бывший урка усмехнулся.
– Тоже верно, бродяга. Насчет бот покумекать можно. Только услуга – за услугу.
Платон выразил лицом готовность соответствовать.
– Так, значит. Я тебе посылку дам, небольшую и не тяжелую. Ну и адресочек в Рязани. Отнесешь одному корифану моему, идет?
Платон сразу учуял что-то нехорошее, но отказываться было не с руки, уж коль проблема с обувью решалась сама собой.
– Идет, – сказал он почти сразу.
– Ну и ладненько. Заходи завтра утром. У тебя какой размер-то?
Платон посмотрел на свои сапоги, как будто и без этого размера не знал.
– Сорок третий.
– Сварганим тебе сорок третий, красивым фраером поедешь, бродяга.
Шелапут пошел своей дорогой, Платон, перехватив банку другой рукой, чуток постоял, посмотрел в спину удаляющемуся соседу и побрел в сторону дома.
День тянулся особенно долго. Василина, как и все, возвращалась с работы не раньше восьми. Артист куда-то запропастился, к Ветерану идти не хотелось. Платон смутно чувствовал, что его счастье тому не то что неприятно, но лишний раз напоминает о собственном бездетном одиночестве. Есть пока не хотелось, тянуло спать, но, растянувшись на тахте, Платон глаз так и не закрыл. В голову лезли всякие мысли.
Что это за посылка такая, которую нельзя по почте послать? А кто сказал, что нельзя – с оказией проще и дешевле. А почему не с проводником тогда… хотя и проводника благодарить надо, а тут – боты на время, и вся благодарность. Выгодно, конечно. С другой стороны, как-то подозрительно на него Шелапут смотрел. Словно проверял взглядом. Вскроет или не вскроет? Забудет отдать – не забудет? Потеряет – не потеряет? Пёс его знает, что у этого каторжанина на уме. Хотя его-то какое дело! Кто будет допытываться? Попросили по-соседски, вот и везу. Пройдя по второму кругу, мысли перескочили на другое. Платон вспомнил, как он маленькой Зинке подарки покупал, когда у него еще самостоятельные деньги водились. Бывало, споры с женой выходили – то слишком дорого, то слишком дешево, то ребенку это не нужно, то еще что.
Больше всего Зинка обожала не куклы даже, а зверушек. Живых, всамделешних. Платон дарил и хомячков, и попугайчиков, и черепаху, хотел однажды собачку, но тут Надежда встала насмерть. Кто гулять с ней будет, кому убирать за ней, вонь, шерсть… Платон тогда сказал, что у собак душа есть, добрая, а ребенку это для своей души полезно. Куда там – высмеяла. Какая, мол, у животных душа, когда у него самого-то души не видно – пивная пена заливает. Он тогда ссориться не захотел, возразил помягче – кому бывает больно, у того и душа есть. Даже у деревьев. А у собачонки и подавно – в глаза так смотрит, словно понимает все.
– Вот видишь, собака и то поняла бы, что лучше с дочерью заниматься, чем неизвестно чем с ларёчными дружками, – нагрубила Надежда.
Тогда Платон оделся и назло пошел пиво пить, хотя и не хотел. Что она, совсем его к своей юбке прибулавить хочет, что ли? Кто вообще в доме хозяин? Эти бабские посягательства на исконную мужскую самостоятельность обсуждались за пивом горячее всего.
– Баба – не человек, в лучшем случае – друг человека! – утверждал кто-то, кажется, бывший боксер Никита, спивавшийся из-за ранней славы. Когда-то побеждал на зональных соревнованиях, даже призером чемпионата страны побывал.
– А кто тогда враг человека? – вопрошал другой, имени его Платон уже не помнил, с щербатыми зубами. Когда он улыбался, рот становился похожим на развалины Колизея – Платон как-то видел в «Огоньке».
– Теща, – продуманно утверждал Никита, – по себе знаю.
– Это ты по себе судишь, – возражал щербатый. – У меня золотая теща. Хоть сейчас пошли ко мне в гости – примет как дорогих гостей, ничего поперек меня не скажет.
– Не может быть, – отмахивался боксер. – Сказки все. Скажи, Васильич!
Платон к своей теще относился ровно, но, оттого, наверное, что видел всего два раза – на свадьбе и потом, когда была проездом. Звали ее Валентина, отчество было редкое, старорусское – Евстафьевна. Какая она по характеру, Платон толком и не узнал, от тещи у него в памяти остались только усталые глаза и тихий голос. Настолько тихий, что Платон без конца переспрашивал. Но Валентина Евстафьевна и на другой раз говорила тихо или вообще махала рукой, не важно, мол. Тестя Платон вообще не застал, он умер еще до их свадьбы – то ли под поезд попал, то ли столкнули, – он заведовал крупной овощной базой на железнодорожном узле где-то в Магадане, мог всяких дел касаться.
Платон тогда пожал плечами, но на всякий случай присоединился к боксеру – черт их, баб, знает, одним мирром мазаны, ядрена-матрена.
– Ну вот, – торжествовал Никита, – лучшая теща – нокаутированная теща!
Именно тот боксер и подсказал ему позже, как «жинке прическу подправить», даже изобразил, как лучше ударить, чтобы ощутимо и без фингала. И жалел, и не жалел Платон потом об этом. С одной стороны, одним махом сбросил себя это ярмо подкаблучника, утвердился наконец в собственных глазах, с другой – не любил он конфликтов, можно было и потерпеть еще, словом как-нибудь, лаской смирить ее нрав. А может, и нельзя было, сейчас разве поймешь. Так и так бы ушла, раз все готово было. Не хватало последней капли, повода, чтоб совсем стервой не казаться. Ну, так повод – не причина, всегда находится рано или поздно. Вот и выходит, что Платон камень подтолкнул, и так на краю стоявший. И как же это незаметно любовь уходит – словно вода испаряется, глазу вроде незаметно, а раз – и сухое дно. Особенно если размолвки да ссоры подогревают, тогда вообще – не испаряется, а выкипает просто. Платон вдруг подумал, что вот если вдруг, сейчас Надя бы зашла к нему в каморку и просто сказала, прими, мол, вернулась я и все забыла, начнешь сначала со мной? Он бы ни секунды не раздумывал бы, обнял бы, зарылся ей в волосы и даже прослезился бы. Платон ясно представил себе лицо – то лицо задорной комсомолки Нади с озорными и смелыми голубовато-зелеными глазами. Молодая невеста смотрела на него, улыбалась и тянула руку к его голове.
– Хороший мой, Сережа, Сереженька… грустно мне без тебя.
– Ну что ты, Надюша, ну что ты! – Платон целовал руку, гладившую его волосы. – Почему же без меня? Мы же муж и жена, теперь навсегда вместе.
– Ой, не навсегда, Сережа, вижу, что не навсегда, вот и грущу заранее. Душа у меня болит, как у собачки брошенной. Есть у них душа, оказывается. Прав ты был, Сережа. Во всем прав. Только видишь – запряталась глубоко душа, а себя скоблить не хотелось. Не привыкла я жалеть, Сережа. Никого – ни себя, ни тебя, даже Зинку. Думала, жалость – во вред только. А разве можно никого не жалеть, разве можно… можно…
– Можно? – кто-то стучался в дверь.
Платон тряхнул головой, он даже не заметил, как заснул и продрых целый день – за окном густела темнота.
– Не заперто!
Вошла Василина с большим ярким пластиковым мешком.
Платон присел на тахте.
– Вот, в городе купила, Сергей Василич. – Василина поставила мешок на пол. – Тут подарки для внука, ну, разные там памперсы, погремушки и вот еще… – Женщина стянула мешок вниз – показалась крупная смешная голова плюшевого медведя с желтым бантом на шее.
– Да что ты, Васечка, я бы сам, спасибо большое, – засмущался Платон. – Я потом отдам, ты скажи только, сколько это… на сколько это… пенсию получу, ядрена-матрена…
Василина махнула рукой.
– Да ладно, Сергей Васильевич, сочтемся как-нибудь. Вы лучше посмотрите, какая прелесть. – Василина сжала медведю ухо.
– С днем рожденья, с днем рожденья, – серебристо запел медвежонок детским голоском.
– Он еще разные песенки умеет, если лапу ему пожать. – Василина улыбалась, как маленькая девочка, которой подарили долгожданную игрушку.
Платон не знал, как и благодарить – о деньгах говорить было совсем неловко. Василина, заметив его смущение, быстро попрощалась:
– Ну, все, побежала я, а то у меня Сережа не кормленый еще.
Платон улыбнулся ей вслед – золотая девка. Правильно Ветеран про нее говорит – «берегиня». Платон подошел к медвежонку и осторожно сжал ему ухо.
С днем рожденья, с днем рожденья, с днем рождения, Поздравленья, развлеченья, угощения! Знают взрослые и дети, Все игрушки на планете, День рожденья – лучший день на свете! —пропел медвежонок.
Платон не мог с ним не согласиться, хотя последние лет десять свои дни рождения отмечать перестал – наоборот, проводил их без водки и соседей. Ни Зинка, ни тем более Надежда его не поздравляли, хотя адрес знали – посылки и извещения о переводах приходили же как-то. Желания, значит, не испытывали. Платон же отправлял поздравительные открытки каждый год – на Зинкин адрес, Надеждиного не знал, но в ответ – ни строчки. Но Платон не сетовал и в своих открытках не жаловался, хотя слова выходили с каждым годом все суше – пока не высохли до двух с половиной «С днем рождения!»
…Знают взрослые и дети, Все игрушки на планете, День рожденья – лучший день на свете!Его лучший день на свете приходился на 1 июля – тогда он просто уходил из дома и шлялся по острову, иногда переходил на Левый берег – в город и, если были деньги, пил пиво. Один раз даже доехал в центр, где когда-то жил, но старой пивнушки там уже не было, а был солидный ресторан. Ну, куда ему в ресторан с таким «золотым запасом» и в такой одежде, что менты документы на каждом шагу проверяют. А на окраине ларечки для простого народа еще сохранились, там Платон и отмечал разливным пивком свои даты. Скоро будет 56-я. «Пятьдесят шесть, то есть пятьдесят седьмой пойдет, а это уже официально старость…» – подумал Платон равнодушно. Чего огорчаться, старость – это не годы, а когда молодости нет. Его молодость выцвела давно, когда он считался вполне молодым по летам, так что разницы особой не было. Главное – у него теперь есть внук, и он к нему скоро поедет, вот и игрушки уже есть, и к дочери своей родной поедет, от них молодости наберется. Платон поскреб затылок – надо ведь было как-то решать с билетом. Вот ведь дурак пьяный – провалялся с бодуна целый день, вместо того чтобы на вокзал съездить, разузнать все, а то ведь не знает даже, сколько денег нужно, ядрена-матрена. Другой вопрос, где их раздобыть, но ведь и сумма неизвестна.
Платон потер виски – то ли с дневного сна, то ли от вчерашнего неприятно ныло. Желудок, словно сговорившись с головой, заныл тоже – ну, это, понятно, от голода. В холодную темноту жуть как не хотелось выходить, но надо было шлепать до магазина, пока рыжая Маринка не закрылась. Она графика не соблюдала – когда хотела, открывала, когда хотела, закрывала, даже днем – то на обед, а то и вовсе на учет. Был и другой магазин на острове, но даже и не магазин, а так – лавка. Ни водки, ни закуски – одна кока-кола и сигареты. И идти туда было еще дальше, чем до свалки.
Платон натянул фуфайку и только собрался выходить, как дверь распахнулась и в комнату без разрешения ввалился Артист – учтивости в нем не было и в помине. На седых космах красовалась немыслимая белая ковбойская шляпа с веревочками.
– Платон, с тебя бутылка, усек?
– С чего это? – удивился Платон.
– А с того это. Так проставляешься или как?
– Так что случилось-то такое, что я проставляться должен?
– А то, что у меня поклонницы не перевелись еще, усек?
Платон внимательно посмотрел на Артиста – вроде трезвый.
– Послушай, у меня хоть шаром покати – ни выпить, ни пожрать. Я к Марине как раз собирался. Вернусь – поговорим, про твоих поклонниц, лады?
– Лады, – согласился Артист, водрузив шляпу на медвежонка, – но без бутылки не возвращайся. Я тебе билет в Рязань достал, усек?
– Как это? – опешил Платон.
– Так это. Был в городе по делам разным, ну, это тебя не касается, зашел… так на всякий случай в привокзальные кассы, а меня кассирша так в лоб и спрашивает – лицо похожее очень, вы в кино не снимались? Я ей спокойно – было дело. А она – не в таком-то фильме, ну, ты знаешь. Я говорю, во многих, мол, но и в этом тоже… – Голос Артиста звенел от гордости. – А она мне – автограф можно ваш получить, представляешь?
– Ну?
– Что «ну»? – почти обиделся Артист. – Помнят-то в народе еще, помнят, усек?
– Да усек, усек! С билетом-то что?
– А… договорился я, короче. С начальницей – эта кассирша к ней сбегала, привела. Та тоже в восторге – меня помнит. А билет уже выписали – ты же Соломатин Сергей Васильевич? Я ведь помню. У меня память профессиональная на имена. Только паспорт завтра принесешь, заполнят и выдадут. Плацкартный, правда, ну так тебе лишний комфорт ни к чему. Да и все равно – билетов других нет на неделю вперед. Прямо завтра вечером в районе шести и поедешь. Поезд, который на Адлер, усек?
– Подожди, а деньги? Сколько стоит-то? – напрягся Платон.
– А нисколько, – наигранно-небрежно сказал Артист, – я договорился. В счет гонорара – я на следующей неделе в их актовом зале даю концерт, усек? Творческий вечер, так сказать, встреча с любимыми артистами советского кино. А советское кино – настоящее кино, а не нынешние поделки халтурные, за которые в прежние времена из любого приличного кинематографического института взашей бы…
– Так что – ничего платить не надо? – недоверчиво перебил Платон.
– Ты не усек. Концерт же, говорю. Ты, кстати, за пузырем собирался, если я не ошибаюсь?
Платон не шел в магазин – летел. От каскада радостных сюрпризов даже перестала болеть голова. Летел и по пути соображал – времени на сборы, то есть на нахождение приличной одежды почти не оставалось. Надо бы с Артистом не засиживаться – пособирать, у кого чего есть. Хотя куда спешить – так, подарки есть, пальто, может, у Сереги, да и не надо особо пальто, боты – у Шелапута завтра утром, костюм какой – наверное, сам Артист и даст. Нет, ну Артист! Злыдень вроде, а поди ж ты – билет сделал за просто так. Не все сердце, значит, пропил. И ведь сам в кассы зашел. А зачем заходил – не может быть, чтобы случайно. Может – сам купил из душевного порыва, да признаться стесняется – придумал про концерт? А может, вообще никакого билета нет – розыгрыш злой, и все? Платон даже остановился. А вдруг действительно – шутка? Не похоже на Артиста – добро людям делать.
Закупившись, Платон возвращался уже гораздо медленнее. Ну и что, если розыгрыш, успокаивал себя, ты же ничего не теряешь, на вокзал завтра так и так ехать. Деньги – ну снимет последний НЗ с книжки, потом у Зинки одолжится – все-таки родная дочь да и сама позвала. Небось хватит. А не хватит – потом как-нибудь съездит, со следующей пенсии. К себе в комнату Платон заходил уже почти грустный. Артист сидел за столом с приготовленными стаканами, шляпа красовалась на мишке, придавая тому лихой, недетский вид.
– Вот это дело, сейчас будем отмечать твой отъезд и мой концерт одновременно. Тем более они связаны… мистически.
– Как? – спокойно переспросил Платон, разгружая пакет.
– Мистически, усек?
Платон не ответил. Открыв бутылку и плеснув в стаканы, спросил:
– Артист, я хотел спросить…
– Спрашивай, раз хотел, но сначала – за советское кино!
Платон пожал плечами и выпил.
– Так чего? Спрашивай!
– Тебе за билет, спасибо, конечно. Огромное спасибо, за мной не заржавеет…
– Ерунда… – Артист опять небрежно махнул рукой. – Если бы не твой билет, меня бы кассирша не опоз… в смысле, не признала бы. Так что тут все взаимно, усек? Так какой вопрос?
– Не столько вопрос, просьба. У тебя костюм есть приличный? Мы с тобой одного роста вроде.
Артист на гребне великодушия сходил к себе и принес пиджак.
– Костюма нет, а пиджачишко примерь. Летний, кстати.
Платон немного повеселел – раз дает одежду, значит, и с билетом, похоже, все нормально. Пиджак немного жал, но если не застегивать, то вполне ничего. Еще через стакан Артист принес футболку тропического вида – нерваная рубашка у него была одна. С брюками поначалу вышла заминка – у Артиста были запасные, парадные, но в них он собрался идти на свой единственный за последние годы концерт. Достали, правда, старомодные и с заплатой под правой коленкой у Сереги – Василининого мужа. Брюки были не его – старшего брата. Брательник, видно, не в тот корень пошел – Платон еле в них залез, но ширинка хоть не сразу, но все-таки закрылась.
– Пока едешь, разносятся, – заверил Артист, допивая стакан. – Ты, знаешь, что?
– Что?
– Ты еще шляпу возьми – я в ней снимался в «Человеке с бульвара Капуцинов», там в сцене с дракой в салуне… ну ты не помнишь, наверное. А знатная драка была, я еще на рояль падал. Без каскадера, между прочим, усек? А реквизит себе на память взял. Бери-бери, для фасона.
В эту ночь Платон почти не спал – не только потому, что выспался днем. И даже не потому, что боялся проспать – на это дело он договорился, что Василинин Сергей его толканет пораньше. Просто столько добра сразу от живших с ним бок о бок людей он не видел. Платон думал об этом всю ночь – до рассвета, потом уснул, усталый и счастливый.
5
Пока Платон стоял в очереди в билетной кассе, весь изошел от волнения. А вдруг Артист все-таки набрехал, чтобы на халяву опохмелиться, с него станется. С другой стороны – пиджак и даже шляпа. А вдруг что-то не так заполнили, с ошибкой – паспорта-то его вчера не показывали. А вдруг сняли заказ да продали уже. Но вчерашний день чудес продлился и на сегодня. Полная кассирша – Платон заглянул в бумажку, Тамара Васильевна – не только выдала ему билет, но и передала привет Николаю Петровичу. Платон от волнения даже не понял, что Николай Петрович – это и есть Артист. Даже переспросил, потом только сообразил и закивал головой – конечно, непременно, запросто, такие знаменитости в друзьях. Еще не вполне осознавая, что все получилось, отошел к телеграфу и послал Зине телеграмму с номером поезда, вагона и датой прибытия.
На перроне у нужного вагона стояли две проводницы. Одна – помладше – была блондинистой, другая, постарше – неопределенной масти. Женщины активно трепались – с всплесками рук и закатыванием глаз. До Платона издали еще долетело – «А ты че?» – «А он че?» – «Да ты че! Круто оттыпырились!» – «А ты тогда че?» – «В натуре, козел!» «Вот бабы – странные существа: ехать сутки, а они уже наговориться не могут», – подумал Платон, доставая билет из внутреннего кармана пиджака. Проводницы дружно умолкли, изумленно оглядели нового пассажира. Перед ними стоял взрослый, даже пожилой мужчина в полосатом летнем пиджаке, одетом на футболку с красным попугаем во всю грудь, коротких узких брюках, похожих на «дудочки», которые носили стиляги шестидесятых, далеко не достававших до вызывающе красных ботинок. Образ завершала широкополая техасская белая шляпа.
– Это двенадцатый вагон? – прервал молчание Платон. – Билет… вот.
– Паспорт давайте, – сказала та, что постарше, блондинка не удержалась и прыснула.
Платон пошарил в карманах, не сразу, но достал мятую корку.
– Так… – прищурила глаза старшая. – У вас девятнадцатое место – плацкарт. Проходите.
Платон получил обратно документы и прошел в вагон.
– Попугай, в натуре, – услышал он за спиной.
«Попугай не такая уж вредная птица, если разобраться, – подумал Платон, не обижаясь и даже не раздражаясь. – С вами, сороками, не сравнить».
Со времен первых железных дорог, построенных при Первом Николае, в российских поездах мало чего изменилось, во всяком случае, в плацкартных вагонах. Это там, у новых господ в купе да спальных вагонах кондиционеры, видеомагнитофоны да сервисы всякие, от журнальчиков с девочками до самих девочек с этих самых журнальчиков. Нет, плацкарт – это, почитай, сама Россия в одном вагоне, здесь пахнет самогоном и салом, папиросами и самосадом, нестираными носками и прелым женским потом. Там всегда можно отвлечься от дорожных думок звуками молодежной гитары или погрустить вместе с сиротской гармошкой, там всегда звучит матерщина, но чаще незлобивая, а от постоянного, с детских лет применения какая-то выдохшаяся, непохабная. Крестьяне, студенты, разночинцы всякие, воры – куда от них денешься, – кто только не пересекает родные бескрайние просторы в плацкартном вагоне. И каждый вздохнет в свой черед, глядя в мутное окно меж посеревшими занавесками, и задумается, непременно задумается, примеряя свою жизнь на эту необъять, которая и за горизонтом продолжается, что глазу не видно, а русскому сердцу чуется.
Платон, не ездивший в поездах да и вообще не перемещавший свое тело на любом транспорте уже лет двадцать, зауютился как-то не сразу. Соседа – дюжего парня с усами, в морском бушлате и тельняшке провожала веселая компания, одна девица в легкомысленной юбке отчаянно висла на шее моряка, словно провожала его на войну с японцами в Цусимский пролив.
– Вася, Василечек, когда ж вернешься, родинушка? – то и дело причитала девица, не обращая внимания, что из-под задирающейся юбки обозревалось все, что не должно показывать посторонним.
Платон отвел глаза и посмотрел на Василия – было заметно, что моряк не отмахивался от своей крали, только чтобы не обидеть. Друзья шумно открыли бутылку шампанского и пустили по кругу.
– Семь футов, Васька!
– Все пропей в Ростове, а флот не опозорь!
– Якоря там не брось, мы тебя здесь ждем!
– Василечек мой родненький!
Рядом, не обращая внимания на веселые проводы, обустраивался седой, но крепкий еще старик. Штаны, заправленные в сапоги, видавший виды пиджак на широких плечах, грубые мозолистые руки-лопаты выдавали в нем крепкого крестьянина, человека, не отрывного от земли-кормилицы. В уголке у окна спокойно сидел, благодушно взирая на морскую компанию, а может, и на девичьи прелести, молодой, но уже дородный попик с черной вороньей бородкой – прям под цвет рясы – и тяжелым крестом на почти бабьих грудях. Евбазная старушка напротив доставала из баула классическую курицу в фольге и яйца. Платон вежливо улыбнулся сразу всем и занял свободное место – его было пока что занято матросским дружком, задвинул под полку свой красный пакет и шелапутовскую посылку, прижал для верности ногами.
– Граждане провожающие, покидаем вагон, отправление через две минуты! – заглянула в вагон блондинистая проводница.
– Василек мой! – почти что завыла девица.
Матрос, разом выпив оставшиеся полбутылки, спокойно разъял девичьи руки и строго посмотрел сверху вниз.
– Отставить истерику, Маруся! Сказал же – вернусь! Без всякого Якова!
Маруся хотела было зареветь, но матрос уже обнимался с друзьями, и безадресно плакать девушка не стала. Наконец компания вывалилась на перрон и стала подавать напутственные знаки в окно. Маруся же почти прилипла с той стороны к стеклу своим курносым носом, и только тронувшийся состав заставил ее оторваться.
– Шибко, наверное, любит, – заметила бабулька, предлагая обществу курицу в развернутой фольге.
– Эх, мать, – широко произнес матрос Вася, без стеснения отламывая лапку, – кто флотских не любит, себя не любит.
Крестьянин едва заметно улыбнулся краем губ и достал бутыль без этикетки.
– Коль закуска есть, так вот… к столу.
– Чевой это, батя? – перестал жевать матрос. – Самогончик, что ль? Уважаю! Посуда есть?
Бабка, кряхтя, залезла в баул и вытащила сложенные один в один пластмассовые стаканчики. Вынимая их, словно матрешек, опытная старушка подавала каждому в руки – стаканчиков оказалось как раз четыре. Платон взял тоже, поблагодарив неопределенным хмыканьем. Поп вежливо отказался:
– Благослови тебя Господь за доброту, нам по сану не положено.
– Да ладно, святой отец, – незлобиво возразил Василий. – Греха большого небось не будет, если за счастливую дорогу-то? Анекдот знаете?
– Смотря какой, – осторожно сказал седой, в кепке.
– А вот такой. Как у нас, в поезде… сидит, значит, в купе новый русский – в рубашке, в галстуке, что-то печатает на компьютере своем. По мобиле звонит, продает что-то, покупает. Ну и заходит в купе поп, извиняюсь, батюшка – вот как наш, красивый, дородный, всё… Ну, садится, значит, достает из саквояжа вот такую же похожую бутыль, откупоривает. А у них в купе стаканы есть, не то что у нас. Ну вот, предлагает соседу, а тот говорит – не могу, занят, биржи там всякие еще не закрыты, акции всякие, ну и так далее. Да и вообще пост еще, говорит. Батюшка, пожал плечами, выпил, достал такого каплуна… – Вася показал руками, какого. – Жирный, маслянистый, и говорит: «Сын мой, а под закусочку чем Бог послал?» Бизнесмен опять отказывается, не могу, мол, работаю, бабло косить надо, пока горячо. Ну, батюшка снова плечами пожал, налил себе, выпил, петушатинкой закусил, сидит, довольный, бороду оглаживает. Вдруг из соседнего купе – женский визг, хохот, веселье, в общем. Батюшка говорит новому русскому: «Сын мой, слышу я, рядом мирянки едут. Не утешим ли?» Новый русский опять в отказ – работать надо, дескать, и опять по компьютеру стучит. Батюшка встал, вышел, ну и скоро из соседнего купе, извиняюсь, визги в стоны перешли, потом все затихло. Тут и батюшка в свое купе заходит, довольный, сияет, маслянится аж, как тот каплун. Выпил из бутыли, сидит, обратно бороду оглаживает. Тут новый русский компьютер захлопнул и спрашивает так в сердцах: «Вот, святой отец, я работаю почти круглосуточно, жене не изменяю, любовниц не держу, все в дом, посты соблюдаю, в церковь хожу по воскресеньям да по праздникам и вообще – не пью, не курю даже. Я правильно живу?» Батюшка выпил еще из бутыли, закусил каплунчиком, отер бороду и отвечает: «Правильно, сын мой. Но… – зря!»
Хохотали долго, даже священник сдержанно припускал густым пушистым баском.
– Ну, так как – по маленькой, батюшка? Как вас величать-то? – не отступался матрос.
– Если только по маленькой… чтобы Бог послал нам спокойной и нескучной дороги, – не стал разрушать образ священнослужитель, – а зовут меня отец Иоанн.
– Ну и славненько! У всех налито, без всякого Якова? Как сказал отец Иоанн – за нескучную дорогу! – провозгласил Василий и первым запрокинул стаканчик.
Через полбутылки все уже были хорошо знакомы и говорили наперебой. Точнее сказать, говорили Василий с Платоном, остальные поддакивали то одному, то другому в зависимости от убедительности аргументов.
– Нет, это ты послушай, – надавливал матрос. – Вона мою Маруську видел? Ты думаешь – она из любви ко мне липнет? Как бы не так. Ей надежный мужик нужен, защитник, хозяин, одним словом. Баба без хозяина – как овца в поле, съедят и не подавятся. Сама юбчонкой короткой волков привлечет, а потом – нырк, хозяину за спину, мол, с ним разбирайтесь, если что. А что если что? В смысле – что она под хозяином разумеет?
– Что? – спросил Платон, хотя ответ был понятен.
– Мужа, вот что. Ей замуж охота, чтоб было за кого прятаться в случае чего. Вот что ей нужно – для себя прежде всего, а не для меня. Мне-то зачем жениться, она меня и так ласкает, но ласкает с пользой – виды имеет и думает, что я в этой гавани на вечный прикол стану.
– Не скажи, Вася, – степенно сказал крестьянин, назвавшийся ранее Степаном Антоновичем, – баба и мужику нужна. Куды он без бабы-то? И по хозяйству опять же – помощница и детям мать, и нянька, и все. Куды ж без бабы?
Матрос хотел что-то сказать, но Платон упредил:
– Правильно Антоныч говорит. Половина, хоть лучшая, хоть худшая, а без нее и ты нецелый. Ну, нагуляешься по молодости, а детей-то от жены захочешь, а не от девки какой, правильно?
– Ты сам-то женат, философ? – Василий оглядел Платона, как давеча проводницы.
– Да я… у меня другая история… был, короче, женат, теперь вот на крестины к внуку еду.
– Вот видишь, – поднял указательный палец матрос, – был! К гадалке не ходить – свое получила и сбегла, без всякого Якова? Я прав?
Платон только тяжело вздохнул и выпил. Василий хотел было развить, но неожиданно в разговор встряла старушка:
– Эх, матросик, не мучь человека. Ты умно так говоришь, уверенно, а, может, настоящих женщин-то и не видел ишо. Я вот на фронте медсестрой была, уж жисть получше тебя знаю и сама поучить могу. Мы-то с дедом, почитай, полвека вместе – на Втором Белорусском и познакомились, вытащила его с поля. До сих пор вижу – снаряды рвутся, вся земля и кто на ней – в клочья, а он один у березки лежит. И как оба уцелели – и он, и деревце, непонятно даже. Ну вот, поползла, а сердце не боится, как будто чуяло – за своим счастьем ползу. Ну, в медсанбате на ноги встал, на одну, вернее, но живой. Потом после войны нашлись да так и зажили. И никакой пользы в ем я не видела, просто любила, и все. И детей в любви прижили и все у нас случалося. Он хоть и одноногий, а в кабаке так подчас разгуляется со своим костылем, что, не при батюшке будя сказано, хоть святых выноси. Даже мне доставалось под горячую руку-то, но терпела, через терпение и он вразумлялся, затихал. И я, как и Пала… Пал…
– Платон, – подсказал Платон, по инерции представившийся обществу по прозвищу.
– Ну да, как и он, к внукам еду, только взрослым уже, проведать. Моему-то деду сейчас тяжело по поездам-то, а внуки его любят, дети – двое у нас, парни оба, через месяц к нам приедут, когда потеплеет чуток. Как соберемся за столом вместе, как споем что-нибудь наше, так и понимаш, что жизнь-то счастливая у нас, хотя горя много было, а счастья – все одно больше. Черт тысячу лаптей износит, пока пару соберет. Дак и ты, матросик, сколько ни блуждай, счастья захочешь, на свою свободу первый же и плюнешь.
Василий покачал головой, но ничего не возразил, только вздохнул и приложился к стаканчику.
– Воистину правду говоришь! – перекрестил старушку отец Иоанн. – Церковь вообще блуд порицает, то есть сожительство не в законном браке. А ты, раб божий Василий, просто еще любовь не познал, а Господь – он и есть любовь. Полюбишь когда, тогда и Господь с тобой пребудет. – И с этими словами отец Иоанн перекрестил и матроса.
– Ну, вот… до Всевышнего дошли, – сузил глаза Василий. – А где был Господь, когда мне, салажонку, годки в кубрике десять зубов выбили? Да ладно зубы – я новые вставил, а вот, к примеру, когда моего брательника, который за девчонку на танцах вступился, ножом насмерть пощупали? А чувырла эта, кстати, за того, кто пырнул, потом замуж выскочила. И не доказали ничего – она же единственным свидетелем оказалась, никого не опознала. Зато в постели этого козла очень даже опознала, без всякого Якова. Тоже любовь? Я-то хотел этого… с ножичком за одно место на рее подвесить, так съехали они в неизвестном направлении. Теперь вот на могилу к брату еду да маманьку повидать – она совсем одна осталась. И чем же она пред Господом вашим согрешила, что он ее сына лишил?
Настал черед вздохнуть священнику.
– На все воля Божья, – тихо сказал отец Иоанн.
– Вот и все ваше утешение, – горько продолжил матрос, – на Всевышнего кивать. А как жить с этим, как объяснить это… без всякого Якова?
Василий налил себе одному и залпом выпил. Потом только, проведя кистью по губам, в себя сказал:
– За помин души брата мово Женьки.
Платон взял бутыль и разлил всем, даже бывшая медсестра подставила свой стаканчик.
– Нам долго ехать, давайте не серчать друг на друга, – сказал Степан Антонович, – каждого жизнью побило, чего уж там. Живем же, однако. Я вона, когда батю под Тамбовом раскулачили да в Сибирь-матушку с женкой и тремя ребятишками мал мала меньше с родных мест-то повезли, один раз зубы сжал да так и не разжимал больше. От голода круги перед глазами, а я молчу. Схоронили и братика и сестренку – одного за другим, а я – молчу. Потом и мать отошла – ей уже жить незачем стала, я – молча плакал. Без звука и слез, только зубы скрипели. Меня от бати отняли, сгинул мой родитель где-то на Бодайбо, меня в детдом определили как сына врага народа. И кулацким сыном меня обзывали и фашистом даже, а я молча по сопатке одному, второму, меня остальные валят да ногами пихают, все в лицо норовят, а я молчу. Что им говорить – что у бати две лошади были да корова лядащая, вот и все кулацкое хозяйство? Им это не нужно было, потому я молчал, только кровью в их рожи плевался. Почитай, всю жизнь на Северах провел, в свою деревню вернулся, когда мне уже за полтинник набежало. Вернулся, значит, а дом-то наш стоит, как и стоял, крепкий, добротный… а в нем дети бывшего председателя живут-поживают, который нас и раскулачивал – ему-то дом тогда приглянулся. Ну и перевернулось у меня что-то, съездил в МТС за бензином да и пустил им петуха, пока все в поле были. Стоял, смотрел, как дым валит из-под стрехи, где я папироски от бати прятал, да тогда в первый раз и заплакал. Когда менты вязали – и не сопротивлялся даже. Потом еще пять лет по лагерям поносило, ну да это ладно, на душе после этого пожара полегчало как-то, словно скала с сердца свалилась. Теперь вот чувствую – зубы разжать можно, да жизнь вдохнуть немного, сколько осталось. Одно жалко – не женился, так бобылем и помру, без наследников. И все равно отец Иоанн прав, любовь должна быть. Должна, а то никаких зубов не хватит, все сотрутся. Давай, Вась, наливай еще понемногу.
Священник покачал головой в знак отказа, остальные чокнулись и улыбнулись друг другу – зарождающаяся было пена после слов Степана Антоновича с разговора сошла.
– Эх, гитары не взял, – мощно потянулся Василий. – Хорошо бы сейчас гитара-то.
– Веселый ты парень, матросик, – сказала старушка, – за такого всякая пойдет, если не отпугнешь.
– Как вас по имени-отчеству, забыл спросить, – уважительно поинтересовался Василий.
– Пелагея… Пелагея Никаноровна.
«Пелагея… как Салтычиха, – подумал Платон, – имя одно, а бабы какие разные».
– Ну так, Никаноровна, всю жизнь не прогорюешь…а гитара моряку – заместо подруги на берегу. Ладно, пойду, похожу по вагонам, может, найдется у кого.
Василий встал, еще раз потянулся, так что ощутимо слышно хрустнула могучая спина, и пошел в глубь состава.
– Хороший парень, – заметил Степан Антонович, – незлобивый. Не зря его эта самая Маруся отпускать не хотела.
– Молодой, перебесится, поймет, что такие Маруси – самые берегини и есть (Платон на этом слове сразу подумал о Василине), ими не кидаться надо, а при себе удерживать да на руках носить, – добавила Пелагея Никаноровна – Вы как думаете, батюшка? Сами-то женаты?
Отец Иоанн развел руками.
– Не сподобил еще Господь, матушка. Однако намерение такое имею. А что насчет морячка нашего и рабы божьей Марии, так послушайте, какой случай в моем приходе был.
Я эту женщину давно заприметил – ходит и на утреню и к каждой вечерне, хоть и молодая по годам, но очень серьезная, печально серьезная, если точнее сказать. Сразу видно, что большое горе у нее, свечи на Голгофу ставит и перед иконой Божьей Матери, и перед Вседержителем, но никаких записок за здравие или упокой не было от нее ни разу. Исповедоваться тоже желания не проявляла. Но поговорил я с ней как-то перед самым закрытием храма. Это не исповедь была даже, не просила она грехи отпустить. А напрасно – страшные грехи-то, прости ее Господи… – Батюшка три раза наложил крест и продолжил: – Жила она разведенной, с двумя детьми, брат и сестра десяти лет, но не одна – с сожителем, то есть, как в миру говорят, гражданским браком. Как они познакомились, не скажу, но полюбила она его страшно, какой-то бесовской страстью, он ее приворожил, что ли. И вот начали жить, а в жены он ее не берет и все главный разговор на потом переносит. Но как-то уже неловко стало, и говорит он ей, что не может сочетаться с ней законным браком и вообще не может жить с ней дальше. Почему, плачет женщина, а он не говорит прямо, все отнекивается, намекает уклончиво, но потом выразился ясно – дети ему мешают. Не его кровь, не может он ее любить с чужим потомством. Не сам он предложил, но и не возражал, когда – ведь надо же, так женщину опутать, – когда она заявила ему, что детей своих убьет.
Священник снова перекрестился, Пелагея Никаноровна и Степан Антонович сделали то же самое.
– Ну, так вот. Сгоряча она это выпалила, говорит, но такое страшное сгоряча в голове не появляется – уже дьявол вел ее. И воистину – по мере того, как он охладевал к ней, эта мысль в ней крепла, разрасталась и, видно, так уже изнутри давить начала, что как-то утром не в школу детей повела, а в лес. Детям сказала, что по грибы, а эти Божьи создания и радуются, что на занятия не нужно идти. Топорик с собой из амбара прихватила – в лукошке под рушником спрятала. И вот углубились они в лес ненамного, а она их и зовет – белый гриб, мол, нашла, да огромный. Подбегают ребятишки, спрашивают – где, а она кивает – вон, под тем пеньком. Они и нагнулись гриб найти, она топор вынимает и замахивается. Тут девочка обернулась и онемела – в глаза матери смотрит, не шевелится. И паренек тоже обернулся и застыл. Женщина эта говорила мне, что только это детей и спасло, пошевелись хоть кто-нибудь, опустила топор бы на голову. И вот так они с минуту друг на друга глядели – и вдруг разом прошло наваждение, мать вдруг на себя, как бы со стороны посмотрела, ужаснулась и потеряла сознание. Когда очнулась – темнело уже, никого вокруг, и детей, конечно тоже.
– Ну, обошлось, слава Богу, – выдохнул Платон.
– Не совсем, – покачал головой батюшка. – Этим самым топором она в тот же вечер своего сожителя порешила. Мне вот еще что… не странным даже… не знаю, как точно сказать… характерным показалось. Перед тем, как гражданского мужа зарубить, она это отчетливо помнила, скотине корм дала, собаку покормила, курей, а потом только снова за топор взялась. Сознательно уже, значит, осознанно. Лечилась потом много лет принудительно – несмотря ни на что, признали ее на суде невменяемой, потом, конечно, отпустили. Так вот даже теперь боится у Господа Бога прощения вымаливать. Но милостив Вседержитель наш, и я ее вразумлял, как мог.
– Господи, страхи какие, – снова перекрестилась Пелагея Никаноровна. – А дети что ж?
– Дети-то? Детей так и не нашли, то ли так спрятались в каком-нибудь глухом месте – широка Россия, – то ли… не помнит она точно, когда сознание у нее отключилось, боится, что все-таки… ну вы понимаете. Но хоть все там обшарили, и с солдатами даже – никаких тел или крови не нашли. Я это к чему рассказал, – мягко улыбнулся отец Иоанн. – Не всякую страсть любовью можно назвать, когда в сердце Господа нет, сердцем всегда Сатана завладеет, пустым оно быть не может, так уж устроен раб Божий – человек.
6
Когда матрос вернулся с гитарой, попутчики уже укладывались на боковую. Было видно, что морячок не только ходил за инструментом, но успел где-то и попеть и попить. Его немного пошатывало, словно он был не в поезде, а на корабле в открытом море.
– Ну вот, расстроилась компания, – огорчился Вася, – а я для общества расстарался.
– Долго ехать, напоешься ишо, – сказал из-под тулупа Степан Антонович.
Моряк эхнул и тяжело опустился на место, обпершись на гитару, как викинг на меч.
– Слышь, Гегель, ты как в этом смысле? – Василий щелкнул себя по горлу.
Платон хотел было отказаться – все-таки он сегодня изрядно понервничал с этим отъездом, но спустил свои длинные ноги с полки.
– А где? У меня с собой нету.
– Да здесь приличный вагон-ресторан имеется, еще часик работать будет, а для меня… Катька-буфетчица и подольше расстарается, я уже к ней пришвартовался. Если уж петь не для кого, тогда просто выпьем-посидим. Ну? Угощаю. – Моряк сделал широкий жест рукой.
Платон еще секунду колебался, потом посмотрел под полку – вещи были на месте – и согласно кивнул.
Буфетчица Катька – полная румяная молодуха – прям вилась около стола, только на моряцкие колени не садилась, пытаясь предугадать желание статного матроса и, подавая блюда, намеренно наклонялась пониже, вовсю показывая спелые дынные груди. Василий, избалованный женским вниманием, небрежно отдавал указания по водке, закускам и прочей снеди, которая незамедлительно появлялась на их столе. Платону отчего-то вспомнилась та самая рабочая столовая, где он когда-то давно, уже в позапрошлой жизни, познакомился с комсомолкой Надей, родившей ему дочь Зинку, родившую, в свою очередь, нового человечка, которому он, Сергей Васильевич Соломатин, теперь дед. Неизвестный малец непонятно какое еще получит имя, а вот фамилия будет такая же – Соломатин. О том, что дочь могла взять фамилию мужа, Платону в голову не приходило.
– Ну что, вцепились! – Рюмка в матросской лапище казалась наперстком.
– Вцепились! – поддержал Платон, чокнулся и влил в себя шкалик.
– Эх, хорошо пошла, – погладил себя по мощной груди матрос, – хотя первачок у Степаныча тоже что надо. Надо же – зэк раскулаченный, а за любовь гутарит. Черт ее знает, эту любовь. Все шатко, зыбко, как в Кильском канале в туман, гляди в оба, а то разом на берег вынесет или чужое судно протаранишь. Одна вахта… пожизненная. Не, мы ишо погуляем, да, Катька? – Василий плотоядно подмигнул буфетчице, которая, разомлев от вожделения, пожирала моряка коровьими глазами.
– Так дело молодое, понятно, погулять можно. А все ж права наша старушка попутчица, детей только от законной жены хочется, – покачал головой Платон. – Там оно, конечно, туман впереди, но ведь и счастливые семьи бывают. Там ты нужен не на ночь, не на две, навсегда… ну не навсегда… постоянно нужен. Это ж хорошо, когда ты кому-то нужен. А заранее жалеть, что случиться может, смысла мало.
– Не исключаю. – Матрос посмотрел Платону прямо в глаза. – А вот спешить с этим делом не рекомендуется. Ты вот со своей сколько до брака вместе жил?
Платон прикинул – получалось, что нисколько и не жил, познакомился, расписался, и уж тогда только и зажили.
– Да так… поженились сперва.
– А вот я так думаю, она сперва себя показать должна. Не снаружи, что она каждому показывает, а изнутри. А для этого пожить с ней надо пару годков, посмотреть, как встречает, как уваживает, кормит как. Да и как ревнует, тоже надо посмотреть, а то с друзьями где-нибудь гульнешь, а она тебя сковородкой по харе с порога. На кой такая дырявая шаланда нужна, я тебя спрашиваю?
Платону вспомнились слова Артиста, что мол, если несчастливо женился, то станешь философом. Матрос между делом развивал свою теорию брака.
– Сколько наших так вот охомутали по слепоте, вернее, по глупости мужицкой. Девка, как Катька наша, к примеру, своими достоинствами блеснет – и все, ослеп мужик. А нашему брату-моряку по полгода в рейсе болтаться, возвращаешься и не знаешь – ждала или коленки друг по другу соскучились уже. Молодой ведь мужик на каждую ночь нужен – похоть свою тешить. Вот так пьешь с корешем и не догадываешься, что он из твоей постели только вчера вылез. Сколько у нас мордобоя по таким случаям было, пальцев не хватит загибать. Да ладно, драка – дело обычное, а иная сука и рада еще поглядеть, как из-за нее, мокрощелки, настоящие морские люди сшибаются, словно горные козлы – и оба с рогами. И морду друг другу разбивают, и душу. А вот один кореш мой, знаешь, чего удумал?
– Не… – покачал головой заслушавшийся Платон.
– Он, когда об измене свое женушки узнал, да что узнал – она сама ему призналась, уж не знаю, зачем. Так он ее отмудохал сначала, как положено, а потом, вместо того чтобы пинка под зад дать без всякого Якова и списать на берег с вещами, в койку уложил и не вынимал трое суток. Перее…вал, значит, свое себе членом возвращал. И все равно не помогло – развелись.
А с сожительницей, без штампа в паспорте, что для них мечта всей ихней бабской жизни, проще простого. Один косяк – и за борт без всяких там рыданий, рукозаламываний и перее…ов. Катюха, уважь еще беленькой!
Пышногрудая Катюха словно ждала приказа и мигом поставила на стол заранее налитую колбу.
– Видишь, Платон, любят меня девки, но говорил уже – покуда холостой, потом никакого сладу не будет. Они ведь как рассуждают – я старалась, угождала, обласкивала, значит, мужик должен. А долги они взыскивать мастерицы, всю жизнь будешь отдавать, а должок только растет. Баба – не воробей, залетит – не прокормишь! Вцепились?
– Вцепились!
– За выход из порта! – Василий запрокинул рюмку.
Платон тоже вышел из порта и покосился на богатую закуску – за вагонными разговорами он ощутимо проголодался. Моряк подал пример и богато положил себе на тарелку соленья. Платон ковырнул вилкой в мясной нарезке.
– Возьми огурец, Платон, под него, подлеца, в России и водка по-другому плещется, – посоветовал Василий.
Платон взял себе и солений и с наслаждением захрустел квашеной капусткой.
– Ну, а скажи мне, Вась, ты сам любил кого-нибудь? Так, чтобы – вдрызг, ядрена-матрена?
Матрос немного помолчал за той же капустой.
– Если по чесноку, то – вряд ли. То ли насмотрелся я на корешей своих несчастных, то ли не встретилась такая, чтобы забыться… не знаю. А скорее – не верю я им, сукам, вот в чем дело. Что баба? Самка человека! Такие достойные парни из-за них в жизни тонули, ну вот ты, к примеру. Любил ты свою, а счастлив теперь? Не отвечай, и так видно.
– Почему же, я отвечу, ядрена-матрена. Да, все разбилось… как кувшин, не склеишь теперича, это точно. А все одно – вспоминаю, как домой приходил, когда ждали еще, и теплеет на сердце до сих пор. Я все же думаю, что ждешь, когда тебя полюбят так, чтобы ты поверил, а самому любить – оно слаще все-таки. Дышишь по-другому, глубже, что ли. Всякий человек, когда другого любит, заботится о нем, вот в чем штука. Ты, Вась, не нагулялся еще, а потом все одно захочется самому о ком-нибудь заботиться, да так, что никакой веры не понадобится, захочется, и все. Основной инстинкт – это не между ног, а полметра выше. – Платон положил себе руку на левую грудь. – Потому что основа, она – в сердце. А у кого основы этой нету, у него хоть тыщу баб будет, а все как одна – ни имена не запомнятся, ни лица. А когда имя тебе без разницы, надолго тебе такая нужна? На ночь? Тогда вся жизнь – как в гостинице – по ночевкам, а дом, семья – это где живут, а не ночуют. Извини, Вась, я, может, путано говорю, ядрена-матрена.
– Не зря, я гляжу, тебя Платоном прозвали, – усмехнулся моряк, – ты знаешь что, ты мне свово имени-отчества и не говори. «Платон» – это в точку. А насчет дома – тут ты прав, но ведь и поп наш попутный тоже прав – надо сильно проверять, какое чувство бабой движет, а то вот так с рейса придешь, дверь откроешь, руки распахнешь, а тебя топором в темя, без всякого Якова.
Платон покачал головой, но ничего не сказал. Буфетчица внимательно посмотрела на моряка – не нужно ли добавки, но Василий ее взгляда не заметил.
– А как у вас, флотских, когда плаваете, пить нельзя совсем? – сменил тему Платон.
Василий усмехнулся.
– Запомни, Платоша, это говно плавает, а мы хо-дим. Так вот в рейсе – ни-ни, только в порту и то с оглядкой, чтоб в случае чего местные полицаи не забрали – из-за драки там или что-то в этом духе. Отстанешь – и все. Был у нас такой случай – забрали боцмана, шорох в Кейптаунском борделе такой поднял, что чуть до консула не дошло. Шлюхи местные развели на дорогой коньяк, а он не врубился поначалу, ну и понес по ухабам всех. Нам позвонил, конечно, мы там сутенеров крепко погоняли. Чтоб какие-то бляди русскому моряку подлянку кидали, так это ж позор на весь торговый флот.
– Ну и чем кончилось?
– Да известно чем, откупились от местных ментов, потом от капитана, чтобы строгача в личное дело не всадил, ну и отчалили. Потом у нас уже Петрович всем долги роздал, тем и кончилось. Вцепились?
Василий рассказывал еще много морских историй, от которых веяло соленым ветром, волнами, захлестывающими палубу в «ревущих сороковых», криками чаек и обязательными красавицами в каждом порту. Платон упоенно слушал и время от времени вцеплялся в рюмку. Официантки постепенно начали раскладывать сиденья и превращать их в постели – в наших поездах им особого купе не полагается, спят в прямом смысле на работе. Буфетчица Катя, спросясь глазами, аккуратно подсела к мужчинам с очередной колбочкой и граненым маленьким стаканчиком. Кофта на бахчовой груди была расстегнута на пару лишних пуговиц.
– А ты знаешь, к примеру, что такое мáрсель? – вопрошал уже «добренький» Василий.
– Город такой, – еле ворочал языком Платон. – Порт.
Василий громко засмеялся и обхватил ручищей Катюху, пригрев ладонь на расстегнутых пуговицах.
– Эх ты, салага! Это Марсель – порт, а мáрсель, точнее – марсели – вторые снизу прямые паруса, под брамселем и бом-брамселями, что крепятся на чем?
– На чем? На мачтах?
– Салага! На стеньгах. Известно тебе, к примеру, что такое бом-брам-стеньга?
– Бом-брам-стелька? – осоловело переспросил Платон, и матрос затрясся в смехе, буфетчица заколыхалась всей собой в ритм своему бравому ухажеру.
– Не, ну ты подумай, Катюха, – стелька, это ж надо же! Сам ты в стельку! Давай, Кать, наливай еще по маленькой. Вцепились! Семь футов под килём! Зюйд-зюйд вест!
Еще через час Платон навцеплялся настолько, что уже был готов уронить голову в остатки капусты. Матрос что-то проурчал своей пассии на ухо и встал.
– Так, полундра! Платон, свистать всех наверх! Тебе уже в кубрик пора, да и нам с Катькой дрейфовать до койки надо. Вставай, Платон.
– Не… ты погодь, – вяло сопротивлялся Платон, которому не хотелось заканчивать вкусный во всех отношениях вечер, несмотря на ощутимый шторм в голове, – ты мне скажи, что надо человеку в жизни? В чем смысл, а? Катерина… как вас по отчеству… в чем смысл, а, ядрена-матрена?
Буфетчица по-доброму посмотрела на барахтающегося в волнах Платона.
– Э, мой милый! Где ж его найдешь, смысл-то твой? Живи, пока живется-можется, вот и весь смысл.
– Точно! – поднял указательный палец Василий. – А нам как раз можется… и хочется, да, Катюша?
Буфетчица обволокла моряка всеобещающим взглядом.
– А если не можется, тогда – как жить-то? – всхлипнул Платон.
– У, да ты за борт уже выпал, Платон. Человек за бортом, стоп-машина! – С этими словами матрос легко приподнял Платона за плечи и поставил на ноги. – Фарватер-то сам отыщешь? Двенадцатый вагон – вона, в ту сторону, там разберешься. – Василий слегка подтолкнул Платона к выходу из вагона-ресторана.
– Дай, я тебя поцелую, флотский, ты настоящий, ты знаешь смысл жизни. – Платон полез было пьяно обниматься, но моряк снова его подтолкнул, так что Платон мигом оказался в тамбуре.
Платона, пока он переходил из вагона в вагон, шатало так, как будто он шел через «ревущие сороковые» курсом на Кейптаун, где его неизменно ждали во всех лучших борделях. Свое место он опознал только по рясе священника, спящего сидя, склонив голову на руку на окне. Платону почему-то захотелось немедленно исповедоваться.
– Батюшка, батюшка, ваше преос… святой отец, – растолкал священника Платон.
Служитель культа спросонья ничего не мог понять, и Платон, воспользовавшись заминкой, рухнул на колени.
– Грешен я, батюшка, ой как грешен, – запричитал Платон, неистово полагая кресты.
– Что случилось, сын мой? – встревоженно спросил поп, но, вглядевшись в опухшее лицо грешника, укоризненно покачал головой, перекрестил Платона и снова опрокинул голову на руку.
– Грешен я, ой как грешен, – продолжал шепотом исповедоваться Платон самому себе. – Не ценил я жену свою, Надежду, хоть и окаянная баба она, а не ценил ее, не носил на руках. Цветов не дарил почти, слов ласковых не говорил, что ж мне, дураку, удивляться, что она к другому ушла, что ж теперь удивляться, что и дочка от меня почти отвернулась, – не заботился я о них, думал, деньги приношу в дом, и все – хватит с них. На дружков время тратил, молодость тратил, себя тратил, ядрена-матрена… Не любил я вас, Наденька, Зиночка, как положено, любил то есть, но так…не старался шибко. А бабы… а женщины ведь живые, им ласки хочется… а мне ласки тоже хочется, не может человек один жить, ну разве жизнь это, волки и то стаей рыскают, а я… грешен я, Господи, прости меня, и ты, Надюша, прости, если можешь, и Зиночка, дочка моя единокровная, и ты прости… не могу я один больше…
Платон заплакал, встал с колен и, едва прикоснувшись к своей полке, немедленно уснул.
Поезд уютно баюкал на стыках своих разночинных пассажиров. Платон стоял на мостике огромного океанского белого, ослепительно белого лайнера с трубкой в зубах и красиво капитанил, отдавая приказы хрипловатым голосом морского волка. Матрос Василий весело оборачивался и докладывал: «Есть держать зюйд-зюйд-вест!» За кормой стонали такие же белые и огромные, как корабль, чайки, и тот же Василий подбрасывал им в воздух соленые огурцы. Чайки «вцеплялись» в огурцы, сталкивались с друг другом в борьбе за добычу, как над его родной свалкой, и отлетали в сторону. Наконец в бинокль стал виден большой город – это был заветный и сказочный Кейптаун. Платон отдал необходимые указания, корабль пришвартовался к пристани, полной ослепительных красавиц с жемчужными зубами. Когда Платон спустился по трапу, не вынимая трубки изо рта, к нему сразу потянулись смуглые изящные девичьи руки, но вездесущий Василий мощно рыкнул «Раз-зойдись» и повел Платона по образовавшемуся живому коридору в город. Со всех сторон мигали неоном заманчивые вывески на не нашем языке, но вдруг в глаза бросилась одна знакомая: «УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ».
– Туда, – указал Платон, и Василий послушно повернул. Улица оказалась совсем пустой, все встречающие куда-то разом делись. Платон вгляделся вдаль – во всех домах окна были заколочены крест-накрест, что-то было пугающее в этих крестах, словно все глаза домов переклеили деревянными пластырями. По тротуару ветер гнал всякий мусор, обрывки газет и белую техасскую шляпу с рваными полями. Что-то было неправильное в мусоре, в улице, во всем. Платон нагнулся и подобрал шляпу, оказалось – это его собственная, вернее, не его, а Артиста. Широкие поля были не только порваны, но и измазаны – Платон всмотрелся внимательней – в крови.
– Не к добру это, – сказал Василий. – А хорошая была шляпа-то. Может, ножичком владельца полоснули?
Платон ничего не ответил и водрузил шляпу на голову. Василий пожал плечами и толкнул мощным плечом ближайшую дверь. Внутри помещения полукругом стояли диваны, на столе стояла включенная лампа с красным абажуром.
– Эй, есть кто живой? – гаркнул матрос.
– Есть, есть, милай. – Задняя дверь отворилась, и в комнату зашли бывшая жена Надя, сильно похудевшая, помолодевшая, и давешняя буфетчица Катя.
– Консула вызывали? – строго спросила Надежда, а Катя начала расстегивать оставшиеся пуговицы на своей блузке.
Платон засмотрелся на обнажающиеся дыни, но Василий опять зычно крикнул «Полундра!», сграбастал полуобнаженную буфетчицу и уволок в ту самую заднюю дверь. Платон с Надей остались одни.
– Ну что, Сережа, как был ты непутевый, таким и остался, – неожиданно мягким голосом сказала Надя и пригласила жестом к столу с лампой. Платон снял шляпу и присел на краюшек дивана.
– А я к тебе еду, к внуку то есть, к Зинке, – чуток запутался Платон.
– Знаю, – кивнула жена, которую даже неудобно было назвать бывшей, – это хорошо, что ты внука увидишь.
– А ты разве не увидишь, то есть разве не придешь? – осторожно спросил Платон, подозревая, что мать с дочерью могли не помириться за эти годы.
– Хотела бы, да не могу. Не могу, Сережа, – уклончиво ответила Надя, немного посмотрела еще на Платона с теплой грустью, как смотрела в первые годы их брачной жизни, вздохнула, поднялась и, не оборачиваясь, вышла из комнаты.
Платон, оставшись один, даже поежился – стало не то что страшно, а как-то жутковато. Он вдруг понял, что было вокруг не так. Когда с ним никто не разговаривал, наступала пустая тишина. Пустая, без единственного звука – даже мусор, гонимый ветром, не издавал шороха, а ветер – шума. Платон хотел было позвать на помощь Василия, но засомневался – на какую такую помощь, хоть было и не по себе, но он не умирал, не тонул, не падал, не было больно, было вообще никак. Платон на всякий случай вытянул перед собой руки, оттопырив пальцы. Ничего, руки как руки, его руки. Дрожат немного, так это и понятно – сколько они вчера с флотским выкушали, вспомнить страшно. Даже с Артистом или Ветераном так не пили, как с этим окаянным матросом. Силен у нас торговый флот, ничего не скажешь! Платон вдруг вспомнил, что Василий – всего лишь матрос, а он, Платон, как ни есть – капитан.
– Полундра! – закричал Платон. – Свистать всех наверх!
Никто не отозвался, видно, Василий целиком ушел в буфетчицу Катю. Снова сгустилась ватная тишина. Платон нахлобучил порванную шляпу, решительно встал и пошел в заднюю дверь – если кого-то и можно было найти, так только там. Платон медленно шел длинным кривым коридором, какой бывает в старорежимных коммунальных квартирах или, к примеру, в их бараке на Юбилейной улице. Хотя почему к примеру, подумал Платон, он же и есть сейчас на своей улице, только в Кейптауне. Вдруг кто-то схватил его сзади за плечо. Платон резко обернулся – перед ним стояла красивая нестарая женщина с распущенными волосами и блестящими, как у кошки, глазами. В одной руке у нее был огромный подберезовик, в другой – топор. Платон завороженно смотрел на мерцающее лезвие, с которого капало что-то ржавое. Лезвие начало медленно подниматься вверх. «Василий!» – заорал Платон из всей мочи, но не услышал своего крика – в коридоре стояла абсолютная, космическая тишина. Нервным пульсом забилась мысль – бежать, бежать, повернуться и бежать что есть сил, но от ужаса он не мог даже пошевелить рукой, чтобы прикрыться от удара, тело словно окаменело. Окровавленный топор поднялся над самой головой Платона. «Жаль, Артист мне вместо шляпы шлем не дал… пробковый, мог с каких-нибудь съемок заваляться», – глупо, но спокойно подумал Платон и даже удивился, отчего последние мысли в жизни бывают такими глупыми.
Щербатое лезвие на секунду застыло в воздухе и начало медленно выписывать крест.
– Что это, ядрена-матрена? Мужа зарубила, а меня тем самым топором перекрещивает? – снова удивился Платон.
– Смертушку не обманешь, – загадочно произнесла мужеубийца, не открывая рта.
Глаза женщины потухли, топор выскользнул из руки и упал неожиданно громко. Тело с этим звуком словно ожило, Платон ринулся прочь и… проснулся. Его попутчики, за исключением матроса, сидели на своих местах и тихо чаевничали. Платон помотал головой, вытрясывая кошмар, в висках сразу вспенилась похмельная боль, так что он даже не удержал стона. Потом, придя в себя, поздоровался со всеми – ему вежливо ответили. Пелагея Никаноровна с понимающей улыбкой предложила стакан чаю с бутербродиком. Платон согласно поблагодарил – горячий чай сейчас просто был необходим для выживания его личности. Скинул ноги, задвинул их под полку, потом еще глубже и тут же засосало под ложечкой – там было странно пусто. Забыв о боли и о чае, Платон мигом очутился на полу и обшарил глазами подполочное пространство – сбоку лежали чей-то чемодан, пара баулов, его красный пакет с подарками, но Шелапутовой посылки не было. Самое плохое – посылки не было!
7
Пока Платон преодолевал российские дали, в месте его отправления вдруг случилось событие невероятное, которого никто из обитателей дома по улице Юбилейной, 17, уж никак не ожидал. Сначала все, бывшие в тот вечер дома, подумали, что опять к Салтычихе приставша с ОМОНом нагрянула, но, вглядевшись, поняли, что-то другое, уж больно много было милицейского начальства с жирными звездами на плечах. Старший, целый полковник, степенно осмотрелся, ему услужливо подсказали, и начальник прошел в подъезд. Все, выглянувшие в коридор – мало ли чего, – увидели, как милицейская делегация остановилась у комнаты Ветерана, полковник вежливо постучал в дверь. Все расслышали хрипловатый голос:
– Кого там черти принесли? Не заперто, знаете же…
Полковник оглянулся на своих и толкнул дверь.
– Вы Котов Иван Селиванович?
Ветеран быстро, как мог, поднялся с дивана и оправил одежду.
– Так точно, товарищ полковник! А … это… ко мне… Вы?
– Полковник Демиденко. – Милицейский начальник козырнул. – Плохо, что не заперто, Иван Селиванович, вот так вот наших ветеранов и грабят. А мы к вам с хорошей новостью. Наши сотрудники постарались, крепко постарались да нашли ваши награды. Будет, что к 9-му Мая надеть, да. Капитан!
Капитан, стоявший у полковника за спиной, вытащил из черного старомодного портфеля коробочку, раскрыл и, улыбаясь, протянул Ветерану.
– Ваши? Признаете, Иван Селиванович? По номерам мы сверили с военкоматом – ваши, ваши.
Все, кто столпился за милицейскими спинами, первый раз увидели, как фронтовик заплакал. Заплакал молча. Ветеран утирал слезу дрожащей рукой и не решался взять коробку. Капитан положил награды на стол и опять шагнул за спину начальства.
– Эх, смотри, наша милиция-то нас бережет, кто бы мог подумать, – смешливо вякнул Артист, но под строгим взглядом обернувшегося майора улыбку стер.
– Поздравляем, Селиваныч! – захлопала в ладоши Салтычиха, за ней захлопали и Шелапут, Василинин Сергей и даже Артист.
Ветеран утер-таки слезы, покачал головой, не веря своим глазам, и стал вынимать медали и ордена, а немало их было, весь край стола заняли.
– Поздравляю, Иван Селиванович! – протянул руку полковник. – А также разрешите передать вам поздравления, устные, самого министра внутренних дел, лично контролировавшего расследование после вашего письма. Да, попрошу расписаться в протоколе… капитан!
Тут же на столе появились казенная бумага, ручка, Иван Селиванович аккуратно, со значением вывел подпись.
– А… того… разрешите спросить. – Ветеран встал чуть ли не по стойке «смирно». – А нашли тех… грабителей, то есть.
– Конечно, нашли, – уверенно сказал полковник. – Кстати, Кирьянова Пелагея Никифоровна по этому адресу проживает, правильно?
– Я это, – грозно сложила руки на своей необъятной груди Салтычиха, – а че?
– Давайте-ка к вам пройдем, гражданка, разговор предстоит, – прищурился полковник. – Вот с капитаном Голованем и поговорите. А вас, Иван Селиванович, еще раз поздравляю, но и, сами понимаете, придется к нам в городское управление на днях зайти. Капитан Головань с вами свяжется, опознание там, разные формальности. И больше не оставляйте дверь открытой, моя вам настоятельная рекомендация.
Полковник приложил руку к козырьку и пошел к выходу. Капитан, который должен был о чем-то поговорить с Салтычихой, строго указал ей рукой – следуйте, мол, вперед. Салтычиха пожала мощными плечами, но повиновалась. Остальные милиционеры пошли за полковником. В коридоре остались Артист и Сергей. Шелапут, недолюбливающий по понятным причинам милицию, конца церемонии дожидаться не стал. Артист и Сергей понимающе переглянулись и пошли в свои комнаты за водкой, у кого чего осталось – сегодня они Ветерана не угостить просто не могли.
Между тем в логове Салтычихи проходил очень неприятный для нее разговор. Капитан Головань сразу опустил околичности.
– Где ваш сын Николай, Пелагея Никифоровна?
– А че? – оборонительно хмурилась Салтычиха, чуя, что на этот раз речь идет о чем-то худшем, чем ее родительские права.
– А то, гражданка Кирьянова, что сыночку вашему колония бы светила, будь он постарше чуток. Ведь это он навел грабителей на ордена-то.
Салтычиха уронила голову в ладони и вперилась взглядом в капитана.
– Да как же это… мой Колька? Дак рази… не может того быть, дак я же…
– Еще как может. Подозреваемые его в показаниях, не сговариваясь, указали. Он ведь со всякой шпаной крутился, хотел взрослым казаться, наверное, вот и «оказал взрослую услугу».
– Дак не… товарищ… я в званиях не разбираюсь…
– Капитан Головань. Так где сейчас Коля ваш?
– Товарищ капитан… – Салтычиха умоляюще сложила руки на груди. – Того не может быть, ну сболтнул где, он же к Ветерану все время бегал медали эти окаянные…то есть, тьфу, что я говорю-то, Господи, медали эти боевые смотреть, вот и похвастался перед друзьями-то. Ну, а они выяснили, где он живет, Ветеран, ну Селиваныч, то есть, вот и грабанули. Не наводил он, Христом Богом клянусь. – Салтычиха широко перекрестилась и смешно, грузно бухнулась на колени перед милиционером. – Не наводил он, не заби-ирай-те мо-во Ко-олючку ро-оди-имо-ого. – Салтычиха так заревела плачущим басом, что капитан Головань вскочил на ноги, теребя фуражку.
– Гражданка, встаньте немедленно! Встаньте с колен, я говорю!
– Не за-аби-ирайте, – блажила Салтычиха, подползая на коленях к милиционеру.
– Встать!! – заорал капитан, и Салтычиха тут же перестала выть, тяжело встала, села на койку, зажав голову руками.
Капитан выдохнул.
– Забрать, как вы выражаетесь, мы права не имеем. А вот допросить в присутствии родителей, то есть в присутствии вас, обязаны. – Капитан не знал, что Пелагея официально в родительских правах ограничена. – Потом обязательно на учет в детскую комнату поставим. Так где он сейчас?
Салтычиха не отвечала, только охала и качала головой, не опуская рук. Дверь тихонько приоткрылась – осторожно заглянула детская головка с испуганными глазами.
– Мам, а мам, ты чего плачешь? – дрогнувшим голоском спросила Анютка и тут же сама заревела.
Салтычиха бросилась к дверям и сграбастала дочку, как будто беспощадный капитан Головань собирался их сейчас, сию же минуту разлучить навеки. Милиционер смотрел на двух рыдающих существ, явно находясь в затруднении, что же предпринять дальше. Наконец, не выдержав женских и детских слез, слившихся в одну бурную реку, надел фуражку и вышел из комнаты. Напоследок строго сказал, чтобы Пелагея сама привела сына к нему в отделение – не позже завтрашнего утра. Салтычиха никак на это не прореагировала, но, не переставая всхлипывать, подошла к окну, убедилась для верности, что капитан Головань сел в последнюю милицейскую машину, и обернулась к дочери. Теперь вместо плачущей мадонны посреди комнаты стояла взбешенная фурия под центнер весом. Анютка потерла кулачками глаза и затихла, уставившись на мать.
– Так, подлецы, вот что, значит, удумали – мать в гроб раньше времени свести! Где твой брат, чтоб его черти с потрохами взяли, чтоб ему ни дна, ни покрышки – негодяй, вор малолетний, каторжник сопливый!!! Где Колька, я тебя спрашиваю, паскуда малолетняя?!! Где?!! – Салтычиха налилась нездоровой краснотой и стала озираться в поисках какого-нибудь тяжелого предмета.
Анютка еще секунду похлопала мокрыми глазами и юркнула за дверь. Вослед ей полетел материн сапог.
– Сволочь! Колька, гад!! Все вы сволота поганая, зачем я вас только рожала, гниды?!
Салтычиха упала на кушетку и зашлась в истерике, молотя по ней кулаками с такой яростью, что вмятины от пудовых ударов не успевали разглаживаться. Только через добрых полчаса она затихла, потом с неожиданной для ее веса резвостью вскочила на ноги, накинула потертый зипун и выбежала на улицу.
– Ко-о-олька! Ко-о-оля! – услышали уже сидевшие у Ветерана Сергей, Артист и Шелапут.
– Слышь, Селиваныч, – прокашлялся Артист, – а ты понял, почему мент к Салтычихе проследовал? Ну, я имею в виду – в связи с возвратом заслуженных наград – к ней именно почему? Я как раз по коридору с пузырем к тебе шел…
– Не стоит, Артист, – нахмурился Шелапут.
– Ну и почему? – радостно спросил Иван Селиванович, в сотый раз уже погладив медали, лежавшие на столе, у него под рукой.
– Артист… – предостерегающе сказал Шелапут.
– Не… не знаю, – продолжал улыбаться Иван Селиванович.
– Давайте еще раз за Ветерана…по маленькой только, – отвлек догадавшийся уже Сергей. – Это ты молоток, что в газеты написал… чиновник теперь огласки боится.
Артист недобро улыбнулся.
– Ни хрена он не боится, твой чиновник, кроме начальства. Вот было у главных начальников такое настроение, почему, мол, гордость народа – последних ветеранов не только обдирают, как липку, а и грабят вдобавок. А они, власть, конкурентов-то в грабеже не терпят, вот и дали указивку – разобраться, найти и наказать. А то, что получается – белые пришли, грабят, красные или там дерьмократы пришли – тоже грабят. Что народ подумает – грабят, а не защищают. Так даже у бандитов не водится. А так хрен бы тебе что нашли. А тут-то и искать особо не надо было – и так ясно с первого стакана, кто…
– Пойдем-ка на улицу, перекурим, бродяга, душно здесь, – глухо сказал Шелапут и встал, не отрывая сузившихся зрачков от Артиста.
– Да сам иди, усек? – отмахнулся было Артист, но Шелапут перехватил руку.
– Пошли, пошли. – Шелапут легко, но резко дернул на себя, Артист мигом оказался на ногах.
– Чего это они? – спросил Иван Селиванович, когда за мужчинами закрылась дверь.
– Не обращай внимания. – Сергей пододвинул стакан. – У них промеж себя что-то. Не обращай внимания. Скажи лучше – какой орден за что?
– О! – Иван Селиванович взял один. – Гляди – это за битву под Прохоровкой. Александр Невский. Танковое сражение такое… я тебе скажу, неба видно не было. Они ж в атаку поперли, и мы тоже – встречный бой был. Грохот и лязг такие стояли, что кровь из ушей хлестала. Сильно мы их тогда… да и они нас трепали, надо сказать. Силен был немец, ох как силен. Наш танк как въе…ли, загорелось все, в глазах дым, в ноздрях гарь, вылезли, огонь сбили с себя и за фляжку – хоть глоток сделать. А в десяти метрах – фрицы из такого же подбитого танка, «Тигра» там или «Пантеры», и тоже обгоревшие, и фляжки у ртов. Ну вот – пьешь себе, а глазом косишь – рядом фрицы пьют и тоже на нас косят. Но в этот момент никто не стрелял. Чисто звери на водопое – никто никого не трогает. На это тоже нервы нужны, я тебе скажу. Так вот нахлебаешься – и врукопашную с ихним экипажем, одновременно, как по сигналу. Тогда мне одному из экипажа повезло, ранили тяжело, да в медсанбате через месяц выходили. Потом в пехоту списали. Там в разведчики определили, потом одна история вышла…из-за медсестры, набил харю одному… старшему по званию, ну и меня – тю-тю – в офицерский штрафбат. Кстати, и эту вот, «За отвагу» – за форсирование Днестра и Прута, намедни с Платоном отмечали – уже в штрафниках получил. Но потом кровью, как говорится, искупил, даже в звании повысили, награды обратно вручили – так что они ко мне не первый раз возвращаются.
Вернулся Шелапут, поглаживая свой ежик на голове. На костяшках была заметна свежая ссадина.
– А Артист где? – поинтересовался Иван Селиванович. – Недопил чего?
– Да чего-то закашлялся сильно – к себе пошел… отлеживаться. Просил извиниться.
– Ну ладно, зашел – и то хорошо. – Иван Селиванович разлил по лафетничкам водку. – Давайте, мужики, есть еще какая-то справедливость на белом свете, за нее и выпьем.
Мужчины смачно чокнулись.
– Да, батя… – Шелапут закусил коркой хлеба. – Досталось вам тогда, на войне-то. Я вот что спросить хотел – ты ж и солдатом и командиром служил, – как вы к начальству своему, то есть к старшим командирам, относились? Справедливые были люди или как везде – на кого нарвешься?
Иван Селиванович отвечать сразу не стал – помолчал с полминуты.
– Я вам, ребята, так скажу. Не то даже главное, какой у тебя взводный или ротный – или даже генерал, справедливый или нет. Главное, чтобы умный был, солдата берег. Один в бою не трусит, отчаянный, рвет на фрицевский дзот, как смертник, а старшему объяснить, что способней обойти да гранатами закидать – духу не хватает. К примеру такой случай был – еще в самом начале войны. Я как раз срочную служил – в восьмом мехкорпусе. С начала войны-то неделя прошла, полная неразбериха. Кто куда наступает, где фриц, где наши, кто спереди, кто сбоку – ничего не понятно, связи нет почти. Между флангами дивизий – разрывы километров на десять – пятнадцать. Ну а командование, не разобравшись, контрудар задумало. А чем ударять-то? Сколько немца где скопилось – ведь не знает никто. Ну и к нашему комкору кавалькада эмок прикатила – трибунал, комиссары, полковники, подполковники… Наш ротный туда же побежал – созывали всех командиров на всякий случай. Ну, этот член Военного совета фронта, не помню фамилию сейчас, чуть нашего генерала Рябышева прямо на месте не расстрелял за то, что он просил время до утра на перегруппировку. Правильно просил, как оказалось. Ну что тут сделаешь, приказали с ходу в бой – на Дубно. Ротный еще тогда сказал – займем, обещали наградить, не займем – расстрелять. Но что хуже всего – этот комиссар поставил командиром нам другого комиссара. Этого фамилию до сих пор помню, его не забудешь. Комиссар Попель такой.
Ветеран замолчал, задумался. Вспоминал.
– Ну и что дальше-то, Селиваныч? Взяли Дубно? – Шелапут наполнил лафетнички.
– Дальше? А дальше – взяли мы это Дубно, фрицы от нас такой прыти – с отчаяния – не ожидали, это верно. Но быстро окружили – крепко немец умел воевать, грамотно, не отнимешь… Ну и положили всю нашу танковую дивизию, а с ней и мотоциклетный полк. Комиссары ведь только строить умели, а воевать – шиш. Этот Попель там только мешал, хотя не трусил, даже геройствовал. Но как? Как боец, а не как полководец, едить его за ногу. Но я так скажу: лучше бы они с комкором тогда под расстрел встали – много бы жизней спасли. Из окружения совсем немного вышло, да… Тогда я первую медаль получил, где она… вот – «За боевые заслуги».
Много еще чего рассказывал Иван Селиванович такого, чего и водка не брала. Шелапут и Сергей слушали да наливали, пока все бутылки не опустели.
– Ладно, Ветеран… Селиваныч, пошел я, – сказал Сергей, – меня Василина обыскалась уже, наверное. Еще раз поздравляю!
Шелапут погладил свой ежик и тоже встал.
– Ты, батя, это… мент прав был, запри награды-то посерьезней, не носи на груди без повода, как раньше. И не показывай никому – на 9-е Мая рассмотрят и расспросят, кому интересно. Тебя и так все знают… авторитетно. Я, пожалуй, тоже пойду – смена у меня завтра.
Иван Селиванович огорчительно развел руками – ему не хотелось отпускать такую благодарную аудиторию, давно уже никому он про прошлое так упоенно не рассказывал, когда это прошлое вдруг вернулось, как и само – победоносно. Когда мужчины закрыли за собой дверь, Иван Селиванович вдруг обмяк и лег на тахту – в животе опять больно завертелась какая-то шестеренка, словно наматывая на себя кишки.
Шелапут, однако, к себе не пошел. Выйдя во двор, закурил, сев, по тюремной привычке на корточки, спрятал сигарету зажженным концом внутрь ладони, так что заметить по огоньку, что здесь кто-то есть, было в сгущающихся сумерках непросто. Вечера были еще по-зимнему холодные, но водка грела изнутри. Шелапут представил себя на месте Ветерана перед рукопашной на Прохоровском поле и покачал головой. Интересно, кто как бы себя вел там, на войне, из нынешних. Артист, эта спившаяся тля, наверняка бы при штабе кантовался или вообще себе какую-нибудь броню организовал да продуктами приторговывал. А скорее бы – в полицаи пошел, людей шибко ненавидит. Правильно он ему скулу пощупал. Ветерану, если бы про Кольку сказал, весь праздник бы испортил, бродяга. Селиваныч ведь в нем души не чаял, а тут такое… предательство, по-другому и не скажешь. Да… Серега бы в пехоте и трех дней не выжил бы, хватка не та, но погиб бы честно, тут вопросов нету. Платон, вот интересно, Платон, скорее бы, как инженер, на заводе где-нибудь в эвакуации вкалывал, те же танки выпускал. Но не филонил, ковал бы победу, как говорится, изо всех сил. И на фронт бы просился наверняка. А может, и воевал бы, он парень не гнилой, только мечтательный какой-то, до зауми. Шелапут подумал про себя. При его характере-то ему явно рано или поздно светил штрафбат, уж тропка такая. Ну а там долго не жили. Хотя вона – Ветеран не только выжил, но и награды до сих пор обмывает. Но он в офицерском штрафбате искупал, а его в какую-нибудь штрафроту – на мясо.
Шелапут закурил еще одну сигарету – от предыдущей. Да… на зоне у него тоже моменты были – пан или пропал, рукопашная или такое, о чем думать даже не хочется. На одной драчливости не выедешь, за каждым жестом и словом следить так надо, как Штирлицу, поди, и не снилось. Был и он, гражданин Кузнецов Алексей Степаныч, на грани провала, да разобралась братва в отличие от прокуроров. Тот, кого в драке пырнули, авторитетом оказался – его и местный «законник» знал уважительно. Но отбрехался, даже не отбрехался, а просто не дрогнул на разборе – ни голосом, ни взглядом. Хотя и пугали и обещали не трогать, если правду скажет. Ну так он правду и говорил – не было у него тогда ножа в руке, на том и стоял. И выстоял, а поскольку в хате себя в обиду не давал, то и авторитет у него был какой-никакой, хотя и не ихней масти он был. В общем, дотоптал зону как честный фраер, и слава Богу.
Шелапут навострил уши и прищурился в темноту – по двору кто-то крался к входной двери.
– Ну-ка, подь ко мне, Колян, – тихо, но внятно сказал Шелапут.
Колька от неожиданности споткнулся и упал прямо к его ногам. Шелапут взял его за ухо, подвинтил и приблизил к своему лицу.
– Ты что, это, недоносок? – так же тихо продолжал Шелапут. – На военные награды отморозков навел, сука? А может, твой дед за них кровь проливал, а? Хотя ты и отца своего не знаешь, откуда тебе про деда знать, сучонок безродный. Повезло тебе по молодости, а если бы ты со мной в одной хате сидел, я бы тебя первым из мальчика в девочку бы обратил. Ты хорошо вникаешь, крыса малолетняя?
Колька от боли и неожиданности разоблачения только промычал – кивнуть головой он не мог, крепко держал его ухо Шелапут.
– Ну, так вникай дальше, бродяга. Тебя ремня и мамка даст, долго помнить будешь. Но мать, какая-никакая, тебя от ментов защищать будет. А от меня тебя никто не спасет, если ты еще в нашем доме скрысятничаешь, я тебе не только ухи, я яйца твои зеленые откручу. Понятно излагаю я тебе правду жизни?
Колька снова согласно промычал, и Шелапут отпустил ухо.
– Смотри, Колян! Ветерану никто про тебя не сказал, даже менты, да и не скажет, я уверен. Но не из-за тебя, ворюга, а только чтоб заслуженного человека не огорчать. А ты теперь – тише воды и ниже травы, чтоб со всеми вежливо, Сал…Пелагею, мамку свою, слушать, а Ветерану помогать – принести чего, в магазин сбегать и все такое. И с дружками своими – шабаш. Узнаю – ну ты понял. Ты понял, сука?
Колька стоял со слезами на глазах и даже от страха не тер опухшего уха, только кивал. Шелапут заставил пацана повторить все слово в слово, потом снова присел на корточки, достал сигарету, помял в руках и уже миролюбивей сказал:
– Тебе не предлагаю, молод ишо. Но и домой пока не ходи, пусть мамка остынет, она тут тебя по всей улице искала, нашла бы – всю душу твою поганую вытрясла бы. Так что приходи позднее, к ночи, когда с нее пыл сойдет. Все – брысь с глаз.
Колька не заставил Шелапута повторять дважды, хлюпнул носом и исчез в темноте. Шелапут закурил, выпустил не видимый уже дым в темный воздух и чему-то улыбнулся.
8
До Рязани никто из Платоновых первых попутчиков не доехал – сошли кто в Ростове, кто в Ярославле. Другие были уже не так интересны ему, души, во всяком случае, он никому не открывал, да никто и не интересовался. Оставшуюся дорогу Платон все больше смотрел в окно – с полки или из тамбура, где курил чаще обычного, и, по обыкновению, размышлял над жизнью. Все подтверждалось – не надо на нее жаловаться, какой бы ни казалась. А все потому, что вот так, случайно, завсегда встретишь в России человека, которому еще хуже, чем тебе, и который, не глядя, махнулся бы с тобой судьбой. Да Платон вслух-то никогда не жаловался, все больше других ободрял, но себе – бывало, конечно… и жалеть себя было приятно. А ведь верно сказал на прощание отец Иоанн, перекрестив и его, и остальных, мол, злу противиться еще далеко не всё, куда важнее не противиться добру, а для этого его видеть надобно, ценить и приумножать по мере сил своих. Тогда Василий-матрос еще глупо хмыкнул – непротивление добру водкою, а зря хмыкнул – прав служитель. Прав, тысячу раз прав – не принимает человек в себя добро, выталкивает, неразумный, злобой своей, злобой и жадностью, обидами зряшными, потому что мнит себя лучше, чем он есть, и требует себе большего, чем достоин, а через это и места для добра в нем не остается совсем. За окном вальсировали березки, мелькали телеграфные мачты, уплывали назад бессчетные покосившиеся деревеньки, где, наверное, тоже так всю жизнь на жизнь жалуются, да живут ведь как-то, тысячи лет живут люди в России и все добру сопротивляются… Смотрел на все это Платон и все больше понимал – не зря поехал, не только во внуке дело, а что-то еще очень важное посадило его в этот поезд да повлекло за тыщу верст, не иначе – судьба.
На вокзале в Рязани Платона, конечно же, никто не встретил, да он особо и не рассчитывал, хотя было бы приятно, чего говорить. Но Платон быстро сориентировался, до улицы Каляева добраться было не так уж сложно. Он решил про себя не заявлять в милицию о пропаже Шелапутовой посылки, хотя все ему наперебой советовали сделать это первым делом по приезде. Долго ходил тогда Платон по вагонам, но скоро стало неловко – на него оглядывались, может, самого за вора принимали. Василий тогда махнул рукой – поездных воров по горячим следам найти не могут, а тут вообще бесполезно. Да и стоянок с утра сколько было – сто раз сошли уже. К тому же описать содержимое этой посылки обкраденный не мог. Платон не стал уж делиться сомнениями насчет того, что о содержимом вообще в милицию сообщать не стоит, даже если бы оно было известно – не тот человек Шелапут, чтобы варенье или теплые носки с оказией передавать стал. Как в принципе выкручиваться из этой ситуации, Платон не имел ни малейшего представления и по русскому обычаю махнул рукой – пока суд да дело, что-нибудь придумается или кто-нибудь присоветует, в общем, образуется как-нибудь. Поэтому Платон, все-таки чуть поколебавшись, прошел мимо вокзального отделения милиции к автобусной остановке.
Пока ехал, крутил головой – ничего, чистый город, необшарпанный, зеленый, несуетный. Рекламы было много, с одного из плакатов глядела красивая черноволосая женщина с волчьим взглядом прожженной стервы – мисс Рязань. Платон подумал, что такой же взгляд со свинцом он стал замечать в последние годы совместной жизни у своей жены Нади. Снова вспомнился тот странный сон в поезде, когда Надя тепло и грустно с ним говорила, но Платон не стал долго над ним размышлять – скоро все выяснится и так.
Выйдя на нужной остановке, Платон в сотый раз прочитал адрес на конверте – Рязань, улица Каляева, дом 5, квартира 13. Несчастливое ли число тринадцать или наоборот, Платон никогда об этом не задумывался, но вот сейчас стало ясно, что раз в этой квартире родился его внук, то наверняка счастливое. Перед дверью, обитой солидным красным дермантином, с позолоченной цифрой 13 Платон вдруг заробел. Как же это, вот сейчас он нажмет на кнопку звонка, откроется эта пухлая дверь, и он увидит свою блудную дочь, свою единственную родную кровинушку. А потом и внука – новое в этом мире существо, в котором тоже его кровь и который ничего еще не знает про любовь и ненависть, разводы и «черных риелтеров», Кегостров и улицу Юбилейную, ничего не знает про него, Платона, его единокровного деда. Он приложил ухо – из-за толстой обивки не доносилось ни звука. Еще раз покопавшись в пакете с игрушками, Платон вдруг понял, что не сорвал ценников. Дарить подарки с ценниками было неприлично, это он знал, но как-то в суете последних событий совсем позабыл. И, только сорвав последнюю бирку с уха поющего мишки и засунув их все в карман пиджака, Платон вздохнул и нажал на кнопку звонка.
Не открывали довольно долго. Платон хотел уже нажать еще раз, как дверь распахнулась. На пороге в пупырчатом салатовом халате стояла располневшая женщина с огрубевшими чертами лица, особенно бросающимися в глаза при зачесанных назад коротких и потерявших цвет волосах. Платон и не сразу даже узнал свою дочь. Теплого приема с бросанием на грудь и слезами в плечо не получилось – Зина только слегка улыбнулась, потом зевнула, не прикрывая рта ладонью, и посторонилась.
– Приехал, значит. Ну, проходи.
Оробевший еще больше Платон сделал шаг вперед и поставил красный пакет на пол.
– Вот… подарки для внука… для всех. Как внук-то… мой?
– Здоровый, орет только много. Только сейчас заснул, паразит, ни ночью, ни днем мне покою не дает. Только прикорнула – и ты тут… – Зина говорила совсем обыденно, словно Платон приехал с трехдневной рыбалки, а не было пятнадцатилетнего отсутствия их в жизни друг друга.
Не считать же редкие телеграфные переводы и последнее письмо родственным общением, в самом деле? Ну, как бы там ни было, поминать прошлое – портить будущее. Платон вздохнул еще раз и заключил свою дочь в неловкие мужские объятия. Зина не противилась, даже похлопала отца по спине, но все-таки не прослезилась, не захлюпала умилительно носом, но и так для начала было очень даже неплохо. Платон чуть сам не прослезился, заглядывая из-за дочериного плеча в комнату, где – он уже слышал – сопит продолжение его фамилии. Зина кивком пригласила на кухню. Платон повесил ковбойскую шляпу на вешалку и стал снимать свои немыслимого цвета ботинки, оглядываясь в поисках тапочек.
– Ничего, так проходи… полы чистые.
– Ага, – кивнул Платон, открыл дверь на кухню и осторожно присел на полукруглый диванчик у маленького столика.
Зина, как всякая русская баба, не спрашивая, выставила из шкафчика початую бутылку водки и чистую до блеска рюмку. Платон хотел было показательно отказаться, мол, и вечернего официального застолья можно обождать, не из сильно пьющих, но как-то не стал. Зина достала тарелку – верно, вчерашнюю – с огромным помидором, нарезанными малосолеными огурчиками, дала хлеба и села напротив. Платон повел бровями и налил себе полстопки.
– Ты, это… Зин… имя какое дали, ядрена-матрена? Или не дали еще?
– Как не дать? Дали уже.
Платон сглотнул слюну.
– Это вы молодцы. И за кого я сейчас пью?
– За Вольдемара.
– За… Воль… дер… демара?
– Ну да. А точнее – за Вольдемара Николаевича.
Платон поднял рюмку.
– Значит, за Вольдемара Николаевича, внука Сергея Васильевича!
Зина спокойно смотрела, как Платон махнул рюмаху и, не закусывая, налил себе еще.
– Ты это… молодец. Вы с Николаем… я правильно понял?. молодцы, ядрена-матрена. А крестить когда?
– Так покрестили вчера. Но не отмечали пока – перенесли на сегодня.
– А… – Платон хотел спросить, почему же его не дождались, но передумал. – А кто крестные?
– Друзья Колины. Ты не знаешь. Познакомишься сегодня.
– Молодцы, молодцы. А где отец, ну то есть сам Николай?
– На работе, где ж ему быть. Скоро будет, да и гости к восьми подтянутся.
– Телеграмма моя дошла?
– Получила. Поэтому со вчера на сегодня перенесли.
– Да? Молодцы… – Платон снова выпил, не закусывая, и осторожно, без нажима спросил: – А Надюша… Надя, бабушка… то есть… ну да… мать твоя… она-то как… придет?
Зина вздохнула, встала и стала зажигать конфорку под чайником.
– Не придет мать. Горе у нее – у мужа сегодня сороковины. Вот как совпало – у кого крестины, у кого сороковины, и все в одной семье.
Платон поставил стопку на стол. Зина это так сказала, что он почувствовал – слово «семья» относится к нему не вполне, как-то косвенно, что ли. Зина обернулась.
– Тебе чаю или кофе? Правда, сразу скажу – кофе не очень вкусный, растворимый, из пакетика.
Платон не расслышал вопроса – он мучительно думал, что получится, если он разузнает, где поминают Надиного второго…да, уже бывшего второго мужа, и заявится туда. Желание увидеть свою бывшую жену, ну раз уж так вышло, снова незамужней просто жгло его. Теперь у нее ведь из мужей только он один остался, и пусть он тоже бывший, но все-таки первый и все-таки живой. И то и другое теперь выгодно отличали Платона от усопшего соперника, которого он так ни разу в жизни и не видел, даже имени его не знал. А чем черт не шутит, как говорится, пока Бог спит, может, и склеится что, может, наладится, не зря присловье в народе ходит – первая любовь не ржавеет. Недаром ведь Надюша, его Надюша с ним так ласково в том сне говорила… грустно, печально, но не сердито совсем, не так, как наяву последние годы. Платон уже решился было спросить у дочери адрес, но Зина вылетела с кухни – из комнаты раздался детский плач. Платон побоялся идти вослед, хотя страсть как хотелось хоть глазком взглянуть на внука, но – может, грудь дала и стесняться при отце будет, может, ребенок нового дядю испугается, да мало ли что, ядрена-матрена. Успеет еще наглядеться – целый вечер впереди. Но сомнения решились сами собой – дверь открылась и на кухню зашла Зина с маленьким кулечком на руках. Из кулька тянулась махонькая ручка с кулачком. Платон встал и заглянул глубже – на него с морщинистого розового личика с осторожным любопытством смотрели голубые глазки.
– Кто ето к нам приехаль? Смотри, Волечка, это дедушка приехаль… да… дедуля твой пришель, чтобы сказать, какой Волечка у нас холосий, какой Волечка у нас самый-пресамый лутсий, – засюсюкала Зина, мгновенно преобразившись из обабившейся молодухи в лучезарную мадонну.
– Ой, а похозий, на кого похозий Волечка? – подхватил Платон. – На дедушку своего, вот на кого похозий самый-пресамый, лутсий-прелутсий Волечка. Дедушка и гостинцы такому красавцу привез… да, ядрена-матрена, потом мама обязательно развернет и подарит. Ой, какой у нас Волеська!
Платон осторожно потряс розовый пальчик. Младенец отдернул ручку, но не заплакал, а довольно гукнул. Потом еще раз гукнул и заулыбался во все ямочки на пухлых щечках.
– Ну, все, увидель дедушку, теперь хрю-хрю делать будем, да, Вольдемарчик? Да, родненький? Помаши дедушке ручкой, вот так, вот так, холосий… сейчас к пушистым хрюкам в гости Волечка пойдеть… да?
Платон, тоже улыбаясь во все ямочки – в этот момент они действительно стали очень похожи, – помахал пятерней и склонил голову набок, словно озадаченная собачка. Вольдемар показал на дедушку пальчиком и снова довольно загукал. Зина счастливо улыбнулась, поцеловала ребенка в лобик и вышла укладывать. Платон опустился на диванчик и залпом вжарил отставленную было рюмку. Да, это ж надо – еще каких-то три дня назад он ничего не знал о новом родном существе, а теперь погляди-ка – и не испугался внучек дедушки, и за пальчик поздоровался, и вообще – вот она, родная кровь-то. Прав был Ветеран – не каждому дано продолжение своего рода дождаться, и имя какое… звонкое, необычное немного на его слух, но уже другого имени, даже и своего Платон для внука не представлял. Ишь ты – Вольдемар свет Николаевич! Красиво, права Зинка, что так назвала, идет имя внучку, ядрена-матрена! Платон, не колеблясь, налил себе еще.
– За Вольдемара! За мово Волечку! – сказал сам себе Платон – давно уже, и даже не вспомнилось бы, когда еще он поднимал тост с таким тихим счастьем.
Оставшееся время до гостей они с Зиной, которая словно немного оттаяла – все-таки внук деда признал за своего, дети вообще хороших людей чуют, – говорили о житье-бытье. Платон узнал, что Николай – парень положительный, малопьющий, работает старшим инженером (как и Платон когда-то) в крупной строительной фирме. И такой-то многоэтажный дом в Рязани, и коттеджный поселок в области, и много других объектов – все он на первых ролях, без его подписи строительство начаться не может. А начальником у него какой-то потрясающий еврей, но совсем не жид, а такой еврей, что любому православному в человечности сто очков вперед даст. Тут Платон удивился, но Зинка уверила – за свой счет зарплату в плохие времена выплачивал, им классную веранду в летнем домике в Заборье «за спасибо» сделал. Был как-то в гостях, увидел, что веранда маленькая, и в первый же понедельник строительную бригаду прислал – и фундамент залили, что хоть еще три этажа над верандой строй. И сам с женой мучается, дочерей через воскресенье видит, и спиной болен, сам вообще худющий – в чем душа держится, а никогда не жалуется, а только людям помогает. У него поэтому классные специалисты, как Николай, – на вес золота. Сегодня из уважения обязательно на крестины придет – познакомитесь. Николай же сам такой насчет нее беспокойный – даже с рыбалки каждые два часа звонит, пока не заночуют на Оке прямо. В прошлом году по пять-шесть во-от таких – Зина показала руками перед собой – щук или там сомов приносил. И вообще – все в дом, чтобы за юбками там или что-то такое – ни-ни. Тут Платон снова удивился, но на этот раз про себя. Было понятно – и больше не по словам, а по глазам, – его дочь была за своим мужем счастлива, чему Платон был искренне рад. Только когда он осторожно перевел разговор на свою бывшую жену, Зинаида как-то замялась.
– Понимаешь, отец… – На этом месте Платон невольно вздрогнул, так давно не слышал этого слова в свой адрес. – Не очень хорошо они с мужем жили последнее время. Сейчас о Прохоре Николаевиче, ну о покойном – только хорошо или никак, но все-таки… и пил, и ходок известный был. Как говорится – седина в бороду, бес в ребро или еще куда там у вас, не знаю. На грани развода были уже, но мать брак сохранила – не третий же раз выходить, бабушкой тем более. Руки распускал иногда, но мать никогда не жаловалась. Это уж я сама знаю. Да что это я, – спохватилась вдруг, – ты душ с дороги-то прими, небось не самолетом добирался. Одежду твою…смешная какая, я постираю, а ты вот…
Зина вышла и вернулась с джинсами и клетчатой рубахой.
– Колькино, тебе должно подойти по размеру.
Платон сначала хотел отказаться, потом подумал, что такая скромность – точно, ложная и сменить одежду после душа было бы в самый раз. В ванной Платон внимательно огляделся – на стеклянной полочке над раковиной стояли разнообразнейшие шампуни, гели и прочие масла в красивых пузырьках. Он поискал шампунь для нормальных волос, но были только для крашеных или тонких. Намыливая с наслаждением остатки волос крапивным шампунем, Платон подумал, что вот она, нормальная жизнь – когда есть выбор, даже в мелком, в несущественном, в шампунях, например. Он-то сам мылся хозяйственным мылом, ему и сносу, то есть смылу, не было. Одного куска на полгода могло хватить, особенно когда обмылки сохранять, не выбрасывать. Ну а когда выбор и в большем есть – в доме, например, в машине, тогда человеку вообще больше незачем сердце надрывать. Так нет же – гоняются за деньгами, воруют, в тюрьму садятся, а все потому, что не знают предела желаний своих, предела выбора своего. Как соленая вода – чем больше пьешь, тем больше хочется. А вот в самом главном выборе – выборе человека на свою жизнь, – тут вообще никакие деньги не помогут, разве помешают.
Посвежевший и пободревший от контрастного душа, Платон вытерся большим махровым полотенцем, немного поколебавшись, побрился Николаевой бритвой и подушился его одеколоном. На Платона из зеркала посмотрел не такой уж старый мужчина с добрыми голубыми, как у маленького Вольдемара, глазами, только от глаз разбежались лучистые морщины.
– Ядрена-матрена, – сказал Платон в зеркало и подмигнул.
Когда он осторожно зашел на кухню, там уже сидел красивый парень, вернее, сказать, молодой мужчина с волосами иссиня-черного, вороньего отлива, веселыми и умными карими глазами и держал пред собой такую же рюмку, как и Платонова, отодвинутая ближе к бутылке. Платон немного растерянно улыбнулся, хотя и сообразил, что это тот самый Николай и есть – Зинкин муж и его, выходит, зять.
– А, тесть дорогой, – подтвердил догадку мужчина, встал и протянул широкую руку, – Николай.
– Сергей Васильевич, – уважительно поздоровался Платон и присел на диванчик вслед за Николаем.
Зять и тесть немного посмотрели друг на друга, потом Николай, как бы спохватившись, широким движением – у него, по-видимому все в жизни было широко – налил рюмки до краев.
– С приездом и за знакомство единовременно!
Платон согласился глазами и приложился к рюмке. После омовения водочка потекла как-то особенно хорошо, с медовой удоволинкой. «И вправду хороший парень, сразу видно», – не без успокоенности подумал Платон, а то ведь по-разному бывает – вроде родня, а чужее чужих – тесть неизвестно откуда свалился, о котором столько лет никто и слыхом не слыхивал.
– Как добрались? Поездом, я по телеграмме понял?
Платон вдруг вспомнил о Шелапутовой посылке и махнул рукой.
– Поездом, только лучше б самолетом, – хотел добавить, если б были деньги, но не стал, – обокрали так, что ядрена-матрена просто. Да и ладно – мое бы срезали, так чужого человека посылку вез. Теперь не знаю, что и делать.
– Не огорчайтесь, – широко улыбнулся Николай, – заявление подали в милицию?
– Нет, говорят, бесполезно.
– Я не в том смысле, что полезно, а в том, что человеку, от которого посылку везли, справку бы эту представили для объяснения. Документ все-таки.
Платон поскреб затылок – эта простая мысль ни ему, ни его попутчикам в голову не пришла. Николай заметил растерянность Платона и успокоил:
– Да ничего. У меня полментовки в знакомых, на транспорте тоже. Завтра съездим, оформим протокольчик, будет хоть что предъявить.
Платон приложил руку к сердцу, не заметив, что левую и к противоположной груди – в правой он все еще держал рюмку.
На кухню зашла принарядившаяся Зина.
– Познакомились уже? Ну и ладненько. Коль, я дверь приоткрыла, чтобы гости не звонили, да и твои джинсы с рубашкой отцу дала, его вещи стирать и стирать с дороги, ничего, милый?
Коля бросил взгляд на тестя и посадил Зину к себе на колени.
– Да ради Бога, лишь бы не жало под мышками. Ты моя красавица, Волечка спит?
– Уснул, уснул, мамке роздых дал наконец-то. Ну что, стол здесь накроем по-быстрому или в другой комнате?
Платон подумал, что даже не успел посмотреть дочкин дом – квартира была неоднокомнатой, стало быть, широкой, у Коли другой быть и не могло.
– Давай в комнате – здесь все не поместятся. Человек пять-шесть придут, это точно.
Платон, помогая собирать стол, заодно осмотрелся. Ничего так, квартира была, как говорится, «полной чашей», но что сразу понравилось – без выпендрежа. Без показушного хрусталя на полках, картин хозяев в фасонном виде на стене, без «выставочных» икон, что обычно висят у убежденных атеистов, без всяких там супертонких телевизоров, про которые Платон много слышал от артиста. Мебель была обычной, опрятной, не карельская береза какая-то, когда на дорогущем стуле и сидеть-то страшно. Особенно понравился Колин бар в углу гостиной – там красовались живописные бутылки самых разных калибров и форм. Коля, не обинуясь, достал одну с черной этикеткой, где был изображен джентельмен в цилиндре и тростью, и стаканы с толстым стеклом.
– Виски уважаем? – полуспросил, полуутвердил Николай и разлил янтарный напиток.
Платон больше уважал родную беленькую, тем более с нее начали, но и к иноземным напиткам ненависти не испытывал.
– Вцепились? – Платону вспомнился лихой матрос Василий.
Николай улыбнулся и «вцепился». Когда минут через сорок начали подходить первые гости с пышными букетами и детскими подарками, Платон и Николай были уже друганы – не разлей вода. Ну или виски.
9
Гости осторожно проходили в комнату с почти уже накрытым столом, но не садились, а размещались у бара. Платон невольно оказался в самом центре компании веселых, ценящих жизнь и крепко за нее державшихся мужчин, их жен, одетых уютно, просто, смотрящих без вызова и надменности. Зина быстро переоделась и вышла к гостям прихорошенной, в красном летнем платье, сразу помолодев на несколько лет.
– Таки шалом! – в дверях появился невысокий худой человек лет сорока с небольшим, с коренастым носом, оттопыренными ушами и веселым бирюзовым взглядом.
Вид его был потрясающий: в белой тройке, белых ботинках, рубашка с золотыми запонками, с огромным букетом роз – не хватало только белого цилиндра, чтобы подумать, что зашел молодой отпрыск Ротшильда. А если бы на него надеть платоновскую белую шляпу, что дал ему Артист, то гость превратился бы в техасского миллионера начала прошлого века. Самое поразительное – этот дендизм ему невероятно шел.
– О! Андриян собственной персоной! Как всегда – суперкрасавец! – воскликнул уже «добренький» Николай, Зина сразу же приложила палец к губам и показала глазами в сторону детской.
Как понял Платон, это и был тот самый Колин начальник, еврей с православной душой. Андрея приняли горячо, но не суетясь и особо не выделяя среди собравшихся. Николай познакомил его с Платоном.
– Наконец-то тесть приехал.
Платону было приятно все: и что зять сказал «наконец-то» – Зинаида, хоть и дочь, так не сказала бы, и что он никак не выглядит бедным родственником, а стал практически своим среди этих жизнерадостных людей, и что, самое главное, внук, его Волечка тоже признал за своего. Душа Платона рассупонилась, и он как-то стал налегать на этот чудный напиток, виски, чего до сих пор еще ни разу не пробовал и который ему казался после водки довольно легким.
Наконец сели за стол. Посередине в вазе стоял Андреев букет, остальные цветы Зина снесла на кухню. Из-за цветов Платону не было видно и половины лиц, и он все время вытягивал шею, когда кто-нибудь напротив брал слово. Говорили, однако, без особого апофеоза, просто, по-домашнему. Все женщины целовали Зину и, как опытные матери, что-то советовали, поругивали своих детей-сорванцов и ахали, вспоминая свои дежурства у колыбелей, впрочем, сразу, без заметного перерыва переходя на тряпки и сплетни. Зинаидины глаза блестели от счастья, она благодарила подружек за каждый совет, внимательно слушала разные истории и при этом не забывала следить за столом и прислушиваться к звукам из детской. Мужчины, не забывая восхвалять красоту молодой матери и желать пацану Вольдемарику стать настоящим атаманом, защитником Отечества, воином, миллионером и даже президентом, вспоминали свои байки.
– Слушайте, мужики, – заранее широко улыбался Николай, – выходим мы, значит, на вокзале в Москве с Захаром. – Захар, оказавшийся крестным отцом, одобрительно закивал. Платон обратил внимание – закивал как-то странно, вытягивая шею, уточкой. – А тогда еще, в девяностых, помните, – рассказывал зять, – водка в таких пластмассовых стаканчиках одноразовых продавалась. Ну так вот, подходит к нам какой-то бич, но точно – из бывших интеллигентов, в очечках, весь грязный, запущенный, вонючий, руки трясутся, нос краснющий, как у Деда Мороза. Подходит осторожно и так вежливо, с расстановкой говорит, мол, разглядел в нас с первого взгляда душевных и интеллигентных людей, которые прекрасно понимают, что абстинентный синдром – не тетка. И в этой связи не соблаговолят ли люди такой высокой культуры – ну то есть мы с Захаром – выделить некоторое воспоможение другому культуртрегеру, находящемуся, правда, в этот момент в неоплачиваемом творческом отпуске, то есть – ему. Ну, за такую речь мы, понятно, дали ему рублей двадцать или что-то такое. Он сразу к ларьку, покупает этот стаканчик с водкой и – шмыг за этот самый ларек. Нам любопытно стало, мы осторожно подошли, заглянули за угол, а он так медленно крышку снимает, поднимает стаканчик перед глазами и… не могу… так тихо, ласково, с трепетом аж говорит: «Ну, здравствуй!»
Зина недовольно шикнула на захохотавших мужчин, все притихли, но перестать смеяться не могли еще долго, а Платон дольше всех – эта история могла бы подойти каждому обитателю их дома, особенно Артисту. Платону тоже захотелось рассказать что-то смешное, и память как раз подсказала случай с тем же Артистом. А случай был действительно уморительный. Пьяный, как обычно, но в тот день ищущий своей тоске какой-нибудь художественный выход, Артист где-то раздобыл светящейся – Платон хотел сумничать и сказать «фосфоресцирующей», но запутался в шипящих – краски и стал сначала размалевывать стены в своей комнате. Но поскольку дело было утром, то эффекта ждать нужно было целый день, пока не стемнеет, а краска еще на донышке оставалась, то Артист решил покрасить что-нибудь двигающееся, вернее сказать – живое. Животных под рукой никаких не было, а на улицу ему выходить не хотелось. Тогда Артист придумал следующее – он насыпал на пол хлебных крошек и стал дожидаться тараканов, которых в их доме просто тьма. Ничего не подозревающие тараканы подбегали за добычей, а Артист капал на них сверху краской. Так он сидел и помечал тараканов, пока не кончилась краска, а может быть, и хлеб, не суть важно. А важно, что потом Артист выпил оставшуюся водку и его, конечно, завалило. Так и продрых бы до утра, как и все, если бы не истошный вопль Салтычихи – Платон вкратце обрисовал могучую Пелагею, – которая, проснувшись отчего-то ночью, вдруг заметила снующие по полу и стенам светящиеся создания. Все тогда вскочили с перепугу и увидели на своих полах то же самое – везде перемещались какие-то огоньки. Артист тоже проснулся, совсем забыв, как он развлекался днем, и что он видит – стены мерцают, по полу бегают светлячки, соседи орут. Решив, что у него уже белая горячка, художник, как чумной, выбежал из дома и пошпарил в сторону ближайшей больницы. Когда разобрались, хотели Артисту морду набить, да он водкой откупился, говорил: пробовал себя в новом виде искусства – живая живопись. А тараканы еще неделю ночью светились, их так даже удобнее было топтать в темноте, потом исчезли – либо перебили, либо краска выдохлась.
Отсмеявшись полушепотом под недовольным взглядом Зинаиды, мужчины окончательно признали Платона за своего, а верткошеий Захар даже позавидовал Николаю – ему бы такого классного тестя, он бы и с тещей своей стерпелся бы. Платон довольно улыбался – так хорошо, как сегодня, он себя давно не чувствовал, настолько давно, что и не припомнишь. Если только – позавчера, но среди родни – не припомнишь, точно. «Запоминай этот день», – мысленно говорил себе Платон, лучезарно чокаясь своим стаканом виски, он может и не повториться. Такие праздники – как драгоценные камни. Их надо складывать в сундук памяти, чтобы потом в обычные, то есть печальные, дни доставать и любоваться. Платон даже представил себе сундучок с большим навесным замком – у него-то таких самоцветов только на донышке, но что поделаешь. У других и такого нет или настолько много, что цена таким дням им не известна, оттого и не берегут, то есть не запоминают. А зря, успевал мыслить между разговором Платон, жизнь – переменчивая штука. Белоснежный Андрей пошел травить еврейские анекдоты, как известно, сами евреи – их лучшие рассказчики. Николай, Захар и другие пытались тоже что-то вставить, но до Андрея им было далеко, он и знал больше и рассказывал смачно. Платон хотел было тоже рассказать какой-никакой анекдот, но с удивлением понял, что не знает ни одного и даже только что рассказанные, над которыми можно было согнуться в животе, не помнил уже через минуту. Видно, анекдоты все-таки – удел сытых людей, мало зависящих от обстоятельств, подумал Платон, а когда не знаешь, чем назавтра опохмеляться и закусывать, не до анекдотов. Но эта мысль моментально вытеснилась новой зажигательной историей про раввина и двух петухов – одного черного, другого белого.
– Так вы не поняли, ребе, черного зарежешь, белый будет плакать, белого зарежешь, черный будет плакать, они же же с детства на одном дворе росли, словно братья. – Так, если ж тебе кушать нечего, режь, белого! – Так черный же будет плакать… – Ну и х… с ним, пусть плачет!
Плакал уже Платон – давя хохот, чтобы не разбудить внука, остальные делали то же самое. Зинаида с укоризной покачала головой, что-то мужчины раздухарились и папаша новоявленный – прям аж залоснился, компанию новую нашел, а сам шлялся годами черт знает где. Никакой помощи от него, его только содержали – и мать, и она переводы отсылала, чтоб окончательно не окочурился. А тут – глядь, мужнин виски хлещет, ржет, довольный, небось забыл уже, зачем приехал. И муж тоже хорош – родственничка-собутыльника себе нашел. А ведь давеча его хвалила – непьющий практически, все такое. А может, это он дома, ну, кроме сегодня, непьющий, а на рыбалках своих так поддает, что – мама не горюй? И в последний день оправляется, чтобы домой пьяным не являться? Может, и баб они на свои рыбалки берут, кто их, козлов-то, знает? Зина представила себе развратную гулянку на берегу и нахмурилась уже серьезно.
– Отец… папаша! – не сразу обратила на себя внимание расслабившегося Платона Зинаида. – Ты в какой гостинице остановился-то? Здесь у нас тесновато будет, сам понимаешь…
Платон от такой резкой смены климата часто-часто заморгал, глядя на свою дочь, и поставил стакан на стол. За столом потишело.
– Да я… это… ядрена-матрена… не определился еще…
– А когда будешь определяться? – уже не скрывая вызова, спросила Зинаида.
– Зина, – с легкой укоризной сказал Николай, но Зинаида не сводила упрямых глаз с отца.
Платон смутно почувствовал, что надо встать, попрощаться и уйти, но что-то его словно приковало. В самоцвете этого дня явно обнаружился изъян, и он никак не мог понять, что сделал не так, почему его так прозрачно просят, ведь все было хорошо, даже прекрасно и сама Зинка была веселой и праздничной.
– Не беспокойтесь, Зинаида Сергеевна, – спокойно сказал Андрей, чуть нажав на отчество, – я забронирую номер в нашей гостинице. Вам на сколько дней, Сергей Васильевич?
– Ну… не знаю даже… у меня обратный билет на послезавтра… других не было, – развел руки моментально скукожившийся от обиды Платон.
Андрей вытащил мобильный телефон, очень вежливо поговорил с администратором, уточнил Платонову фамилию и улыбнулся.
– Ну, все океюшки. Одноместный сингл со всеми удобствами. Адрес запомните, здесь недалеко, или записать?
– А… сколько стоит… с удобствами… может, лучше без удобств, мы-то люди привыкшие, – насторожился Платон.
– Я вас таки умоляю. Ничего стоить не будет, это бронь моей компании, мы ее и строили, да там сейчас все равно полно свободных мест, так что убытка никто не потерпит. Администраторшу Леной зовут, Еленой Григорьевной. Адрес – вот. – Андрей полез было за ручкой, потом передумал. – Если вы не очень поздно, я вас сам довезу. Мне по пути, да здесь и недалеко совсем.
Платон не знал, что и сказать, Зинаида – тоже. Сейчас она поняла, что сморозила из раздражения неприличную вещь, хоть какого-никакого, а родного отца чуть не при всех выпроваживала. А Андрей – так ее вообще носом ткнул в ее «гостеприимство».
– Ох, спасибо, Андрюша, я и сама хотела тебя попросить сначала, да с Волькой замоталась совсем, – выпуталась Зинаида, – вот, отец, не зря же я тебе про Андрея говорила: самый русский из нас – это он.
Платон закивал, мол, истинно говорит его дочь, нахваливала Андрея, и не зря.
– Давайте за Андрея Ефимовича! Настоящий мужик, наш! – окончательно и широко разрядил Николай, и все, а особенно Платон, приложивший руку к сердцу в знак огромной признательности, с удовольствием выпили и перешли на тему, как и кому помогал из них Андрей за долгие годы знакомства.
Зина вышла в детскую комнату. Николай начал подливать гостям еще, но Платон накрыл стакан рукой – пить ему больше не хотелось, и не потому что желудок не принимал, его-то желудок краев не имел, а, пропала сердечная жажда. Андрей тоже помотал головой.
– Завтра чертовски рано вставать, в Москве надо быть к полудню, не позже.
– Бизнес есть бизнес, – не стал настаивать Николай, налил другим, себе не стал – тоже, видно, жажда пропала.
Платон неожиданно для самого себя встал. Все, даже женщины, замолчали и воззрились на него. Платон улыбнулся всем сразу – хотелось так же широко, как умел его зять.
– Дорогие друзья…и родственники…
– Подождите чуток, сейчас Зина выйдет, – заметила одна из дам – крестная мать, но Коля махнул рукой, продолжай, мол.
– Ну… вот… давно я не был среди людей… я имею в виду – среди таких душевных и красивых, не только в смысле костюма. – Платон показал на своего благодетеля Андрея. – Но и изнутри красивых людей. Я сам сегодня – я чувствую – красивейший из людей, потому что очень счастлив, потому что наконец увидел свою родную дочь. Потому что познакомился с ейным мужем и моим замечательным зятем – Николаем. Но главное – на свет появилось существо из моего рода, моей, так сказать, крови и сегодня мы с ним тоже познакомились, ядрена-матрена. И это все оттого мне, что я недавно понял, в поезде… подсказал один священник, но это не важно сейчас, что я всегда готов был таких людей встретить, всегда ждал, даже когда казалось, что и ждать уже от жизни нечего. То есть я хочу сказать, не сопротивляйтесь добру, и оно неминуемо будет. В людях много зла, конечно, жизнь такая злая, да и всегда, наверное, была. Ведь у нас все время борьба – раньше классовая, а теперь кассовая, и неизвестно, какая злее. Но и в злом человеке много чего светлого можно рассмотреть, если о его зло сердцем не спотыкаться. Вот дети, к примеру, почему они такие… такие любимые? И вообще почему ребенка обидеть – грех? Не потому только, что слабых обижать нельзя, это и так понятно. А еще и потому, что в ребенке от природы доброты больше, он только потом от взрослых начинает зло узнавать, и кого это зло забирает без остатка, а кто и сопротивляется, но так и так – не до добра становится. Когда плотину эдакую или крепостной вал от зла делаешь, то и от добра, выходит – тоже. Один раз обиду ребенку причинишь, он и в добром поступке подвох искать будет, потому что эту реку не разделишь, в ней к тебе все плывет – и плохое, и хорошее. И рыба, и мусор, ядрена-матрена. Вот если все шлюзы открыть да мусор мимо себя пропускать, а рыбу вылавливать – такое только глубокий сердцем человек может. И все обиды на людей, вся озлобленность от этого – мусор-то в сердце накапливается, а рыба уплывает на глубину – мелко ей в таком сердце. А чтобы топляк всякий не накапливать, надобно сердце, душу свою чистить, мимо-то само не проплывет, да… А чистить нужно добрыми делами и от других добро помнить, не противиться ему. Тогда и рыба из сердца не уплывет, а имя-то этой рыбе – любовь! Так вот, за любовь, дорогие мои и красивые люди!
Платон смущенно огляделся – на него в тишине смотрели сосредоточенные лица, на пороге детской комнаты молча стояла Зинаида и тоже смотрела на него. Платон совсем было растерялся. Вдруг встал Николай и обнял его так крепко, что тот чуть не выронил своего стакана с оставшимся виски. Женщины тихо захлопали, а Зина отвернулась к косяку – ее плечи вздрагивали. Все встали, чокаясь, но Платон поставил стакан, подошел к дочери, тихонько развернул к себе и по-отечески обнял. И тут услышал он то самое милое хлюпанье в плечо, будто прорвало какую-то запруду в Зине и уносило со слезами тот самый мусор из сердца дочери его, накопившийся за эти годы. И Платон еле сдержался, чтобы не пустить морось из глаз – он уже не был одинок. А в России мужчины плачут только от счастья.
Андрей открыл переднюю дверцу своего «Ланд Круйзера» – такого же белоснежного, как и он сам. Платон с непривычки не сразу забрался в высокий джип, зацепившись шляпой – уже привык к ней – за верх крыши.
– Это не машина, это танк какой-то, – прокряхтел Платон, усаживаясь на сиденье, но продолжая смотреть на окружающий мир с высоты человеческого роста.
Они, как и договаривались, ушли с крестин чуть раньше остальных гостей, которые, впрочем, тоже допоздна в доме с маленьким ребенком засиживаться не собирались. Платон, так часто побиваемый словами в семье, когда она еще была пусть треснувшей, не совсем целой, но еще не разбитой не нужным кувшином, сегодня настолько почувствовал себя полноценным отцом и дедом, что не испытывал привязавшейся собачьей привычки стесняться доброго к себе отношения. С Андреем, так кстати выручившим его сегодня, Платон не был ни искателен, ни развязен – словно и взаправду на земле наступили времена, когда сделать хорошее для любого человека, пусть и не близкого, а так… знакомого, было обычным делом. Платон с удовольствием отплатил бы добром за добро немедленно, сию минуту, да вот Андрей, конечно, в его помощи не нуждался. Оставалась только скупая мужская благодарность, и он решил приберечь ее до гостиницы. Ночная Рязань была не очень яркой, но ей это даже шло – в навязчивых рекламных огнях больших городов, даже в Архангельске, есть что-то фальшивое, как лишняя косметика на лице молодящейся матроны. Они проехали через вокзальную площадь – у припаркованных машин стояли парни и девушки в коротких юбках с баночным пивом и болтали о чем-то, не вынимая сигарет из ртов.
– Гуляет молодежь, – нарушил молчание Платон, – только гитар не хватает. Вот мы по молодости на сельские танцы ходили, так обязательно кто-то с гитарой был, тогда гармонь уже из моды вышла. Познакомишься с девчонками на этих самых танцах, и потом где-нибудь у костерка песни пелись, такие душевные… и девчонки пели. Все песни знали, парни к ним присматривались, ну и они к нам, конечно. Гитарист, ядрена-матрена, завсегда первым парнем на деревне был… вообще кто слушал больше, чем пел, тот потом больше завидовал, чем целовался.
Андрей хмыкнул.
– Изменились времена, Сергей Васильевич. Теперь не присматриваются, а прицениваются.
Платон хотел переспросить, в каком смысле, но через секунду понял и развел руками. Андрей притормозил через пару кварталов у небольшого уютного здания с громкой вывеской «Монарх».
– Ну вот, приехали. Как я говорил, подойдете к Елене Григорьевне, она вас вселит без всякой лишней бюрократии. Если что – она знает, как со мной связаться. Океюшки?
– Да вы просто волшебник, Андрей Ефимыч… – Платон уже собирался вложить свою благодарность и в рукопожатие, но вдруг сам собой вырвался вопрос. – Тут такое дело… Андрей. Вы, случайно, не знаете, где Надя… ну моя бывшая супруга, мать Зины, она и не пришла сегодня, потому что поминки по бывшему мужу… второму… вот где бы она могла их проводить, а?
Андрей внимательно посмотрел на Платона, и тот только сейчас заметил, что к доброй, мягкой улыбке и ровному, спокойному голосу уверенного в своих силах человека прилагались ранние морщинки вокруг бирюзовых глаз – спутники переживаний. А может, и страданий, и виски, уже изрядно присыпанные ранним снежком. Платону стало ясно, что Андрей не просто делал добро, он защищался добром от всех несправедливостей своей жизни, и судя по лицу – и того, и другого в его жизни было много. Андрей, не говоря ни слова, нажал на газ и повел машину куда-то по ночному городу.
10
Ветерану не спалось – он сидел один за столом в своей комнате и смотрел в темное пустое окно. Он уже устал праздновать, пил-то Иван Селиванович Грищенко по маленькой, поэтому чувствовал усталость не физическую, но душевную – счастье тоже бывает утомительным, особенно, если сваливается на тебя внезапно. Начинали вчера, продолжили сегодня, хватит уж. Только жаль вот, Платон уехал – с ним бы он еще посидел бы. Набрались, конечно, прилично, но дело было еще и в том, что Иван Селиванович никак не мог да и не хотел ограничивать мужиков, даже когда у него начинали слипаться глаза. Отпускать людей, счастливых твоим счастьем, все равно что отклеивать от себя частицу этого самого счастья, а другого слова для своих ощущений Ветеран и не искал. Именно счастье – потому что к нему вернулись не награды боевые, а сама боевая юность. Вернулся сам смысл его непростой и, чего уж говорить, героической жизни, отлитый в этих медалях и орденах. После Победы Иван Селиванович, молодой еще старший лейтенант, красивый и статный, жил, не особенно замечая какие-то там мелкие трудности. Не отапливаемые бытовки на стройках коммунизма, пьяная поножовщина на золотых приисках Магадана, армии прожорливого гнуса в таежных экспедициях. Много чего делал и много чего повидал Иван Селиванович в мирной послевоенной жизни и никогда не задумывался о том, что главное в своей судьбе он уже осуществил, предназначение свое выполнил, и все мирные годы – только ветки от основного ствола – Победы. А сейчас это стало щемяще ясно – и не то, чтобы зря жил после войны, а не для того, не для главного уже, не во имя. И жил уже один, воевал со всем народом, а жил после один. Смело жил, красиво, набело, но… цели уже никакой – не то что великой, крупной – и то не было. Несло как-то по течению, туда прибивало, сюда… Первая жена… потом вторая… ни одна не оказалась надежной пристанью, дальше понесло. Были б дети, тогда понятно, в них главный смысл и есть не только у человеков, у всей природы, да, видно, Бог подсобил на войне не сгинуть и решил, довольно – его жизнь сохранил, а уж на продолжение милости не хватило.
Иван Селиванович потеребил свою широкую бороду и снова, в который раз уже взял в руки медаль «За Отвагу». Эх, сколько лет минуло, а как вчера это было… Не кошмар даже, ад. Немыслимый труд и немыслимый риск. Зато все ясно было – здесь свои, там враг. Убил одного врага – свою жизнь оправдал, убил больше – смерть товарища оправдал. В мирной жизни таких оправданий уже не было. А теперь, глядя в телевизор, и вовсе непонятно – ради этих раззолоченных эстрадных полудевок-полупарней он воевал? Ради Зурабова, от которого вся пожилая Россия по аптекам стонет? Ради генеральских жен, хвастающих на всю страну бриллиантовыми ошейниками своих холеных собачонок? Или ради ограбивших страну олигархов, разбежавшихся по заграницам? Если б знали, кто будет править бал в России, подставляли бы они свою грудь под пули, бились бы намертво в штыковых атаках, горели бы заживо в танках? Иван Селиванович не знал ответа, но точно знал, что вопрос этот существует, он незримо и неслышно, но неизменно читался в глазах однополчан, на встречи с которыми, впрочем, Иван Селиванович последние годы – больше по финансовым причинам – не выбирался. Горький вопрос. А на горькие вопросы сладких ответов не бывает. И так выходило, что и самый главный смысл его, Ивана Селивановича Грищенко, старшего лейтенанта запаса, участника почти всех крупных сражений Отечественной, смысл его жизни сам ставился под вопрос. Но все-таки они свое дело сделали – как бы нынешние справились? Иван Селиванович еще раз погладил бороду и полез за своим «походным» кипятильником – в холодильнике оставалась какая-то колбаса, не мешало бы испить горячего чайку с бутербродом на ночь, а то в желудке опять начал проворачиваться какой-то буравчик. Вставив провода в розетку, он подошел к «Юрюзани», взялся за ручку и вдруг, охнув, опустился на пол. Живот заполнила резкая боль, словно в него попал осколок. Иван Селиванович закрыл живот руками, подогнул ноги, скрипя зубами, попытался встать, опираясь плечом на холодильник, но новый осколок согнул его пополам. Последнее, что успел подумать Иван Селиванович: не надо бы награды оставлять не прибранными на столе. Потом из ночного окна ворвалась темнота и заполнила собой весь мир.
Колька прошлую ночь и весь день провел на чердаке какого-то заброшенного и почти обвалившегося дома – попасть под горячую руку матери ему не улыбалось. Ухо, накрученное Шелапутом, еще горело, горела и обида. Колька твердо решил отомстить этому вонючему урке. Перед глазами вставали картины страшной, но справедливой расплаты: вот он держит Шелапута под прицелом пистолета, а еще лучше, «Калаша» и заставлет его отрезать себе ухо, нет, лучше оба уха или – пуля между ними. Правда, насчет оружия было не очень понятно, где его раздобыть, но мечтать это пока не мешало. Потом Колька представил себе, как он подбирается к Шелапуту во сне и пронзает его какой-нибудь заточкой, но, подумав, этот план отверг – все-таки убивать человека, пусть даже худшего из них, Шелапута, было чересчур да и опасно. Урка мог не вовремя проснуться, или потом менты вынюхают и повяжут. Из-за накрученного уха садиться в колонию для малолетних Кольке не хотелось. Можно было бы его отравить – подсунуть паленую водку, к примеру, или промышленный спирт, Колька знал, у кого его можно было достать. Но как подсунуть, чтобы отвести от себя подозрения и вообще чтобы Шелапут это выпил, он пока не знал. Очень захотелось есть – со вчерашнего дня во рту не было даже маковой росинки. Зачем так говорят, разве можно поедать маковые росинки, и почему именно маковые, спрашивал себя Колька, изо всех сил отгоняя от себя менее кровожадные мысли – что у мамки сегодня на ужин и что ему вообще будет, если случится невозможное и он все-таки вернется домой. Колька начал представлять себе, как всплеснет руками мать, заливаясь слезами вины за то, что хотела его наказать. Как все жильцы, несомненно, осуждающие его мамашу за такую суровость, будут его встречать, словно путешественника из дальних стран. Нет, лучше, как солдата, вернувшегося с войны, предлагать наперебой отужинать у них, а Колька, великодушно простив мать, все-таки отведает ее стряпни. Он будет есть горячий суп, а раскаявшаяся мамаша будет сидеть рядом, подперев щеку огромной рукой, не раз поднимавшейся на него, ни в чем не повинного Кольку, и умильно глядеть, как он небрежно, даже нехотя ворочает ложкой. И даже Шелапут зайдет к ним, сядет, посмотрит на шамающего Кольку – он даже глаз не поднимет, кто такой Шелапут – мелкий урка и вообще пустое место – протянет ему руку и скажет, извини, Колян, уж так вышло, виноват я перед тобой, с кем не бывает. Не держи зла, а я тебе со стройки принесу… ну, что там у него есть… ну, велик, к примеру. Но не сразу Колька простит Шелапута, даже за велик. Сначала покатается, опробует, вдруг цепь слетает или колесо восьмерит. Вот если все будет классно, вот тогда слезет Колька с велосипеда не спеша, подойдет к Шелапуту и скажет, ладно, мол, прощаю, но чтобы больше рук не распускать – с него и мамаши довольно. А то, ишь, чего придумал – к Ветерану в услужение, да еще и задарма, поступать. Он что ему, халдей, что ли, какой? А то, что на медальки навел, так каждый сейчас зарабатывает, как может. Лучше прятать надо было, вот и весь сказ. Подумаешь, воевал – тогда все воевали. Живой остался, ну и пусть радуется. Хотя старикан-то он, конечно, неплохой, но как Витька Две Бутылки – тот самый, который этот налет и организовал – говорит, хороший мент – мертвый мент, а хороший фраер – общипанный фраер. Интересно, неужели братва в ментовке раскололась – откуда иначе Шелапут знает, что это он навел? Витька да и другие пацаны все время про блатное братство говорили – это только фраера друг друга сдают, а конкретная братва – друг за друга горой, а если что – всегда подогреют, для этого и на общак скидывают. И с его, Колькиной доли забрали – три тысячи рублей, ну да не жалко, если на общее. Жалко, что его долю ему не успели отдать, замели мусора, а то бы он с хавкой еще две недели бы кантовался, а может и вообще бы отсюда подался бы. В Москву куда-нибудь, в товарняке или даже на юга. Хорек раз был в Геленжике, рассказывал – клево там, тепло, сытно, пощипать лохов в сезон самое милое дело. И все-таки – откуда ментам известно, что он навел? Да нет, не может такого быть, чтобы Витьку и Хорька раскололи – реальные пацаны, просто Шелапут, как бывший зэк, сам фишку просек, мамке рассказал, а про ментов так ляпнул, стращал. Или все-таки сдали, суки?
Наступала вторая ночь, как Колька изображал Тома Сойера. Где-то неподалеку проехала машина с сиреной и отвлекла его от подозрений в адрес старших дружков. Подросток поежился, к голоду прибавился холод – хоть и лето, а зябило будь здоров. А что, подумал Колька, может, и вправду домой возвратиться – не убьет же его родная мать, поколотит чуток, да и накормит. Что он – беспризорник, по чердакам жить? Колька вздохнул, потрогал ухо и, опираясь на стены в темноте, спустился к выходу. К дому он уже не шел, а бежал – если мать спит, то кто ж его кормить будет? Завернув за последний угол на Юбилейную, Колька встал как вкопанный – их дом горел, горел весь, как факел, со всех сторон. Высокие огненные языки лизали небо, искры от обрушающихся балок летели во все стороны метров на сто. Рядом стояли две пожарные машины, но струи не было – пожарники, ругаясь, искали, куда подключить брандспойт.
– Мамка! Мамка! – заорал Колька и бросился к огню.
Его еле успел поймать за шиворот дюжий пожарник. Колька забился в мощных лапах, но через минуту затих, отвернулся и, сев на землю, заплакал. Рядом сел его спаситель.
– Много народу там было, пацан?
– Мамка… мамочка… Анютка. – Колька ничего не слышал, только размазывал слезы по лицу.
Пожарник взял его за плечи и прижал к себе, гладя по голове.
– Поплачь, поплачь, пацан… может и полегчает. Сирота ты теперь, я так понимаю. Ну ничего… глядишь, и образуется. Плачь, не стесняйся, пацан.
К ним подошел другой пожарник.
– Бесполезно, Иваныч, своей воды нет, а ближайший гидрант – черт знает где. Да и тушить нечего – пока добирались, крыша рухнула, все. Если б здесь наша часть была, успели бы, так расформировали, сам знаешь. В общем, хоть четыре ствола наводи, хоть четырнадцать – все одно писец. Сам видишь, дом-то деревянный, уж сто лет стоит, под снос шел – барак, он и есть барак. Никаких шансов. Будем ждать – к рассвету догорит, даже раньше. Да и спасать некого – кто внутри был, там и остался.
11
Платон не знал, что и думать: судьба – не судьба, но его Надя, Надюша приняла его ласково. Она была такой же, как приснилась – похудевшей, помолодевшей, но уже не бойкой, не громкой, как раньше, с остановившимися глазами. Горе прибило непоседливый характер, как дождь прибивает пыль на проселочной дороге. Гости уже почти все разошлись, кто-то из женщин закрывал крышкой кастрюлю с недоеденной кутьей, кто-то завинчивал пробки на початых бутылках с водкой и складывал их в сетку. Один сильно пьяный мужик громко спорил с официантом. Надя как будто и не удивилась, когда Платон появился на пороге кафе.
– Здравствуй, Соломатин. Здравствуй, Сереженька. – Надя показала на место рядом с собой и подвинула фужер с недопитой кем-то водкой.
Платон, не сводя глаз со своей бывшей жены, разом выпил и поставил фужер на стол.
– Как ты, Надюш? Я хотел сказать – соболезную и…
– Спасибо, Сереженька… и не надо об этом больше. Бог дал – Бог взял. Рак поджелудочной у него был, сгорел за три месяца, как свечка. Ты-то как? Внука видел уже?
Платон кивнул.
– Это ты молодец, что приехал. Я думала – не приедешь.
– Почему же не приехать? Внук родной… дочь, тебя повидать… Как же не приехать, Надюш?
– Налей мне, Сережа, немного только. Не берет водка, зачем зря изводить.
– Ага… – Платон дотянулся до не убранной еще бутылки и плеснул.
– Пусть земля ему пухом будет… Прохору моему… его Прохор звали.
– Прохор Николаевич?
– Да… ты откуда знаешь? Ах да, Зинка, верно, рассказала. Не любила она его, что уж греха таить. За тебя не любила, на тебя-то сердилась всю жизнь, но любила. Да и было на что сердиться, а вот на Прохора – не за что, по большому счету, но к нему так и не притерпелась. Ни разу папой не назвала, даже дядей Прохором – все по имени-отчеству да на «вы». Очень Проша огорчался через это, но терпел… терпел, а потом помер…
Платон осторожно обнял жену – как не бывшую, а самую настоящую – за плечи, Надя, склонила голову на его плечо и тихонько заплакала. Так они сидели несколько минут, Платон боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть то щемящее, нежное, что вдруг вернулось из прошлого и заполнило его сердце. Надя отняла голову и встряхнула волосами.
– Все! Все! Выплакалась уже. Налей еще немного, Сережа.
Платон плеснул в фужеры.
– Ты где остановился?
– Да в гостинице – помог Андрей Ефимович, очень выручил.
– А… Андрюша всем помогает, святой человек, хоть и еврей. Только знаешь что – не поедешь ты в гостиницу, Сережа.
– Как это? – не веря своей догадке, переспросил Платон.
– Ты, Сереж, ничего не понял. Это я Зинку попросила тебя на крестины вызвать, да и крестины специально для этого устроили, чтобы ты приехал. Даже хорошо, что с сороковинами совпало, чтобы ты сам мог решить – прийти ко мне или нет. Вот ты и пришел. И я ждала, надеялась, что придешь, потому что… неправильно мы расстались, Сережа. И мне бы перетерпеть тогда, хоть бы ради Зинки, и тебе бы поспокойнее с семьей своей вести. И ведь любила я тебя, тебя одного, Сережа, просто ты этого не замечал никогда. Я ведь как-то не по-бабски любила, по-мужицки – делами больше, не словами разными, не лаской, такой уж у меня характер. Для тебя старалась, а ты как-то… ну да ладно, чего прошлое поминать…
Платон сидел, не шелохнувшись, и смотрел на Надю во все глаза. Его жизнь, вернее, жизнь Сергея Васильевича Соломатина, похоже, делала снова крутой поворот, но вот Платон в него не вписывался. Получалось – этот Прохор заменил его, а теперь он заменяет покойника, а его эти годы держали, словно в резерве. В Платоне заговорила былая мужская гордость.
– Да разве теперь склеишь, Надюш? Я, как только один остался, да еще кинули меня с квартирой-то, только потом понял, как мне без тебя плохо. Как говорится, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Я все это время без тебя, Надь, плакал. Плакал, только молча, в себя, чтобы слез моих никто не видел. А теперь вот тебя увидал и не знаю – радоваться или еще больше заплакать. Я же один все годы жил, ни женщины, ни семьи, ничего… понимаешь, совсем ничего! И друзей никаких, одни соседи, ни одного родного человека. От такой пустыни и сердце пересохло. Не знаю, Надюш…
Надя вскинула голову.
– Что ж, не пойдешь со мной? Одну бросишь?
– Дай мне времени чуток, Надь, ладно? Вона сколько времени у меня было, а, оказывается, еще надо. Ты не обижайся, не готов я так сразу-то… ядрена-матрена.
– А ты изменился… – Надя погладила Платона по голове. – Рассудительный стал. Давно, ох как давно я твоей «ядреной-матрены» не слышала, ну да ладно. Ты, конечно, обиду свою забыть не можешь, так я тебя не неволю, думай, сколько надо. Я про себя верно решила – либо одна теперь до конца жизни, либо с тобой. Другого мужика искать не буду, уж это точно. Так что в этом смысле – не ревнуй, да и к покойному тоже ревновать уже поздно. Ну что, помянем Прохора еще раз на послед, да пойду я. Ты меня не провожай, Сережа, а если надумаешь, мой телефон и адрес у Зинки имеются. Ну, налей еще. Странно как – расставались грустно и встретились на поминках.
Платон сидел и пил один, пока официант после включения-выключения света, мельтешения перед глазами и прочих намеков уже прямым текстом не потребовал освободить зал. Платон пододвинул к официанту пустой Надин фужер, но и это не помогло, хотя тон официант сбавил. Разузнав у него, как дойти до гостиницы, Платон хряпнул на посошок, взял незакупоренную бутылку, нахлобучил шляпу на брови и вышел на улицу.
Проходя через привокзальную площадь, он увидел тех же парней и девчонок, мимо которых они проезжали с Андреем. Платон зачем-то остановился. От стайки молодежи отделилась одна девица в немыслимо короткой юбке, чулках в крупную сетку и с сигаретой в пухлых, ярко накрашенных губах. Через прозрачную блузку коричневели неприкрытые соски.
– Красивая шляпа, папаша, чего ж без дамы? – выплюнув сигарету, развязно спросила девица, – Пьешь из горла, не закусываешь? Повеселиться не желаешь?
– Не до веселья мне чего-то.
– Чудной какой, – фыркнула «бабочка». – Я спрашиваю, трахаться хочешь? Можно с двумя – вон подруга стоит. Тебе со скидкой, как ковбойскому пенсионеру.
Платон устало посмотрел на профессионалку.
– Тебе бы, дочка, хорошего парня найти, семью завести, детей родить, а ты… красоту продаешь. Да и прикрылась бы, сраму не боишься, так простуды поостерегись.
Проститутка залилась хохотом, к ним подошли двое парней из компании.
– Не, Вить, ты понял, этот шериф меня морали учить вздумал.
Витя тоже засмеялся, потом быстро и коротко ударил. Платон повалился на асфальт. Как долго его били, он, очнувшись, не помнил, помнил только ботинки с металлическими подковками на носках – кто-то из парней все время целил ногами по лицу. Он лежал в кустах, за зданием вокзала, куда его оттащили подальше от ментовского взгляда. Прямо над ним желтым котом выгибал спину месяц и щурились звезды. Боль почти не грызла, только во рту было солоно. Рядом валялась техасская шляпа – помятая, в грязи и крови. Платон попытался приподняться на руках, голова резко закружилась, его замутило, и он упал снова, сблевав прямо под себя.
«Надо было с Надей идти, она ко мне с добром, а я… запротивился. А рубашка-то зятя… ядрена-матрена, и Артисту… шляпу… отдавать неловко-то как…» – успел подумать Платон, потом звезды слились в одну – очень яркую, ярче месяца и даже ярче солнца, и вдруг разом потухли.
Пожар с рассветом съел сам себя. Приехавший эксперт копался в обугленных остатках того, что еще вчера было Колькиным домом и домом тех, чьи черные тела клали на брезент для опознания. Колька притих в сторонке, обняв колени, и смотрел пустыми глазами на будничные действия милиции, медиков и пожарных. К нему подошел милиционер.
– Ты здесь… жил, мальчик?
Колька ничего не ответил.
– Ты меня слышишь? Может, врача?
Милиционер присел на корточки и протянул руку.
– Я – капитан Головань. Юрий Александрович. А тебя как?
Колька не шелохнулся. Капитан убрал ладонь и погладил Кольку по голове.
– Понимаю, пацан… что же теперь сделаешь… ничего не сделаешь, брат. Судьба, брат. Своих хоть сможешь опознать? Сил хватит?
– Не трогай мальчишку, начальник. Я смогу… кого узнаю.
Колька и милиционер повернули головы – рядом с ними стоял жилистый мужик с коротким седым бобриком.
– Шелапут? – слабо удивился Колька, милиционер поднялся во весь рост.
– Так. Вы, гражданин, здесь проживали? Что здесь случилось? Документы у вас имеются?
– Имеются, начальник, не волнуйся. Только вот пацана отсюда уведу. Я на стройке сторожу – отсюда неподалеку. Только вот смену кончил, домой шел, а тут… Пусть у меня в вагончике посидит покудова – не смотреть же ему.
– Капитан, ну, в общем, так, я потом письменно в рапорте изложу, но здесь и ежу ясно. – К ним подошел эксперт. – Короткое замыкание, голые провода в розетке торчат. Вот в этом месте, глянь.
Шелапут подошел к ним, капитан неодобрительно посмотрел на него, но ничего не сказал.
– Вот… – Эксперт присел. – Обуглено как бы изнутри и, видишь, провода… А ну тем более вон… – Эксперт поднял с пепелища кусок провода с бритвенным лезвием. – Кто-то воду кипятил, да не усмотрел, заснул, наверное. Кто с сигаретой засыпает, кто с кипятильником самопальным, ничему народ не учится. Так что я работу закончил, вечером рапорт напишу. Все, бывай.
Шелапут смотрел на то место, где копался эксперт, потом нагнулся, поднял что-то, отряхнул от золы. На заскорузлой ладони под холодным архангельским солнцем, хоть и оплавившаяся, сверкала медаль. Еще различались контуры самолетов, танка и букв «За О…». Шелапут сузил глаза, положил медаль в карман, подошел к Кольке и поднял его с земли.
Капитан Головань закурил, посмотрел им вслед и подумал, что теперь такое резонансное дело по разбою с этим ветераном, сгоревшим, судя по всему, здесь вместе со всеми, рассыплется, как этот сгоревший барак. Теперь не ему грабителей, а его самого опознавать нужно. А жаль, за такое громкое раскрытие полковник Демиденко обещал ему майорскую звезду.
2009Зáваль (Повесть)
1
Дед Сидор был молчуном. Как его помнила верная жена его, Степанида, пары лишних слов не скажет. Даже когда женились, до войны еще, на свадьбе и пил, и плясал, но не брехал. Сказал только на ушко молодой: «Пошли, что ли?» – да и повел от гостей. Только эти слова со свадьбы и помнила Степанида. Мож, и еще были, но вряд ли. Да и потом всю жизнь – если недоволен, скажет: «Не дело». И все. А если что по его душе – хмыкал обычно да улыбался. В общем, не такой был дед Сидор, чтобы без дела слова ронять. С войны когда вернулся, вся Ивановка охала, плакала и радовалась одновременно, Сидор же только кивал да хмыкал. Даже Степаниде одно только и сказал: «Ну, здравствуй, что ли?» Вернулся Сидор Поликарпович Липунов вторым. Первым пришел Колян-Жиган. Жиганом не зря звался – на фронт попал уже из лагеря, лихой был парень. И дрался много, ножом не гнушался, хотя загремел не за это. Где воевал, в штрафниках или нет, не говорил Колька, а только медалей не меньше, чем у Сидора, грудь освещало. Но разница была. Колька хоть и отчаянный с детства на всю голову, а целым вернулся. Сидор же без правой руки. Оттяпали в медсанбате под Прагой, когда война уже официально кончилась.
– Не журись, земеля, – говаривал, бывало, Колян, а для кого уже и Николай Дмитриевич, – следующий вовсе безруким притопает.
Сидор хмыкал в рыжеватые усы и ловко мыстарил самокрутку одной левой. Несмотря на Колькины прогнозы, вернулись еще семь человек, и почти все целые. Семь из двадцати двух. Заштопанные в госпиталях, конечно, но без культей. И только самому тихому пареньку из их деревни, сыну агронома, рябому Сеньке, повезло меньше всех – уходил целым, вернулся «самоваром» – без рук и ног. На руках, правда, только кисти обкорнали. И тут Колян свое вставил:
– Руки-ноги – ладно. Приспособиться можно. Подадут – и ртом возьмешь. А без глаз уже и клешни не нужны – все одно не видишь, что берешь. Глаза – они конечностей важнее. Так что не журись, Сенька, не пропадешь со зрением-то.
Но Сенька пропал. Запил в черную. Пил и скрипел зубами, проклинал всех: фрицев за то, что не добили, военврачей – за то, что спасли, живых, что целые, мертвых, что отмучились, жену Анфису – за то, что жалела. Старенький папаша-агроном долго не выдержал, преставился в тот же год. Анфиса, хохлушка из полтавских переселенцев, терпела, как могла, забеременела даже от Сеньки, но и это не помогло – тот еще пуще весь белый свет возненавидел. Кричал, что калекам дети не положены, что такой отец – только позор и еще неясно, может, баба от другого в подоле принесла, а им прикрывается, как им все на войне прикрывались. Тут и Анфиса не выдержала – ушла из дома к матери. Тогда Сенька и вовсе покатился. Трезвым его в деревне уже никто не видел, ни у кого духу не хватало отказать в зелье полному инвалиду. Остановит тележку у избы, так баба завздыхает, морось из глаз пустит да вынесет стакан водки или первача. Сенька прижимал обрубками стакан и выпивал одним махом, в глоток. Степанида тоже жалела, выносила, когда мужа не было. Но как-то раз Сидор случился дома. Он поглядел в окно на Сеньку, сказал свое «Не дело!» и не дал. Сенька тогда его проклял, кричал, что руки ему только бы на минуту обратно, чтобы стекла в Сидоровой избе повыбивать, а самому Сидору – зубы. Сидор вышел за калитку, долго смотрел на пьяного инвалида в упор, прямо в мутные зрачки. Смотрел тяжело и молча. Сенька уронил голову и покатил на своей тележке прочь, отталкиваясь культяшками. Не оглянулся ни разу. После этого случая и пропал куда-то рябой Сенька. Бабы судачили, что в город подался милостыню просить, вроде кто-то видел его там на вокзале. Анфиса в городе все вокзалы и пивные обыскала, даже к коменданту прорвалась, но и следа не нашла. Никто ничего не знал или говорить не хотели. Кто-то обмолвился, что в монастырь подался «самовар» Сенька – то ли на Соловки, то ли еще куда. Ну а кто-то добавил, шепотком уже, не своей волей, мол, отправился. Калек с глаз долой из городов убирали куда подальше. И как он до станции добрался, до которой верст пять с гаком было, да на пароме, да по болотам по слани[1], как на поезд сел, никто не представлял. Но в Ивановке его с тех пор не видели. Ну а потом и вспоминать перестали.
Сидор Поликарпович устроился в леспромхоз – маркировал лес. Да так навострился одной рукой на лесины даты ставить, что про него один раз даже в местной газете написали. Сидор, когда почтальонша ему ту газету принесла, только и сказал: «Дело!» Мужики и до войны здесь лес рубили и сплавляли по Кану да еще рыбой промышляли, а тут подфартило – в 4 километрах специальный поселок под леспромхоз построили, Борки. В ЛПХ и свою электростанцию построили, и магазин, и даже клуб, куда кино из Ивановки привозили. И даже библиотеку в Красном уголке открыли – двести с чем-то книжек, домино, шашки и даже шахматы. И хотя в шахматы никто, кроме агронома, играть не умел, в той же газете прописано было, что лесорубы после смены любят фигуры подвигать. А со временем и школу построили. Начальную, до 4-го класса. Но, когда Сидор туда со Степанидой переехали, только магазин стоял, где еще не каждый день махрой разжиться можно было. Еще пекарни не было, да и не у всех печи-то были, хлеб пекли в яме, вырытой прямо в береговом склоне. Так и жили, хоть и впроголодь – хлеба по первости не больше двухсот граммов на рабочего и на одного иждивенца давали. Но собирали в лесу шишку, ягоду всякую – а ее много на болоте росло, клюква, черника, голубика – да меняли на хлеб или продавали. После частых наводнений ловили рыбу – кто ситом, кто ведрами, солили и тоже продавали в город или в ту же Ивановку или соседнюю Николаевку.
Да и наградные деньги Сидору исправно выплачивали, правда, недолго. За три ордена – Отечественной войны и Славы двух степеней – по пятнадцать рублей, да столько же за пять медалей капало. Так и дотянули до сытных времен. Да и работали хорошо – трелевщики давали до 120 процентов выработки. Скоро поставили вторую пилораму – стране лес был нужен до зарезу. А если стране что-то нужно, тогда и о людях вспоминают. Так что мало-мало зажили. У сынка Филоновых, что в том самом сельмаге работали, Анатолия, даже первый в их районе мотоцикл появился. Сразу самым завидным женихом стал тогда Толик Филонов. Правда, слушок нехороший по деревне ходил про этот мотоцикл. Тогда, в пятьдесят четвертом, в их краях потерпел крушение самолет, причем не простой, с важными пассажирами – польской делегацией и нашими генералами. Самолет летел из Китая в Москву, да сбился с курса под Красноярском, где по плохой погоде ему дали посадку вместо Новосибирска. Это потом уже стало известно, когда кругом появились военные да спасатели. Семь месяцев искали, не могли найти. Нашли потом остатки в верховьях левой Маны, под горой Сивуха. Видимо, в тумане самолет за эту гору зацепился. Но, хотя все и было сверхсекретно, кто-то из промысловиков что-то видел или слышал. Толик Филонов тогда в тайгу зачастил – говорил, на охоту, хотя раньше таким уж заядлым охотником не был. И почти никакой добычи с охоты этой не приносил.
Потом, когда у него мотоцикл появился, охотиться вдруг перестал, говорил, надоело. Что ему «охота», кроме мотоцикла принесла, никто не знал, да и про мотоцикл, может, совпадение было. Однако Николай Дмитриевич, в прошлом Колька-Жиган, выразился при всех в том смысле, что от мертвых живым добра не будет. А не при всех – в бане с Сидором, – что, если бы застал Толика в тайге за таким «промыслом», прирезал бы без всяких разговоров и повесил бы табличку на него «Смерть мародерам». Потому, сказал, что мародер хуже лагерной крысы и даже хуже фашиста – такая заваль даже пули не стоит.
Еще одна была закавыка – много ссыльных в леспромхозы по всей округе согнали. Лихой люд в эти места еще при Александре Первом – Победителе ссылать начали. И солдат провинных, и матросов, и беглых, и бродяг со всей империи скоро столько в старожильческих деревнях скопилось, что, когда уж совсем честному народу с ними невмоготу стало, решил енисейский губернатор казенные поселения ставить. Да и надзор это облегчало. Потом туда, под надзор властей, ссылали народников, народовольцев и поляков после восстания[2]. Позже – революционеров всех мастей. Приличных людей в этот край, правда, тоже переселяли – белорусов, украинцев, чувашей. Ну, и по столыпинской реформе много крестьянских дворов сюда вышло. Но опальный дух в этих местах крепкий был. И погромы случались – татар конокрадов били – и даже мятежи. О самом памятном – Голопуповском 20-го года – старожилы до сих пор говорили, понижая голос. Многие из них сами тогда за винтовку взялись. Из-за диких продразверсток, выметавших из Канской волости все подчистую. И зря Советская власть брехала, что недобитки-колчаковцы да кулаки с ней воевали. А Колька-Жиган свой отдельный мятеж сделал – в четырнадцать лет зарубил топором кого-то из активистов, когда у них за недоимки корову забирали. Это уже лет за семь до войны. По малолетству не расстреляли, но по совершеннолетию из лагеря кровью искупать отправили. Поэтому Колян-Жиган у всех ссыльных в уважении был, к ивановским не лазили и в Борках не баловали особо.
Года через два, как Сидор пришел с войны, случилось и счастье – Степанида понесла. Бог дал им одного ребенка, но здорового, да еще и парня. Нарекли Алексеем, Лешей. Уж как Сидор в сыне души не чаял, а особо разговорчивей не стал. Бывало, поднесет младенчика к усам, пощекочет, хмыкнет или пробурчит «Молодца!», и все. Зато Степанида с лихвой возмещала мужнино молчание. Светящаяся от счастья, заливалась с бабами звонким смехом, как молодка на карогоде. Ее пружинистый голос даже от колодца доносился, хотя их изба стояла почти с краю Борков. Сидор, как услышит женино щебетанье, хмыкнет да ус рыжий довольно поправит. Не все, однако, в деревне на нее улыбались. Вдовы-солдатки, особенно с ребятишками на руках кто остались, сперва Степанидино счастье не жаловали. И мужик почти целый вернулся, и ребеночка выносила – при кормильце опять же. Кто ж свою беду чужим счастьем утешает? Но Степанида настолько этого не замечала, настолько ее ничего не кололо, столько она из своего переполненного сердца на других материнской любви вылила, что оттаяли солдатки. И с младенчиком помогали – купали, пеленали, даже сторожили люльку, когда Степанида в город или по ягоду отлучалась. Степанида в долгу не оставалась – то пряником соседских мальчишек угостит с ярмарки, то парным молочком. Буренку по кличке Светка тот же ЛПХ Сидору заместо премии выдал. Лешка рос пацаном смышленым, юрким, даже хватким. Рыжий – в отца, пресек насмешки в свой адрес один раз, но прочно. Взял камень да кинул в обидчика. Тот увернулся, заорал, но в драку не полез – Лешка за другим камнем потянулся.
С тех пор его «рыжим-конопатым» не дразнили. Но и предводительствовать в мальчишеской ватаге Лешка не стал, держался всегда немного в стороне. Молчуном, как отец, не был, но не балагурил, рос себе на уме. В школе учился ровно – в отличники не рвался, но усидчивости для твердых троек хватало. Степанида на сынка не могла нарадоваться, Сидор же Поликарпович, когда смотрел школьный дневник, качал головой и буркал: «Не дело». Хотел, чтобы пацан не только за себя, но и за него, полуграмотного, выучился. Не хотел Сидор Поликарпович сыну «троечной» жизни, думал – выучится, в город подастся, там дальше к наукам придвинется, глядишь, в люди выйдет. А мож, и в большие люди. Но, хоть и бурчал, не наказывал. И вообще к ремню не тянулся, даже когда узнал, что Лешка покуривать втихую начал. Не из равнодушия, конечно. Полагал так: подрастет, своим умом дойдет, что для хорошей жизни вредно, а что полезно. Степанида ставила ему в пример губастого Петьку Лыкова – сына местного лесника Парфена. Петька учился намного лучше, всегда ходил опрятным, почти не дрался, хотя хиляком не был, расквашенным носом родителей не огорчал. Но сельские пацаны Петьку уважали. Кроме Лешки, который презрительно сплевывал сквозь щербатые зубы: «Торгаш ваш Петька».
И это было правдой. Петька почти с малолетства пристал к Толяну Филонову, который из сельмага, с мотоциклом. На побегушках у него был, зато катался с Толяном без очереди в люльке. Да не только катался – относил какие-то свертки ссыльным, скученно жившим по берегу Тугача, что-то выменивал, что-то Толяну приносил да под прилавок прятал. Через это, не иначе, скоро у него образовалось много мальчишеских сокровищ – и ножик перочинный, и перламутровые пуговицы, игрушки разные: «уди-уди», клоун-гимнаст, кувыркающийся на перекладине, глиняная свистулька, трофейные открытки с актрисами и даже карамель. Теперь Петьке без всякого атаманства подчинялась чуть ли не вся ребятня в округе. За конфету мог заставить и Кан вплавь переплыть. Что голодный пацан из тайги за конфету не сделает, чего не совершит? Зайдет такой в холодную еще реку, стоит, переминается, руками себя по спине трет, оглядывается, а Петька смеется да рукой туда-сюда водит, леденец «петушок» показывает. И плыли. Один чуть не утонул даже, но Петька в воду не полез, не поверил, подумал – его на жалость берут. Спас тогда мальчишку Николай Дмитриевич, который Колян-Жиган, прыгнул навстречу с другого берега. В селе быстро узнали, отчего парнишка в стылую воду полез. Лешка тогда к Петьке подошел, врезал коротко под нос. «Петушка» забрал и тому пареньку Васе, который мало-мало не утоп, отдал. Коварный же Петька, вытирая кровь с пухлых губенок, целый спектакль разыграл – дома на материнские расспросы сказал, что рыжий у него силой леденец отнял. Жена лесника Тидя, из татар-камасинцев, пошла разбираться к Липуновым. Сидор с бабой разговаривать не стал, выслал Степаниду. Та долго слушала басурманку, качала головой, теребила натруженные руки о подол. Лесничка долго разорялась сначала, грозилась милицией, но потом, видя, что Степанида сама осуждает, тон поубавила.
– Ну, Степанид, гляди, у тебя сын чисто бандит растет, – бросила на прощание.
Степанида вернулась в хату, крикнула было Лешку, да его из дома и след простыл – прознал, паршивец, что правежом запахло. Бродил целый день по тайге, но к ужину вернулся – оголодал. Сидор, уже наслушавшийся укоров от жены за плохое воспитание сына, молча взял Лешку за ухо, зажал голову между ног да начал «гладить» ремнем по заднице. Выпорол бы за милую душу, до мяса, но Степанида, только что ругавшая мужа за «сына-бандита», завизжала, бросилась, подставила руку под ремень да вызволила Лешку из наказания. Парень молча сглатывал слезы и глядел волчонком на отца из-за материнского подола. Сидор снова подпоясался ремнем и показал сыну левый кулак.
– Дебоширить будешь, испробуешь. Понял, что ли?
Лешка из страха закивал. Хотя на самом деле невдомек ему было, за что пороли. Он же за правду вступился, ни у кого ничего не отнимал. Вернее, не для себя отнял, а для Васьки – что он, зря воды нахлебался? А то, что губастого давно раскулачивать надо, всем ясно. Но промолчал тогда Лешка, понял только, что правда – штука неблагодарная.
Пока Петькина мать разговаривала со Степанидой о Лешке, лесник порол своего. Петька тоже смысла наказания не понял. Он ведь никого не заставлял – Васька сам согласился, дело честное. И «петушка» бы отдал, когда б он доплыл, – всегда рассчитывался, слово держал. А что у него было то, чего у других не было, так ведь не украдено. Толян с ним за «дела» рассчитывался, он с пацанами – за забаву. А то, что Васька чуть не утоп, так силы свои рассчитывать надо. Он, Петька, никогда бы в такую холонь не то чтобы плыть, в воду не зашел бы. Ни за какие леденцы. Не понимал Петька, за что батя так осерчал. Но больше никого Кан переплывать не подбивал. Но и «дела» не бросил – теперь выменивал у пацанов вещи. Кому картуз из города привезли, кому ремень новый, с бляхой купили, кому новые боты справили – все в конце концов оказывалось у Петьки. Пацаны дома врали, что потеряли или попортили. Головомойку им, конечно устраивали, но это все было терпимо. А не попробовать конфет или трофейный перочинный ножик в кармане своих штанов, пусть и без нового ремня, не ощущать – это было нетерпимо. Так и шла Петькина коммерция и дальше, и один Бог знает, чем бы кончилось, да вскорости «взяли» Филоновых – и отца, и сына. Петька хоть и вслушивался во взрослые разговоры да пересуды, толком не понял – то ли за растрату, то ли за спекуляцию. Тогда и новое слово услышал – «конфискация». Но понял точно, что раньше, чем через семь лет, Толян не вернется. А может, и больше – так все взрослые говорили. Многие из них общались со следователем, приехавшим с нарядом аж из самого Ирбейского. Сидор Поликарпович тогда первый раз с того года, как наградные платить перестали, нацепил на пиджак медали, обе «Славы» и орден «Отечественной войны», и тоже пошел. Даже лесника вызвали, хотя он по профессии меньше других в селе обретался. Но, оказалось, к леснику другие вопросы были. Подозревали, что он вместе с Филоновым-младшим проводником на тот злополучный самолет к Сивухе ходил. Без проводника даже местному жителю, если не охотник с детства, в тайгу так далеко уходить небезопасно. Но спрашивать спрашивали, а, видно, Парфен либо не при делах был, либо отвечал правильно – отпустили с миром. Но слова Кольки-Жигана, то есть Николая Дмитриевича, насчет того, что не будет от мертвых добра живым, многие вспомнили. А кто-то прибавил, что Колька на Филонова и навел. Но, памятуя о непростых отношениях Николая Дмитриевича с Советской властью, народ это на веру не принял.
На Петьке эта история никак не сказалась – про него разговора, видать, вообще не было. Хотя в первый момент из страха собрал все свои «сокровища» в мешок и побежал на берег – хотел утопить на всякий случай, чтобы не было и с ним «конфискации». Но потом жадность страх пересилила – закопал заветный мешок там же, на берегу, под сосенкой. А вот эти «семь лет» запали Петьке в душу – он прикинул, сколько ему будет через такой срок. Выходило – двадцать. В аккурат столько, сколько Толяну Филонову сейчас. После этого случая Петька долго к той сосенке не подходил. Но потом все пошло своей колеей. Из района прислали новую продавщицу – тетку Варю, магазин снова открыли, но, конечно, Петьке там не было уже возле кого крутиться. Откопанные «сокровища» больше в дело не шли. Вернее, один раз попытался было Петька по старой привычке на дефицит взять, да не вышло. А случилось вот что – Петька первый раз влюбился. И ведь надо – в Оксану, дочь солдатки Анфисы, переселенки с Полтавщины, младшую сестренку того парня, который когда-то чуть не утоп за его леденец. Как-то подсел рядом в автобусе, что их в Ивановскую школу возил из Борков.
– Ксан, а Ксан?
– Чего тебе? – повернулась от окна чернобровая дивчина, уже наливающаяся соком женской красоты.
– А вот чего. Трофейные карандаши хочешь? Цветные.
Девчонка чуть не подпрыгнула от радости – тогда этого ни у кого не было.
– Покажи! А цвета какие?
– Зеленый, синий и желтый – вот какие.
– Покажи!
Петька усмехнулся и, нагнувшись, что-то прошептал на ухо. Дивчина зарделась рябиной, сузила черные глаза и отвесила такую оплеуху, что на весь автобус было слышно. Школьники притихли и обернулись на них. Петька оторопел, опунцовел, пухлые губы задрожали, но ничего не сказали. Молча отсел на другое место и всю дорогу смотрел в окно. Кто-то из мальчишек хотел его расспросить, что это было, но расспросы закончились на первой же перемене разбитым носом. Через день встретил Оксану под вечер у крыльца.
– Ничего не надо, Ксан. Шутил. Вот – тебе. Просто так, подарок.
Сказал, еле поднимая глаза от земли, сунул девушке в руку карандаши и пошел быстро прочь. Теперь усмехнулась Оксана – безошибочным женским инстинктом поняла, что парень теперь в ее полной власти. И вправду с того вечера не узнать было «подкулачника» Петьку. И портфель за Оксаной носил, и за грудки брал того, кто с намерением в ее сторону смотрел, провожал с гуляний до калитки. Подарки дарил – все, что оставалось в заветном мешке, все Оксанке перешло да брату – задабривал Петька паренька за тот случай с «петушком».
Так и проходил за ней хвостиком всю школу, пока в последнем классе Оксана сама не влюбилась. И в кого – в рыжего веселого обалдуя Лешку Липунова. Сохла прямо по парню, даже матери призналась. Анфиса поначалу не очень одобряла, чуяла – опасность от рыжего какая-то исходит. Не умеет о себе думать, а значит, ненадежный, пропадет. Но потом вспомнила, как его в купели купала да сторожила во время Степанидиных отлучек, и потеплела. Да и Сидор со Степанидой к Оксане, как к дочери родной, душой наклонились. Несмотря на отчаянные Петькины ухаживания, больше Оксана в его сторону не смотрела, никаких подарков не принимала. Снова рыжий Лешка встал у него на пути, но ничего Петька сделать не мог. Драться с ним не рисковал, да дракой уже ничего и поправить нельзя было. По всему, шло дело к свадьбе Алексея и Оксаны, но до армии не успели. А вернее сказать – до флота. Пацаны по всему району Лешке завидовали – моряк! А Петька и вовсе потух. С моряком сильно не посоперничаешь – не тот блеск. Тем более сам Петька от армии отсрочку получил – поступил в Красноярский политехнический институт. Студентик и моряк – какое тут сравнение в девичьих глазах! В общем, все свои пухлые губы искусал Петька от зависти. Но Алексей не заносился, хотя видел по Оксанкиным глазам, как ей приятно, что только у ней жених из флотских. Пусть и в перспективе, но все же не пехота обычная. Одно огорчало – срок службы. Три года для матроса против двух для всех остальных. Но у молодых года короткие, что три года ждать, что четыре, не с войны же. Тем более что раньше на флоте по пять лет лямку тянули, так что, считай, даже повезло.
Провожали парней всеми Борками. Из Ивановки тоже гостей – да почему гостей, борковские – те же ивановские – приехало немало. Столы строили вместе, каждый нес, что мог. Вышло на славу. Сидор подарил Алексею свой трофейный чемодан с тремя замками. На проводы надел вдругорядь пиджак с наградами. Сидел молчаливый, как обычно, но глазами одобрял. Сыну одно сказал на прощание:
– Веди себя вертикально, Лешка! Не дебоширь! Понял, что ли?
Лешка тогда отца с матерью успокоил, писать обещал не реже раза в месяц и службу нести достойно. Бабы сперва всплакнули, конечно, и те, кто сыновей не провожал, тоже глаза утирали. Потом песней душу успокоили, гармонь растянули, в пляс пошли. Никто и не заметил, как Лешка из-за стола исчез. Оксаны тоже не было видать. Увидели его только, когда замвоенком перед полуторкой призывников построил. Залил сильный темный октябрьский дождь, но никто не ежился, не поднимал воротников – все глядели орлами. Лешка стоял тихий и строгий, смотрел то на Оксану, трущую кулачком мокрые глаза, то на мать с отцом. Степанида улыбалась мягкой беззащитной улыбкой, отец глядел ободряюще. Потом прозвучала команда, парни запрыгнули в кузов, и полуторка, надсадно заревев, поехала к парому. Степанида втихаря перекрестила удаляющуюся машину, уткнулась в мужнино плечо и тогда уже дала волю слезам, катившимся по щекам вперемешку с дождевыми каплями.
2
Первое письмо от Лешки пришло не сразу – к Новому году. Отдельно родителям и невесте Лешка не писал – всем сразу. По письму выходило, что доехал до места службы без особых происшествий. Но и без комфорта – в вагоне-«телятнике» их напихали больше 70 человек, спали на деревянных нарах, без тюфяков даже, одни голые доски. Писал, что от ночных сквозняков немного поначалу простыл, место у «буржуйки» посреди вагона занял не сразу. Поблагодарил отца за немецкий чемодан – два замка взломали, а третий, навесной, не смогли. Поэтому продукты и доппаек не украли, как у многих. Что-то из продуктов выменял на станции на водку и железнодорожный китель. С водкой и место поближе к печке образовалось – угостил, кого надо. В общем, к месту службы доехал более-менее здоровым. Служить Алексею выпало на Тихоокенском флоте. Писал, что «годки»[3] относятся к ним нормально, «карасей» и «духов»[4] не гнобят, хотя и спрашивают строго, но по делу. Сообщал, не скрывая гордости, что выпало ему служить не на какой-то старой посудине, а на крейсерской подлодке. Определили учеником трюмного машиниста. Остальное, писал, военная тайна. К письму была приложена фотокарточка, с которой из-под бескозырки глядел коротко стриженный светловолосый матрос с юношескими усиками. Даже на черно-белом фото чувствовалась озорная бирюза пронзительных глаз, словно в них плескалось море. На бескозырке гордо золотилось «Тихоокеанский флот».
Степанида показывала письмо с приветами и наказами от жениха Оксане, забегавшей к ним почти каждый день. На правах невестки или, наоборот, уже по долгу таковой помогала Степаниде по хозяйству. И стирка, и готовка, особенно когда Степанида в город уезжала, были на ней. Сидор одобрял, хохляцкая стряпня по вкусу была не хуже, если не вкуснее, а бурчания меньше. Особенно по поводу шкалика-другого, который Сидор Поликарпович любил пропустить перед супчиком или после бани.
– Опосля пара порты продай, а выпей! – назидательно говорил Сидор, предупреждая возражения хозяйки. – Чтобы вертикально все!
Такая необычно длинная фраза из уст Сидора обезоруживала Степаниду, и можно было наслаждаться жизнью. Новый год справили уже как одна семья – с Анфисой и Оксаной, которую Сидор со Степанидой иначе, как дочкой, уже не звали.
А через пару недель после новогодья случилась новость – всем новостям новость, но не у Лешки на службе, а здесь, в Борках. Оксана, черпая как-то борщ из горшка, вдруг уронила половник, зажала рот рукой и, давясь, выбежала из комнаты.
– Что за дело? – удивился Сидор.
– Погодь, погодь, – странно протянула Степанида и вышла следом.
Сидор Поликарпович пожал плечами, взял половник, доложил себе борща. Но спокойно поесть не вышло, в комнату вернулась жена – сама не своя, – села со вздохом за стол. Сидор взглянул из-под бровей, но спрашивать ничего не стал: баба – что ведро худое, в себе ничего не удержит, сама выльет. И Степанида «вылила», да не воду, а кипяток.
– Брюхата Оксанка-то. От Лешки нашего брюхата.
Сидор ничего не сказал, но ложку отложил.
– Ну что молчишь, старый хрыч?! – взвилась Степанида. – До женитьбы-то, а?! Как это, а?! Это что ж такое, а?!
Из сеней послышался стук – Оксана выбежала из избы, хлопнув дверью.
– Не дело, – осторожно сказал Сидор.
– Знамо дело, что не дело! А что делать-то? Куды ж она с дитем?
– Пущай здесь живет, – спокойно сказал Сидор, – Лешкино дитя ж.
– А если не его?! А если от другого в подоле принесла, а? А на Лешку сейчас все свалить можно – пока ему там еще отпуск дадут! Вот как ему скажешь-то? – Степанида снова заохала и замотала головой. – Ну как же сказать, не пропишешь же в письме, мол, невеста брюхата – твоя работа аль нет?
– А Оксана что, – откряхтевшись, спросил Сидор, – говорит?
– Да что ей говорить – на Лешку нашего кивает, он, и все! Погоди-ка… – Степанида начала загибать пальцы. – По срокам похоже вроде.
– Ну? – Сидор снова взял ложку.
– Ой, не знаю, не знаю! Она тут многим парням нравится, по дням-то не сосчитаешь. Нашего проводила, с другим закрутила, девка-то видная. С тем же Петькой – сынком лесничего, он ее сколько лет обхаживает. А коли Лешка скажет – не трогал, тады что будем делать, а?
– Тады и поглядим, – хмуро ответил Сидор, он уже устал от болтовни.
Степанида поохала еще, накинула платок и пошла к дверям.
– К Анфисе пойду. Надо вместе подумать, без горячки. Мож, и правда наша кровь будет.
Анфиса уже все знала – дочь ей первой открылась еще с неделю назад. Почему Анфиса с этим к ним не пришла, Степанида спрашивать не стала – сейчас главным было не это. На бабском совете порешили так. Коль Оксана вины за собой не знает, пусть она приписку сама к письму и напишет с объяснением, так, мол, и так, радуйся, будущий отец. Письмо составили там же. Оксана, пунцовая от стыда и обиды за недоверие, размывая слезой чернила, написала, как ей наперебой диктовали мать со Степанидой.
– Пиши, чтобы отпуск у начальства просил, – толкала под руку Степанида, – по семейным, как их…обстоятельствам.
– Не дадут, не расписаны же. Да и только забрали, так скоро не положено им, – сомневалась Анфиса, но дочке кивала, – пиши про отпуск.
Оксана шмыгала носом и царапала тетрадочный листок непослушным пером. Вышло немного сумбурно, но главное было яснее ясного. И даже сама придумала совета спросить – какое имя давать, если девочка, и какое, если наследник.
– Хорошо ты про имя-то, – похвалила Степанида, сворачивая вчетверо листок, – Любку-почтальоншу ждать не будем, сама завтра в город поеду.
Оксана к Липуновым теперь не заглядывала. Хотя обида за недоверие со стороны будущей свекрови поугасла, но под обстрел подозрительных глаз идти не хотелось. Думала дивчина – придет ответ от Алексея, все выяснится и образуется само. Анфиса дочь это время не трогала, не пытала, хотя нет-нет да закачает головой, глядя на округлившийся живот. Оксана вспыхивала, заливалась багрянцем и убегала к реке. Туда, где Кан загогулину делал, так что бухта целая получалась. Здесь часто заплоты из бревен случались, отчего это место сплавщиками еще до Борок, в незапамятные времена было названо Мукой. Сидела под огромной лиственницей, прямо у кромки воды, как под волшебным зонтиком – такая пышная крона была, что ни одна капелька дождя не долетала. Тут они часто с Лешкой встречались, первый раз поцеловались тоже здесь. И полюбила она его в тот день, когда на флот провожала, вот под этой кроной. Не думала, не выгадывала, не боялась – что-то потянуло, что-то закрыло глаза и открыло тело. Нараспашку. В первый раз она любила плотской любовью, первый раз ощутила мужскую силу и женскую власть. Часто сидела под лиственницей Оксана, обняв коленки, вспоминала. Хорошее – улыбнется, глаза черные замерцают, улыбка осветит свежее личико, тревожное – заплачет, уткнувшись в колени. В эти минуты глаза ее становились бездонными, как два холодных омута. В такой момент и застал ее тут один раз губастый Петька, дней через десять после проводов.
– Сидишь?
Оксана встрепенулась от неожиданности и снова подперла подбородок худыми коленками.
– Нет, плаваю. Сам не видишь?
Петька сел рядом, подобрал камешек и пустил «блинчиком» по воде. Волна камень заглотнула сразу, «блинчик» не вышел.
– Ну, что Лешка-то? Пишет?
– А тебе какое дело до Лешки? – свела брови Оксана. – Ты чего здесь-то? Из института поперли, что ли?
– Да не поперли ничего. К старикам на выходные приехал… пособить по хозяйству. А про Лешку так спросил. Как служба-то у него идет, интересно.
– Интересно, так сам напиши. Адрес в военкомате знают. Тебя только там не знают.
Петька хмыкнул, нашел камень поплоще, выцелил меж волнами, бросил еще. На этот раз камешек запрыгал красиво по воде.
– Ты это…если кто обижать будет… в общем… это… скажи только. Накажу любого. – Петька это говорил, глядя в реку, как будто «блинчик» еще прыгал.
– Вона! – удивленно протянула Оксана. – В защитники напрашивается… а с чего это, Петь? Вместо моего нацелился? Покуда хозяина нет?
Петя скривил толстые губы в усмешке.
– Не любит он тебя, Оксан!
– А ты, значит, любишь? – подзадорила Ксана.
Петька снова усмехнулся, мутно как-то.
– Еще неизвестно, когда будет твой… хозяин.
Он хотел добавить что-то еще, но резко встал, отряхнул штаны и быстро пошел в деревню. Оксана улыбнулась – ей, как каждой бабе, было приятно, что по ней кто-то сохнет, но потом нахмурила красивый выпуклый лоб. Что значит – неизвестно, когда будет? Известно, как служба кончится, тогда и будет. Да нет, еще раньше отпуск ему выйдет. А как на побывку приедет, так и распишутся, маленький уже будет. Сразу и мужем, и отцом сделается. Но Петька это так сказал, словно знал что-то такое, чего она, невеста, не знала. Или показалось? Нет, все в порядке, конечно, вернется. Красивый, с медалями, в тельняшке. В этом… как он говорил-то… бушлате! Это Петька из зависти брешет. Или из ревности. А скорее – из-за того и другого вместе. Оксана успокоилась, но что-то, какой-то мутный ил на дне души остался. И теперь с каждым днем, пока ответ от Лешки не приходил, все больше и больше ее засасывало в этот ил. Оксана уже сама чуть не каждый день справлялась у Степаниды, но та молча качала головой. Уже и такое, очередное письмо давно должно было прийти, март был на дворе, а тут – нет и нет. Да и еще с таким важным ответом.
– Стряслось что там у них, на крейсере энтом? – хмурилась Степанида. – Недоброе чую сердцем-то.
– В походе он! Какая в море почта? – успокаивал Сидор Поликарпович, но Степанида не успокаивалась, мрачнела день ото дня.
Оксана устроилась на курсы медсестер в Ирбейском – здесь, в селе, ее не видели уже порядком. Почтальонша Люба, снабжавшая всю окрестность не только письмами, но и слухами, про без пяти минут липуновскую невестку ничего худого не сообщала. Говорила только, что видела в пару раз в больнице, хвалят, мол, работящая, скромная. Степанида слушала внимательно, но участия не показывала. Тревожило, что письма от сына так долго не было. Люба предложила еще с неделю подождать, а потом написать самим – но не Лешке, а его командиру. По обратному адресу – номеру воинской части на конверте. Без жалоб на сына, разумеется, а с материнским беспокойством. И Лешка будет подтянутей, если узнает, что родители с его командиром отдельную переписку имеют.
– Дело! – одобрил Сидор Поликарпович.
Так и сделали. Письмо получилось недлинным, с поклонами капитану и тому машинисту, учеником которого был Алексей, родительским наказом держать сына в строгости, напомнить, чтобы не забывал регулярно писать домой. С прошедшим Новым годом поздравили – весь экипаж. Сидор подсказал еще поздравить и с прошлогодней годовщиной Великой Октябрьской революции – для порядка. Как бы невзначай написали насчет отпуска – когда он положен «машинистам из трюма»? Степанида завершила письмо приглашением командиру непременно посетить их места – «хотя моря у нас нету, но очень красивая река и отдохнуть боевому человеку от службы, как Вы, самый раз».
Письмо ушло по адресу воинской части, первый месяц жили предвкушением скорого ответа или весточки от Алексея, давно уже запаздывающей. Но вскрылся ото льда Кан, прошли майские праздники, уже клонилось лето, а почтальонша Люба все так же мотала головой – не было ничего.
Написали еще два письма. Одно – командиру, но уже без поздравлений, посуше. Просили очень повлиять на сыночка, что не пишет домой. В письме сынку Степанида приписала сама, без хитростей, что Оксана на сносях. Что хотя бы ей пару строк черканул, что ли, если он отец.
Хотели Любе письма сразу и отдать, да не случилось ее в Ивановке в этот день, а назавтра она сама им в окошко постучалась. Степанида закивала в окно, сейчас, мол, схватила письмо и вышла на крыльцо.
– Вот, написали, все чин по чину. Со всем почтением. Думаю, начальство ихнее…
– Погодь, Степанид. Ответили уже.
Люба протянула конверт, сразу видно – казенный.
– А? Как ответили? Мы ж…ты ж еще…не отправляли же еще? Или то на первое письмо? От Лешки, что ли? Ну, наконец-то, а то я было измаялась совсем.
Почтальонша вздохнула и отвернулась – один такой конверт уже пришел по адресу в Ирбейское, она знала, что в нем. Степанида положила свое письмо на приступок, аккуратно приложила поленцем, чтобы ветром не унесло, вытерла руки о подол и осторожно взяла конверт.
– Тоненький какой-то, – сказала, надрывая край, – скупой Лешка на слова стал, что ли?
Материнские глаза пробежали напечатанные строчки: «Свидетельство… признан умершим». Степанида прочитала еще раз, вслух:
– «Ваш сын… так… признан… умершим». Люб, то есть как это, а? Умершим… Люб… как это, Люб, а? Люба… почему… сыночек… Алексей, кровинушка моя… умер… как это умер… ошибка, Люб, это ошибка какая-то… как это умер, а?!
Степанида резко поднесла конверт к глазам – адрес правильный, Липунову Сидору Поликарповичу. Женщина опустилась на приступок, неотправленные письма слетели в траву.
– Как это… как же это…
Люба присела рядом и обняла Степаниду.
– Это что ж такое, а? Да как же это… Люба, как же это… не может быть, ошибка какая, а? – Степанида снова пробежала глазами казенные строчки, снова сверила адрес и зарыдала, закрыв лицо конвертом.
Почтальонша сидела рядом, не выпуская трясущиеся Степанидины плечи. Так их и застал Сидор Поликарпович, вернувшийся с работы. Люба, ничего не говоря, протянула письмо. Сидор прочитал раз, другой, стянул шапку и молча сел рядом.
– Нету больше сыночка нашего, Лешеньки нашего, единственного, нету! – завыла Степанида.
Сидор все больше чернел лицом, глядя на жену. Потом встал, вошел в дом, вернулся с бутылкой водки, прижал, как змею, сапогом и выбил левой рукой пробку.
– Выпей, что ли, Степанида.
Но Степанида не шелохнулась, только по-прежнему тряслись плечи. Люба взяла бутылку, поставила рядом.
– Сейчас стаканы принесу, погоди.
Вернулась, сама разлила и протянула один стакан Степаниде.
– Выпей, хорошая моя, выпей, полегчает немного. Хоть глоточек, ну, умоляю.
Степанида взяла трясущейся рукой стакан и, стуча зубами о край, отпила.
– Ну вот, ну ладно. Пойдем в дом, тебе прилечь надо. Пойдем, хорошая, полегоньку.
Почтальонша увела притихшую Степаниду в дом. Сидор взял бутылку и выпил залпом, что осталось. Потом осушил один за другим стаканы, закрыл пальцами глаза и заплакал.
3
Сидор Поликарпович со Степанидой поехали на Камчатку, в тамошний военкомат сразу после поминок по сыну. Поминки и так дело невеселое, но тут вышло еще и загадочное. Кто говорил, кто нет, но каждый думал про себя, что означают слова «признан умершим»? Если погиб бы при исполнении служебного долга, было бы хоть что-то ясно. Двадцать с чем-то лет, как война кончилась, но от похоронок еще не отвыкли. А тут… как за борт вывалился, что ли? Казенное свидетельство передавали из рук в руки не по одному разу, качали головами, хмыкали многозначительно.
– Думаю, с диверсантами схлестнулся Лешка, – наконец выдал свою версию Митрич, Жиганом его уже в селе звали редко, – имперлизма. Вишь, секретная бумага.
– Почему секретная? – спросил кто-то.
– Потому – факт гибели в бою засекречен. Значит, тайная операция. Подводная. Значит – диверсанты, кто ж ишо?
Все закивали одобрительно, стали наливать – диверсант, он, мож, и хуже немца будет. Степанида за хлопотами немного отошла, расходилась, растрясла малость горюшко. Оксана, исхудавшая, с огромными черными глазами на побледневшем лице, помогала больше остальных баб. Бабы нет-нет да косились на ее спелый живот. Оксана замечала эти поглядки, спокойно, напоказ поправляла черную кофту и носила тарелки дальше.
– Брюхата девка, – шептались бабы и толкали друг друга локтем, – от покойного небось. И не замужем, а вдова.
– А мож, и от живого, – шептались в обратную сторону и тоже толкали под локоть.
Оксана уже закончила свои курсы, получила диплом медсестры. Свободного места в Борках, правда, не было – Лизка на пенсию не собиралась. Оксана мыла посуду и думала, как, а главное, где ей быть дальше. Выходило, как ни крути, что уезжать надо – у Лешкиных родителей на правах приживалки крутиться не очень-то хотелось. У матери на иждивении тем более. Внука им родит да уедет. А как от дитяти уехать, с другой-то стороны? А с дитем да без мужа законного? Пусть и неживого? Если прямо не засмеют, то за спиной уж языки-то почешут. Что ж теперь, оглядываться на каждом шагу? Тяжелые думы были у молодой женщины. Задумалась так, что две тарелки разбила – забыла, что в пальцах держит. «На счастье», – сказал кто-то, не подумав. «Да какое уж счастье», – вздохнула Оксана. Это были ее единственные слова в тот вечер.
Пока Сидор со Степанидой были в отъезде, Оксана жила в их доме, была за хозяйку. Правда, хозяйствовать было особо ни к чему – тяжестей не потаскаешь, еды много не готовила – насилу ела хлеб с молоком, и то за ради ребенка. Но хоть какой-то покой, особо никто к ней не заглядывал, если только брат забегал проведать, расспросами да сплетнями не донимал. Заходила мать, пыталась завести разговор за будущую жизнь, но Оксана отмахнулась – образуется, мол, как-нибудь. Так прошла неделя или чуть больше. Предосенние вечера совсем сгустились. Оксана зажигала лампу и садилась у окна – смотреть в дождливую темь. Иногда взгляд упирался в отражение в стекле. Тогда Оксана снова и снова спрашивала у той, что смотрела из темноты: ну, что, подруга, делать-то? Решай уже, пока старики не приехали. Но ничего не решалось, отражение вслед за Оксаной начинало вытирать слезы.
Один раз кто-то постучал в окно из темноты. Хотя и осторожно, вежливо постучали, Оксана съежилась от неожиданности так, словно камнем стекло разбили.
– Пусти, Ксан! Поговорить надо! Это я, Петр!
Оксана не сразу, но дверь открыла. Решила дальше сеней не пускать, но Петр зашел крупным шагом в комнату, так что дивчина невольно посторонилась. Петька стянул шапку, потоптался, огляделся, пододвинул стул, уселся.
– Ну? Говори, коли надо! – Оксана встала в проходе, скрестив руки.
Петр стал мять шапку, словно воду из нее выжимал.
– Ксан! Ты это… одна теперича… хотя и не одна… дитя у тебя будет…
– Не твое дитя, и дело не твое, – вспыхнула Оксана и переложила руки на живот.
– Так я это… знаю, Лешкино семя… да… но Лешки-то нету, а я есть, Ксан.
Оксана про себя подумала, что лучше было бы наоборот, но вслух не сказала.
– Я чего решил-то, Ксан. Может, уедешь отсюда?
Оксана фыркнула и отвернулась к окну.
– Я что сказать-то хотел… ты подумай, Ксан! Что тебе здесь, какая жизнь будет? Да никакая! Медсестрить до пенсии? Зарплаты на тебя одну еле хватит, а тут ребенок еще.
– Ничего, люди помогут, – без особой уверенности возразила Оксана, Петька словно читал ее думы.
– Люди разные бывают, Ксан. Кто поможет, а кто и в спину подтолкнет. А если не подтолкнет, так камень бросит. А если и не камень, так слово поганое. А слово побольней камня будет, Ксан. Я тебя не тороплю, конечно, ты подумай. Но хочу тебя с собой взять, Ксан. В Красноярск. Женой.
Петька выговорил последнее, главное слово и перестал мять шапку.
– Устроимся нормально, я насчет квартиры там договорился. Маленькой, съемной, но все ж не общага.
Оксана снова фыркнула.
– Это ты всегда умел… устраиваться. Странно, что в Политех, а не в торговый какой институт поступил.
Петр пропустил издевку мимо ушей.
– И ребенок наш будет. Общий. Как своего, воспитаю. И еще народятся. Вот так, Ксан. А то, что я ловчее других, так это…торговать-то необязательно… по всей жизни моя ловкость поможет. Ты думай, я пойду, совсем стемнело. Пойду я.
Петр встал, нахлобучил ондатровую шапку и быстро вышел. Оксана в глубине души ожидала чего-то подобного, но все-таки Петькины слова ее ошарашили. «Неужели взаправду так любит, что с ребенком возьмет?» – мелькнула первая мысль, а затем и вторая, порасчетливее: «А может, это выход? Все равно жить с кем-то придется, а тут ребенку официальный отец, никто худого слова не скажет. Петя правильно сказал, иное слово больнее камня. А любить мужа необязательно, главное, чтоб он о ребенке заботился. А не стерпится, не слюбится, там видно будет, когда сын (Оксана материнским инстинктом знала, что будет мальчик) на ноги встанет. Но свадьбу сыграть… нет, никаких торжеств, просто расписаться, и все… надо до рождения сына… и не здесь… в Красноярске уж тогда… но это только через полгода… нет, еще дольше… как же быть…»
Оксана снова подсела к окну, но на этот раз отражение не плакало и не терло глаз, а смотрело задумчиво сквозь Оксану, куда-то вдаль, в будущее.
Через неделю вернулись Сидор и Степанида. Их не сразу можно было узнать – из пожилых, но крепких людей, они превратились в стариков. Оксана слушала Степанидин рассказ, как они доехали, как обивали пороги военных начальников, как один из них, командир дивизии подводных лодок по фамилии Дыгало рассказал, что Алексей трагически погиб в океане при выполнении служебного задания. Но больше ничего не сказал, поднес палец к губам, а потом показал пальцем вверх, начальство, мол. Добавил только, что все погибли, никого в живых не осталось. Сидор больше молчал, только один раз сказал: «Нет у Лешки своей могилы – не дело». Оксана вдруг почувствовала, что слушает со стороны, как будто речь идет не об отце ее ребенка, не о любимом муже, пусть и не по паспорту, а о сыне Липуновых, и все. Ее личное горе за это время погрузилось под воду жизни и лежало на дне души, как Лешкина подлодка, мертвым грузом. Именно мертвым – тяжесть была, но уже не царапало. Почему-то захотелось тут же сказать, что она думает выходить замуж за Петра. Ее молчание сейчас было ложью, огромной, неподъемной ложью. Оксане не хотелось лгать этим людям, родным людям, не хотелось пачкать сердце, но правда добила бы стариков. Степанида, однако, почуяла какое-то изменение в ней, поглядывала на Оксану, словно хотела спросить о чем-то. Оксана не осталась ночевать, как-то торопливо обняла Степаниду и Сидора и пошла к матери. Степанида вопреки обыкновению удерживать не стала, но вышла на крыльцо и смотрела вслед, пока Оксана не исчезла в темноте. Только потом заперла дверь, вернулась в комнату и села рядом с мужем, сложив руки на коленях. Сидор положил свою единственную лапищу на ее огрубевшие кисти. Так они и сидели, без слез и слов, пока первые петухи не стали торопить солнце.
Оксана уехала в Красноярск еще до сентября. Ее отсутствие заметили не сразу – в этот год леспромхоз начал распадаться. То ли лес вырубили в округе, то ли платить стали меньше, но люди стали разъезжаться кто куда. Сидор со Степанидой перебрались обратно в Ивановку, Митрич подался на золотые прииски. «Магадан каждому родной, – сказал, потом добавил: – Особо, если добровольно». Скоро на том берегу Кана остались жить только Парфен с Тидей, ну и еще пара семей.
– Как Оксанка-то? Чего не заходит? – как-то окликнула Степанида Анфису, приплывшую в лодке с другого берега.
– Да нету ее тута! В Красноярске она.
– А… в больницу устроилась, что ли?
Анфиса кивнула.
– В больнице, в больнице, где ж еще. Там и рожать сподручней, отделение есть. И знают ее там. Так что где ж еще-то?
Степанида было уже повернулась уходить, но вдруг остановилась.
– А что нам не сказала? Не чужая, поди. Внука все-таки нам рожать будет.
Анфиса сразу не ответила, привязывала лодку, но узел все не завязывался. Степанида подошла, встала рядом, ждала.
– Внука рожать – это верно. Это верно, Степанид, – сопела Анфиса, затягивая наконец веревку, – рожать, да. Внука…но не тебе, Степанида, – выпрямилась Анфиса и посмотрела наконец Степаниде в глаза, – а мне.
– Понятно, что тебе… тоже… твоя ж дочь. Что-то ты темнишь, Анфис, а? Что-то я не пойму, а?
– Не темню, а говорю, как есть. Замуж она вышла, расписались уже.
– За кого?! – взметнула брови Степанида.
Анфиса уперла руки в бока и пошла на Степаниду.
– А ты шо думаешь, ей с дитем вот так и пропадать одной?! Как мне, солдатке, лямку тянуть, одной и выкармливать, и выучивать, и воспитывать?! Война кончилась давно, мужиков-то сейчас в достатке, есть из чего выбирать-то! Есть из чего! Из живых выбирать! Из покойников-то не больно выберешь-то… ей с живым дальше жить нужно!
Степанида схватилась за сердце и осела на мостки. Анфиса бросилась к ней.
– Ох, я дура, ох, дура! Прости, Степанидочка, прости, родненькая! Ну, ляпнула, не подумав. С Петькой они расписались – Парфеновым сыном. Он студентом там… в ихнем этом… унирситете, что ли… не знаю я этих мудреных названий… Оксанка писала в письме… комнату вот-вот дадут… как женатым-то… Степанид, комнату, говорю… Степанида, погоди… Степанида!!!
Отпевать Степаниду приехал поп с Ирбейского – церкви в Ивановке, а тем более в Борках не было. Сидор не хотел было, не дело советскую женщину, жену советского солдата старорежимными обрядами провожать, но все бабы, как одна, воспротивились – Степанида была крещеной, а коли так, то проводить в последний путь надо по-православному. Сидор махнул своей левой рукой и отступился. Неожиданно для него на похороны приехали многие бывшие односельчане по Боркам. Митрич приехал тоже, узнал как-то. Сидор смотрел на его крепкое скуластое лицо, твердые плечи и понимал, что по сравнению с ним, хотя и одногодки почти, он уже старик. Кого горе закаляет, а кого прибивает. Митрич, хоть и не улыбался и не острил, по обыкновению, в такую минуту, но смотрел по-орлиному. Было видно по нему, что хоть и треплет его жизнь, как штормовой ветер паруса, но на скалы не вынесло.
– Крепись, Сидор, крепись! – Митрич обнял земляка. – На фронте не легче было, а выдюжили. Не отступай только! Держись, как ты говоришь – вертикально!
Сидор сидел во главе стола, сооруженного из досок и подручного материала у него во дворе, и слушал, как говорили о Степаниде. «Баба добрая была – земля легко копалась», – сказал кто-то. «Действительно, копать было легко, – вспомнил Сидор, – и вправду, что ли, чует земля, кого принимает?» В общем, хорошо говорили, на то они и поминки. Но никто не мог сказать, да и он сам не мог бы словами выразить, что значила для него жена. На фронте, когда окоп засыпало землей вместе с бойцами от разорвавшегося снаряда, или перед атакой на черт его знает, какую по счету высоту, или в госпитале, когда ждал своей очереди в коридоре, куда в ящик прямо перед его глазами выбрасывали отрезанные руки и ноги, тогда он думал только о ней. Представлял, как бросится ему на шею Степанида, как замочит слезой его небритые щеки, как оторвет лицо, чтобы взглянуть в глаза и снова прижмется, гладя по бритому затылку. Может, так и вымечтал себе судьбу вернуться, кто ж его знает. Не стало сына, вот теперь и жены. Словно мать за сыном пошла, как в тайгу за пропавшими ходят. Да из той тайги никто не возвращался еще. И не стало, чем жить. Был бы внук хоть, да Оксанка, сучья дочь, не приехала Степаниду помянуть. Болтают, за Петьку губастого выскочила, дебоширка. Мож, и права была тогда Степанида, что не доверяла ей, мож, правильно чуяла, что не от Лешки принесла. Сидор согласно пил со всеми, не чокаясь, но уже не слышал отдельных слов, не различал говорящих, а всматривался в какую-то темь внутри себя, которая подступала все ближе и ближе, и становилось понятно, что нет у этой темноты никакого дна.
4
– Ну и долго так будет продолжаться? – спросила стройная девушка модельного типа в шелковом халате с черными короткими волосами. – Ста рублей не набомбил! Наверное, мужиком себя считаешь! Или ты от меня заначки делаешь – с друзьями пропивать? Когда мне на колготки не хватает? Почему я должна выбирать – на мобильный положить либо чулки новые купить? Вот с чего мне с тобой прозябать, хоть одну причину приведи.
Брюнетка стала в третий раз пересчитывать смятые карманные купюры.
– Кариночка, все наладится. С голоду же не помираем. Ну, нет сейчас работы, ты же знаешь. – Мужчина лет около тридцати потянулся губами к женской щеке, на секунду его огненная рыжая шевелюра разбавила вороний черный цвет волос, но Карина увернулась.
– Не заработал ты на поцелуй, муженек. И на ужин не заработал. Возьмешь пельмени в холодильнике и сам сваришь, понял… Петрович?
Мужчина снял изрядно потертый плащ и покорно проследовал на кухню. Карина брезгливо положила деньги в карман халата и последовала за мужем. Отняв у него открытую бутылку водки, поставила обратно за стеклянную дверцу дээспэшного буфета и встала, скрестив руки.
– Мне надо с тобой серьезно поговорить, Леш. И тебе надо тоже. Так дальше продолжаться не может. Я за тебя выходила, как за перспективного, и не потому, что ты профессорский сынок. Я думала, что ты сам способен и заработать, и обеспечить. Женщина – материальна, а красивая… – Карина поправила волосы и посмотрела на свое отражение в буфетном стекле. – Особенно. Да, да, за это… – Карина обнажила красивые ноги. – За это, – пощупала свою грудь, – за все это надо платить. Если ты настоящий мужчина, конечно. Я стриптизершей зарабатывала в час в десять раз больше, чем ты на своей ржавой «Тойоте» за день. Что, прикажешь опять на шест? Тогда не жалуйся только, что я от ВИП-клиентов буду утром приходить. Ничего личного, как говорится, только бизнес.
Вода вылилась из вскипевшей кастрюли и зашипела на плите. Алексей бросился вытирать тряпкой.
– Ты даже себя приличной едой накормить не можешь, а как же жену кормить собираешься? А детей как рожать – нищету плодить, что ли? Борьбы за существование никто не отменял, и ты, Петрович, эту борьбу проигрываешь. А проигравших все еб…т, а не наоборот.
Алексей переложил пельмени в тарелку, добавил остатки майонеза, соус и стал перемешивать. С экрана маленького кухонного телевизора сообщали об очередной перестрелке на окраине Москвы. Алексей переключил канал, но и там вести были не многим благополучней – сообщалось о взрыве «Мерседеса» какого-то криминального авторитета.
– Леша! Ты слышишь, о чем я говорю?! – Карина выключила телевизор.
Мужчина кивнул с набитым ртом и перевел глаза на буфет, куда Карина поставила отнятую бутылку.
– Нет, ну ты не врубаешься, я вижу. Тебе вот так по Москве пошабашить за гроши, потом дома нажраться, и все. Так дела не делают. Это не выход, понимаешь? Если нет работы по найму, так придумай бизнес какой-нибудь! Да хоть челноком заделайся – вона, даже бабы ездят, тюками товар привозят, наваривают нехило. Ты ж не зря МАДИ кончал, у тебя высшее образование, в конце концов! Почему я, слабая женщина с неполным средним, могу больше такого образованного мужчины зарабатывать, скажи!
– Кому сейчас нужно образование? Никому! Дай хоть сто грамм выпить, устал же, за баранкой целый день!
Карина вздохнула, махнула рукой и вышла из кухни.
Алексей налил полстакана и быстро выпил, чтобы хоть это уже не отняли. Включил телевизор и снова сел за стол, наливая уже спокойно. Стрельба и взрывы кончились, пошла реклама.
«…наша фирма в рекламе не нуждается…» – бред, совок, – презрительно отозвался Алексей. «Я не халявщик, я – партнер…» – МММ достало уже… «Отличная компания… от других», – когда, интересно, Лолита бросит этого огрызка… «Проктер энд…» – проклят, как Гэмбл… «Видал Сосун»… ах, вот он какой… «С точностью до короля…» – это уже клиника…
Дальше пошла реклама женских прокладок и Алексей отвел глаза. Вставать и переключать канал было лень, а пульт давно потерялся. Алексей принял еще анестезии и под рекламу подумал о жене. «Ведь не даст сегодня, сучка муромская. Когда я ее из этого танцевального борделя забирал, светилась прямо, как начищенный самовар. Москвичкой решила стать, корни пустить, понимаешь. Пока в автосалоне торговля шла, ласкала, а как кризис – за ласки, значит, платить надо. Вот ведь бл…дь! И ведь не поменяешь – во-первых, они все такие, во-вторых, я сейчас не на коне. Бабы не любят проигрывающих, это точно. Но ведь временно же, временно не на коне! Кто же виноват, что автосалон, где я менеджерил, попался на угнанных тачках? Хорошо, меня не загребли. А этой все мало, немного потерпеть не может!»
Алексей не стал сам себе говорить, что это «немного» длится уже почти два года. Сначала казалось, что старых запасов хватит надолго, но потихоньку пришлось отказываться от турпоездок на заграничные курорты, потом от аренды дачи в Кратове. Потом от аренды квартиры в тихом центре Москвы, потом не стало хватать на рестораны, потом отец отказался давать в долг, старый хрыч. Небось молодуху свою балует… за счет сына родного, потом… а вот оно – потом: слипшиеся пельмени под дешевую водку в какой-то халупе в Печатниках. Кстати, о халупе – Алексей даже отложил ложку, – сегодня подвозил двух парней в Подольск, что-то они меж собой говорили о какой-то фирме, где квартиру за полцены можно купить. Машины, в основном, за полцены, но и квартиры тоже. Один даже хвастался, что «москвич» всего за четыре миллиона там огреб. Да, точно, говорил, что продал на авторынке сразу же за восемь без каких-то копеек и вложил все в квартиру. Тоже за полцены, разумеется. А у второго бизнес был еще такой… экзотический – орденами и медалями торговал. Говорил, некоторые ордена больше иномарки стоят. Еще смеялся, что драгметалл в них дороже пролитой крови, потому что людишек у нас много, а металла мало. Первый второму и советовал, мол, главное – сейчас деньги сдать, через месяц уже дороже будет. Так, минутку… как же фирма называется… он же говорил… «Царица»… нет… «Императрица»… что-то бабское… Алексей допил стакан и вспомнил – «Властилина»! Точно, «Властилина»! Ну да, там же баба какая-то заправляет, этот тип ее еще тетей Валей называл, поэтому и название соответствующее. Алексей пожалел, что не спросил адреса этой «Властилины» или телефона хотя бы. А с другой стороны, какая сложность найти, Подольск – город небольшой. Только вот с деньгами туго, вкладывать нечего. Хотя… Алексей вынул из кармана ключи от машины и положил перед собой. Если у их бывшей салонной «крыши» под нее денег взять, можно всего за месяц обернуть… и делать-то ничего не надо. И через границу с тюками мотаться, таможенникам отстегивать, товар охранять по ночам, на рынках перекупщиков искать… Вот ведь Каринка придумала тоже, чтобы он мешочником стал. Это не его. С другой стороны, это не МММ с «левыми» акциями, тут деньги под товар, тут надежней. Алексей еще раз представил себе, сколько денег он срубит без особых усилий, принесет, вывалит вот прямо на этот стол, нет, лучше на постель, прямо на них трахнет довольную Каринку. А потом, Бог даст, еще раз пару раз обернет, ну и вот оно, счастье. Как говорит Каринка, «был бы милый с мани».
Алексей не стал откладывать дело в долгий ящик. Тем более, как он и предполагал, Карина отказала ему в интиме в ту ночь. Но Алексей не стал делиться бизнес-идеей, пусть даже за близость. Если хочешь эффектно въехать на белом коне, не надо допускать зрителей до конюшни раньше времени. В Подольске фирму «Властилина» знал каждый первый, ничем не примечательное кирпичное здание – их офис – он нашел почти сразу. Сразу определилась проблема – длиннющая и злая очередь желающих сдать деньги. Алексей немного покрутился вокруг, покурил с одним, поддакнул другому – вроде бы жалоб или неудовольствия ни у кого не заметил. Наоборот, только и было рассказов, как чей-то знакомый уехал на новой «Волге» за полцены, как другой получил квартиру здесь, в Подольске, почти даром. Назывались фамилии известнейших политиков и артистов, включая Пугачеву и Бабкину, которые участвовали в этой «Властилине» и даже рекламировали ее как самую надежную компанию. Заняв очередь уже на завтрашний день, Алексей поехал за деньгами. Ну, это так просто сказать – за деньгами. На самом деле нужно было найти авторитета Мусу, «крышевавшего» в свое время их автосалон, заложить машину, то есть не заложить вот так, а получить под нее деньги – хотя бы тысяч пять-шесть долларов. Как он узнал, вклады в валюте тоже принимались. Где обретался Муса или кто-нибудь из его людей, Алексей примерно догадывался – на любом авторынке, скорее всего, на Варшавском шоссе. И действительно, через час Алексей уже разговаривал с крепким парнем в кожанке и с солидной золотой цепью на том месте, где у обычного человека шея.
– А на что тебе лаве, рыжий? – допытывался качок по кличке Мозг, хотя соответствие клички ее обладателю у любого здравомыслящего человека вызывало законное сомнение.
Алексей не хотел озвучивать свою истинную цель, поэтому сказал – вовремя вспомнился разговор с Кариной, – что хочет отъехать в Турцию за кой-каким товаром, обернет все за месяц, вернет с процентом, как и положено.
– А если не успеешь за месяц? – сузил зрачки Мозг.
– Успею, как не успеть, – заверил Алексей, – тем более машину под залог отдам, если что.
Качок пару раз обошел «Тойоту», пнул по какой-то нашей неистребимой традиции скаты, заглянул в салон, осмотрелся, захлопнул дверцу и велел обождать. Алексей закурил, прислонившись к капоту, и стал в десятый раз вычислять. Но даже с непредвиденными расходами выходило, что пять тысяч баксов чистыми выгорит. А это не то что на колготки хватит, на шубу норковую. Хотя зачем шуба – прибыль надо снова в дело пустить… так… еще месяц – уже червонец «зелени», а если всю сумму, а не только навар обернуть, то есть вернуть Мусе положенное и снова взять и пустить по этой схеме… получится… получится…
Расчеты Алексея прервал Мозг, появившийся неожиданно со спины.
– Говорил с Мусой, дает он тебе лаве на месяц. Пятеру. Но день в день, понял, Рыжий? Отдашь семь, устраивает?
Алексей поморщился. Такой высокий процент в его планы никак не входил – он грубо прикинул, выходило под пятьсот годовых. Но по его схеме выходило еще больше.
– Согласен! – махнул рукой Алексей.
Качок вынул из кармана кожанки пачку зеленых купюр и бросил на капот. Алексей хотел было спросить насчет расписки, но Мозг опередил.
– Твоя жизнь – твоя расписка. Машину можешь пока не оставлять – пользуйся. Но чтобы через месяц минута в минуту был на этом месте с баблом! Тебе все ясно, рыжий?
– Ясно! Конечно, ясно! – заверил Алексей, забирая деньги и пытаясь не выдавать радости от такого быстрого решения вопроса. – Буду, как штык!
– Не надо, как штык. Надо с лаве. А штык мы тебе найдем, куда вставить, – то ли пошутил, то ли предупредил безшейный качок, улыбаясь щербатым ртом.
Алексей не стал развивать тему, сел в машину и дал газ. Только на выезде с рынка ему пришла в голову мысль пересчитать деньги. С полуостановившимся сердцем от страшной догадки, что его могли «кинуть», что ему всучили не деньги, а «куклу», он достал пачку из кармана и раздвинул веером. Нет, бумаги не было – все купюры. Чуть успокоившись, Алексей пересчитал – было ровно пять тысяч. Глубоко выдохнув, Алексей уже небрежно засунул пачку обратно в карман, но потом вытащил и вынул две стодолларовые купюры. Все-таки месяц ждать, пусть прибыли будет поменьше, а жить сейчас надо. Потом подумал еще, покачал головой, вынул еще три сотни и, погладив карман с чуть общипанной пачкой, выехал на МКАД в сторону Подольска.
И снова ему повезло – Алексей только хотел проверить очередь, но увидел давешнего парня, которого он подвозил и с которого, собственно, и началась эта комбинация. Алексей имени его не знал, но сразу узнал его невысокую коренастую фигуру на ступенях офисного крыльца. Он о чем-то беседовал с охраной, Алексей свистнул, потом крикнул «Эй!» и помахал рукой. Парень приложил руку к глазам, чтобы не слепило солнце, потом помахал в ответ и, закончив разговор, спустился вниз. Его сразу обступили люди, но он, вежливо отстраняя страждущих, подошел к Алексею.
– Мы знакомы?
– Знакомы. Я тебя подвозил вчера в эти края, помнишь? Ты еще сдачу не стал забирать. Вчера вечером, помнишь?
Парень кивнул и подал руку.
– Коля.
Алексей пожал руку, представился.
– Вот вчера ты рассказывал об этой «Властилине», когда ехал. Ну, я тоже решил, короче, подзаработать немного. Надежная же контора?
Коля снова закивал головой.
– Надежная, а то как же. Тетя Валя обязательства выполняет, а то с какого хрена к ней бы люди шли? У тебя сколько?
– Пять тысяч. Э-э, четыре с половиной, вернее сказать. Зеленых, разумеется. Только вот одно плохо – сдать можно только завтра утром, и то советуют всю ночь дежурить, чтобы очередь не пропустить.
Коля широко улыбнулся.
– Ну, это не проблема. Пошли со мной, только не отставай, сомнут еще.
Коля дал знак охранникам, те образовали коридор, Алексей, чувствуя на себе завистливые взгляды толпы, прошел за ним в здание. Первое, что его поразило внутри, это шум, подобный шуму водопада. Это и был водопад, вернее, деньгопад, а из всех комнат шумели многочисленные машинки для пересчета этих самых денег. Коля подвел Алексея к одной из таких машинок, за которой в окружении не куч даже, а снопов купюр самого разного достоинства сидела очкастая девушка.
– Олечка, прими тут у товарища… долларики.
– Архипов, ты все время с друзьями без очереди лезешь. Видишь, сколько работы.
– Оля! Что может быть важнее друзей! А я тете Вале скажу, что ты лучшая работница. Плюс шампанское с меня.
– Ты мне еще с прошлого раза торт несешь.
– Я лично привезу вам торт и шампанское. Вы, наверное, полусладкое любите? – поддержал нового друга Алексей.
– Нет, сухое! – капризно надула губки очкастая Оля, но пачку взяла и всунула отработанным жестом в машинку.
Та утробно заурчала, переваривая новую сумму, и показала цифры – 45.
– Да, четыре и пять, в долларах, пожалуйста, расписка о принятии.
Оля написала что-то на каком-то клочке бумаги и выдала Алексею. Тот недоуменно поднес бумажку к глазам – там значилось: «Четыре тысячи пятьсот долларов США, принято 15 июля 1994 года».
– Коль, подожди. Я думал, это… договор на поставку машины или покупку квартиры по такой-то цене дадут. Подписанный сторонами, как положено. А тут – вон, листочек какой-то, даже не чек.
Коля обнял Алексея за плечо и стал направлять его к выходу.
– Не волнуйся. Все учитывается. А может, ты не машину, а деньги по ее полной стоимости захочешь получить? Правильно? А по договору обязательно машину. Так ты лучше деньгами распорядишься, хочешь – машину купишь, хочешь – квартиру. Так все и делают. А кому обязательно машину, тот, если не передумает, ее и получает. Но, знаешь… – Низкорослый Коля Архипов нагнул к себе голову Алексея и шепнул: – Тут, в основном, все за деньгами приходят. И ты приходи через месяц. Да, и шампанское не забудь.
Незаметно для себя Алексей уже стоял на ступенях крыльца. «Архипов его фамилия, надо запомнить на всякий случай», – подумал Алексей, прощаясь с Колей.
В машине Алексей снова внимательно рассмотрел полученную бумажку. Странный день, подумалось, утром в кармане совсем ничего не было, потом целых пять тысяч баксов, теперь вот эта расписка. Странная бумага даже для расписки, но тут не ему одному, всем такие выдают – он видел у выходящих из «Властилины» такие же, только теперь понял, что это такое. Ну, Бог не выдаст, свинья не съест. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Кстати, надо и вправду не забыть купить бутылку сухого, а то неудобно перед этой коброй получится. Выгорело бы только все, а там он что бутылку – ящик шампанского купит, не поскупится. Алексей снова посмотрел на свою бумажку, потом на черно-серую толпу у офиса «Властилины», усмехнулся и поехал домой. В этот момент он чувствовал себя покидающим Колизей патрицием, утомленным толпой никчемных плебеев, назойливо жаждущих хлеба и зрелищ. Ну, или хотя бы хлеба.
5
Алексей, конечно, в этот день бомбить не стал. Решив отпраздновать начало финансового подъема, да что там подъема – наверняка начало новой обеспеченной и поэтому счастливой жизни, Алексей остановил свою «залоговую» (на этом зацикливаться сегодня не стоило) «Тойоту» у какого-то грузинского ресторана. Его так и распирало показать всем, что он тоже серьезный человек, что может вот так в середине дня запросто зайти в недешевый кабак только для того, чтобы не спеша пообедать, покурить добрый кальян, подумать о делах. Предупредительный официант в белоснежной накрахмаленной рубашке подал меню. Алексей нарочито небрежно выбрал самые дорогие блюда, хотя его аппетита в такую жару хватило бы разве что на сациви и чихиртму. Через двадцать минут его стол был уставлен, словно на банкет. Алексей небрежно вкушал и поглядывал по сторонам. Белоснежный официант уважительно смотрел на него из своего угла. Настроение было удивительно благодушным, настолько даже, что Алексею срочно захотелось им поделиться с Кариной. Пусть видит, что живет не с неудачником, а с человеком, нет, вернее сказать – предпринимателем, не служащим по найму в каком-то «левом» автосалоне, а самостоятельным бизнесменом. Са-мо-сто-ятель-ным! Теперь он принимает решения, причем по всем вопросам. И по ней, пусть и красивой, но бабе – тоже решения принимать будет он. Между супом и шашлыком Алексей начал живо представлять себе солнечные картины их будущего. А почему обязательно – их? Это он уже подумает, кого держать при себе, а кому, как говорится – «вот Бог, а вот порог». Телок у него, уж точно, будет с избытком, и чем больше капризов, тем меньше шансов удержаться рядом с ним. Или нет, надо жену воспитать в правильном духе, но не менять пока. Но пусть чувствует конкуренцию, а то много стала позволять себе, сука, в последнее время. Подумать только – еще наказывает тем, что не дает. Кому не дает – ему, кто ее взял из этого борделя на шестах, пригрел, приблизил…
– Извините, могу я вам предложить отличного вина к шашлыку?
Размечтавшись, Алексей даже и не заметил, как к нему вкрадчиво подошел официант. Алексей барином развалился в кресле.
– А знаешь, что? Я позвоню супруге, спрошу. Какое она выберет, такое и принесешь.
Официант поклонился в знак понимания. Алексей вытащил свою дешевую «Моторолу» и тотчас почувствовал, что телефон действительно какой-то устаревший, громоздкий, немодный, несолидный, негламурный. «Хоть бы деньги на счете были, – вдруг испугался Алексей, – а то перед халдеем позориться». Пошли гудки, значит, еще не все выговорил. На другом конце послышался ворчливый голос жены:
– Что-то срочное? А то я в салоне с подругой.
Огорошивать вопросом в лоб насчет марки вина не было никакого смысла – жена, скорее всего, подумала бы, что он звонит пьяный или в бреду. Поэтому Алексей зашел с другой стороны.
– Срочное, несрочное, но есть, о чем поговорить. Да и от кухни тебе надо отдохнуть. Не вижу причин, почему не сводить свою собственную жену в ресторацию. И я тебя уже жду, кстати, в… как ресторан называется?
– «Иберия», – снова поклонился официант.
– Ресторан «Иберия». Возьми такси, оплачу. Адрес – такой-то. Да, пока едешь, какое вино тебе заказать, дорогая?
Алексей почувствовал по паузе, что изумил жену. По крайней мере ввел ее в состояние болезненного любопытства, что практически гарантировало приезд.
– Что-то случилось, Леша? – немного настороженно, но уже гораздо ласковее спросила Карина.
– Да нет. Все путем. Просто давно не обедали вместе. Так какое вино? Ну, хотя бы красное или белое? Скажи, я сам выберу.
– Красное сухое.
Алексей довольно сложил трубку, в этот день у него получалось решительно все.
Мелькнула мысль для окончательного триумфа сходить, нет, послать официанта за цветами, розами красными… сухими – пошутил сам с собой Алексей, но все-таки полный набор удовольствий следовало приберечь на завершение всей комбинации. И вообще за что цветы? Алексей вспомнил, как еще сегодня ночью его законная жена не дала ему в грубой, даже изощренной форме. Нет, потом, когда он поднимется, надо будет решительно подумать насчет Карины. Детей у них нет, да она и не очень хочет, кажется. Ну, конечно, фигура, стриптиз, поклонники, какая беременность? Не нагулялась еще, сучка! Такую бабенку как любовницу хорошо держать, зачем надо было жениться, спрашивается? Говорил же ему папаша на свадебном банкете: «Таких не для себя берут, а для друзей». Хотя вот сам на молодой женат – лет на пять старше Карины, не больше. Но все расходы нес папик, поэтому что тут ответишь. А может, и правильно говорил, он, Алексей еще над этой темой поразмыслит. «Не дам» – ишь, как бабье обнаглело, вконец!
Карина появилась неожиданно, из-за спины. Взрыхлив рыжую копну волос мужа, села напротив, закинула ногу за ногу и достала из сумочки сигареты. Официант предупредительно наклонился с зажигалкой. Алексей выбросил все «мятежные» мысли из головы и плотоядно улыбнулся супруге.
– Кушать будешь что-нибудь? Меню?
– Нет, мне винца обещанного налейте. – Официант снова поклонился и исполнил желаемое. – А из закусок мне этого изобилия… – Карина обвела рукой с сигаретой их столик. – Вполне хватит. Ну, что случилось вдруг? Наследство от дядюшки из Канады? Или ты сорвал джек-пот в лотерею? Или выиграл в казино, дорогой? С чего это такой банкет? – пристала Карина, как только официант удалился на положенное расстояние.
Как ни странно, Алексей думал обо всем, кроме того, что он расскажет жене. Конечно, надо было все это держать в тайне, эффектно раскрыть козыри после окончания сделки. Теперь отделаться общими фразами не удастся, уж въедливей Карины существо надо было поискать. Ну, если шила в мешке не утаишь, то мешок не утаишь тем более. Алексей, придав повествованию максимально небрежный тон, рассказал о сегодняшней комбинации. Карина слушала внимательно, не перебивая, только нервно стряхивая пепел.
– Вот такая тема! – самодовольно закончил Алексей.
– Идиот! – коротко оценила «тему» супруга.
Хотя что-то ему подсказывало, что реакция Карины будет негативной, Алексей искренне возмутился:
– Да почему? И вообще, дорогая, ты какой-то странный тон выбираешь для разговора с мужем…
– Почему странный, если муж – идиот? – холодно продолжала «дорогая». – Ты хоть понимаешь, что теперь ни денег, ни машины ты уже не увидишь?
– Да с чего ты взяла?
– Это еще полбеды, кретин! – Карина не опускалась до объяснений. – Тебе ведь и процент небось накрутили мусовские бандосы, так? А когда они у тебя твое средство передвижения, что для тебя – роскошь, заберут, процент ты с чего отдавать будешь, умник? Значит – и до меня доберутся, уж это нещепетильные ребята. И до папаши твоего – профессора, чтобы ему икалось от его жадности, – тоже. Но папаша ладно, а я вот в бордель на несколько лет твой долг отрабатывать не собираюсь.
– Подожди, какой бордель? – Алексей был ошарашен.
– Тебе адрес сообщат, не сомневайся. – Карина закурила следующую сигарету сама, без церемоний и залпом допила стакан вина.
Алексей тоже закурил, затягивая дым глубже, чем обычно.
– Я в толк не возьму, что за Апокалипсис? Армагеддон какой-то. Все путем, деньги сданы под расписку, уж даже если и врут, возьму через месяц с меньшим наваром, оберну в другом месте или в разных местах, по частям. И человек у меня там свой – поможет, если что. За комиссию, конечно, но поможет. Хотя помогать-то не от чего, денег полно – я сам видел, без очереди прошел, кстати. Еще не у всех берут, между прочим.
Карина безнадежно вздохнула. Ее стриженая красивая головка даже упала на грудь, показывая полное изнеможение от тупости собеседника.
– Все будет хоккей, я тебе говорю! Давай лучше поедим спокойно. И вкусно. А то, знаешь, я пельменями чего-то уж перекормился.
– Кушай, кушай. Приятного аппетита! А я, пожалуй, пойду покупать чемодан.
Алексей отложил приборы.
– Какой такой чемодан? Зачем тебе чемодан? Ты собралась куда-то?
– Не куда-то, а откуда-то. С этой квартиры надо деру давать, дорогой, пока не поздно. Отыщут в два счета. В два прихлопа. В два притопа. Нет, прихлопа – будет точнее.
– Истеричка. Все будет путем, я тебе говорю. Новую квартиру снимать – только тратиться зря. На это денег сейчас нету. Да и при чем здесь деньги – это вообще не нужно никому.
Последние слова Алексей говорил уже себе – Карина походкой принцессы уплывала из зала. Алексей невольно остановил глаза на ее юных точеных бедрах, идеально выписывающих плавную женскую траекторию. Красива, чертовка, ничего не скажешь. Такие задницы только в лучших борделях… так, почему опять о борделях? Что она себе только нафантазировала, паникерша, в бордель ее продадут! Прямо багдадские страсти. Все будет нормально, все будет хорошо. По-другому просто и быть не может. Такие вещи случайно не совпадают – и человек у него из Подольска в машине, и кредит дали, и быстро так приняли, без очереди. Алексей ел сочный шашлык по-карски и занимался самовнушением. Конечно, странная расписка, ее, пожалуй, в суд не понесешь, даже рассматривать не будут, но кто говорит о суде? И все равно бумага есть бумага – всегда доказать можно, сколько денег и кому он сдал. Не, свое хотя бы вытащит, об этом и думать не надо. Но почему «вытащит», «вернет»? Есть основания какие-то для беспокойства? Офис солидный, народа много, несут спокойно. Человек, опять же, нужный есть, как говорят в Америке – инсайдер. Алексей подумал, что, пожалуй, надо было этого Архипова заинтересовать в конечном результате. Обещать, хотя бы пообещать отстегнуть немного с прибыли. Для надежности. Потом вообще подружиться, он бы ему поставлял таких же клиентов, откат делили бы. Алексей вспомнил, как всегда наставлял его отец:
«Всегда дружи так, чтобы тебе от дружбы пользы было больше, чем от тебя. Если человек тебе выгоден или может быть выгоден, налаживай отношения. Поноси его врагов, хвали его друзей и его самого. Люди падки на разные вещи, но на лесть падок каждый. То, что он про себя думает втайне, озвучь вслух и прилюдно, он неизбежно будет тебе благодарен, пусть пока тоже втайне, про себя. Нужный человек не должен знать, что он может быть нужен, но он должен радоваться, что оказался нужным именно тебе в нужный момент. Дружи всегда в свою пользу и не будешь жить в кредит. А за свой грош везде хорош».
Мать всегда сильно укоряла отца за такое отношение к людям. Алексей еще подростком помнил их ссоры в Красноярске, в небольшой двухкомнатной квартире.
– Ну, чему ты учишь ребенка, Петя?! Как можно без нормальных человеческих отношений? Ты что, меня любишь тоже по корысти?
– Это ты за меня вышла не по любви, а по нужде. Забыла обстоятельства? Напомнить? Куда бы ты делась, если не я? Спилась бы в своей Ивановке захудалой, а сыночек твой бы по кривой пошел. И дошел бы – до тюрьмы в лучшем случае, а не то пырнули бы по пьяни или сам бы блевотиной под забором захлебнулся. Глянь вокруг, дура! – Отец переходил даже не на крик, а на ор, так что в квартире дребезжали стекла. – Выживают только ловкие! Я на Москву уже нацелился, а она меня тут, сука деревенская, попрекает! Ты своему выблядку хочешь московское образование, а? Я тебя спрашиваю?!
Мать быстро сдавалась и сквозь слезы признавала правоту отца, умоляя больше не кричать. Такие стычки скоро стали регулярными и вспыхивали уже, казалось, без всякого повода. Поэтому Алексей не очень удивился, когда отец сказал ему однажды:
– Я получаю хорошую должность в столице. Через месяц переезжаю. Именно переезжаю, в единственном числе, потому что мать не поедет. И она не хочет, и я, честно говоря, смысла не вижу. Как укреплюсь в Москве, разведемся официально, а сейчас хочу спросить тебя. Ты достаточно взрослый, чтобы разбираться в жизни. Мы решили с матерью оставить выбор за тобой. Можешь поехать со мной, хорошую спецшколу, потом институт я тебе обеспечу. Ну, потом сам, конечно, поплывешь. А можешь остаться здесь. Вернее, даже не здесь – квартиру будем продавать, – а поедешь с матерью в деревню. Будешь там трактористом, наверное, и всю жизнь будешь трактористом. Не работать трактористом, а быть трактористом – вот твой потолок там. Думай, я должен знать завтра.
Лешка насупленно кивнул и пошел в общую комнату – вторая была отцовским кабинетом, там можно было появляться только по его зову. Паренек уткнулся в материнское плечо, теперь они плакали оба.
– Хороший мой, сыночек мой, – гладила его по голове мать, – ты же не бросишь мамку свою, не оставишь, защитник мой?
Лешка сопел, мотал головой, но вдруг почему-то подумал, что всю жизнь ходить в грязных сапогах и промасленной рубахе, как ходят в его представлении трактористы, ему не особо хочется. А хочется, чтобы ребята из двора завидовали, что он учится в какой-то непростой, а специальной школе, куда берут не всех, а самых, самых, таких, как он, Лешка. И никто его не будет дразнить рыжим, как тут, в красноярской школе, где даже девчонки в их шестом классе уже курят и целуются с мальчиками в туалете. Он, может, тоже умеет курить, но в компании его не брали, даже на побегушки, и ни одна девочка не хотела, чтобы он нес до дома ее портфель. Никто не хотел дружить с ним, с рыжим. Теперь они все сами станут рыжими и конопатыми, потому что он один не просто съездит в Москву, где никто из этих трактористов и в мечтах-то не был, а поедет туда жить. И учиться в особой школе, где все вежливые и улыбчивые, где все воспитанные и где много всяких нужных людей. Вот тогда они все, особенно Васька со второй смены, который ему недавно поставил фингал просто так, на спор, откроют рты и пожалеют. Еще как пожалеют, особенно Ленка с пятого «Б», пожалеют до слез…
Когда они уезжали с отцом на вокзал, Лешка старался не смотреть матери в глаза. А она, как-то неприятно опухшая от бесконечных слез, неопрятная даже, все не хотела отрывать его голову от своего живота, все гладила его рыжую шевелюру, все надсадно и глупо скулила над ним, Лешке стало за нее даже стыдно. Он вывернулся и отошел за спину отца. Отец коротко попрощался, и они пошли в лифт – внизу уже ждало такси. Так он и запомнил мать – с красными опухшими веками, в засаленном сером платье, сидевшем мешком, с руками, нервно скрещенными на животе и теребящими какую-то кухонную тряпку.
Потом от нее приходили письма – по штемпелю было понятно, что из той самой Ивановки, деревни, где мог бы прозябать и он, Алексей, выпускник знаменитого Московского автодорожного института, блестящий молодой менеджер, женатый на одной из самых красивых сучек Москвы. И пусть сейчас он только выходит из пике, но где видано испытать взлет без падений? А вот в этой глухомани все так и вышло, как выходит в глухомани. Письма приходили около года каждую неделю, отец читал походя строки, предназначенные ему – на руки не давал, говорил, много чего не про его честь написано, но всегда повторялось из письма в письмо – ждет его мать на каникулы, на отдых, и тут же про помощь – трудно одной и работу и хозяйство тянуть, забор, крыша, еще что-то требовало вечного ремонта. «Не без пользы приглашает отдохнуть», – замечал материн интерес Алексей, понимающе усмехался и гордился своей проницательностью.
Потом письма стали приходить заметно реже, а в один день пришла телеграмма из этой Ивановки, но не от матери. Почтальон заставил расписаться в получении, только потом отдал. Отец зашел в квартиру, допил кофе и только после взглянул на бланк. Смешными наклеенными печатными буквами говорилось о смерти в результате трагического случая на производстве гражданки Лыковой Оксаны Григорьевны и сообщалась дата панихиды. Отец несколько раз пробежал глазами строчки, вытащил из кухонного бара початую бутылку коньяка, налил себе, подумал, налил вторую рюмку и позвал сына.
– Помянем, Алексей. Оксана… мать… умерла.
Лешка учился уже в восьмом классе, пробовать алкоголь, хоть и немного, приходилось. Прочитал телеграмму и выпил не чокаясь. Закашлялся, отец дал ему стакан воды. Лешка выдул весь стакан, на лбу выступили росинки пота.
– Вместе поедем? – полуутвердительно спросил отца.
У самого Лешки были взрослые баки, взрослые темно-рыжие усики, но не было паспорта для взрослых. Один он лететь бы не смог. Отец выпил еще рюмку, убрав вторую из-под сыновьего носа, и сказал: «Завтра будем поглядеть». Но на следующий день у профессора Лыкова было назначено оппонирование по диссертации какого-то очень важного и нужного человека, нужно было полночи готовиться. Не полетели и на следующий день – после удачной защиты был не менее удачный банкет, нужный человек его очень благодарил. А вылетать потом было так и так поздно, до Красноярска еще куда ни шло, а до Ивановки к похоронам добраться уже было все равно нереально. Тогда Лешка первый раз крупно поссорился с отцом, психанул и сбежал из дома. Его скоро доставил наряд милиции – в те времена им еще было дело до подростков, ночующих на вокзале без вещей. Лешка держал форс еще два дня – не разговаривал с отцом, только буркал что-то невразумительное в ответ. Потом на выходных отец слетал все-таки в ту Ивановку, вернулся, сказал коротко – бревнами на сплаве придавило. Добавил, что дом надо продать, и поручил ему разузнать среди одноклассников, не купит ли кто по сходной цене из их родителей, обещал ему премию, если выгорит. Лешка буркнул «ладно», но никого назло спрашивать не стал. Но отец обошелся и без него, дом купил кто-то из его красноярских знакомых. Когда Лешке стукнуло шестнадцать и он получил свой первый в жизни паспорт, то хотел чуть не на следующий день вылететь в Красноярск. Но отец денег не дал – сказал, зряшные расходы, да и хоть с паспортом, хоть без, а он все одно еще мальчишка, стопроцентно влезет в какую-нибудь историю, ему, профессору, недосуг будет бросать дела и выручать его. Лешка снова обиделся, но из дома убегать не стал – решил, поступит в институт и с первой стипендии вылетит. Но первая «стипуха» отмечалась так весело, с такими шикарными девчонками, оказавшимися на их курсе, что бросить даже на пару дней свою новую пассию Лешка никак не мог. Летом он через комсорга, с которым подружился сразу после назначения того, устроился пионервожатым в «Орленок», где познакомился с другой, еще более очаровательной пассией. Потом были «картошки», летние шабашки в составе знаменитых стройотрядов, что-то еще, непременно важное и нужное. Поездка к матери откладывалась с года на год, приурочивалась всегда к завершению какого-то процесса – то ли очередного курса, то ли диплома, то ли экзаменов. После института жизнь завертела – по специальности работу гарантировала только советская власть, которую с таким воодушевлением помогал свергать в том числе и Алексей, его рыжий чуб часто мелькал в толпе бездельников с горящими глазами у Белого дома. Там он, кстати, познакомился с очередной девушкой, и революционная любовь, как обычно, сразу стерла все предыдущие. Потом, когда он уже менеджерил на капиталистической холодной свободе, вроде бы ничего не мешало, но пришла выбирать машину такая девушка, такой модельной выточки, которой позавидовал бы любой спортивный болид, что он выкинул из головы патриотический романтизм и сразу забыл подругу по баррикадам. Девушкой-болидом была Карина. И его жизнь понеслась с чемпионской скоростью «Формулы-1». Промелькнули свадьба, переезд в шикарную съемную квартиру, свадебное путешествие на Тенерифе, пирушки с завидующими во все слюни друзьями и что-то еще, и что-то такое, пока не вынесло на повороте в хибару в Печатники. Красивая жизнь уже была видна только в зеркало заднего вида. Но ничего, решил сейчас Алексей, только сделаю немного денег, надо съездить к матери, побывать на могиле. Какой-то месяц, конечно, ничего не решит, но приедет победителем. Обязательно приедет, доедая шашлык еще раз подумал Алексей, и потребовал счет.
6
Первое беспокойство вселилось в Алексея накануне дня получения денег из «Властилины». Он хотел договориться с Архиповым, подъехать к определенному часу, чтобы снова не стоять в очереди, но Колин телефон оказался заблокированным. Не «абонент недоступен», не «не в зоне действия сети», а именно заблокированным. Это могло означать одно из двух: либо Архипов не пополнил счета, либо – и этого опасался Алексей – сменил номер. Алексей проворочался всю ночь, ничего не смог сделать для Карины, обиженно отвернувшейся к стенке, а рано утром, наспех позавтракав бутербродом с чаем, завел свою «Тойоту» и помчался в Подольск.
Внешне у офиса «Властилины» ничего не изменилось – так же толпился народ, записывался в очередь, те же хмурые охранники запускали время от времени людей и перегораживали вход для остальных. Алексей справился по поводу очереди – сегодня пускали записавшихся еще два дня назад. Сегодня запись шла, соответственно, на послезавтра. Алексей пытался найти очередь на получение денег или машин, но такой очереди не было – все стояли сдавать. «Странно, но кто-то же и получать должен. И сегодня, и вообще каждый день, раз сдают каждый день?» – недоумевал Алексей. Кто-то посоветовал спросить у охраны. Алексей осторожно, поминутно извиняясь и просительно заглядывая в хмурые небритые лица, добрался до крыльца. «Насчет выплат отдельное объявление будет», – малопонятно выразился охранник.
– Я от Архипова. От Николая. Он здесь, кстати? – использовал инсайдерский аргумент Алексей.
– Не знаю такого. Отойдите.
Алексей огорошенно сдал позицию у крыльца, его быстро оттерли куда-то в хвост. Вот это было непонятно и тревожно. Но Алексей взял себя в руки, подавил панику и закурил. Ну, мало ли, что не знает, охранник не обязан всех знать, а Архипов, точно, при делах, как бы тогда они зашли так быстро внутрь? И телефон заблокирован, у него тоже часто блокировали, человек, может, не успел счет пополнить. Да и если сменил даже, появится же он здесь, в конце концов? А если он уехал куда-нибудь? Сколько ждать-то? Дежурить здесь каждый день, так времени нет, Мусе долг с процентом сегодня отдавать, между прочим. Ну, а без Архипова почему нельзя свои деньги получить? Зря он тогда не уточнил, какой порядок получения денег. Может, специальный день какой? Может, даже в другом офисе, филиале каком-нибудь? И что значит – «будет отдельное объявление»? Когда будет? Где будет? Вывесят или с крыльца объявят? Или еще как? Черт, надо было у охранника спросить поподробней, досадовал Алексей.
Через пару часов все было точно так же, как с утра. Архипов не появлялся, народ заходил, выходил с бумажками, запускали следующих. На всякий случай Алексей записался на послезавтра – хоть что-то, но надо было делать. Он потерся среди людей, покурил с кем-то, с кем-то так поговорил, но нашел все-таки несколько человек, пришедших, как и он, не сдавать деньги, а за деньгами. Информация оказалась неутешительной. Во-первых, их принимали в порядке общей очереди. А во-вторых, деньги не выплачивали и квартиры с машинами не выдавали – ставили продление еще на несколько месяцев.
– Какое еще продление? – недоумевал Алексей.
– А такое, – отвечал кряжистый мужик в белой холщовой кепке, – если новых денег не сдаешь, тебе на квиточек ставят новое число.
– Какое число? – пытал Алексей.
– Ну как какое? Дату новую ставят. Проценты, правда, обещают соответствующие.
– Погоди. А если мне не надо продления и процентов дополнительных? У меня вот месяц прошел, куда продлять-то? Мне сегодня надо! – настаивал Алексей.
Мужик кривил рот с золотыми фиксами и чесал под кепкой голову.
– Мало ли что кому надо. Мне тоже давно надо. Но у нас же не написано нигде, что вот деньги, столько и столько именно сейчас получать. У тебя, наверное, так же – сумма и дата, и все. Требовать мало что можно. А тут пара умников хотели на крик взять, так им до конца года продление сделали, вот, не появляются даже, давно их не видел. С этими волками… – мужик кивнул фиксами на крыльцо «Властилины», – лучше не спорить, себе дороже.
Алексей отошел к машине и открыл уже вторую за полдня пачку сигарет. Крайне не хотелось признавать, что Карина оказалась права, и еще больше не хотелось думать о последствиях. Надо было что-то решать с долгом. Ехать к людям Мусы было не с чем и поэтому страшно. Не ехать тоже было страшно. Алексей начал лихорадочно соображать по поводу отмазок, чтобы выиграть хотя бы два дня, необходимые, чтобы пройти в эту идиотскую «Властилину» в порядке очереди. Но в голову ничего не приходило – не возьмешь же в самом деле бюллетень, как в институте. С другой стороны, два дня не так уж критично, что они, прямо по часам там следят, что ли? Послезавтра он спокойно войдет, все решит, просто не может не решить свой вопрос, и никто его за эти два дня просрочки не спросит. А если не решит? А если это козлиное продление? Кто только такую хрень придумал – продление? И сколько они так будут продлевать? Если до конца года, то Муса ему голову открутит. Все очень похоже на то, что говорила Карина. Сучка сучкой, а чуйка есть, не отнимешь.
Постепенно Алексей начинал понимать, что денег он не получит – ни с прибылью, ни своих, в общем, никаких. Осознание того простого факта, что его элементарно «кинули», что он, как последний лох, принес добровольно свой денежный кирпичик в эту обычную, примитивную, простую, как пузырь, финансовую пирамиду, поднималось в нем, как поднимается на поверхность воды страшный, распухший утопленник с выпученными синими глазами. Самое ужасное было в том, что утопленник свистел ему прямо в ухо диким шепотом, что это он сам себя «кинул», что виновных, кроме него самого, нет и их даже искать не стоит. Алексей почувствовал, что сейчас заплачет, зарыдает, как последняя баба, уронив голову на руль, от обиды и безысходности.
Уже стемнело, когда Алексей тронулся домой. Весь день он крутился в толпе, расспрашивая, знает ли кто невысокого плотного человека из «властилиновских» по имени Николай Архипов, но никто точно ничего сказать не мог. Кто-то неопределенно кивал, мол, слышал о таком, но называл его Сергеем или Василием, кто-то видел мужчину, похожего по описанию, среди бандитов, якобы «крышующих» эту «Властилину», но толком узнать ничего не удалось. Алексей с тупым исступлением набирал и набирал номер Архипова, но слышал все одно и то же сообщение о блокировке. Алексей был до того расстроен, до того погрузился в тяжелые думы, что, выходя из машины, не заметил, как за его спиной выросли два крепких силуэта. А когда обернулся и заметил, не успел ничего сказать – страшный удар в солнечное сплетение переломил его пополам.
– Ты, кажись, забыл о сроках.
Алексей с трудом поднял голову. Перед ним стоял Мозг с таким же, как он, качком. Они были похожи друг на друга, как два орангутанга, только на Мозге была кепка до самых бровей. Алексей хотел ответить, что как раз ничего не забыл, что ему нужно еще два дня по техническим обстоятельствам, что не по его воле… но второй удар локтем в спину опрокинул его на землю, прямо под колеса его машины.
– Ты и о бабках, кажись, забыл, – грустно констатировал Мозг.
– Не бейте, ребята, подождите. – Алексей хотел встать, но сил хватило только, чтобы опереться спиной на скаты. – Я не успел… не успеваю… послезавтра вынимаю деньги…
Удар ноги в лицо вернул Алексея на исходную позицию на асфальт. Мозг присел перед ним на корточки, взял за скальп и повернул разбитым лицом к себе.
– Чего ты там всовываешь и вынимаешь, Мусу колышет меньше всего. Сейчас мы заберем твою бричку, это полдолга. Остальное с процентами… когда ты там вынимаешь? Вот – послезавтра. И не заставляй нас тратить бензин на езду в твою жопу мира, привезешь на Варшавку, где и брал. Понятно тебе, вынимальщик хренов? А если непонятно, то мы тебе сами вставим по самое не могу.
Алексей выдавил из разбитых губ «понятно, все понятно». Его пнули еще раз для порядка, обшарили карманы, забрали ключи и документы на машину. Только минут через десять, когда бандиты уехали, Алексей кое-как встал на ноги, как мог, отряхнулся и поковылял к подъезду.
– Ну, что я говорила, – причитала Карина, смывая ему с лица кровь промоченной в водке салфеткой, – ну ясно же было последнему идиоту, что лохотрон не для того создан, чтобы ты деньги за месяц удваивал. Это они удваивают, удесятеряют за счет таких лузеров, как ты. Ловят вас таких на халяву, как плотву, да ты и есть плотва. Господи, где были мои мозги, когда я выходила замуж?!
Алексей молча глотал обидные слова и с ужасом думал, что произойдет, если Каринин сценарий и дальше будет выполняться так провидчески. Хорошо, что хоть сама Карина об этом пока не говорила, ответить ему было нечего. Алексей забрал бутылку и опрокинул в горло. Анестезия подействовала довольно быстро. Он поднялся, сел за стол, ощупывая челюсть.
– Закусить есть чем?
Карина всплеснула руками.
– Ему о шкуре своей думать надо, а он закуску требует!
– Ну что, так пить, что ли? – огрызнулся Алексей, его стал колотить озноб, но не от температуры, а от злости.
Карина прочувствовала момент, не стала пока перечить, нашла что-то в холодильнике и положила на стол. Общая беда сблизила их в эту минуту. Алексей пил, брал пальцами промасленные шпроты, снова пил и мутнел. Он представлял себе планы ужасной мести, как найдет где-нибудь оружие, пистолет, а лучше – автомат, поедет и поставит Мозга у стенки. Чтобы он дрожащими губами просил пощады, суетливо вынимал деньги из всех карманов и предлагал выкупить свою никчемную жизнь. А он, а он наступит на них ногой и пустит очередь прямо у Мозга над головой, над его гребаным обезьянним мозгом… нет, лучше сразу в живот, чтобы корчился с кровавой пеной на губах…
Когда Алексей проснулся, было уже глубоко за полдень. Алексей рванулся было за штанами – нужно же было срочно ехать в Подольск за деньгами… нет, проверять очередь… Тут он вспомнил все события вчерашнего дня и опустил руки. Ехать было не на чем и, очевидно, не за чем. И, уж точно, не сегодня. Получались какой-то вынужденный простой и тупик одновременно. Простой в тупике. Алексей пошел в трусах на кухню – срочно надо было опохмелиться. Карины, как и следовало полагать, дома не было. Водки тоже не было. Алексей выпил пока воды из крана и начал искать заначку. Ощупал одни брюки, другие, куртку – какая-то несерьезная мелочь, медяки. Стал шарить в женских отделениях трюмо – словно женщины хранят деньги в белье – и вдруг осознал приятную мысль, что, раз ее вещи здесь, значит, Карина не сбежала. Алексей улыбнулся про себя – сука сукой, а не бросила. Значит, не разлюбила до конца, значит, все-таки верит в него. Ну а он что-нибудь уж придумает, он мужчина, в конце концов, Карина еще не раз будет им гордиться. Еще придет время, когда они со смехом будут вспоминать эти дни из бурной молодости. Черт, ну хотя бы одна купюра. Алексей вдруг похолодел. А где расписка из «Властилины»? В бумажнике, а где бумажник? Его вчера бандосы шмонали, документы на машину забирали, а бумажник-то где? С собой прихватили, гады? Или выбросили там же, а он и не подобрал? Голова-то не очень с побоев соображала. Алексей, стоя, не присев на диван, стал спешно натягивать штаны, чуть не упал и, справившись наконец, выбежал во двор. Без особого труда найдя место, где вчера припарковал свою – уже не свою, еще посмотрим – «Тойоту», Алексей стал на корточки, мысленно разбил пространство на квадраты и начал буквально обнюхивать сантиметр за сантиметром. Если вкупе ко всему пропали еще и документы, то это уже полный капут. Ни денег, ни расписки на деньги, ни машины, ни документов – считай, ни его самого. Нет, ну за что такое невезение, ну почему каким-то козлам прет, почему ему выпадает такое говно, кому он сделал столько зла, за что, за что, за что?!!
Алексей ползал уже больше получаса среди припаркованных по соседству автомобилей, пугая прохожих, сокращающих через стоянку путь во двор. В мятых штанах и майке он был похож на бомжа, ищущего объедки. Хотя, по большому счету, он был недалек от этого. Алексей шарил по углам и за колесами уже без всякого плана, наудачу, то повторяясь, то кидаясь на новое место, через слезы отчаяния подвывая и скуля. Вдруг за очередным колесом рука наткнулась на какой-то небольшой упругий кожаный предмет. У Алексея замерло сердце. Еще не веря удаче, он медленно вытянул руку – это был его бумажник. Алексей лихорадочно распотрошил его – паспорт, даже права были на месте. В паспорте лежала та самая расписка. Алексей издал торжествующий вопль, словно нашел не расписку, а сами деньги, которые там обозначались. В тайном отделении нашлась и пара сотен рубликов. Алексей выдохнул еще раз, основательно, поднялся, отряхнул небрежно колени и, прижимая кошелек к сердцу, отправился в ближайший универсам.
Вернувшись домой под вечер, Карина с удивлением застала мужа навеселе в обоих смыслах этого слова – Алексей был почти вдрызг пьян, но весел. Ей даже подумалось, что муж как-то решил надвинувшуюся серьезную проблему. Но из невнятных ответов Карина, к своему разочарованию, поняла, что он всего-навсего решил самую маленькую – нашел бумажник после вчерашнего побоища. Включив телевизор, Карина раздраженно поставила на огонь кастрюлю – сегодня на ужин были сосиски. Деньги фатально заканчивались, ей было понятно, что надо всю эту историю прекращать. И с наездом, и с мужем. Он не то что ее прокормить не в состоянии, вскорости просто сядет ей на шею. А что придется возвращаться в стриптиз, она не сомневалась. Ее, конечно, с руками и особенно с ногами в любом клубе оторвут. Но она танцевала и спала с клиентами, чтобы выйти замуж в Москве и начать наконец-то настоящую женскую жизнь – жить на обеспечении мужа и спать с теми, кто нравится, а не с теми, кто платит. Начинать сначала – всегда утомительно. А тут еще такой наезд. Как она поняла, завтра придут снова. Где они живут, известно. (Откуда, кстати, известно? Этот козел рассказал или отследили? Да уж все равно.) То, что бандиты мимо такой элитной бабы не пройдут, это как пить дать. Нет, надо валить. Без всяких соплей, романтических записок и предупреждений. Просто исчезнуть, и все. Слава Богу, он ее подруг-танцовщиц не знает. Карина покосилась на мужа – тот тупо рассматривал экран, с которого рассказывали об очередных застреленных в своих мерседесах. Сплюнув про себя, Карина решила завтрашнего дня не дожидаться – собрать вещи, когда этот спьяну задрыхнет, и свалить по-тихому ночью. Черт их знает, этих бандосов, может, они в засаде уже сидят.
По-видимому, новости формировались по принципу нарастания трупов. Теперь потерпел крушение Ил-96, причем рухнул где-то в тайге, не долетев около двухсот километров до Красноярска. Карина сделала шаг к телевизору – что-то заставило ее сделать звук погромче. Разбилось много известных людей, одна актриса, какой-то московский чиновник с женой, международная делегация бизнесменов, летевших с какого-то экономического форума в Японии, соболезнования, соболезнования, соболезнования. Карина, еще не понимая, зачем, переключила на другой канал – там новости должны были идти через пять минут. Сосиски уже начали расползаться, но женщина не обращала на них никакого внимания. Снова пошел сюжет про самолет. Алексей протестно замычал – сколько можно смотреть одну и ту же чернуху, но Карина так смачно шикнула, что муж удивленно заткнулся и тоже стал смотреть в экран.
– Исчез с радаров над Ирбейским районом Красноярского края, – повторила за диктором Карина и резко повернулась к мужу, – ты мне говорил как-то… название такое запоминающееся… ты из тех мест, что ли?
– Не совсем, – пьяно ответил Алексей, – сосиску дай уже, жрать охота.
– Вам, козлам, только жрать, – подала ужин Карина и присела рядом, – я тебя спрашиваю – ты из тех мест родом или нет?
– Там, в этом районе деревня есть, родители оттуда родом, а сам-то я в Красноярске родился, – с набитым ртом гордо ответил Алексей, – а что?
– Гляди ж ты. В Красноярске памятник еще не поставили своему великому гражданину? – поддела Карина.
Алексей проглотил сосиску и потянулся к бутылке. Карина твердым жестом отодвинула водку.
– Родители, говоришь?
– Ну да! И мать там похоронена, вот выкручусь, съездить надо будет. А что?
Карина закусила губу, посмотрела на экран – диктор сообщал уже о чем-то другом, – потом на мужа.
– А то, придурок! Ты туда полетишь завтра же. Нет, сегодня вечером или ночью. Первым рейсом!
– Зачем это? – опешил Алексей. – Мне завтра во «Властилину»…
– Да забудь ты про этот лохотрон подольский. Ты слышал, сколько богатых людей летело на этом самолете?
– И что?
– Не врубаешься, кретин? Самолет в тайге упал, в тех местах, откуда у тебя родня. Значит, кого-то из знакомых найти можно, договориться с каким-нибудь егерем, взять его в долю.
– В какую долю?
– В такую долю! – Карина села ближе, поджав красивые ноги, глаза ее заблестели. – Нужно найти самолет раньше, чем спасатели. Даже и необязательно раньше – там добра на километры раскидано. Там одни часы с руки члена бизнес-делегации стоят больше в десять раз, чем твоя сраная «Тойота» и твой сраный долг. А если чемоданчик с деньгами? А акции на предъявителя? А драгоценности их телок? Да мало ли что можно найти!
Алексей провел пятерней по рыжей шевелюре.
– Погоди, погоди. Ты что это предлагаешь? Это же… мародерство в чистом виде.
– Это здравый смысл в чистом виде. Здесь тебе жить нормально до завтрашнего вечера осталось, если вообще жить. А ни бабки, ни цацки тем недолетевшим уже не помогут. Зато нам еще как помогут, выручат просто. Да еще на хлеб с икрой останется. Тебя нет, я к подруге перееду пока – оближутся твои бандосы, да своими разборками займутся. Вернешься, отдашь с процентами, и все, ты их скинул. Еще раз говорю – там не то что на новую «Тойоту», на новую жизнь найти можно. Одевайся, по пути заедем к одной… знакомой… одолжит на билет… и сразу в аэропорт. А там – все в твоих руках.
Алексей оторопело посмотрел на жену.
– Ну… Карин, это все-таки как-то… некрасиво, что ли… что я буду – мертвых обирать? Да и тайга там такая – зайти легко, а выйти уже трудновато. А самолет найти, так это даже поисковым бригадам, с оборудованием, рациями, компасами, радарами и прочим снаряжением, не сразу удается.
Карина отодвинулась.
– Это кто про красоту тут говорит? Пьянь, живущая в долг, и то, когда срок уже весь вышел? Ты на рожу свою посмотри, не ленись, встань, подойди к зеркалу и посмотри. Это они с тобой вчера сделали. И это еще было, что забрать. А завтра, когда нечего будет забирать, что они с тобой сделают, представляешь? Вот что ты тогда про красоту, которая спасет мир, но уже без тебя, вот что ты тогда скажешь, недоумок? Самолет – не самолет, а что-нибудь с самолета найти вполне реально. Как грибы или ягоды. Надо только волю напрячь и силы, то есть быть мужчиной хоть раз в жизни. Вот это тот самый раз, а то подохнешь от переломов, как собака. Учти, мне тебя лечить будет не на что. Все, или ты едешь немедленно со мной, а потом в аэропорт, или я еду одна, но к подруге и навсегда. Развод и девичья фамилия, понял? Я на жену ходячего трупа не подписывалась.
Алексей молча ковырялся в тарелке.
«А если ты из тайги не выйдешь, – додумала про себя Карина, – тоже неплохо. Я как свободная вдова на твоего папашу насяду, свою часть имущества всегда отсужу. Или откупится старый хрыч. Но что-нибудь, да поимею. Наши судьи вдов любят».
Карина встала из-за стола, достала с антресолей чемодан и стала кидать туда вещи. Алексей мрачно доел сосиски, поглядывая на жену, потом залпом допил оставшуюся водку прямо из горла и, качая головой, будто не веря самому себе, начал собирать старую спортивную сумку.
7
Уже прошло почти полсуток, как Алексей добирался до родных мест. Он старался не трезветь. Энергетический вихрь Карины, который вовлек его в эту авантюру, не ослабевал, Алексей чувствовал его буквально физически, как будто его подталкивали в спину. Поначалу, в самолете на Красноярск, он больше недоумевал по поводу самого факта его вылета, иногда ему казалось, что такое резкое изменение жизни возможно только во сне или в кино. Поэтому Алексей и смотрел на себя и на то, что с ним происходит, со стороны, как будто из зрительного зала на экран, где шел фильм с его участием. Заказывал у стюардесс одну бутылочку водки за другой, опорожнял и глядел в иллюминатор, где над облаками зловеще разливался багровый рассвет. Казалось, закрой он глаза и откроет уже на своем вдавленном привычном диване в квартире в Печатниках, потянется и пойдет искать в холодильнике что-нибудь на завтрак. Но Каринин вихрь вдруг пихал его в затылок, и Алексей непроизвольно начинал расспрашивать бортпроводниц: что слышно по поводу рухнувшего самолета, нашли ли, где именно ищут, что вообще случилось? Проводницы пожимали плечами, они ничего толком не знали и успокаивали нервного пассажира малой вероятностью повторного крушения на одной линии. «Ну да, снаряд в одну воронку не попадает», – соглашался Алексей и просил еще водки. Выпив очередную порцию, он начинал прикидывать, что надо в такую рань, не тратясь на такси, добраться на железнодорожный вокзал, купить билет до Ирбейского или же прямо в аэропорту купить билет на местный рейс. Соображал также, где лучше купить палатку и самое элементарное снаряжение – сапоги, компас, тушенку и прочее. Где разузнать – есть ли в этом Ирбейском магазин «Охотник» или лучше все достать в Красноярске, хоть и придется переть лишние километры? Вопрос насчет снаряжения решился сам собой – поезд на Ирбейский отходил еще до открытия любых магазинов. Алексей почти не заходил в свой вагон – все больше стоял в тамбуре. Курил и смотрел, как бегут назад пушистые ели, могучие лиственницы, разросшиеся и переплетенные кусты, и пытался себе представить, что он там, внутри этого дикого лесного царства, в тайге, один, с каким-то юннатовским рюкзаком, ищет какую-нибудь медвежью тропу, делает зарубки на деревьях, разводит костер. «А волки? Или медведь? – вдруг мелькнула холодная мысль. – Как я без ружья туда сунусь-то?» И тут же вихрь подталкивал в голову другую, рассудительную: «Там, в деревне, у каждого двустволка должна быть, сторгуюсь как-нибудь». Алексей даже провел осторожный разговор с проводницей: дескать, что слышно, что говорят по поводу рухнувшего самолета? Проводница – дородная тетка с испитым лицом – только равнодушно пожала плечами и справилась насчет чая. У Алексея создалось такое впечатление, что местных людей вообще ничего не интересовало, жизнь здесь была похожа на стоялое лесное озеро – никаких кругов по воде. Отхлебывая горячий чай из стакана с резным металлическим подстаканником, Алексей вдруг почувствовал какой-то особый, старинный зов. Он уже не ехал просто из Москвы, он ехал в заветные родные места, вернее уже – по родным местам, пусть и не бывал тут никогда. Но он четко ощущал, что именно здесь все начиналось, начинался он, что его история жизни больше, чем он сам. Что Алексей Петрович Лыков в Москве – всего лишь ветка какого-то огромного кряжистого дерева, перенесенная на чахлую городскую землю и неудачно привитая к гнилому столичному стволу. Следующую кружку крепкого вкусного чая Алексей допивал, уже рассматривая людей на платформе – поезд на медленном ходу въезжал на Ирбейский вокзал.
Чем дальше, тем оказалось легче. Алексей, который еще вчера не мог себе и представить, что выедет дальше Подольска (про «Властилину» даже и не вспоминалось), быстро сориентировался в районном центре. Денег, добытых Кариной – по ее язвительному замечанию, – вкладу в экспедицию, хватило и на рюкзак старого, но надежного советского образца с бесчисленными карманами, и на карту, правда, слишком крупного масштаба, и на компас, на веревки, зазубренный охотничий нож, сухой спирт и болотные сапоги. Переложив вещи из сумки, да и саму сумку, в рюкзак и купив в дорогу большую пластмассовую бутылку пива, Алексей отправился на автобусную остановку – оставался один «прыжок» до базовой цели, села Ивановки. Судя по желтой табличке, качавшейся от ветра, до отхода автобуса оставался еще целый час. Но Алексей решил никуда отсюда не уходить. Во-первых, в России автобус мог уехать когда угодно, а во-вторых, от дорожного пьянства последних часов он уже притомился, чтобы глазеть на местные достопримечательности. На остановке пока никого не было. Алексей положил рюкзак в угол остановочной скамейки и прилег, свесив ноги на землю, чтобы местные менты не приняли его сразу за бомжа, если что. Металлическая ржавая огородка хорошо защищала от ветра, курить, запивая дым пивасиком, было очень даже уютно.
Алексей снова прикинул в уме Каринин план. Теоретически, конечно, шансы были. И диктор точно сказал, что катастрофа случилась над территорией Ирбейского района. Узнать по справочникам, какую площадь занимает этот район, сразу ни Алексею, ни Карине в голову не пришло, да и некогда было. То, что эта территория составляет более десяти тысяч квадратных километров, Алексей понял только сейчас, когда покупал карту области. Если иголку в стоге сена можно найти, хотя бы уколовшись, то наткнуться в тайге на такой площади на рухнувший самолет, или его фрагменты, или на какие-нибудь чемоданы, возможно было исключительно по счастливой случайности. Но здравые рассуждения выдувал Каринин вихрь, укрепленный алкогольными парами, – в воображении Алексея то и дело всплывали кейсы, доверху набитые долларами, бриллиантовые колье, висящие на ветках прямо перед глазами, и всякие другие сокровища. О том, что неподалеку должны валяться изуродованные тела их обладателей, Алексей предпочитал не думать. Карина все-таки права – этим неудачникам все это уже не нужно. Алексей даже злорадно представлял себе, как эти люди, возомнившие себя хозяевами жизни, орали в последний момент падения самолета, как они запоздало молились и готовы были поменять все деньги мира на обычную штатную посадку в Красноярском аэропорту. Почему ему в конце концов не должно повезти? Этим вот пассажирам не повезло по-крупному, значит, их удача должна перейти тому, кто пойдет по их следу. А что касается спасателей – так чем раньше они найдут самолет, тем лучше. Им-то нужны «черные ящики», а не вещи пассажиров. Станет известно, где рухнул этот рейс, значит, нужно будет просто сужающимися кольцами обшарить все вокруг километров на двадцать – тридцать, не больше, и наверняка найдется что-то богатое. Единственно плохо, что местные егеря или охотники тоже сообразят, что можно поживиться. Вот конкуренцию тут никак не обгонишь – они профессионалы, с детства в тайгу с отцами на охоту ходят. Алексей даже сел на скамейке от волнения – а если богатую добычу уведут у него из-под носа? Да и они наверняка времени не теряют – уже шарят по тайге. А с другой стороны… это ж глухомань, может, они тут и телевизора-то не смотрят? Вон проводница уж в курсе всех новостей должна быть по идее, а ничего не знает. Может, рано волноваться? Да и всего не найдешь, хоть что-то да останется. Да, Карина, чертовка, снова права – надо какого-нибудь егеря в долю брать. Хотя зачем обязательно в долю? Надо придумать легенду, что он в тайге ищет, а егеря просто проводником нанять. Как это он про легенду-то сразу не сообразил? Номер типа того, что просто поохотиться в родные места приехал, не прокатит – тогда и будет охота вместо целенаправленных поисков. Ага, значит, у него в самолете летел кто-то, какой-то родственник… нет, родственников могут всех знать, в деревнях все друг друга до третьего колена знают. Не родственник, тогда кто? Тогда друг! И не просто друг, а друг, который вез с собой что-то важное. Чтобы оправдать копание в вещах, если на таковые наткнутся. А что важное? Такое важное, что вот ему, Алексею, пришлось приехать на поиски друга и того, что он вез.
Алексей сделал несколько больших глотков пива для освежения фантазии. Итак, что же такое вез его друг, что заставляет искать его тело в тайге? Это должно быть, конечно, что-то нематериальное, документ какой-нибудь. Хотя какой документ? И почему этот документ из Москвы везли? Не, документ не прокатывает. Тогда что? Компромат на президента? Красную ртуть? Дневники Гитлера? Бред какой-то.
На остановку подошли люди – женщина с ребенком, потом какой-то жилистый старик в картузе на коротко стриженной седой голове и в видавшем вид костюме, с заправленными в сапоги штанинами. Алексей принял сидячее положение, женщина присела рядом.
– Скажите, в Ивановку автобус по расписанию ходит? – поинтересовался Алексей у женщины.
– Да, редко опаздывает. А вы в Ивановку? К кому, если не секрет?
Седой старик быстро взглянул на Алексея из-под картуза. Алексей не спеша потянулся за сигаретами. Расспросы начались несколько преждевременно, это было нездорово. Но на этот вопрос ответ у него был готов давно.
– Да вот, на могилу матери еду. Лыкова Оксана Григорьевна. Знаете?
– Да как не знать, – неожиданно встрял дед, – ты что же, Петьки губастого сынок, выходит?
Алексей сразу не сообразил, что речь о его отце – Петре Парфеновиче.
– Выходит, – согласился Алексей.
Дед в картузе пока больше вопросов не задавал, но взгляда от него не отводил, смотрел не то что в упор, как-то даже не смотрел, а оглядывал. Алексею захотелось надерзить, чего, мол, пялишься, дедуля, но в его предприятии отношения следовало налаживать, а не портить. Тут подошел автобус – почти на десять минут раньше – и открыл двери. Все зашли внутрь, расселись, дед сел напротив Алексея, все так же не сводя с него глаз. Алексей на всякий случай спустил рюкзак в ноги и отвернулся от бесцеремонного старика в автобусное окно. Подходили еще люди, чаще всего с сумками и чемоданами, шумно загружали их в автобус, занимали места, перебрасываясь приветствиями и шутками. Было видно, что едут односельчане.
– Привет, Митрич! – поздоровалась со стариком какая-то пожилая тетка с баулом. – Что, не сидится на пенсии?
– И тебе не хворать, Семеновна. Глянь-ка сюда – на кого похож? – Митрич кивнул на Алексея.
Женщина, которую дед Митрич назвал Семеновной, поправила очки и так же бесцеремонно уставилась на Алексея. Тот, чувствуя себя каким-то экспонатом, не знал, как реагировать. Женщина даже прищурила глаза от напряжения, потом схватила свои щеки руками.
– Батюшки святы! Чисто Лешка Липунов на лицо.
Митрич довольно крякнул.
– Вот и я сразу приметил. Тебя, внучок, как кличут-то? Не Лексеем, случайно?
Алексей почувствовал себя неуютно. Не успел доехать, его уже непостижимым образом узнали. Правда, непонятно, причем здесь какие-то Липуновы, но имя-то откуда известно?
– Ну да. Алексей. А откуда знаете?
Митрич снова крякнул.
– Отовсюду, сынок! Вряд ли мать тебя по-другому назвала бы. Мать Оксаной звали?
– Да…
– Эх, не дожила Степанида. Но Сидор глазам своим не поверит. Не поверит, Семеновна?
Женщина, все еще не отрывая пальцев от щек, а глаз от Алексея, покачала головой.
– Вот ведь радость-то на старости лет. Ты гляди, Митрич, как бы Поликарпычу сердце така радость не надорвала.
– Ничего, – «успокоил» Митрич, – с радости все ж лучше помирать, чем с горя-то.
Алексею захотелось пересесть на другое место – вокруг него затевалось что-то непонятное, он чувствовал себя болваном, который единственный не знает, что происходит.
– Ладно, – тоном, не подразумевавшим даже тени непослушания, сказал Митрич, – приедем в Ивановку, со мной пойдешь, – и как-то отдельно добавил: – Лешка!
Алексей только пожал плечами – в конце концов, ему уже не нужно налаживать никаких контактов, контакты нашлись сами собой и наладились так быстро, что он и моргнуть не успел. «Наверное, оно и к лучшему», – подумал Алексей, снова уткнувшись в окно. Автобус с выдохом закрыл двери и покатил по щербатой дороге. Алексей смотрел сквозь стекло на старые, еще дореволюционной постройки деревянные дома на выезде из Ирбейского, потом на бесконечные леса и телеграфные столбы вдоль дороги и пытался допридумать легенду – кого же он приехал искать из пассажиров рухнувшего самолета. В голову ничего путного не шло. Алексей представил себе, как люди регистрировались на этот роковой рейс, сдавали в багаж чемоданы, где среди обычного тряпья обязательно лежало что-то ценное, ну, например, переносные компьютеры последней марки с продвинутой конфигурацией, дорогая цейсовская оптика, которую можно загнать не за одну тысячу долларов, и все такое прочее. Но главные ценности эти ничего не подозревающие смертники брали, конечно, с собой, в ручной клади. О, там много чего интересного! И деньги, много денег, если считать всех вместе, и золотишко с камешками и в сумках, и на пальцах и шеях этих разбалованных никчемных сук, ничего больше не умеющих, кроме как своим телом выторговывать так называемые подарки из лохов – мужей или любовников. И что-то такое ценное вез его друг, можно сказать, друг детства. Алексей увидел вдруг среди рассаживающихся пассажиров знакомое лицо.
– Вот те раз! Коля! Николай! Архипов! – позвал Алексей. – А я тебя по всему Подольску ищу.
– А, здорово, Леша! – отозвался Архипов, запихивая на полку здоровенную спортивную сумку, для чего ему с небольшим ростом пришлось встать на цыпочки. – А чего искал-то?
– Как чего? Обещал денег через месяц, срок вышел, я к бандитам в долг попал, а мне не то что с наваром, своих денег даже не дали.
– Конечно, не дали, – подтвердил Николай, усаживаясь в кресло и обмахивая лицо каким-то журналом, – вот они, все деньги-то! И твои, и другие, и всякие. Видишь, в Красноярск везу.
Алексей удивился такой спокойной наглости. Но потом злорадно спросил:
– А если не довезешь? А если самолетик того… не долетит? Не думал об этом?
Архипов отмахнулся журналом.
– Да чего о судьбе думать. А ты что, не этим рейсом летишь?
Алексей снова злорадно улыбнулся.
– Нет, я через сутки после вашего лечу. За твоими, вернее, моими деньгами, которые тебе довезти до места не судьба, как ты говоришь. Хотя и за твоими тоже. Зачем тебе деньги на том свете, Коля? А мне на этом очень нужны. Ты сумку-то поплотней застегни, чтобы не рассыпались. Много там, наверное? Миллион будет? Да мне и полмиллиона хватит, даже сто тысяч сойдет, ты только с сумкой аккуратней, не доставай и не расстегивай, ладно?
Архипов сморщил лицо, как ребенок.
– Ой, я не хочу умирать, Леш. Я жить хочу. Мы же друзья – зачем ты так жестоко? Что ты сделал с самолетом, Леш?
– А, теперь, значит, друзья? Как бабло с меня в кассу свою получать, так тоже друзья. А как отдавать, так забыл ты о дружбе, Коля? На бандитов Мусы меня бросил. Видишь синяки – это они. Мозг и еще один такой же… мозговитый. Но мы же друзья, да, Коля? Вот я тебя по-дружески в тайге найду и закопаю, Коля. Но сперва сумку твою, которую ты на верхней полке спрятал, открою и все-все пересчитаю. А знаешь, что я на твоем кресте прибью?
– Не знаю, – трепетал Архипов.
– А твою расписочку бестолковую, Коля. С цифрой и числом. Это как цена твоей кидальной жизни будет. А число – дата смерти. Не физической – это через пару часов. А моральной. Когда ты своего друга кинул. Мы же друзья, правда?
– Правда! – отвердевшим голосом вдруг ответил Архипов. – И ты, как друг, со мной полетишь.
Архипов отложил журнал, привстал, положил руку на плечо Алексея и стал с недюжинной силой придавливать его в кресло.
– Вместе полетим. Вместе полетим. Вместе полетим. – Архипов стал давить другой рукой, Алексей стал сопротивляться.
– Нет, я другим рейсом, нет, нет, нет…
– Чего «нет», когда как раз «да». – Алексея тормошил Митрич. – Приехали, слазить пора.
Алексей очумело посмотрел на старика, тряхнул головой и тупо спросил:
– Это какой рейс?
Митрич выпрямился и поправил картуз на седом бобрике.
– Рейс Откудахрензнает – Ивановка. Приземлились. Бери багаж, Лексей, и топай за мной. Не отставай, я быстро хожу.
Алексей мотнул головой, стряхивая остатки странного сна, печально поглядел на бутылку, выливающую из горлышка последнее пиво на пол автобуса, встал, накинул на плечо рюкзак и пошел за Митричем.
8
Дед Сидор был молчуном. Он долго, ничего не говоря, смотрел на не знающего, куда девать взгляд, рыжего высокого угловатого парня. Перед ним стоял его сын Лешка – с такими же рыжими патлами, может, чуть длинней всегдашних, такими же веснушками на бледных скулах, таким же острым кадыком на жилистой шее. Только взгляд тех же больших голубых глаз был не дерзко-веселый, а какой-то настороженный, исподлобья.
– Лешка! – наконец-то вымолвил Сидор Поликарпович, поднял единственную левую руку и сделал шаг вперед. – Лешка! Дебошир! Живой!
Алексей глянул на Митрича, усевшегося за стол, тот ободряюще подмигнул. Через секунду он оказался в полуобъятиях, неожиданно крепких для однорукого старика.
– Да что вы! Отчего не живой-то, – бормотал вконец растерявшийся Алексей.
– Чуешь, Сидор, кого узрел по дороге-то? Сын Оксаны покойной. Тебе внук, стало быть. Я сразу заприметил – вылитый Лешка, весь в отца.
– Вижу, что внучок, – сквозь набежавшую слезу нежно сказал Сидор, – еще в уме. Так сказал…
Алексей вгляделся в старика – и сразу увидел общие черты. Глаза были его, нос с хищной горбинкой – точная копия, через седину на усах пробивался еще кое-где рыжий волос. Только неясно, что значили слова этого Митрича насчет вылитого отца. Явно не его отец – Петр Парфенович – имелся в виду. Но Алексей уже понял, что пока событиям сопротивляться бессмысленно. Ничего случайного здесь быть не могло, значит, всему найдется объяснение.
Сидор наконец отпустил парня и присел на лавку у стола. Алексей мельком оглянулся. Изба была высокая, справная, чистая, аккуратно выметенная, циновки на дощатом, недавно освеженном темной краской полу, светили яркими узорами. Комод, сундуки, лавки – все было здоровое, массивное, добротное, сразу не сдвинешь. Чудо-печь выходила своими боками во все комнаты – было видно из-за занавесок. При входе висел обычный деревенский рукомойник с подставленным под раковину ведром. Алексей решил заполнить паузу, подошел к рукомойнику, надавил ладонями на пипочку.
– Сидор, чего ты сиднем сидишь? Я Семеновну уже отрядил, сейчас прибежит с закусью. Да и полсела прихватит бабским языком. А ты пока ставь литровую, чай один-то не все уговорил? – распоряжался Митрич.
– Сдебоширил малёхо, – спохватился Сидор и потянулся к кольцу в одной из досок в углу.
Скоро из погреба появились огурцы, трехлитровая банка с помидорами, банка поменьше с грибами и солидная пузатая пыльная бутыль. Митрич достал пока из резного буфета три граненых стакана.
– Давай, Лексей! За твой приезд, за то, что деду дал на внука взглянуть на старости лет, за тебя, красивого, молодого! – Митрич ударил гранеными боками по стаканам. – Живет род Липуновых!
Алексей выпил, не скрывая удовольствия – трубы горели еще с Ирбейского. Сразу стало уютно, по-свойски, по-домашнему. Тут вон его знают, уважают, угощают, родня, одним словом. И такие милые, прикольные стариканы. В голове завертелся какой-то вопрос, но наружу он выбрался только после следующего стакана:
– А почему Липуновы? Я-то из Лыковых. Петр Парфенович Лыков – из этих мест, а я его сын, стало быть.
Сидор крякнул, Митрич успокоительно кивнул ему и снова поднес бутыль к посуде.
– То верно, что из Лыковых. Но из Липуновых тоже. Поликарпыч, принесь фотокарточку.
Сидор снял с комода старое фото в картонной рамке и поставил на стол лицом к внуку. Алексей взял фотографию в руки. Если бы его одеть в тельняшку, бушлат и бескозырку – отличий бы не нашлось. Он еще более походил на этого моряка, чем моряк на деда Сидора. Тут спорить или оспаривать было нечего. Алексей покачал головой и вопрошающе поднял глаза на стариков. Заговорил, конечно, Митрич.
– Вишь, Лексей, это отец твой настоящий. Тоже Алеша – Алексей Сидорович, сын Сидора Поликарповича, который нас сейчас угощает. Лешка, успокой, Господи, его морскую душу, погиб на флоте, когда ты не родился еще, но Оксана уже тебя под сердцем носила. Вот она и вышла за Петьку-то губ… ну, за Петьку, сына лесника Парфена. А я так смекаю, тебе об этом не говорили?
Алексей молча помотал головой. Сидор снова пошел к комоду, открыл ящичек и вернулся с потемневшей уже от времени шкатулкой. Из шкатулки извлек какой-то конверт, из конверта – бумагу и протянул Алексею.
– Вишь. Извещение с флота. И вот. Письмо.
Алексей пробежал глазами казенные строчки извещения, потом короткое письмо за подписью контр-адмирала Виктора Дыгало. Из письма следовало, что Липунов Алексей Сидорович, то есть его отец, в составе экипажа ПЛ «К-129» трагически погиб в океане при выполнении служебного задания.
Сидор аккуратно проделал обратную процедуру и отнес шкатулку в комод. Вернувшись, садиться не стал, молча поднял стакан. Алексей догадался, тоже встал. Встал и Митрич. Выпили, не говоря ни слова, только Сидор утер рукавом глаза. Митрич сел первым, достал папиросу, продул гильзу, обжевал кончик, затянулся крепким густым сизым дымом. Сказал, глядя Алексею прямо в зрачки, словно утяжеляя взглядом слова:
– Американцы потом достали их лодку. В семьдесят четвертом. Кого нашли, похоронили по морскому обычаю там же, в океане. У Гавайских островов каких-то. А наши пенсию за сынка так и не стали платить-то. Отказались от всех, кто на этой лодке потонул. Советская власть всегда на людей плевала. Что на погибших, что на живых. Да и нынешняя плюет. Политика, еттыть. А тебе про это не говорили, про батю-то?
Алексей помотал головой.
– Не говорили, значит? Ну, Бог им судья. Как Петр-то поживает, отец твой паспортный? Давно его не видели, почитай, лет десять, как родителей хоронить приезжал.
– Да нормально. – Для Алексея это было еще одной новостью, о жизни своих родителей Петр Парфенович никогда не распространялся, а уж о их смерти тем более. – Профессор, кафедрой заведует.
– Да, Петька всегда в заведующие метил, – отозвался Митрич, – вернешься, скажи, чтобы село родное не забывал, от корней-то грех отрываться. Ну, да ладно. Ты вот на кладбище – ужо завтра, нынче поздновато будет, с утреца пойдешь, я тебе все покажу – не забудь, окромя материнской, могилку Степаниды, твоей бабки, жены Сидора Поликарповича, навестить.
– Обязательно, – кивнул Алексей.
– Ну а Сидор тебе покамест баньку протопит. Вернешься, парку примешь, очистишься, отдохнешь на славу.
– Сперва баню, – сменил план Сидор.
– И то верно, – двусмысленно согласился Митрич, – грехи смоешь, потом и на погост можно.
На крыльце стало шумно – явилась Семеновна, и, как и говорил вещий Митрич, не одна, а с четырьмя разновозрастными румяными тетками в цветастых платках.
– Принимай гостей, Сидор Поликарпович! – зазвенела Семеновна, втаскивая в сени сетки с продуктами.
Почти в мгновение ока на столе стояла рассыпчатая вареная картошка в чугунке, белыми аккуратными ломтиками на тарелке сочилось сало, огурцы, помидоры и грибы были извлечены из банок и красиво разложены по тарелкам, посередине стола красовался жирный лоснящийся каплун.
– Еще кашу грешную, горячая еще, горло берегите, – накладывала Семеновна по тарелкам дымящуюся гречневую кашу.
– Молодцы, бабы! Быстро управились! – похвалил Митрич.
– Дело! – добавил к похвальбе Сидор.
Женщины закончили наконец хлопотать и уселись за стол. Митрич аккуратно разлил. Потом представил сельских дам, хотя их имена тут же выветрились из памяти Алексея, кроме Семеновны, и то по отчеству, запомнившемуся еще в автобусе. Все выпили за него, две бабы помоложе, не стесняясь, любовались им в открытую и шептали что-то веселое друг дружке на ухо. Его новообретенный дед Сидор тоже не отводил от него взгляда, словно хотел насмотреться на всю оставшуюся жизнь. Алексей поначалу чувствовал себя в центре всеобщего внимания неловко, но новый хмель на старых дрожжах, да еще после бессонной ночи, уют и тепло притупили всякое стеснение. Алексей, не ломаясь, подставлял тарелку под новые порции вкуснейшей каши, хрустел огурцом, тянулся за кусками каплуна.
– А надолго к нам? – кокетливо спросила одна из веселых молодух с поющими глазами.
– Ну, не знаю точно. А как тут с охотой?
Митрич по-знатоцки покрутил подбородком.
– А кого промышлять хочешь, Лешка? Птицу или зверя?
Алексей неопределенно пожал плечами.
– Я вообще-то не охотник. Так, попробовать хотел.
– Ну, если ты глухаря, рябчика или тетерева, к примеру, попробовать хочешь или куропаточку-бородатку, так это с начала осени только. Гусь тоже с сентября пойдет. А вот пушной зверь, которым наши края спокон известны… – Митрич начал загибать пальцы, для этого пришлось поставить стакан на стол. – Соболь, горностай, песец, белка, рысь, лисица, росомаха, заяц, ондатра, бобр, норка, хорь, то их, в основном, с октября бьют. А если на медведя не боишьси, или на марала, или хотя бы на кабана, то это тоже к сентябрю приезжать тебе надо. Сейчас, в августе, рановато еще. Если только здесь погостишь пару недель.
– Сохатого забыл, – добавил Сидор.
– Ну да. Тоже осенью, в октябре, не раньше, – согласился Митрич.
Алексей вдруг почувствовал себя отяжелевшим. Веки еще не закрывались, но голова все норовила нырнуть вниз, руки стали дрожать, язык одеревенел, лица за столом стали расплываться. Но от наполнения стакана Алексей отказываться не стал, наоборот, захотелось напиться до полной отключки.
– Ты как в своей Москве живешь-то? Расскажи. Вы там, москвичи, знаете, зачем просыпаетесь? А то вона Петька приезжал к своим-то на могилку, так ни с кем по душам и не поговорил. Душа у него какая-то… неразговорчивая стала, – вдруг сказала Семеновна.
– А как живу? Да так и живу, – Алексей залпом выпил остатки самогона. – Хорошо живу. Машины продаю. Хорошие машины, поэтому и живу хорошо. Правда, сейчас в Печатниках, но зато там воздух лучше. Как они меня нашли там, ума не приложу. Жена сказала, что…
– А ты женат, Леша? – кокетливо спросила глазастая молодуха. – Колечка-то нету.
Алексей поднес к глазам правую кисть, потом левую.
– И вправду нету. Соскочило, наверное, на стоянке, когда Мозг… но не важно. А важно, как же они меня нашли. Я вот эту сволочь Архипова найти не могу, а они меня нашли, гады.
– Кто, Леш? – участливо спросила Семеновна.
Сидор и Митрич вопросов не задавали, но слушали внимательно.
– Да не важно, – махнул рукой Алексей, – братва одна. Давайте выпьем! За деда! Бывает же такое!
Все дружно выпили, Сидор довольно огладил седые усы.
– Дело! Это ты… вертикально!
– А как жену-то зовут? – свернула на свою колею молодуха.
– Кармен… то есть Карина, что это я. Хорошая баба, но сука. Это она и придумала, чтобы я сюда прилетел. Ей-Богу, она, – Алексей пьяно перекрестился. – Мне бы и в голову не пришло такое.
– Так молодец твоя жена, правильно придумала-то родню навестить. Пошто ругаешь? – нахмурилась Семеновна.
– Я не про то. Я про самолет. Тут у вас самолет рухнул недавно. Даже вчера, да. Она и придумала его найти. Его же можно найти… если с опытным… этим, как его… проводником… или егерем, как у вас это называется?
– А зачем тебе этот борт, Леш? – спросил Митрич, немного подливая самогона.
– А? Чего? – тупо переспросил Алексей. – Какой борт?
– Ну, самолет.
Алексей почувствовал, что щеки вспыхнули, ведь он так и не придумал, как говорить людям, зачем ему нужно найти самолет. Взял стакан, вздохнул и выпил – без тоста и ни с кем не чокаясь. Все молча ждали. Вдруг Алексею припомнился сон, даже не сон, а видение в этом забытье в автобусе.
– Друг у меня там. Летел. Коля. Архипов.
– Это кого ты сволочью назвал, кажись? – заметил цепкий Митрич.
– А, это я так… по-свойски. Вот обещал его… его матери найти… останки. Раз я из этих мест – кому, как не мне? А Карина, моя жена, она ее дочь. То есть сестра друга. Ну вот… – врал Алексей уже безвозвратно.
Митрич посмотрел на Сидора, но тот глядел, как завороженный, на внука и, похоже, в отдельные слова не вслушивался. Тогда Митрич снова подлил, никто еще не отказывался.
– А я думал, ты могилу матери решил навестить, – сказал, не глядя в глаза Алексею.
– Да и навестить заодно. Вернее, найти заодно… этого… Архипова… с самолетом… заодно, – запутался Алексей. – Не могу найти. Пропал прямо Коля Архипов. А ведь обещал, сволочь… это я ласково… долететь обещал и все в сохранности… жене обещал… и я вот теперь жене обещал… вернее, матери… на могилу приехал вот… раньше не мог, не мог… то паспорт, то работа… а без работы… как отдать… где взять… Карина придумала… а мне как одному-то… в лесу… на кабана… приеду…
Язык заплелся окончательно, и Алексей уронил голову на руки. Он еще слышал сквозь ватную пелену какие-то отдельные слова – похож… две капли… устал… дорога, потом стал различать только голоса – женские или мужские, потом до сознания изредка доносился звук хлопающей двери, когда кто-то приходил или уходил, а потом навалилась какая-то зеленая тинистая мгла.
9
Проснулся Алексей на мягкой перине и взбитых подушках старинной деревенской кровати с металлическими шариками на верхних перекладинах. Кровать стояла в дальней комнате, прямо у окна. В лицо прямой наводкой били солнечные лучи, по стеклу, отчаянно жужжа, ползала большая толстая муха. Алексей потянулся и протер глаза. Сколько сейчас времени, он бы не смог сказать, могло быть и самое утро, мог быть и полдень. Искать часы и смотреть на них не хотелось. Так глубоко и безмятежно он уже давно не спал. Голова от похмелья не болела, хотя от глотка воды не отказался бы. Алексей спустил ноги на дощатый пол, босые ступни ощутили тепло избы. Напротив на стуле висели аккуратно сложенные брюки и рубашка. «Смотри – накормили, раздели, уложили, прямо как родного», – подумал Алексей и тут же вспомнил, что он есть здесь самый что ни на есть родной. Алексей слез с постели окончательно, прошел в трусах к давешнему умывальнику, потом заметил у печки на табуретке, накрытой клеенкой, ведро с ковшиком. С наслаждением напившись студеной и чистой колодезной воды, Алексей подошел к окошку. Сидор – его новый и настоящий дед – колол дрова одной левой. Так ловко у него это выходило, что даже выйти помочь Алексей не сразу сообразил. А когда сообразил, дед Сидор с дровами кончил и пошел в сарай. Алексей еще разок потянулся во все лопатки и зевнул глубоко, не прикрываясь, с наслаждением, как кот после сытого сна. Вспомнились вчерашние посиделки и озорные глаза девахи напротив. «А что, поваляться бы с такой в стогу не помешало бы, – представил себе Алексей, – жаль вот, имени не помню. Да найти несложно, если что. С парнем из самой Москвы здесь любая пойдет». Алексей непроизвольно глянул в сторону стола, на то место, где сидела давешняя молодуха. Ее, конечно, там не было, зато на столе стоял кувшин с молоком, рядом под марлей лежал творог. После деревенского завтрака снова навалился сон, но Алексей не поддался – он знал, что в деревне лежебок не жалуют. Потом вспомнилось, что была обещана баня. Верно, для бани и колол дрова дед. Да, после такой дороги и таких нервных событий последних дней баня была бы то, что доктор прописал. Как-то вылетело из головы, что баня предназначалась больше как очищение перед походом на кладбище к матери, чем восстановительная процедура. И вообще хотелось думать только о хорошем, так уютно и спокойно было вокруг. О долгах, о бандитах, уж точно, вспоминать не хотелось. А представить себе, что он углубляется все дальше и дальше в труднопроходимую мрачную и опасную тайгу, теперь, таким спокойным утром, в предвкушении парилки и вовсе было невозможно. Каринина идея, еще вчера казавшаяся рискованной, но реальной, сейчас выглядела полной авантюрой. Московский вихрь, принесший его сюда, ослабевал.
– Пошли, что ли! – В избу заглянул дед.
– Ага. Оденусь только. – Алексей почти вприпрыжку пошел в свою комнату.
– Не дело! – остановил Сидор. – Так пошли!
И действительно, снимать штаны пришлось бы через полминуты – дед Сидор звал в баню.
Дух, неповторимый дух русской бани встретил их еще до порога. Пригнувшись под низкой притолокой, Алексей прошел за дедом Сидором в предбанник. Ловко раздевшись одной рукой, Сидор буркнул на глазевшего внука, чтобы не мешкал, толкнул еще более низкую дверцу и прошел в парилку. А поглазеть было на что – столько боевых шрамов на теле Алексей еще ни у кого не видел. Шрамы были самых разных размеров, конфигураций и оттенков. Были и круглые – верно, от пуль, были и от рваных осколочных ран – похожие на заплаты, был и какой-то длинный, багровый, как будто свежий, во все плечо, кончавшийся вместе с рукой на культе. Алексей вдруг вспомнил разговор двух типов у него в машине, вернее, слова одного насчет того, что металл на орденах дороже крови, что за них проливали. И сразу за ней полозом скользнула другая мыслишка – у дедули-то орденов таких немало, судя по той самой крови. По ранениям, то бишь. Алексей улыбнулся – вот оно! Зачем самолет, зачем тайга? Дед все равно старый, одинокий, на кой ему эти цацки. И покупатель есть – тот самый тип в машине. Его через Архипова найти можно. Хотя еще самого Архипова найти надо, да это и не беда, если не найдется, – раз спрос есть, будет и другой покупатель. Главное – улучить подходящий момент да аккуратно пошарить в шкафах. Перед самым отъездом, а отъехать через пару дней. На могилу сходить, на охоту. А потом, когда дела поправятся, выкупить или такие же купить да вернуть как-нибудь. А может, и не придется деньги тратить, старый все-таки дед, хоть и крепкий пока. Вот и решение проблемы. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Алексей улыбнулся сам себе и так, с улыбкой, и зашел в парилку вслед за дедом.
Парились не то чтобы долго – часа два. Сидор сам поддавал пар, хлестал то березой, то дубом одной рукой, зато крепко, с оттяжкой. Алексей шипел и стонал, но терпел – понимал, что испытывает его дед на «столичную штучку». Позориться перед стариком не хотелось. Но во время обхаживания росла какая-то неприязнь к деду, словно тот наслаждался его «мучениями» и нарочно не ждал, пока пар осядет, чтобы погорячее, чтобы ошпарить. Стиснув зубы, Алексей уже был точно уверен, что быть старику без наград, уже со злорадством представлял его растерянную рожу, когда хватится своих орденов. Потом, под кадушкой, сделанной у входа в баню так, что, потяни цепь, и выльется на тебя ушат холоднющей воды, подававшейся помпой прямо из колодца, Алексей чувствовал облегчение, блаженство, даже невесомость. Но злорадство не смывалось водой из кадушки, оставалось где-то там внутри, совсем глубоко, куда не достают ни пар, ни совесть. Потом и он потчевал старика веничками, но разумно не мстил, стегал полегче, со скидкой на возраст, чтобы не выказывать злость, чтобы дед не учуял чего раньше, чем надо. После кадушки сидели на приступке, Сидор с наслаждением затягивался едким сизым дымом из каких-то папирос еще советского производства. У Алексея кончились свои сигареты, но курить такой «самосад» он не рисковал.
Так два часа или чуть больше и пролетели, пока Сидор коротко не сказал – шабаш. Вернулись в избу. Сидор открыл погреб, вернул туда молоко и творог, а достал взамен квас. После такой бани квас показался Алексею амброзией – напитком богов. Алексей, разрумянившийся и разомлевший, неспешно порылся у себя в комнате в сумке, нашел свежее белье, оделся, вышел и обомлел – Сидор стоял при полном параде. Несмотря на жару, он был в сапогах, куда были заправлены костюмные штаны, а на потертом пиджаке светились ордена и медали. Не скрывая интереса, понимая, что его интерес будет принят за восхищение, Алексей подошел вплотную и нагнул шею. На двух выпуклых звездах, одной серебряной, с позолоченной Спасской башней посередине, а одной без золочения, висящих на черно-оранжевых лентах, на красной эмали было написано «Слава». «Ордена Славы», – понял Алексей, это были как раз те, которые называл торговец наградами. Еще на груди у деда красовались серебряная звезда с надписью «Отечественная война» и штук пять медалей. Алексей понял, что звезда – орден «Отечественной войны», но какой степени и какой ценности, не знал.
– Да, – покачал головой Алексей, – иконостас, что надо!
– Пошли, что ли, – буркнул Сидор, не привыкший к такому вниманию, – Оксана ждет. И Степанида тоже.
– Конечно, конечно, – закивал Алексей, с трудом отрывая взгляд от орденов.
Погост находился чуть дальше, чем обычно в деревнях. Шли степенно, не торопясь. Алексей смотрел по сторонам – а вдруг встретится та самая вчерашняя глазастая деваха. Уж тогда бы продолжилось знакомство, помнил Алексей, что те певучие глаза не без игры смотрели, не без приглашения. Но по дороге встретился Митрич, шедший как раз к ним, вернее сказать, за Алексеем. Но, увидев, что Сидор сам на кладбище направился, остановился только для перекура. Закурили свои горлодеры от одной спички из коробки Митрича.
– Ну что, с легким паром, Лешка? – из-за дыма полуспросил, полуприветил Митрич.
– Ага. То есть спасибо! – кивнул Алексей. – Хороший пар был.
– Ну и ладно. На охоту не передумал еще? Завтра можем пойтить по-тихому. Соболя или медведя трогать не будем, а кулика или перепела какого – немного можно. Не торчать же тебе до осени здесь из-за этой птицы.
– Браконьерничаешь, Колян, – заметил Сидор, докуривая.
– Да чего там… сентябрем не пойду нарочно два дня дичь бить. Верну природе трожды.
Алексей не очень помнил, что он говорил вчера об охоте, и совсем уж не мог вспомнить, говорил ли что о поиске рухнувшего самолета. Если ляпнул о самолете, плохо. Могут спросить, отчего перестал интересоваться, почему больше не рвется искать тело летевшего товарища – «легенду» Алексей как раз запомнил. Поэтому на всякий случай решил согласиться – пока других расспросов не последовало.
– Тока с самого утра пойдем, на зорьке, почитай. В кровати не потянисси особо. Ниче?
– Нормально, на том свете отосплюсь, – заверил Алексей.
Митрич тоже бросил окурок.
– Почем знашь? Мож, там по грехам будят? – загадочно ответил Митрич, кивнул на прощание и пошел своей дорогой.
Могила матери была ухожена. Дед и внук молча стояли перед обычной серой каменной плитой с именем, фамилией и цифрами начала и конца этих имени и фамилии. Алексей досадовал, что не догадался нарвать и принести хотя бы полевых цветов. Не зная, куда деть руки и вообще что нужно делать, кроме того, что молчать, он сложил кисти за спиной, как заключенный, и начал урывками вспоминать детство. В голову все лезли родительские ссоры. Все всегда происходило в одну сторону – отец орал, мать смотрела на него раскрытыми в ужасе глазами, потом плакала в ладони, некрасиво ссутулив плечи. Вдруг на память тенью легла та минута, когда она не хотела отпускать его с отцом, все прижимала к себе и гладила по голове, взъерошивая волосы. Алексей наяву услышал материнский плач, даже не плач – собачий скулеж. А теперь вот положено бы скулить ему самому, но Алексей ничего не чувствовал. Нет, умом он понимал, что здесь, в метре от него лежит не чужая женщина и не дальняя родственница, а родная мать. Но ум ни плакать, ни жалеть не умеет, а сердце оставалось холодным, как могильный камень. Скорбеть было нечем. Сидор достал из кармана штанов чекушку, из пиджака – две маленькие рюмки. Алексей, которому приходилось кого-то поминать в своей жизни только второй раз за два дня, потянулся было чокаться. Потом сообразил, отдернул руку, половина водки выплеснулась. Сидор внимательно посмотрел на Алексея, по обыкновению ничего не сказав, долил до краев. Выпили. Сидор отер белые усы. Еще немного постояли, потом Сидор пошел к другой могиле. Алексей не знал – следовать за ним, он уже понял, что дед пошел к своей жене, его, Алексея, родной бабке – или для приличия остаться пока здесь. Решил не спешить, постоять малость одному. Наверное, его нарочно оставили наедине с матерью, из тактичности. Алексей снова взглянул на даты. Тридцать четыре года – много или мало? Мало, конечно, ему бы в два раза больше было бы мало. Вот через восемь лет, то есть около трети того, что он прожил, ему будет тоже тридцать четыре. И что же, помирать что ли? А с другой стороны, некоторые и в 18 лет гибнут – солдатики в Чечне, например. Ну, это кому не повезло, конечно, из стада выбиться. А такие, как он – из приличных семей, умные, хваткие, деловые, должны жить долго. Дольше тридцати четырех. Намного дольше! Алексей кивнул сам себе, утверждая свою же мысль, и пошел к деду Сидору, стоявшему неподвижно неподалеку. Так же неподвижен был его взгляд, вошедший в надпись на плите: «Липунова Степанида Герасимовна 1920–1968». «Год смерти – год моего рождения. Прямо мистика какая-то», – первое, что подумал Алексей, встав рядом с дедом.
Сидор Поликарпович повторил процедуру – на этот раз Алексей выпил правильно. Вылив часть водки на могилу, Сидор развернулся и пошел прочь с кладбища. Не оборачиваясь, слышал, что внук идет за ним. Дошли до дому в полном молчании. Алексею понемногу стала приедаться сельская идиллия – дом показался не таким уютным, даже меньшим в размерах. Что дальше делать, Алексей не представлял. Дед не говорил ни слова – угрюмо переоделся в подлатанную телогрейку, молча пошел во двор что-то делать по хозяйству. Помогать ему Алексею не хотелось, да он и не знал, что надо делать – его не звали. Алексей потоптался в избе, отпил квасу и пошел на улицу – гулять по деревне. Уже выйдя за калитку, понял, что ему хотелось встретить ту давешнюю молодуху с игривыми глазами. Он тут же вспомнил, как ее звали. И сразу, как вспомнилось имя, словно не могла появляться безымянной, навстречу ему показалась та самая девушка – Аглая.
В дедов дом Алексей вернулся уже к ночи. Так приятно, так свежо он не целовался с ранней юности. И место было какое – на берегу такой красивой реки, у излучины, под ветвями какого-то исполинского дерева, словно созданного для укрытия влюбленных. Она привела его туда под самый вечер, после долгой экскурсии по окрестностям. Алексей, конечно, ни в кого не влюбился, но Аглая целовалась, как влюбленная. Конечно, большего она не позволила, но это на первый раз. Завтра вечером уж он, точно, эту деваху заставит закрыть в истоме свои синие речные глазищи. Алексей в предвкушении потирал руки, так недавно наполнявшиеся теплотой девичьих грудей, пусть и через кофточку. Дверь в доме была предусмотрительно не заперта, хотя ни одно окно и не светилось. Алексей накинул крючок за собой, тихонько прошел из сеней в комнату. С половины деда доносился здоровый храп. Алексей пошел было к себе, но вдруг остановился. Он что, голову потерял? Забыл, зачем сюда приехал? Так долго добирался? Какая Аглая, что за сельская пастораль, в самом деле? Таких девах в Москве пруд пруди, хоть на Ленинградке, хоть в клубах. Ему надо сделать то, ради чего он здесь. А он здесь ради добычи. И чего затягивать – разве сейчас не подходящий момент? В затылок снова подул московский Каринин обжигающий вихрь. А вдруг в последующие дни что-то пойдет не так, кто-то уедет или приедет? Что-то помешает? Чего тянуть, лучшее время для дела – сейчас. А завтра он уже будет в Москве с хорошим товаром.
Алексей решился и тихонько открыл дверь в комнату деда. На ощупь снимать награды с пиджака было неудобно и больновато – пару раз то ли орден, то ли медали, Алексей, чтобы не перепутать, решил взять все, словно защищаясь, укололи вора до крови. То ли это отвлекло, то ли он просто не услышал, как дед перестал храпеть, но вдруг за спиной раздался голос Сидора:
– Ты чего это? Дебоширишь чего?!
В тот же момент на его плече оказалась дедова рука, с неожиданной силой повернувшая его лицом к хозяину. Сидор тревожно всматривался в глаза внука, как смотрят в глаза больным или раненым.
– Дебоширишь чего? – снова спросил Сидор и вдруг увидел через плечо Алексея свой пиджак, ободранный, как липка.
Сидор перевел взгляд обратно на внука и вдруг заметил у того в руке край орденской колодки.
– Я это… посмотреть… только посмотреть хотел… – заблеял Алексей.
Сидор Поликарпович все понял.
– Не дело! – Дед потянулся за наградой, но Алексей убрал руку назад.
– Я верну, мне надо… дед… дедушка Сидор. – Алексей решил идти до конца, в голосе дальним громом прозвучала угроза.
– Не дебоширь, говорю! – Сидор взял Алексея за горло своей левой и припер к шкафу. – Отдай!
Алексей понял, что дед не просто заберет свои ордена, что не просто не простит и выкинет из своей жизни, как сейчас же, ночью выкинет из дома, что он его, пожалуй, сдаст ментам или, чего хуже, придушит. Со злобой, заменяющей трусам храбрость, Алексей со всей силы оттолкнул от себя старика. Сидор попятился чуток назад, споткнулся обо что-то и упал на пол. Упал как-то тяжело, неестественно. Алексей стоял у шкафа, не зная, что предпринять, вслушиваясь в темноту, готовый отреагировать на любой звук, но звуков не было. За окном где-то перепевали друг друга птицы, мяукал недовольный кот, шептался с березами ветер, но ближних звуков не было. Не было даже шороха. Алексей стоял пнем долго, прислушиваясь и всматриваясь в то место, где упал дед Сидор. Глаза стали различать очертания ног, неестественно подогнутых одна под другую, больше ничего не было видно. Скоро начало светать. Алексей наконец сделал шаг, потом второй. Все стало видно и стало ясно. Дед Сидор был мертв. Не без сознания, не в обмороке, а именно мертв. По белой известке печи разлилось розовое пятно. Такое же пятно выползало из-под правого виска. Упади дед левым боком, подставил бы руку, все обошлось бы. Но Сидор, споткнувшись, полетел на угол печи правым виском – защититься было нечем. Алексей не мог оторвать взгляд от этого пятна под головой. Молотком забила мысль: «Что же теперь будет, что же будет? Что делать, Боже мой, что будет-то теперь?» Алексей еле-еле заставил себя успокоиться. Надо было просчитать варианты, найти какой-то выход – не хватало еще в тюрягу загреметь из-за этого старикана. Но никакие варианты в мозгу не всплывали. Не прятать же труп, как в детективных фильмах, а потом вымывать избу от крови. Да и как он объяснит, где дед? В тайгу, что ли, вдруг пошел на охоту? Алексей вдруг похолодел – с рассветом ведь за ним должен зайти Митрич как раз на охоту. Что делать? Ведь почти светло уже. Ну что же делать, черт все дери?! Или ничего не делать? Кто узнает, что он деда оттолкнул? Что Сидор из-за него виском навернулся? Он, Алексей, спал, как убитый… тьфу, без таких слов. Спал без задних ног, ничего не видел, ничего не слышал. Старик чего-то встал среди ночи, сам и навернулся. Ну, конечно! Вот и выход! Никто ничего не узнает, надо только уверенно отвечать. Без следователя не обойдется, конечно, но если вести себя уверенно, не дрейфить и не волноваться, не притянут. Не за что его притянуть. Конечно, выход! Блестящий выход! Алексей с облегчением выдохнул воздух. Так, теперь срочно в свою кровать – он спал, нет, он спит, сейчас он спит и даже снов не видит, так глубоко спит. Уже раздевшись, Алексей вдруг вспомнил, что в кармане его куртки лежат самые тяжелые улики – дедовы награды. Снова покрывшись холодным потом, Алексей в одних трусах побежал в комнату Сидора – вешать награды обратно на дедов пиджак. Уже почти совсем рассвело. Алексей спешил, колол пальцы, вешая ордена вперемешку с медалями, как попало. Они падали на пол, не даваясь в чужие дрожащие руки. Алексей, чертыхаясь, нагибался, сгребал, снова колясь о булавки медалей. В сторону мертвого деда он старался не смотреть.
Вдруг в мертвой тишине раскатом грома хлопнула входная дверь. Алексей от неожиданности выронил последнюю медаль и застыл вполоборота, словно у него закостенел позвоночник. Он понял, что за ним пришел Митрич, и смотрел расширенными зрачками в проем двери, где тот должен был сейчас появиться, словно хотел застрелить взглядом в упор.
– Лешка! – послышался громкий шепот от его комнаты. – Иттить пора! Хватит дрыхнуть, птица ждать не будет.
Алексею первый раз в жизни захотелось помолиться, но он не знал ни одной молитвы и даже не знал толком, как креститься. В той, московской жизни ему это было не нужно. А в этой, здешней жизни хотелось только одного – вернуться на сутки назад. Вернуться в тот день, когда все радовались его приезду, когда так душевно пилось и елось, когда на него так брызгала из-под ресниц веселой синевой местная красотка, когда его почти отпустил этот проклятый вихрь, гнавший в спину и пригнавший вот сюда, к простому и бездонному обрыву. Алексей только сейчас понял, что он уже летит в этот обрыв, и зацепиться не за что, и спасения нет. Можно вылезти из волчьей ямы, можно уцелеть в тайге и выйти к людям, но из этой комнаты, из этой ямы не вылезти и не выйти. Алексей заскулил, как попавшая в капкан гиена.
– Что тут у вас? – В дверях показался Митрич в плащ-палатке и высоких болотных сапогах, на плечах висело два ружья. – Ты чего воешь? – И, осмотревшись: – Чего это Сидор? Спрашиваю – что случилось?
Митрич быстрым шагом подошел к телу. Алексей закрыл лицо руками. Вот и все, конец. Конец всем мечтам, всем планам, всей жизни. Уже он согласен был на разборки с бандитами, на потерю денег и машины, на капризы Карины, на все, кроме этого вопроса.
– А-а-а-а! – завыл уже во весь голос Алексей и вдруг, не помня себя, не понимая, что творит, бросился к окну, распахнул створки настежь и нырнул вперед головой в кусты красной смородины.
Митрич поднял на шум голову, отнял руку от сонной артерии на шее Сидора и подошел к шкафу. Подняв с пола медаль, он все понял. Не спеша снял с плеча оба ружья, одно приставил к шкафу, другое взял за цевье и подошел к окну. Фигура бегущего к полю Алексея была хорошо видна в первых лучах. Рыжие кудри отливали медью, будто передразнивая солнце. Митрич не спеша вскинул ружье, поудобней притер приклад к плечу, прицелился.
– Заваль! – сказал и спокойно, без рывка, как на охоте, нажал на курок.
Потом, у следователя в кабинете, Митрич говорил мало, без лишних эмоций, по делу. А дело было ясное, особо расследовать было нечего, и следователь был доволен. Такие дела не каждый раз встречаются. В показаниях было тоже все гладко – никакой прокурор не придерется. Единственное, что следак не стал вносить в протокол, был ответ Митрича на вопрос, зачем он убил гражданина Лыкова Алексея Петровича. Ответ был такой – кровь шакала дешевле ордена, который этот шакал украл. Тем более ордена «Славы», которого Митрич, вернее, гражданин Кусков Николай Дмитриевич, был полный кавалер. Следователь покусал ручку, подумал и написал так: «Испытывал чувство личной неприязни к убитому». Митрич подписал, не читая.
2011Рассказы
Честь и достоинство
Один известный русский Большой Поэт (потому-то и жалко, что русский), лауреат самых главных литературных премий и известный, как говорится, всей читающей России получил очередную премию в номинации «Честь и достоинство». Премия была так себе, с небольшим бюджетом, но громким именем на красивой грамоте и освещением в прессе. Поэту шел как раз солидный юбилейный год, премия была к месту, и он был заранее извещен, что для почетной номинации вознаграждения не предусматривалось. Спонсорских денег и так в обрез хватало на других и скромный, но дружный банкет в творческом союзе. На первых рюмках все шло более-менее. Победители, как водится, благодарили оргкомитет и под легкую закуску рассуждали о злой современности. Несмотря на современность, беседа становилась все более оживленней. Как обычно, каждый говорил о себе, не очень-то и рассчитывая на полное внимание собеседника, поэтому атмосфера оставалась дружелюбной. Наш Поэт, напротив, с каждым тостом все более мрачнел, практически не пьянея. Наконец, выпив уже потеплевшей водки из пластикового стакана (рюмок на всех не хватило), он подошел к секретарю союза.
– Слушай, Сеня, я все-таки не понял, деньги-то мне полагаются какие или как?
Секретарь творческого союза был очень мягким и интеллигентным человеком. Поэтому он приобнял Поэта за плечо и душевно заглянул в глаза.
– Пал Палыч, мы же все обговаривали… Эта номинация почетная, за общие достижения, так сказать, не за какую-то отдельную работу, а по совокупности заслуг, так сказать.
– Ну другим же дали.
– Пал Палыч, те номинации… они, так сказать, разовые, что ли, ну как еще сказать, рабочие, непочетные.
– Так почему за непочетные дают деньги, а за почетные нет?
Секретарь, не отпуская плеча, потихоньку отводил Поэта подальше от стола и от возможных свидетелей пока еще тлеющего скандала.
– Пал Палыч, дорогой, Положение о премии такое, что…
– Нет, Сеня, ты же меня знаешь, может, я последний великий российский поэт, а ты мне о каком-то положении. А эти… организаторы хоть знают, кого они на деньги кинули?
– Пал Палыч, – увещевал секретарь, – никто никого не кидал. Просто здесь денег не полагается. Это – «Честь и достоинство», это же в деньгах не выражается.
Последний аргумент на время подействовал, и пара вернулась к столу.
На следующий день секретарь союза, как обычно, разбирал бесконечные бумаги. По негласному порядку посетители заходили, не обинуясь и даже часто не постучав. В основном, все были здесь не первый раз и хорошо знали секретаря лично. Литературный процесс, как это называется, весьма хлопотен сам по себе и состоит из тысяч всяких дел, поручений, встреч и уговоров. Поэтому телефон секретаря звонил, не переставая, и приходилось, бесконечно извиняясь, брать трубку. В очередной раз лицо секретаря скисло.
– Конечно, узнал, Вера Ивановна… Как здоровье Пал Палыча?
Это звонила жена Поэта.
– По какому праву вы обделили моего мужа?! Да, я про премию говорю. Ведь это неслыханно, с Пал Палычем обошлись, как с каким-то начинающим школяром! Вы что, не знаете, что он лауреат *** премии и еще десятка прочих премий?! Вот, вот, я и говорю. Да то, что он согласился участвовать в вашей ничтожной премийке, вы за честь должны считать! Я этого так не оставлю! Я подниму всю прессу, я напишу президенту вашего союза и вообще президенту страны! О вашем поведении узнает вся литературная Россия! Я вам закачу такой скандал! Пожалеете!
В трубке, как пульс нервного больного, застукали гудки.
Секретарь вытер лоб. Что-то надо было делать. Спонсорам звонить было неудобно – они как раз все обязательства выполнили, тем более секретарь знал, что у них год вышел крайне неудачно, с большими убытками. Тревожить президента союза не хотелось, была надежда, что все еще как-то образуется. За делами рабочий день быстро закончился, секретарь засобирался домой. Очередной телефонный звонок застал его уже в пальто. Брать или не брать, по-гамлетовски засомневался секретарь, время было позднее. Но деловая совесть одержала верх.
Звонил сам Поэт.
– Ну как там с премией?
– В каком смысле?
– Ну, выделяете вы мне, что там положено?
Секретарь попытался напрячь память – как вообще родилась идея номинировать именно этого Поэта? Он сам, помнится, предлагал другие кандидатуры, менее беспокойные. На другом конце провода упорно ждали.
– Пал Палыч, но я же говорил вам…
– Значит, вы все-таки решили меня кинуть? Ну ладно, посмотрим…
Секретарь снял кепку и присел на стул, держа в руках замолчавшую трубку.
– Ну что за люди у нас, честь не честь, но, точно, никакого достоинства. – Посидев и повздыхав еще немного, но так ничего и не решив, секретарь нащупал ключи от кабинета в кармане пальто и пошел к дверям. Кепка осталась лежать у телефона, как заложник ночных звонков. Стояла глубокая осень, и кепка была бы весьма кстати.
2006Стихи про Шукшина
Эта небольшая история случилась, когда еще был жив прекрасный артист и губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов. Он-то и пригласил меня в числе прочих артистов на традиционный концерт, который губернатор ежегодно устраивал для земляков. Поездка была во всех отношениях веселой. Веселье как началось в аэропорту, так и не переставало литься (во всех смыслах). Творческий люд вообще существа контактные, а промеж себя – тем более. Самолет летел ровно, ничего не мешало наслаждаться жизнью. Когда высыпали из самолета в Оренбурге – нас встречал мой старый знакомый, певец и композитор Юрий К***. Мы крепко обнялись и, конечно, по приезде в гостиницу отметили нашу встречу. Отдыхать до концерта уже не было смысла. Я немного побродил по утреннему городу. На рекламных плакатах все то же – концерты заезжей попсы, уже приевшейся до зубной боли. Провинция была всегда как-то чище, чем Москва, но люди идут смотреть только то, что им знакомо. Именно поэтому у пародистов всегда будет хлеб – люди почему-то находят удовольствие в узнавании. Поэтому то, что поет или показывает артист, становится по сути не важным. Главное, чтоб человек был «из телевизора».
Я вернулся как раз вовремя. У гостиницы уже стояли присланные за нами машины. Надо сказать, что ехали мы солидно – на джипах да еще в сопровождении гаишной «девятки» с мигалкой. Мне досталось место в джипе вместе с Юрой. Это было приятно, тем более путь до родного села Евдокимова – Верхобского, где давался концерт, был неблизкий – около трех часов пути. Россию особенно ощущаешь в дороге – бегут и бегут километры, образуя за кормой буруны нашего прошлого, и, сколько бы ты ни ехал, всегда чувствуется, что ехать можно еще дальше и все равно до края не доедешь.
Перед концертом никто, естественно, не пил, и было время поговорить на трезвую голову. Особенно интересно было послушать, как Евдокимов боролся на выборах. Все-таки артист-губернатор – редкий случай даже в России. По-моему, только в Америке это произошло с Рейганом, да и то тот до избрания уже давно был профессиональным политиком, а наш – с жару, с бухты-барахты. Но Россия не Америка – тут все может случиться. Я не сомневался, что победа Евдокимова была нетрудной, и удивился, когда узнал, что это было совсем не так. Несмотря на всенародную любовь, разница в голосах у предыдущего губернатора и Евдокимова была минимальной. Видно, хлопать в ладоши – одно, а проставлять крестик в бюллетене для голосования – уже другое. Ну, да русская душа – потемки, да еще с туманом.
Как мы быстро ни ехали, а пришлось сделать перерыв у каких-то ларьков. Все вылезли размяться, кто-то отошел по нужде, мы с Юрой, наооборот, пошли к ларькам за водой. Для меня это было в тот момент единственное средство выживания. Все-таки русский человек пьет душой, поэтому меры часто не знает. Разве у души есть мера? Но душа душой, а страдает потом бренное тело. Старший гаишник, нервничая, стал всех созывать обратно – несмотря на большую скорость, наш караван прилично опаздывал. Артисты проявили несвойственную им дисциплинированность и быстро расселись по машинам. Я уже открыл свою дверь, как вдруг меня окликнул какой-то приземистый старик. Совсем древним его нельзя назвать, скорее – рано постаревший мужчина. На голове его была какая-то мятая панама, седая борода – всклокочена, но на пьяного он похож не был. Самое забавное – в левой руке старик держал вилку с нанизанным на нее огурцом.
– Ребята, купите огурец, мировой закусь.
Мы рассмеялись. Такой розничной торговли я еще не видел – чтобы с вилки.
– Ребята, ну купите, огурчик хрустящий, твердый, пальчики оближешь.
Выпить сразу захотелось еще больше. Кстати, это свойство только одного напитка в мире – нашей беленькой. Произнесите только вслух: огурчики соленые, грибочки белые, картошечка рассыпчатая, отварная, с укропчиком, селедочка с лучком, волнительный супчик, и вам сразу захочется – есть? Нет – выпить под эти явства холодной водочки.
Но случай был неподходящий, и мы опять отказались. Видя нашу твердость, старик махнул вилкой, так что огурец чуть не слетел, и чисто по-русски предложил:
– Не хотите покупать, возьмите даром.
– Да нет, спасибо, у нас кока-кола, отец, тут огурец не пойдет, – сказал Юра.
Гаишник уже подходил к нам. Все, видимо, уже расселись по машинам, мы одни задерживали.
– Так не будете брать? – уже без надежды спросил старик.
– Нет, отец, спасибо.
И вдруг старче выдал такое, что я так и остался стоять с открытой дверцей.
– Не будете брать, тогда послушайте стихи про Шукшина!
И, пока никто не опомнился, начал шпарить классическим четырехстопным ямбом. Рука с вилкой отбивала такт. Видя, что мы спешим, он очень торопился, чтобы мы успели дослушать все, но все внимательно слушали, даже подошедший гаишник. Когда старик закончил, не сбившись ни разу, со всех сторон полетели аплодисменты.
Жаль, что не запомнились строчки этого народного поэта. Сейчас я помню только отчество его, кажется, Яковлевич.
В машине мы еще по-доброму посмеялись над этим случаем да перешли на другое.
Концерт прошел очень тепло и успешно. Народ не расходился со стадиона, несмотря на дождь. Жаль, что мы из-за дождя и нашего опоздания – уже стемнело – не поехали в Сростки, от Верхобского всего-то километров тридцать, в родное село Шукшина.
Обратно ехали, прихватив уже спиртного без ограничений и всю дорогу распевая песни. Поэтому, как понимает читатель, приехали гораздо быстрее, чем думали. Ну а раз быстрее, то оставшееся время до закрытия гостиничного ресторана мы провели, естественно, там, заполнив себя водкой до отказа.
Засыпать было легко. Но, закрыв глаза, я вдруг ясно представил себе давешнего старика с огурцом. Рука сама потянулась к бумаге. Сейчас я уже не помню всего стихотворения, но заканчивалось оно так:
В тот день мы не поехали в Сростки, Но думал я, напившись на ночь, Пока живут такие старики, Спокойно можешь спать, Василь Макарыч.Вот так льется иногда народная любовь – под закуску.
2007Клятва Гиппократа
«Покажи мне свой телефон, и я скажу, кто ты», – такая или примерно такая мысль крутилась в голове у Николая. Николая Валентиновича, если называть его так, как называли медсестры и молодые врачи *** ведомственной больницы. Только что от него вышел молодой самоуверенный тип с золотым телефоном «Верту» – такие трубки, как дорогие часы, продавались с индивидуальными номерами и стоили, как четыре «Жигуля» Николая. Только «Жигули» работали, когда сами желали, а телефон этого посетителя – наверное, без износа. По нему и были заказаны какому-то неведомому доставале дефицитнейшие в России лекарства. Николай диктовал список, тип передавал дальше, повторяя название каждого лекарства дважды. «Четко работает, – подумал тогда Николай, – не хочет допустить ошибки. Может, только такие люди и могут заработать себе на такой телефон. И не только на телефон, наверное. Никакого родного “авось”, все под контролем. Как и я во время операции. Только вот заработал на стандартную “Нокию”, да и то с “кривым” номером».
Лекарства были нужны для лечения друга этого нового русского, какого-то известного в своих кругах спортсмена. Его коллеги тоже приезжали, привозили его жену, расспрашивали, что и как, записывали инструкции, фамилии светил в этой области, заходили в палату и разговаривали с больным. Разговаривали – громко сказано, больной сам не мог выговорить и слова, реагировал только глазами. Диагноз был не из легких, вернее, диагноз никто из врачей наверняка поставить не смог. Внутренние гнойники появлялись у больного внезапно, сами собой и в разных местах. Была проведена уже не одна операция, но причины заболевания не только не были устранены, но и толком не выявлены. Без этих самых лекарств больному долго не продержаться, это уж точно.
Собственно, можно было идти домой. Коллеги уже разошлись, с больными прощаться необязательно. Николаю вспомнился медицинский анекдот. Врач обходит больных перед выходными, смотрит у всех температуру, всякие показатели и ласково говорит: «Петров – до свидания, Иванов – до понедельника, больной там, у окна, – как ваша фамилия?» – «Сидоров». – «А вы, Сидоров, прощайте». Цинизм – часть врачебного ремесла, тут уж ничего не поделаешь. Невозможно принимать страдания всех больных близко к сердцу – никакого сердца не хватит. На собственную семью-то не хватает. Дочь уже взрослая, наседают на него вместе с женой – достань то, купи это, а теперь задумали ехать отдыхать на горнолыжный курорт. Кататься с горы стало входить в моду, как раньше теннис. Все от увлечений наших правителей. Если следующий президент будет увлекаться бадминтоном, их семейному бюджету бы, точно, полегчало.
Николай все-таки зашел в палату к спортсмену. На него смотрели глубокие от страданий глаза с одним вопросом: «Вы можете мне помочь?» Николай, отведя глаза, проверил трубки, торчащие из всего тела, как провода из разобранного робота. Как раз тот случай, когда не грех и попрощаться, мелькнуло в голове. Но Николай сказал что-то ободряющее и вышел в коридор. Домой не хотелось, возвращаться в кабинет – тоже. Николай достал пачку «Опала» и закурил прямо в коридоре, у окна. Курить там было, конечно, запрещено, но замечания делать было уже некому – рабочий день закончился, коридор был пустой. Николаю вспомнился почти такой же коридор в казарме, когда он еще служил в Советской армии. Их, зеленых новобранцев, сразу же определили в «карантин», как называется служба до присяги. Вот такой же коридор они драили, не разгибая спины, всю ночь. Он назывался «взлетка», видимо, потому, что был очень длинный, как взлетная полоса. Штатные уборщицы больницы, наверное, коридорам имен не дают. Для них вся жизнь – сплошная «взлетка», с которой, правда, уже никуда не взлетишь. Вспомнив об уборщицах, Николай подставил ладонь, чтобы не стряхивать пепел на пол.
На улице стоял ласковый летний вечер. Автомобиль завелся без труда, но Николай не стал сразу трогаться с места, выкинул окурки из пепельницы, поискал что-то в бардачке, воткнул в мобильник зарядное устройство. Домой душа по-прежнему не торопилась, но было что-то еще. Конечно, этот тип с золотым телефоном ничего плохого не сделал, говорил с ним вежливо, даже предусмотрительно, вел себя естественно, без вальяжности, которую Николай так не любил в людях. Классовая неприязнь, что ли, но Николай не был завистлив. Работал человек, может, воровал. Даже наверняка воровал, но, значит, и рисковал. Вон сколько мрачных историй по телевизору – люди гибнут и гибнут за металл без выходных. А этот – нормальный вроде, какой-то новый новый русский. Другу вот приехал помочь. Тут Николай вытащил очередную сигарету из пачки. Вот оно, в чем дело, оказывается. Друг приехал не просто проведать, а помочь делом. К нему, Николаю, так вряд ли бы кто приехал, случись что, не дай Бог. Приехала бы жена, даже дочь, пара знакомых врачей, уселись бы на краю кровати, достали бы обязательные апельсины, начали бы охать, участливо смотреть. Но помочь делом, «впрячься», как сейчас говорят, – вряд ли. Достаток не позволяет. Все беспомощные. И он, который оказывает людям самую квалифицированную помощь, тоже беспомощен. К своим сорокам годам не завел друзей с возможностями. Да и вообще не завелись – все поддерживают знакомство, это дружбой не назовешь. Как и с женой – любовью это не назовешь, дружбой тоже. А как назвать, не знакомством же. Сигарета обожгла пальцы. Проследив за витиеватым полетом окурка в наступающую темноту, Николай выжал сцепление.
Дома все было в порядке, вернее сказать, как всегда. Ни радости, ни скандала. Поцелуй в щеку, равнодушное «привет», «как дела», «нормально». Ужин ждал горячим на плите, но есть не хотелось. Ничего не хотелось, если только курить. Но дома у них не курили, балкон был загроможден потерявшими смысл вещами, выходить же на лестницу было лень. Значит, курить не хотелось тоже. Николай посмотрел на жену, расставляющую тарелки. Они были ровесниками, когда-то вместе учились в медицинском институте. Жена тоже работала врачом, только не в какой-нибудь обеспеченной ведомственной больнице, а в обычной районной поликлинике. «Хорошо сохранилась», – подумал Николай. Жену звали Саша, Александра. Когда Николай хотел выразить нежность, он обращался к ней «Санечка». Только вот давно уже перешел на «Сашу». Хорошо сохранилась, а для чего? Или для кого? Для меня – вряд ли. Или женщина хочет нравиться всем, даже когда некому нравиться персонально?
– Ты не проголодался?
– Не особенно, но что-нибудь пожую.
Жена положила на тарелку жареную куриную ножку и придвинула Николаю.
– Ты помнишь Песковых?
Песковы были их соседями по подмосковному пансионату, где они отмечали прошлый Новый год. Они сошлись тогда вместе с Песковым, Олегом, кажется, на почве неприятия современной попсы. Их вкусы в музыке не совпадали, Николай любил джаз, а Олег – рок, но людей может объединять не только общая любовь к предмету, но и общая нелюбовь. Ну а жены всегда быстро и легко находят общий язык – на основе любви к тряпкам и несогласия с мужьями одновременно. Тогда они обменялись телефонами, но, где работал Песков, Николай уже не помнил, никаких контактов они с тех пор не поддерживали.
– Припоминаю. А что?
– Звонила его жена, Зина, хотела с тобой поговорить.
– По поводу?
– У нее муж заболел чем-то, она хотела с тобой посоветоваться.
– А что она с тобой не посоветовалась, ты же врач?
– Это, кажется, по твоей специальности. Она позже перезвонит.
Николай хмыкнул что-то с набитым ртом. Александра поняла это как согласие поговорить. Время было довольно позднее, ночь заползала в открытое окно с прохладным воздухом и комарами. Дочери Маши еще не было. Спрашивать, где дочь, было бессмысленно – где-то с подругами по клубам. Но Николай все-таки полуспросил:
– Машка опять на тусовке?
Жена кивнула.
– Где же ей быть. Денег хочет занять у кого-то, чтобы новый горнолыжный костюм купить, пока летние цены. Какой-то сверхмодный.
Как дочь будет отдавать этот долг, спрашивать тоже не имело смысла – из папиного кармана, конечно.
– И вот еще. Ей через месяц в институт поступать, ты помнишь, сколько стоит обучение?
Николай помнил, но вопрос надо было понимать по-другому: «Ты достал эти деньги или опять бегать по родне, занимать?» Отвечать было нечего, но тут как раз зазвонил телефон. Это была Зина Пескова.
– Николай Валентинович, извините за поздний звонок, но у нас неотложное дело.
«Ну, если по отчеству, значит – что-то серьезное», – отметил про себя Николай. Не решив, как обращаться к Зине, на «вы» или на «ты» – на «вы» вышло бы суховато, на «ты» в этой ситуации несколько покровительственно, Николай решил ответить неопределенно.
– Я внимательно слушаю, что случилось?
– Понимаете, муж заболел чем-то серьезным, районный врач сказал – нужно срочно госпитализировать.
– А чем заболел, какие симптомы?
Пока Николай слушал, Александра стояла рядом, и от нее не ускользнуло, как у Николая поползли вверх брови.
– Это точно так, как… точно соответствует описанию? Да, тогда привозите ко мне, прямо завтра. Тут откладывать нельзя… Уже договорились в стационаре? В каком?.. Ну это неплохо, там грамотные врачи, я знаю заведующего отделением – тезка мой… Да, правильно, Николай Семенович… А, вот в чем дело… Но это очень редкое лекарство, его у нас не производят, завозят только в ЦКБ… да, для слуг народа… Хорошо, я постараюсь узнать. Позвоню, да, сразу, как что-нибудь узнаю. Хорошо, до связи.
Николай положил трубку, но остался стоять на месте в задумчивости.
– Что, редкая болезнь? – понимающе спросила жена.
– Не столько болезнь, сколько лекарства. Редкие и очень дорогие. Надо же, как бывает – у меня сейчас лежит точно такой же больной, только состояние уже почти критическое.
– Лекарств нет?
– Нет, но у него есть друзья – завтра обещали привезти.
– Не имей сто рублей…
– А имей дружищу, что может дать тыщу, – подхватил Николай. Но жена даже не улыбнулась, наоборот, глубоко вздохнула и пошла на кухню мыть посуду.
Тип с золотым телефоном приехал без звонка, где-то за полчаса до обеда. Лекарства сдал точно по списку, и номенклатура и количество – все точно. Зашел в палату к своему приятелю, подержал его за руку, сказал что-то грубо ободряющее – что-то типа как это нас тут всех подводишь, кидаешь, тревожишь, в общем, что-то мужское, затем попрощался с Николаем.
– Теперь все в порядке?
– Теперь будет легче работать, а там – все зависит от его здоровья, ну и от Всевышнего, конечно.
– Человечество своему бессилию дало имя «Бог». Ницше сказал.
«Шибко грамотный», – подумал про себя Николай не без раздражения. Кто бессильный – они, врачи, честно работающие с утра до ночи, или простые пациенты, что бессильны перед властью денег? А кто сильный – чиновник да ворюга, что почти совпадает? Они-то по-божески и не жили никогда. Вот и выходит – сильный тот, кто в Бога не верит. А во что тогда? Да ни во что, в себя только. Но этот грамотей-то – вон, другу помогает как-никак. Значит, хоть в дружбу верит. Черт побери их всех!
Николай вспомнил о вчерашнем Зинином звонке. Лекарства, которые ей для Олега, скорее всего, никогда не достать, лежали перед ним на столе в ярких глянцевых упаковках, как детские конфеты. «Где-то добыл все-таки. Хотя что значит – где-то? Какой-то врач в ЦКБ продал за две цены, украв у такого же пациента. Кто там будет проверять – пациенту скажут, что не завезли, вот и всех делов. Больной-то не догадался местному доктору две цены предложить. Да, краденые лекарства, не иначе». Николай даже посмотрел одну коробку на свет, как сомнительную купюру. Мелькнула простая мысль – позвонить Зине и сказать значительно, но и просто: «Приезжай, забирай медикаменты. Было не просто, но я организовал». Николай представил себе, как засуетятся на том конце провода, рассыпятся в благодарственных охах и ахах, даже родным назовут. Ну не родным, так дорогим, точно. А он чуть небрежно – не стоит, мол, для друзей, какие вопросы. Каким значительным он будет в глазах этой растерявшейся Зины. Таким, каким в глазах жены давно уже не был, если вообще когда-то был. Тут Николай вспомнил о вчерашнем вопросе оплаты за обучение дочери. Если эти лекарства продать даже по номиналу – хватит да еще на горнолыжный костюм останется. А почему он должен дарить такой дефицит, собственно, получужим людям? По номиналу – уже страшная услуга, что они, денег не найдут, что ли. Пусть у друзей возьмут, у знакомых. Тут Николай вспомнил, что лекарства-то совсем не его и даже не друга его больного, который их сегодня привез, а самого больного.
Николай позвонил дежурному врачу справиться о состоянии спортсмена. Самому идти не хотелось. Не хотелось смотреть в эти спрашивающие глаза, хотя у него было сегодня, что ответить, как ободрить – необходимые лекарства привезли, все скоро наладится. Но из-за лекарств и не хотелось идти. Показания больного были, как говорят медики, «стабильно плохие». Николай посмотрел на стол. В принципе, ничего не мешало ему присвоить эти разноцветные драгоценные коробочки.
Он их получил неофициально, другие врачи ничего не знают, а эти – как они будут проверять, использовались лекарства или нет, какие, в каких дозах, вместе с другими или по отдельному плану лечения. Что они, консилиум будут собирать, что ли? Вот только спортсмену уже помочь он не сможет. «Зато смогу помочь Олегу, он в таком же положении. За что – зато? За то что мой больной отдаст концы, когда спасение было в моих руках? Но спортсмен – мой больной, а Олег – мой знакомый больной. Он что, виноват, что у него нет друзей с деньгами? Зато у него есть друг, хоть без денег, но с лекарствами – я. Опять же, за что – зато? Да он и не то чтобы друг, знакомый. Но он же не виноват, что только знакомый… опять же – по номиналу… Но это же получается воровство… Они и так краденые…» Мысли неслись в голове Николая, нагромождаясь друг на друга, как льдины во время ледохода. От этого заломило в висках. Николай вспомнил, кем работал Олег Песков – журналистом в какой-то еженедельной газете. Получалось, судьба в его лице решала, кто для нее ценней – журналист или спортсмен. «При чем здесь профессия, черт побери?» – обругал сам себя Николай. Но от сознания того, что именно он сейчас взвешивает людские судьбы, что-то приятно кольнуло. Николай вытащил сигарету, но вместо того, чтобы прикурить, потянулся к телефону.
– Але, Зина? Приезжайте… приезжай, я достал то, что вам нужно. Сколько стоит? – Неожиданно для самого себя Николай быстро сказал: – Нисколько. У нас тут случайно оказалось… на складе. Да, почти все есть. Жду.
Николай сидел за столом, так и не прикурив. Головная боль не проходила, отдаваясь в висках колокольным уханьем с каждым ударом пульса. Николай собрал лекарства в пакет, предварительно завернув в плотную бумагу, и вызвал дежурную медсестру.
– Надюша, я что-то прихворал, давление бешеное, я поеду домой, отлежусь. Ко мне тут должны приехать… женщина, зовут Зина, передай ей пакет, пожалуйста.
– Обязательно, Николай Валентинович.
Конечно, лучше бы самому, не дай Бог, Зина вздумает благодарить его через медсестру, наболтает лишнее, но оставаться в больнице Николай больше не мог. Зину он видеть тоже не хотел, любая благодарность отзывалась бы эхом в совести. К спортсмену и другим больным Николай хотел заходить еще меньше.
Жена пришла домой немного позже обычного, но в глазах вместо обычной усталости было какое-то оживление.
– Меня Зина нашла по мобильному, тараторила, как бешеная, все тебя благодарила, только святым не называла. Ты все-таки лекарства для нее оставил?
– Да… решил вот… помочь.
– Ну я так поняла, что ты ей по дружбе большую скидку сделал. Может, и не стоило-то… нам деньги позарез, сам знаешь.
Николай обозлился.
– Какая скидка? Что я, торговец, что ли, с рынка, лекарствами торговать? Что я тебе – жулик какой? Я клятву Гиппократа давал, если ты еще помнишь такую! Идите вы все с вашими лекарствами!
Жена оторопела.
– Так ты что, просто отдал? Бесплатно, что ли?
– Да! Да! Да! Бесплатно, представь себе!
Николай понимал, что он зря орет на жену, что злиться, кроме как на себя, не на кого, что он сделал что-то такое, что уже не исправишь. Но ведь у сильного всегда бессильный виноват, и Николай, уже не в силах остановиться, крикнул жене прямо в лицо уже совсем лишнее:
– Спекулянтка ты, вот кто, а не врач! Вспомни клятву Гиппократа, черт тебя побери!
Глаза у жены опять сделались усталыми.
– Лучше бы ты о семье вспомнил, Гиппократ… несчастный.
Остаток этого дня они не обмолвились даже дежурными словами. Николай плохо выспался, то ли оттого, что спал на раскладушке, то ли еще отчего. На работу пошел, даже не побрившись, во вчерашней рубашке. Рабочий день полз, как гусеница, головная боль отпустила только после обеда, а вечером спортсмен умер, не дождавшись операции.
2007Поминальные свечи
Егор в церковь не ходил. Не то чтобы был безбожником, родители его даже крестили в тайне от советской власти, а как-то стеснялся молиться при всех, что ли. А церковь в селе Баньки была красивая. Белая, высокая, открывалась взгляду с косогора сразу, как завернешь за Заячью балку. Смотреть на нее было хорошо, покойно. Егор так и делал – придет на целое воскресенье с нехитрой снедью, сядет на травку, стащит кирзу, вытянет ноги, не спеша закурит папиросу и смотрит, любуется. Сизый дымок после каждой глубокой затяжки вился к небу и растворялся в голубом воздухе, не долетая до облаков. Егор в детстве думал, что облака – это дым, который получается от заводских труб, всяких выхлопных газов, ну и табака, конечно. Поэтому он еще ребенком знал, что облака – не твердые, на них сидеть нельзя. Когда бабушка рассказывала, что Боженька – на облаках, маленький Егор уже тогда не верил. А вообще-то Егор верил, что Бог какой-то, точно, есть. Молитв он никаких не знал, поэтому просил у Бога что-то своими житейскими словами. Многого не просил и никогда для себя, даже когда у него обнаружили опухоль. Сестра с ейным мужем Макаром помогли тогда деньгами – на обследование в какой-то дорогой московской больнице. Ничего, обошлось, опухоль была не злокачественной. На лекарства еще хватило. Деньги Егор отдавал почти весь год – с зарплаты тракториста не разгуляешься. Сестра Алевтина заходила к нему в каждый день зарплаты, пересчитывала рубли, совала за вырез, уходила, не оставаясь на чай. Макар, правда, ни разу про деньги не напоминал. Сеструха, видно, строго-настрого запретила. К деньгам Макар вообще доступа не имел по известной причине – пьянка. Но Макар пил особенно – не запойно, не по-черному, а со смыслом. Если подходил случай, всегда приглашал друзей – не на выпивку, а, как он говорил, на разговор. Макара мучало много разных вопросов – от Бога до олигархов, которых он называл аллигархами, от слова «аллигатор». Поэтому и пили долго – на все деньги, которые подворачивались Макару. А когда спор затухал, Макар толкал Егору гармонь. Егор играть умел, но пел негромко, незвонко, зато с сердцем. Песни он знал почему-то только грустные, протяжные. Иногда они заменяли ответы, которые Макар выпытывал у товарищей по столу. Последний раз разговор завернул на Гражданскую войну.
– Нет, ты мне скажи, Матвеич, почему вот Деникин дошел до Тулы, а потом откатился аж до Черного моря? – спрашивал Макар у пенсионера Матвеича, чей батя воевал в дивизии у самого Блюхера и брал Перекоп. Говорили даже, что Матвей Васильевич чуть было не перешел к Махно, да махновский отряд в Крыму окружили и расстреляли, а Махно объявили вне закона. А может быть, и сам расстреливал махновцев – Матвеич на эту тему говорил всегда уклончиво и по-разному.
– Как же супротив народу-то попрешь? – отвечал Матвеич.
– Хорошо, а почему белые тогда до Тулы дошли? Что, народ под Москвой подменили, что ли? – наседал Макар.
Отмахнуться было нельзя – угощал-то Макар. Остальные внимательно ждали ответа.
– Так такое дело – обозлились.
– Так получается, из злости воевали, не за идею? – подкараулил Макар.
– Русские всегда за Родину да за идею воевали, – отбивался Матвеич.
– Так белые – тоже русские были. Деникина вон в Москву привезли хоронить в прошлом годе, – подключился Макаров свояк Семен.
– Белые господа были да помещики – народ-то в упор знать не хотели.
Макар отставил стакан.
– А красные твои – с народом что сделали, а? Сколько сдохло от голода и в лагерях?
Матвеич перешел в контратаку.
– А твой дед не за красных воевал, что ли?
– Ты моего деда не трогай, он еще в финскую полег, в расстрелах не участвовал.
– Мой батя, что ли, расстреливал?!
Разговор начинал перерастать в толковище. Егор просунул ладони под лямки и взял аккорд.
Там вдали, за рекой…Спели, выпили со вздохом. Семен неопределенно сказал:
– Да, Расея…
Вот и сейчас Егор, закуривая следующую папиросу, отчего-то выдохнул вместе с дымом:
– Да, Расея…
Купола слепили полуденным солнцем, воскресный народ шел к церкви.
– Эй, дядя Егор, пошли с нами в храм, грешник небось! – окликнул чей-то веселый девичий голос.
Егор повернулся на зов – то была Семенова старшая дочка Марина. То, что молодежь потянулась к Богу, Егор одобрял. Может, мода такая у них и не серьезно, а все одно – полезно. Полезней, чем по дискотекам всяким шляться. Егор махнул рукой – потом, мол, как-нибудь. Особенных грехов за собой Егор не знал – жил всегда просто, без хитроумия. Вон сестра – в город каждые выходные ездит, торгует на рынке. Когда с наваром приезжает – веселая, в гости может позвать, за столом хлопочет, а глаза у самой на месте не стоят, прыгают. Торговля – дело для души непростое. Тут обвесишь, там недокладешь, по-другому нельзя. Вот кому в церковь каждый день ходить надо да толстые свечки ставить – есть на что. Да и Марина на зиму в город уезжала, что там делала – неизвестно, но деньги родителям высылыла исправно – Семен сам говорил. По селу ходило что-то смутное, бабы на Марине разговоры прерывали с каким-то нехорошим переглядом – не зря, мол, в церковь ходит, кается за что-то, что в городе делает. Но Семен был мужик справный, справедливый, его сплетнями обижать никто не хотел. А что в Марине было что-то шальное, Егор тоже чувствовал.
В город сам Егор не ездил уже давно, как развелся с женой. Детей, сына и дочку, бывшая забрала себе, сказала – все равно отсудит. Нашла себе нового мужа – из городских, моложе себя. Егор его никогда не видел, но зла в сердце не держал – взял бабу с прицепом, даже с двумя. Такое не каждый сделает. Жена ему не писала, детки были еще маленькие, поэтому почти никаких вестей о них Егор не получал. Почти – потому что сестра к ним раз заезжала в городе, навещала по-свойски или по делам каким, Егор точно не знал. Алевтина сказала – живут неплохо, муж – инженер в какой-то строительный фирме, зарабатывает. Сказала с уважением, значит, точно, не мыкаются. Ну и слава Богу, главное – чтоб детей любили да на ноги поставили. Вырастут, навестят и его как-нибудь. В том, что дети его не забудут, Егор был уверен – родная кровь, как ни крути. Вот за детей и просил, в основном, Егор у Бога, но и жену поминал, и даже ейного мужа, Володю, кажется. Больше у него родных не было, кроме сестры, конечно. Родителей уже лет пять, как схоронили: сначала батю, потом и мать преставилась. Жить без бати она долго уже не хотела, так и говорила – пойду вослед скоро, уж плохим словом не поминайте, тяжко мне без него, сердце не дышит. Внуков не дождалась. Надо бы уже собраться, взять сеструху да сходить в следующее воскресенье на погост – посидеть, могилку подправить. Один раз сестра может рынок и пропустить, не зачахнет небось торговля-то.
Егор отпил молока из крынки, отломил душистую горбушку, лег на клевер, подложив руки за голову, и стал смотреть в небо, откусывая по маленькому кусочку. Облаков почти не было, взгляд ни обо что не спотыкался, можно было смотреть насквозь – до слез. «Только синь сосет глаза», – вспомнилось. По-другому и не скажешь. Егор любил Есенина, почти все песни на его стихи пел, даже иногда для самого себя пел, когда общества не было, для души. Чтобы о грустном не думать, о грустном петь надо, Егор это знал. Телевизор Егор смотрел редко, не уважал, новости узнавал из газеты, а вот фильм про Есенина посмотрел весь, не отрываясь. Актеры были хорошие, все было похоже на правду, но то, что это была неправда или маленькая часть правды, Егор чувствовал точно. Как пьет – показали, как дерется – показали, как убивали – показали. Но чего-то главного не показали. Егор не умел сказать себе, что оно – главное-то. Но чувствовал – нет чего-то. Как барышник лошадь подсовывает – и стать, и зубы, и бабки тонкие, точеные, а купишь – и оказывается, лядящую лошаденку-то купил. Может, разучились кино делать. Макар тоже смотрел, сказал коротко – чтиво, хотя Есенина особо не знал, наизусть чтобы, разве что «Клен ты мой опавший…» Когда «Клен» пели – Егор приметил, – Макар все слова пел без запинки. Ну да ладно, показали, что не повесился, и то слава Богу. В самоубийство Есенина Егор, как и почти все русские, верил мало. Допускал, всяко ведь бывает, но не верил. Не такой человек, звенящее сердце имел. Спиться мог, убить, наверное, мог, а в петлю лезть – навряд ли. Как и писать по заказу – не мог. Вон нынешние песни – послушаешь и в толк не возьмешь, почему народ хлопает. Из вежливости, что ли?
С речки потянуло холодком. Воскресный день пошел на убыль, в воздухе голодно зазвенели комары. «Скурю последнюю да пойду», – решил Егор. По селу стали зажигаться окна. Егор курил и думал, что домой-то его не тянет. Изба – старая, уютная, обжитая, для одного просторный пятистенок, но не тянуло. Была б книжка какая душевная, Шукшин там или еще кто, почитал бы на софе, даже перечитал бы, но все книги забрала жена. Для чего забрала, неизвестно, сама-то не интересовалась. Из принципа, наверное. Была библиотека в селе, да закрыли давно – денег у властей на содержание не хватало. Не ездить же в город за книжками, не торговля, чай, засмеют. «Грустно, хоть опять женись», – усмехнулся про себя Егор.
У калитки его встретил мрачный Макар.
– Закурить есть?
– Папиросы.
– Давай. – Макар продул гильзу, замял зубами кончик, затянулся. – Тут вот какое дело, Егор. Твоя сестра, моя жена, ну Алевтина, в общем…
– Ну?
– Не приехала сегодня.
– А чего?
– Да бес ее знает, чего. Первый раз такое.
– Может, на электричку опоздала?
– Чтоб Алевтина да опоздала? Ты чего, шурин?
Действительно, Алевтина представляла собой образец порядка до дотошности. Сбить ее с панталыка, заставить потерять голову хоть на минуту не могли никакие обстоятельства. Даже когда умирали родители, Алевтина рассудочно хлопотала по всем принятым в таких случаях делах – и справка от доктора, и кладбище, и заупокойная служба, когда Егор пребывал в каком-то ступоре и больше мешался Алевтине, чем помогал. Единственное, в чем Алевтина была бессильна, – не дал им Бог детей с Макаром. Но и этот недогляд Всевышнего Алевтина упорно исправляла – как-то нашла необходимые связи, ездила по докторам, даже в Москву. Потому и Егору с обследованием смогла помочь.
– Чего-то на сердце скользко. – Макар в задумчивости покачал головой.
– Да не журись, может, зашла к моей бывшей, задержалась там, завтра приедет.
– Чего ей у Ленки делать?
– Нда…
Закурили еще по одной. Домой Макару тоже идти не хотелось. Вечерялось бы невесело.
– Не случилось ли чего? – Макар задумчиво смотрел в землю.
– Да чего с ней может случиться, – возразил без уверенности Егор.
– Всякое бывает.
– Приедет завтра, куда денется.
Алевтина не приехала ни в понедельник, ни во вторник. В среду Макар с Егором поехали в город на поиски. Пока Макар поднимался к Лене, Егор сидел в палисаднике у подъезда и смолил одну сигарету за другой. Он очень хотел повидать детей да и Лену, признаться, тоже, но в последний момент заробел. Егор представил себе Ленкин сухой ревнивый взгляд за спиной, когда он подойдет к детишкам. Что она им рассказывала про него, неизвестно. Для них он уже, наверное, не папа, а дядя Егор. Только душу травить. Да и подарков никаких для детишек не взял – не до подарков было. Егор представлял, как за два года подросли Машенька и Никитка. У Машутки небось уже коса – русая, тугая, а Никита Егорыч – в школу ходит с большим и важным ранцем. Егор вздыхал и затягивался глубже обычного.
Макар вышел мрачнее тучи – Алевтина у Лены не останавливалась и вообще не объявлялась. На рынке Алевтину знали, но тоже ничем помочь не могли – закрыла торговлю в восресенье вечером и попрощалась. В милиции заявление о пропаже человека принимать не хотели, срок, мол, не вышел, да и заявление нужно было подавать в сельском отделении. Макар было вспылил, но Егор вмешался. Еще не хватало – загреметь в кутузку на пятнадцать суток. Молоденький лейтенант так и пригрозил – если не вышвырнетесь отсюда, оформлю, мол, за хулиганку.
– Куда теперь? – спросил Егор на крыльце.
– Нет, ну ты понял, какие менты у нас – лишь бы ничего не делать, сволочи. – Макар оглянулся на дверь. – Надо ж сказать такое мужу, что его жена загуляла.
– Сам-то, поди, не женатый, вот и брякнул.
– У него не жены нет, у него совести нет. Если б у этого козла кто-нибудь из близких пропал, он небось бумажки-то свои бросил бы ко всем чертям, с огнем искал, – не унимался Макар.
– Нда… наша милиция нас стережет.
– Молодой, а душой зажирел уже. Начальство надо ждать. Может, и выйдет что.
– Может, и выйдет.
Макар оказался прав. Начальство в лице испитого майора подкатило где-то через полчаса на милицейском уазике. Опытный майор не стал отмахиваться от сбивчиво рассказывавшего Макара, пригласил в кабинет. По сводкам в городе за эти дни было совершено три убийства, одно – женщины Алевтининых лет. Личность женщины не установили – ни документов, ни сумочки при ней не оказалось. Обычное дело при разбое, как сказал майор. На опознание в морг их повез тот самый лейтенант, который отказался брать заявление. Ехали молча, Макар без разрешения закурил. Лейтенанту, впрочем, было все равно.
Когда с трупа снимали простыню, Егор хотел отвернуться – он уже понял. Убитой оказалась Алевтина. Макар, не мигая, смотрел на пожелтевшее лицо со следами кровоподтеков. Глаза были не закрытыми, а какими-то заплывшими. Егор стер ладонью слезу.
– Она? – полуутвердительно спросил лейтенант.
Ему никто не ответил. Макар затрясся и сжал кулаки.
– Кто это сделал?
На это раз промолчал лейтенант.
– Кто это сделал? Убью подонков, разорву, своими руками разорву… – Макар сжимал и разжимал пальцы.
Егор стоял, как окаменевший. Слез больше не было. Если слезы – из сердца, то сердце у Егора сразу затвердело, оплавившись, как стекло после взрыва.
Лейтенант, стараясь не показывать равнодушие, накрыл тело простыней.
– Протокол опознания надо подписать, граждане. Кто из вас родственник? Родственник кто, граждане? Он? – Лейтенант кивнул на Макара.
– И он, и я – родственники, – услышал себя Егор как бы со стороны.
– Тогда пройдемте… пожалуйста.
На отпевание собралось все село. Даже Ленка приехала из города, узнала как-то. Отец Савватий пел красиво, даже величественно, все исправно крестились, кто-то перешептывался. Егор стоял со свечкой в левой руке, правой неумело клал кресты. Воск стекал по руке, но Егор ничего не чувствовал. Небритый, почерневший Макар стоял у самого гроба, на обострившихся скулах ходили желваки. Отпевание кончилось. Перед какой иконой надо ставить свечку за упокой, Егор не знал. Какая-то бабушка понятливо указала на Голгофу, Егор опалил свечку снизу, поставил. Свечей было много – Егор почему-то их посчитал. Выходило – двадцать три. Чьи-то двадцать три души горели в этих свечках, а теперь к ним присоединялась сеструхина – двадцать четвертая. Егор взял еще свечей, поставил за родителей. Теперь их было двадцать шесть.
«Когда за меня поставят, сколько их тут будет гореть?» – почему-то подумалось Егору.
Поминки были богатые – все село столы строило. Сидели на улице – погода была ласковой. Макар внимательно слушал каждого говорившего, бабы после слов комкали платками глаза, потом продолжали негромко лопотать о чем-то своем.
– Пойду покурю, – ни к кому отдельно не обращаясь, сказал Егор.
Курили и за столом, но Егора никто не удерживал. Только Макар понимающе посмотрел, как бы оставаясь за столом и за него тоже.
Егор сел на свое место на клеверном лужку, закурил папиросу и стал глядеть на церковь. Теперь в ней было что-то еще, чего раньше Егор не замечал. Так же купались в пронзительном небе купола, так же сверкали, но что-то было и новое. Только когда солнце зарделось к вечеру, Егор понял – что. Это был свет от свечек, особенно от тех двадцати шести свечек, что горели сейчас там, на кануне. Купола не только блестели отраженными лучами, но и светились изнутри от маленьких огоньков надежды, любви и печали, из чего, в сущности, и состоит наша короткая жизнь. От сердца чуть отлегло, и Егор первый раз за последние дни улыбнулся.
2007Неинтеллигентные люди
Декабрь в тот год выдался не просто холодный – суровый. Клящий мороз вырисовывал на окнах домов в новом микрорайоне Ясенево затейливые узоры. Люди готовились к наступающему Новому году: женщины несли пластиковые пакеты с разной снедью, мужчины тащили на плечах по-советски тощие елки – голландских в те уже далекие не завозили. Детвора, не обращая внимания на мороз, возилась во дворовых сугробах. Снег хрустел под ногами и был такой сухой, что даже не приставал к обуви. Район на Литовском бульваре был только что заселен, ближайшая автобусная остановка находилась в двух километрах, и студент-первокурсник Денис Кокарев перешел на спортивную ходьбу – холод жег ноги через тонкие подошвы ботинок «Скороход». День для Дениса был удачный – последний зачет сдан, родители собирались сегодня же уехать в Дом отдыха, квартира оставалась свободной, и ко всему Люська – красивая брюнетка со второго курса – ясно дала понять, что может провести с ним завтрашний Новый год, а значит, остаться на ночь. Главное – позвонить ей, как договаривались, сегодня ровно в девять, когда начинается программа «Время», чтобы «забить» время и место, где он встретит Людмилу. Она была девочкой нарасхват, капризной, как и все красавицы, и ради нее Денису пришлось даже отменить приглашения своим приятелям с курса. Приятелям, в принципе, все равно, где напиваться, а в их присутствии на «койку» рассчитывать было нереально. Денис живо представил себе «койку» с Люсей и невольно ускорил и без того быстрый шаг, почти перейдя на бег. Когда он входил в подъезд, уже ощутимо смеркалось.
Родители действительно заканчивали собирать чемоданы. Уже через час в дверь позвонили – это был таксист. Район еще не телефонизировали, поэтому водителю пришлось подниматься в квартиру.
– Слава Богу, хоть лифты работают, а то бы кто поперся пешком на девятый этаж, – заметила Денисова мама, всовывая руки в рукава шубы. – Интеллигентных людей уже не осталось.
Отец, уже в пальто, открыл дверь, заверил таксиста, что они сейчас спускаются, и повернулся к Денису.
– Ну, мы с мамой поехали, будем пятого к вечеру. Смотри, чтоб порядок был в квартире, друзей не приводи, лучше сам в гости сходи на Новый год.
Денис согласно кивнул.
– С наступающим, сынок. – Денис подставил щеку для маминого поцелуя. – Будь молодцом, с друзьями много не пей, веди себя интеллигентно.
Денис развел руками – какие, мол, могут быть сомнения.
– И вот еще. – Денис подавил в себе нетерпение и приготовился слушать дальнейшие наставления. – Продукты в холодильнике есть, если не хватит – в морозильнике пельмени, денежка лежит на полке с книгами, если что, подкупишь еды. В общем, не пропадешь. Ну все, еще раз с наступающим!
Закрыв за родителями дверь, Денис сразу посмотрел на часы – было только полседьмого. До заветного звонка была еще уйма времени. Денис прошел в гостиную и включил телевизор на первой программе, чтобы не пропустить «Время». Шли «Знатоки». Денис устроился на диване под пледом – замерзшие ноги еще не согрелись. Томин был, как всегда, обаятельный, Знаменский скучный, Кирбит насмешливой. Денис не утерпел и снова взглянул на часы – прошло только десять минут. В принципе, можно было бы позвонить и раньше, но нужно было показать характер – красавицы одинаково не любят ни равнодушных, ни назойливых. Так что делать было нечего, оставалось ждать условленного срока.
Проснулся Денис под известный с детства мотив – начиналась программа «Время». С экрана поздоровались дикторы, и только тут Денис сообразил – надо же бежать в телефонную будку звонить Люсе. Чертыхаясь, влез в холодные ботинки, накинул пальто без шарфа и выскочил за дверь. Оба лифта были заняты. Спускаться по лестнице было надежней, но долго, ждать лифта – рискованно, могли и мебель перевозить – народ еще вселялся. Денис выбрал путь более надежный – побежал по лестнице. Где-то на пятом этаже он остановился как вкопанный и стал шарить по карманам – не было двушки. На панели лифтов горели красные кнопки, Денис, проклиная себя за непредусмотрительность, помчался назад, перескакивая через ступеньку. По телевизору показывали уже не официальные хроники, какой-то второстепенный репортаж, когда наконец монетка нашлась в кармане отцовского пиджака. Лифты все также были заняты, и Денис снова полетел по лестнице, гулко гремя башмаками на весь подъезд. Выскочив на улицу, Денис на бегу взглянул на часы – было уже почти полдесятого.
У ближайшей телефонной будки на другом конце дома выстроилась очередь – человек пять. С неба сыпал белый горох, но ветер затих. Это было хорошо, потому что Денис впопыхах забыл надеть шапку.
– Кто последний? – запыхавшимся голосом спросил Денис.
– Ну, я последний, – не очень дружелюбно отозвался мужчина в ушанке, перетоптываясь с ноги на ногу.
– Очередь быстро идет? – с надеждой спросил Денис у переставшего быть последним мужчины.
– Как же, – тот зло кивнул на будку. Там верещала какая-то старушка, из-за стекла на очередь смотрела болонка, стоявшая, очевидно, на задних лапах.
– Да, еще не забудь сходить на почту, я тебе посылку отправила… сегодня какой день… ну, значит, в среду… – отчетливо доносилось из будки.
– Бабуля, тридцатое сегодня, причем декабря – не мая, – буркнул дядя с поднятым воротником драпого пальто, стоявший ближе всех к старушке.
– Что очень заметно, – ежась, поддакнула женщина неопределенного возраста в пуховом платке.
– Я уже здесь минут пятнадцать, она все болтает, – отозвался гражданин в очках и с чеховской бородкой из середины очереди.
– А я – вообще полчаса, не меньше. Скоро Карбышевым стану. – Мужик с поднятым воротником сплюнул в сугроб.
– Да, разговорчивая бабушка, – присоединилась девушка в белой круглой шапке с помпончиком на макушке.
– Что? Что? Еще раз скажи, не очень хорошо слышно… да, из Москвы звоню, у дочки остановилась… что?
– К тому же она глухая, – сказало «пальто с воротником».
– А вы постучите ей в стекло, пусть закругляется, – посоветовала дама в платке.
– Да, действительно, не в пустыне небось, – поддержал даму мужчина в очках.
– Бабуля, бабуля! – Мужик с воротником постучал монетой по стеклу.
Никакого эффекта не последовало, если не считать, что болонка тявкнула на «воротник», опустилась на все лапы и исчезла из поля зрения. «Бабуля» отвернулась в другую сторону, и звуки стали приглушеннее. Все-таки Денис расслышал:
– Нет, вязаных носков не отправила, еще не кончила, последние петли остались… что?.. отправлю в новом годе… да, это Тошка лает…
– Вот вязаные носки мне бы сейчас не помешали, – покачал головой «Карбышев».
– Из этой самой Тошки хорошие бы носки вышли, – предпоследний стянул с головы ушанку и стряхнул накопившийся снег.
– Не кровожадничайте, мужчина, – весело возразила девушка с помпоном. – Может, это ее единственное любимое существо.
– У нее дочка есть, вы же слышали, – резонно заметил гражданин с очками.
– Любимое существо – это то, с которым она полчаса трендит, пока мы тут дубеем, – не менее резонно высказалась «ушанка».
– Мне как раз срочно звонить любимой девушке, – встрепенулся Денис. – Если можно, как она закончит, мне на одну секунду буквально…
– А что, бросит, если не позвонишь минута в минуту? – заинтересовалась «шапка» с помпоном.
– Ну… в общем, может, – не стал кривить Денис.
– Ты что, парень, мозги отморозил? Какая секунда, я полчаса, да больше уже тут, как бобик! – от всей души возмутился «Карбышев».
– Действительно, всем на секунду, – решительно вмешалась дама в платке, на котором уже вырос приличный сугробик.
– Самый умный, наверное, – нехорошо пробурчала «ушанка».
– Эх вы, граждане, а как же любовь? – Девушка была явно настроена в пользу Дениса.
– Вот ты свою очередь и уступи, – посоветовала «ушанка».
– А вот и уступлю. Молодой человек, я – за этой женщиной.
– Вот спасибо. Огромное спасибо. – Денис прижал руку к сердцу.
– Не поможет, – вернул всех на заснеженную землю очкарик. – Бабуся, по-моему, только разогревается.
Действительно, бабушка просила подозвать к телефону какую-то Архиповну. В нижнем окне снова показалась болонка и снисходительно оглянула очередь.
Дядя в ушанке перестал переминаться, зашел к будке со стороны бабушкиного лица и постучал, как в дверь, кулаком, потом скрестил руки, показывая – шабаш, мол. Эффект был вполне предсказуем – старушка повернулась лицом в первоначальную сторону, так что ее голос опять зазвучал вполне отчетливо.
– Да ты что? Опять запой? А доктор что? Ах вот, что… разводиться решила… ну и правильно, бросать надо алкашей энтих…
– Нет, ну вы посмотрите! – Дама в платке всплеснула руками, так что с головы, как с елки, осыпался снег.
– Если про запой, это еще на полчаса, как минимум, – не без знания дела прокомментировала «ушанка».
– Кто тут крайним будет? – к очереди подошел пожилой мужчина в солидной дубленке и богатой лисьей шапке.
Денис посмотрел на девушку с помпоном.
– Я последняя. – Девушка оставалась верной своему слову.
– Спасибо, – еще раз сказал Денис.
– От перемены мест общая сумма не меняется. А сумма равна нулю, – тоном ментора произнес «Чехов».
«Ушанка» достал пачку «Явы» и стал копаться в карманах в поисках зажигалки.
– Огонек найдется у кого-нибудь? – Мужчина в ушанке хлопнул по карманам, как бы извиняясь за то, что его зажигалка куда-то запропастилась.
Огонек нашелся у вновь прибывшего.
– Как вы можете курить на таком морозе? – поинтересовалась женщина в платке, начавшем опять скрываться под снежным наносом.
– А что?
– Да нет, ничего, просто холодный воздух попадает с никотином в легкие. Простудиться можно серьезно.
– Все там будем, – оптимистично подвела черту под дискуссией «ушанка».
– Причем скоро, – подал голос притихший было «Карбышев».
– Быстро продвигаетесь? – задал Денисов вопрос мужчина в дубленке. Ответом был общий хохот. Мужчина вгляделся внутрь будки, верно оценил ситуацию и отправился восвояси.
– Отряд не заметил потери бойца, – еще не отсмеявшись, сказала «ушанка».
Видимо, хохот мешал и без того туговатой на ухо бабушке слышать своего абонента.
– Что-что? Говори громче, Архиповна, тут шумят… нет не машины… люди в Москве неантиллигентные…
– Ну бабуленция дает. Нас же еще и ругает, – с долей восхищения отозвался «Чехов».
– Бабушка, ну сколько можно, дайте людям позвонить, – попытала счастья дама в платке.
Болонка снова тявкнула.
– А ты, Тошка, вообще заглохни. На носки пойдешь, – по-домашнему предупредил «Карбышев».
Все опять засмеялись. Денис посмотрел на часы – шел одиннадцатый час. Девушка с помпоном участливо спросила:
– Тают шансы?
– Как лед на реке – с грохотом.
– Новый год вместе собрались отмечать?
– Ага. А как вы догадались?
– Ну, это просто. Сегодня уже встречаться поздно, значит, договариваетесь на завтра, значит, на Новый год. А встречу на следующий год тридцатого декабря никто не устраивает – неизвестно, как праздники пойдут.
– Да Вы Шерлок Холмс просто.
– Нет, меня Лена зовут.
– Очень приятно, а я – Денис. В каком подъезде живете?
– В третьем.
– О! Мы с вами соседи – я во втором. Жалко только, что на все подъезды один таксофон.
– Когда вас обещали телефонизировать? В следующем году?
– В конце года, да. Давайте, я тоже угадаю – вы молодому человеку звоните, но только точно по времени не договаривались, да?
– Догадались наполовину – молодому человеку, но договаривались точно на десять.
– Тогда давайте, звоните в свою очередь, а то поздно уже.
– Ничего, пусть поволнуется.
– Это не гуманно.
– Зато полезно.
Милую беседу прервал «Карбышев»:
– Ба-буш-ка!! – но это был глас вопиющего в снежной пустыне.
Старуха начала говорить еще громче.
– Я лекарства энти не нашла… тута только говорят – все есть, а взаправду смотреть – либо нетути, либо страсть как дорого… до-ро-го, говорю, тетеря ты глухая…
– Бабушка, я доктор, я хирург, я вам любые лекарства достану, если вы сейчас из будки выйдете! – начал торговаться очкарик.
– Цианиду ей пропишите. – «Карбышев» смачно плюнул в сторону будки и пошел быстрым шагом в сторону подъездов.
Первой в очереди стала женщина в заснеженном платке.
– Нет, ну что с ней делать? Делать что-то надо, мы тут околеем. – Дама посмотрела почему-то на Дениса, хотя вперед него шел доктор.
Но проблема решилась сама собой.
– Все, все, привет родне передавай, с праздниками поздравляй, а я – до дома, а то у меня Тошка замерзла, поди. – Старушка открыла дверь будки и вышла к обомлевшей очереди.
– Ну разве так можно, бабушка? Тут люди час стоят, вмерзли в лед уже, а вы о собаке думаете, – укоризненно сказала дама в платке.
– Бабуся, это беспредел, – лаконизировала «ушанка».
– Шибко грамотные, что ли? Молоды ишо тут мне указывать, я всю жизнь проработала, а вы, бездельники, поговорить с родней не даете. А еще москвичи! Смотри, Тошечка, какие неантиллигентные люди в Москве живут. Пойдем, Тошечка, я тебя покормлю, замерзла, чай, вся… – Старуха удалялась к ближайшему подъезду.
Все смотрели ей вслед, даже женщина, которой уже можно было заходить в телефонную будку.
Когда Денис дозвонился до Люси – с третьего раза, так как Люсин телефон был безнадежно занят, пропустив и «ушанку» и Лену, было уже около одиннадцати. Как и следовало ожидать, Людмила уже договорилась встречать Новый год с кем-то другим. В конце равнодушного диалога Людмила решить добить Дениса упреком: «Интеллигентные люди звонят, когда условлено. Пока, Денисик, теперь в следующем году звони».
Дома Денис, клацая зубами от холода, достал из буфета отцовскую бутылку коньяка и отпил прямо из горлышка – для быстрого согрева. Горячая жидкость побежала по жилам, и Денис подумал, что интеллигентность, как и коньяк, хороша только для внутреннего употребления.
2007Кулибин
Старика Матвея звали на селе Кулибиным давно. Никто точно и не помнил, когда к нему приклеилось это прозвище. Хотя Матвей таким уж стариком и не был, но в свои пятьдесят пять лет выглядел намного старше. Сказывалось большое пьянство в молодости, да внушительности добавляла рано поседевшая борода. Матвей бросил пить как-то сразу, в одночасье, когда, ожидая вызова в кабинет председателя сельсовета на очередную «пропесочку», прочитал в каком-то научно-популярном журнале, валявшемся там же, в сельсовете, на окне, как один деревенский умелец-самоучка собрал у себя в сарае самолет. Матвея так поразила эта заметка, что он даже не препирался, как обычно, с председателем, а пропускал ругань мимо ушей. Матвей стоял в середине кабинета, председатель ходил вокруг него, сыпал воспитательным матом, а Матвей все представлял себе, как из обычного деревенского сарая выводят новенький серебристый летательный аппарат в окружении стайки босоногих пацанов. Придя к себе в пустую пятистенку, Матвей сел у окна, закурил папиросу и задумался. Он был неплохим слесарем, мог с закрытыми глазами перебрать трактор. Дерево тоже его слушалось, Матвей еще ребенком вырезал ножичком из суковатых веток забавные фигурки лошадок и разной прочей живности. Оказывается, кто-то своими руками сделал целый самолет – мечту всех мальчишек его поколения, а может, и всех поколений. Тогда-то Матвей и решился. Подойдя к пузатому дедовскому, еще старорежимному буфету, Матвей взял последнюю невыпитую чекушку и, вздохнув, решительно выбросил в окно. Теперь у него тоже появилась мечта – вертолет.
Но мечта – дело серьезное, которое и обдумывать и осуществлять нужно не наскоком, постепенно. Матвей приходил после работы, где на него теперь не могли нарадоваться, ел на скорую руку, что готовила его тетка Елизавета, и шел в свою «мастерскую» – сарай, заваленный разными добытыми в МТС запчастями от тракторов, косилок и другой техники. Родителей Матвей не помнил. Отец сгорел в пожаре, спасая от огня колхозное зерно, мать умерла при родах. Сиротку взяла себе родня, правда, родня состояла из одной тетки, старшей сестры матери. У Елизаветы муж погиб под Вязьмой, еще в самом начале войны, детей своих завести не успели – племянник заменил Елизавете сына. Сначала Матвей придумал специальные мокроступы, приделав к обычным лыжам пустые запаянные канистры из-под бензина. На них можно было ходить не только по болоту – собирать клюкву, не рискуя быть засосанным в трясину, – но и пересекать не очень широкие речушки, которых в изобилии в Мещере. Елизавета тогда отмахнулась: громоздко, мол, пока до болота донесешь – взопреешь. А обратно как нести – с ведрами-то вместе? Уж лучше по-старому, а в трясину, даст Бог, не затянет, ежели с оглядкой-то. Тогда Матвей решил сделать что-нибудь более практическое для хозяйства – стиральную машину, которых тогда еще промышленность не выпускала. Машина была готова через две недели. Матвей водрузил ее в центре избы и продемонстрировал тетке – «Смотри, какая вышла штука», – стиравшей, как и все бабы испокон на Руси, белье на речке. Вода в машине подогревалась на углях до более-менее теплого состояния, и именно это обстоятельство решило ее практическую судьбу. Елизавета одобрительно хмыкнула и дала на пробу непостиранные Матвеины порты. Экспериментальная стирка закончилась триумфом, если не считать, что машина от вибрации упала на пол и вода разлилась по всему полу.
– Действительно, теплая, – не без одобрения пробурчала Елизавета, склонившаяся над полом с тряпкой.
Матвей принес еще ведро, залил, но на этот раз держал машину рукой. Порты достирали – вышло очень даже чисто. Матвей сообразил, что нужно понизить центр тяжести, и приделал к баку противовес из чугунных чушек. Машина стала непереносной, но это от нее, по большому счету, и не требовалось. Ее затащили в угол, даже Елизавета немного помогала, держала крышку – ей изобретение, положительно, понравилось. Может, тогда Елизавета и назвала его Кулибиным, хвастая перед бабами техническим прогрессом, случившимся в ее женском труде.
Так это было или не так, но Матвей с того времени уверовал в себя – его изобретения могли быть полезными для человека. Признание всегда удесятеряет силы художника, а разве изобретатель, по большому счету, не художник?
С тех пор Матвей изобрел и «внедрил» в пределах района не один десяток разных «штук» и пользовался заслуженной славой. Но осуществление мечты продвигалось медленно – не хватало чертежей, расчетов да и специального образования. Чертежи Матвей выискивал в научно-популярных журналах, подобных тому, какой прочитал тогда в сельсовете, переписывался с такими же самоучками по всей России – что-то все-таки пригождалось в работе. Один раз его слава плеснула на всесоюзный уровень: в известной передаче «Это вы можете» Матвей демонстрировал самокат на гусеницах – для труднопроходимых мест. Самокат был снабжен небольшим моторчиком, с его помощью можно было без усталости и дозаправки довольно быстро преодолеть верст пятьдесят – шестьдесят. Изобретение понравилось – экспертая комиссия хвалила Матвея на всю страну. Когда Матвей вернулся, односельчане ходили к нему в дом целый день – засвидетельствовать почтение и порасспросить про столицу, а то и заказать какую-нибудь полезную «штуку». Мужики брали с собой пузырь хотя и знали, что Кулибин не пьющий, бабы – пироги и другую снедь. Матвей принимал все с благодарностью, даже самогонку – сам не пил, но гостя всегда удоволить можно, – в хозяйстве пригодится.
В тот же год, когда Матвей вышел на пенсию, померла Елизавета. Матвей остался без работы и родни, предоставленный самому себе да своей мечте. Времени у него теперь было хоть отбавляй, и Матвей забывался в почти круглосуточной работе. Заказов он больше не принимал – не хотел отвлекаться от главного.
И вот мечта его жизни была почти осуществлена – маленький, похожий на блестящую серебристую стрекозу вертолетик стоял у него в сарае. Об этой «штуке» в селе никто не знал, даже сующие везде свой нос деревенские мальчишки отваживались Матвеем от заветного сарая строго и без исключений. Стоял теплый августовский вечер, Матвей сидел босой на берегу речки, небо, как румяная краюха хлеба, запекалось в вечерней заре, было тихо, от яблонь шел душистый дурман.
Матвей не столько любовался привычным пейзажем, сколько думал. Дума была у него одна, но непростая – что дальше? Вот завтра, в воскресенье, запустит он свою «стрекозу», которой он уже дал имя «Лизавета» – оно было красиво выведено красной краской на серебристом борту, взлетит под одобрительные рассуждения таких же, как он, пенсионеров и радостные крики мальчишек, а в том, что его «Лизавета» поднимется в воздух, Матвей ни капельки не сомневался, потом приземлится, пацаны запросятся посидеть в кабине, «порулить» штурвалом, вернее, рычагом, старики разойдутся по домам – и что потом? Куда ему летать, не по соседним же деревням – на это требовались специальное разрешение, регистрация воздушного судна и соблюдение массы других формальностей. Хлопотать по инстанциям Матвей не любил, да и время тратить на это не хотелось. Летать над своим селом, над ближним лесом – но это скоро может надоесть, катать мальчишек было нельзя – вертолет был одноместный. Вот что делать потом, Матвей никак и не мог придумать – другой мечты у него не было. Матвей чувствовал в душе что-то смутное, тревожное – как будто с исполнением мечты подходил конец чего-то, может, и самой жизни. Во всяком случае, смысла в жизни почти не оставалось. Матвей пытался понять, в чем же он, этот смысл? Когда он работал над своим вертолетом, таких мыслей у него не возникало, поэтому по первости думалось тяжело. В чем, к примеру был смысл Елизаветиной жизни? Наверное, в нем, Матвее. А его? В «Лизавете», собранной из железа и проводов?
Хоть это была и мечта, но все-таки как-то недостаточно для смысла целой человеческой жизни, а теперь и этого нет – мечта была собрана, сварена, отрегулирована. Матвей подумал, что, будь жива сама Елизавета, ей бы понравилось, что ее именем называют летательные аппараты, хотя свое приятствие наверняка бы скрыла за добродушным ворчанием. Может, надо было уделять больше заботы живой Елизавете, хотя жили они мирно, но не скажешь, что душа в душу – душа Матвея гостила в их доме, а жила все-таки в мастерской-сарае.
Небо темнело, только облака, подсвеченные закатившемся и не видимым уже солнцем, румянились над головой огромными пирогами. Матвей вдруг резко встал – ему захотелось взлететь именно сейчас, поближе к этим нежно-розовым облакам, может быть, увидеть с высоты краюшек простившегося уже с этим днем солнца. Отперев сарай-мастерскую, Матвей выкатил свою «Лизавету» на двор. Чуть свисавшие лопасти и серебряные бока фюзеляжа еще ловили последний вечерний свет, казалось, эта огромная стрекоза села на траву перед домом погреться в последних, поэтому особенно ласковых лучах. Матвей сел в кабину и, перекрестившись, завел двигатель. «Стрекоза» проснулась, зажужжала, лопасти начали рисовать правильную окружность. Все мысли исчезли, Матвей, расширив глаза, с детской улыбкой на губах потянул на себя рычаг управления.
На похороны Кулибина собрались люди, почитай, со всего района. Говорили много, правда, часто путано. Председатель сельсовета надел по этому случаю галстук, купленный им недавно в Италии, в командировке по обмену опытом с тамошними фермерами. Бабы то плакали, то обсуждали последние сплетни – особенно про молодуху Нинку из сельмага, та каким-то образом умудрилась недавно выйти замуж уже в третий раз. Схоронили Матвея рядом с его теткой Елизаветой, кто-то не без художественного чутья догадался сделать крест на могилу из остатков лопастей разбившегося вертолета. Нинка, покойника почти не знавшая, почему-то плакала пуще остальных. Это было тем более странно, что «выскочила» она как раз за председателя.
2007Апассионата
Следователь межрайонной прокуратуры по фамилии Веселкин, никак не соответствующей его мрачноватой профессии, подписывал дело об убийстве для направления в суд. В принципе, обычная бытовуха – женщина убила своего сожителя у себя на квартире. Обычное, да не совсем – крови было на редкость много, на теле жертвы судмедэксперты насчитали больше тридцати ножевых ранений. Кровь была по всей квартире, на полу, на кровати и даже на обоях. Веселкин отложил дело, закурил и стал вспоминать допросы женщины, которая в скором времени должна была быть осуждена за умышленное убийство, хотя, если бы не его, Веселкина догадливость, она могла бы получить и гораздо меньший срок – за непредумышленное убийство, совершенное в состоянии аффекта, или даже за превышение пределов необходимой самообороны.
Ирина Макарова была эффектной брюнеткой тридцати пяти лет, с хорошо сохранившейся фигурой. Голубые глаза светились из-под молодежной челки ласковой мудростью настрадавшейся в жизни женщины, простившей тех, кто причинял ей эти страдания. Веселкин отлично помнил, что, несмотря на свой профессионализм, сразу проникся к ней жалостливой симпатией. Да и то, что она рассказала на первом допросе, в любом цинике вызвало бы сострадание.
– Мы познакомились с Вадимом по объявлению, – благодарно кивнув следователю за предложенную сигарету, начала Макарова, – которое я разместила в разделе «Знакомства» в одной популярной газете. Я описала себя, не скрывая возраста и вредных привычек, хотя из всех таких привычек у меня одна – много курю, особенно после исполнения классических произведений. Я же преподаватель музыки по профессии, люблю Шопена, Листа да почти все. Но особенное вдохновение я получаю, только после 23-й сонаты Бетховена для фортепиано – той самой Апассионаты, которую так любил Ленин, особенно в исполнении Исайи Добровейна. Именно про нее он сказал: «Изумительная, нечеловеческая музыка».
Веселкин вспомнил обстоятельства дела Макаровой и подумал, что слово «нечеловеческая» здесь вполне уместно.
– Вадим позвонил мне дня через два-три после выхода объявления, – продолжала женщина, – описал себя, сказал, что тоже любит классику, хотя и не очень в ней разбирается. Голос у него был такой, знаете, что сразу понятно, что говорит настоящий мужчина – уверенный, без всяких там слов-паразитов типа «ну того», «этот, как его», «как бы», и тому подобного. Да и тембр был очень приятный, бархатистый такой. В общем, я обещала просветить его по музыке и назначила встречу в кафе неподалеку от дома. Не то что я хотела сразу пригласить его домой, если бы он даже мне понравился, а просто ближе к дому чувствуешь себя как-то уютней. Вадим приехал точно в назначенное время, я сразу его узнала – свою внешность он тоже описал, не приукрашивая. Он был крупным мужчиной с крупной же залысиной, но она ему даже шла. Говорят, что лысеющие мужчины обладают по закону компенсации усиленной потенцией, но я не особенно заметила разницу, хотя мужчин у меня было не так уж много.
«И слава Богу», – подумал про себя Веселкин, предлагая следующую сигарету.
– Ну вот, Вадим приехал с букетом роз – достаточно приличным для первой встречи. Не знаю, угадал он с розами – музыканты признают только их – или просто купил, чтобы произвести впечатление, но, во всяком случае, мне было очень приятно, и поэтому контакт у нас наладился сразу. Он работал в какой-то фирме по грузовым перевозкам управляющим, был несчастлив в двух браках, имел от них двоих детей, но оставил их матерям. На мой взгляд – зря, потому что они гуляли от него направо и налево, как он сам мне рассказывал. Последнюю даже застукал с любовником у себя дома, вернувшись из командировки раньше, чем планировалось, ну, в общем, классический случай. И что – никого не тронул, просто оставил все этой суке, собрал вещи и ушел. А я бы этим блядям, которые позорят отцов своих детей, клеймо бы на лбу выжигала крупными буквами «шлюха», чтобы сами позорились всю оставшуюся жизнь.
Веселкин заметил, что цвет глаз обвиняемой изменился – прозрачную голубизну затянуло чем-то свинцово-серым, как небо перед грозой, а из зрачков сверкнула молния. Черты лица Макаровой на какую-то секунду исказились, как будто по нему, как по воде, пошла рябь от внезапного ветра, из-под красоты выглянуло что-то звериное. Но, сразу же взяв себя в руки, женщина снова стала говорить спокойно, даже задушевно.
– В общем, мы сидели не меньше трех часов, жаловались друг другу на жизнь. Вадим оказался хорошим собеседником, а самый хороший собеседник – это тот, который может слушать. Вадик слушать умел, причем слушал участливо, вникал в мои истории. Вот за это он мне и понравился поначалу.
Макарова попросила еще одну сигарету, как бы отделяя ею пролог от самого рассказа. Сигареты у Веселкина кончались, но лучше было не курить самому, чем мешать откровенности подследственной, а, как известно, с никотином в такой обстановке слова у арестованных выдыхаются легче. Веселкин пододвинул к ней всю оставшуюся пачку.
– Мы стали встречаться с Вадимом уже на следующей неделе. Он сам мне позвонил тогда и предложил поужинать в каком-то другом ресторане, но я сразу пригласила к себе домой – все равно бы из ресторана ко мне поехали, но это выглядело бы как-то стандартно, даже пошло, как будто женщина отдается обязательно после романтических ужинов при свечах. Тем более я ему приготовила другую пищу – духовную и действительно при свечах. Вадим приехал тогда, не откладывая, взял к уже традиционным розам бутылку хорошего красного сухого вина. На этот раз я ему подсказала – я очень люблю испанскую «Риоху», он купил именно ее. Вообще, надо сказать, в первое время он ко мне прислушивался, ухаживал, внимательно слушал, как я играю на фортепьяно, искренне восхищался, а я бы фальшь в словах почувствовала не хуже, чем в нотах, уж можете мне поверить.
Веселкин кивнул – мол, разумеется, верю.
– И такая любовь у нас закрутилась, я была так счастлива, так счастлива, что ни о чем не думала. Он меня чуть на руках не носил: и билеты в театр на модный спектакль, и рестораны, и в круиз по Волге ездили. А как он под гитару пел – даже я, профессионал, заслушивалась. Так мы почти год миловались, одна нежность и веселье, просто угар какой-то. И пил немного, не курил вообще, всегда аккуратный, выбритый. Парфюмом только от «Босса» пользовался, а для дамы тонкий запах – как тонкий комплимент, сразить может. За ручку меня по улице водил, как девочку. Вообще я думала – сильный, надежный, что еще женщине нужно? Думала – еще немного, и хоть замуж, тем более сам звал.
Потом, как обычно бывает с вашим братом, мужиком, стал ко мне охладевать, хотя я для него готовила и стирала – он же ко мне переехал, – ну и удовлетворяла в постели, как он хотел. Вот из-за постели все и вышло, гражданин следователь. Я стала за ним замечать некоторые странности – он был склонен к насилию, любил доминировать, не командовать, как любят делать все мужчины, а именно доминировать, требовал полной покорности. Но и это бы ничего, но уже, не придумав ничего нового, стал намекать на групповой секс, спрашивая меня о моем опыте в этом деле и говоря, что каждая женщина должна хоть раз в жизни такое попробовать – и с другими женщинами и мужчинами. Тогда у нас вышла первая ссора, потому что я наотрез отказалась и даже пригрозила разрывом отношений. Вот тогда его ухаживания и вся прежняя внимательность пошли на убыль. Он стал пропадать сначала на дни, потом и дольше – один раз вообще неделю не появлялся. Я уже хотела собрать его вещи и выставить в прихожую, но именно в этот день он объявился, причем не один, а с другом. Оба были пьяны, хотя и держались на ногах. Ни цветочка, ни подарка, ни даже извинений, ничего – ввалились, и все. Да, я же вам не сказала – у него были вторые ключи от квартиры.
– Имя, фамилию друга можете вспомнить? – не нажимая, спросил Веселкин.
– Да что вы, гражданин следователь, какая фамилия. Он буркнул только – это мой корифан Кирилл, и сразу пошли на кухню выпивать. Отмечали что-то, то ли премию, то ли просто встречу. Я бы не удивилась при таком отношении, если бы он мне и имени не назвал.
Веселкин вспомнил, что среди сослуживцев убитого никого с именем Кирилл не числилось.
– Ну вот, потом они меня вызвали на кухню, якобы чтобы кофе приготовить, но я-то сразу поняла – это Вадим меня показывал дружку своему. Женщина-то это сразу чувствует, даже когда на нее сзади смотрят. А этот со всех сторон смотрел, как глазами раздевал, разве что не облизывался. Они допоздна сидели, я уже спать легла. А потом, чуть закемарила – чувствую, что-то не то. Гляжу – они оба, раздетые полностью, голые, уже на постель лезут. Я, конечно, заорала изо всей мочи – от страха и отвращения, а Вадим мне так спокойно говорит, меня это спокойствие еще больше испугало, что, если я сейчас не соглашусь на групповуху, они меня все равно изнасилуют, но и убьют здесь же. Тут только я поняла, что ничего не знаю про него – ни точного места работы, ни рабочего телефона, а мобильный телефон и на другое имя может быть. В общем, я перестала орать и сопротивляться, и они меня до самого утра пользовали.
– А почему на следующий день в милицию не обратились с заявлением об изнасиловании? Нашли бы обоих в один момент, сейчас бы давно вместо вас сидели, – резонно спросил Веселкин, подумав, что один из них был бы еще и живой.
– Да как же бы вы их нашли? Говорю же, что ничего определенного я про Вадима не знала, после этого даже не уверена была, что его вообще так зовут, он мне паспорта никогда не показывал, а рыться в его пиджаке, простите, не в моих правилах.
– Да хоть бы по билетам на круиз, о котором вы упоминали, там же он паспорт не мог не показать, – ответил Веселкин.
Макарова потянулась к пачке – там оставалась последняя сигарета. Веселкин с трудом добыл огонь из почти пустой зажигалки и поднес ее, не спуская глаз с подследственной. Женщина подалась чуть вперед, затянулась и выдохнула дым в потолок. Отвечать она не спешила.
– Ну так что же? – подтолкнул Веселкин.
– Гражданин следователь, ну как я могла рассуждать хладнокровно, сами подумайте, ни в этот момент, ни потом.
– А что было потом?
– Потом, гражданин следователь, я тряслась от страха и унижения на кухне и пила водку, совсем не пьянея, хоть пила залпом одну рюмку за другой. Думала как раз пойти в милицию, но боялась, очень боялась, да и стыдно было. Потом эти два козла, извините, по-другому и сказать не могу, приперлись на кухню, мятые, перегаром несет, глаза прячут. Выпили, не чокаясь, потом еще, а потом этот Кирилл, или как там его реально звали, не знаю, буднично так говорит, чтобы я им супчик подогрела, чтобы оттянуло с похмелья. Я еще огрызнулась – мол, за пивком или рассолом не сбегать? А Вадим говорит, что и за пивком, если он прикажет, пойду и в постель снова. Тут я опять испугалась, но больше ничего не было – Кирилл этот собрался по-быстрому и ушел. А мы с Вадимом долго еще говорили, ведь он мне почти родной был до этой ночи.
– Догадываюсь, что вы его простили, раз не расстались после такого? – понимающе спросил Веселкин.
– Простила, простила, дура. Я же одинокая, мне другого мужчину по объявлению сколько еще искать, да и если еще хуже нашелся бы, от которого вообще неизвестно, что ждать? А Вадим поклялся, что такого больше не повторится, что про то, что он меня убьет, это он сказал так, несерьезно, чтобы я орать перестала. Ну и помирились мы в конце концов, я даже ключей у него не отобрала, уж больно у него тогда виноватый вид был, как у побитой собаки. Ладно, думаю, больше никаких гостей не потерплю, сразу в милицию буду звонить, как приведет. Ну а он больше никого не приводил, а сам где-то снова пропадать стал, не сразу, а так, через месяц где-то. Приходил трезвый, правда, но какой-то угрюмый. Я сколько ни расспрашивала, он только отнекивался, ссылался на трудности на работе. Потом побивать меня стал – не кулаком, а так, оплеухами, но очень больно было все равно. Я терпела, понимала, что это он злость на мне срывает, а сам то ко мне хорошо относится, ведь любил же когда-то. Ну а с какого-то момента вообще кошмар начался – он просто измываться надо мной стал, отобрал паспорт, угрожал, что не только Кирилла приведет, если я его ослушаюсь хоть в чем-то, но и еще пару друзей, говорил, что я такая же шлюха, как его бывшие жены, как вообще все бабы, хотя я ему никакого повода не давала – ходила только учить чад новых русских игре на фортепьяно, никаких любовников у меня не было, даже друзей мужского пола. Он все время проверял мой мобильный телефон, эсэмэски проверял, кто мне звонил, кому я звонила. Потом вообще разговаривать со мной перестал – лежал только на диване и телевизор смотрел. Я ему и готовила – он со мной перестал за одним столом есть, приходил на кухню, когда меня там не было. Спать со мной перестал, говорил, что брезгует после Кирилла, хотя он с ним меня и насиловал. В общем, стал относиться ко мне, как к вещи или в крайнем случае домработнице, хотя в моей же квартире жил. Ну один раз опять на меня руку поднял, я не выдержала, сказала, чтобы убирался из моего дома. Тогда он не только меня избил, а пригрозил, что сделает из меня шлюху, потому что я такая и есть, и даже сказал, что… Мне это даже неудобно повторять, гражданин следователь.
– Ну, если неудобно, в протокол не будем вписывать, но лучше сказать, тем более, как я понимаю, речь идет об угрозах в ваш адрес, – посоветовал Веселкин.
Женщина потянулась было к сигаретам, но, вспомнив, что последнюю она уже выкурила, вздохнула и вдруг расплакалась, закрыв свои голубые глаза тонкими изящными пальцами пианистки. Веселкин по опыту знал, что лучше не утешать, от этого женщины плачут только больше, и терпеливо ждал. Сейчас бы он с огромным удовольствием сам закурил, но отлучаться из комнаты для допросов было никак не возможно, а просить вертухаев, чтобы принесли сигареты, было неловко. Наконец Макарова вытерла глаза, извинилась, шмыгнув носом, и продолжила:
– Он… он обещал… он пригрозил… в общем… – Женщина выдохнула, собираясь с духом, и быстро закончила: – Он собирался меня с собакой… ну псом, чтобы я, одним словом, удовлетворяла пса.
– Какого пса? – оторопел Веселкин.
Такого в его практике еще не было. Следователь за свою долгую службу сталкивался с самым разным насилием, но зоофилия ему еще не попадалась, поэтому он не знал, как ему следует реагировать.
– Любого, какого он с улицы приведет. Вот тут я не выдержала, плюнула ему в морду, в лицо то есть, извините, он на меня с кулаками, в глазах муть какая-то, ярость. Я и поняла – сейчас, точно, забьет насмерть, ну и схватилась за кухонный нож, что валялся на столе. Дальше просто не помню, на меня просто снизошло что-то – я отбивалась ножом, наверное, ранила, но от страха била и била. Когда очнулась, он уже лежал у дивана, весь в крови. Я на кухне всю ночь тряслась от страха, пила все, что в руки попадется, ну а утром в милицию позвонила.
Веселкин заполнял протокол допроса в полном молчании, только Макарова напротив шмыгала носом. Наконец, взяв подпись обвиняемой на каждой странице протокола, который Макарова внимательно прочитала и даже внесла ряд поправок, Веселкин вызвал конвой. Женщину отвели обратно в камеру, а следователь зашел к начальнику по оперативной работе – «куму», с которым подружился за многие годы посещения своих и его подопечных.
– Коньяк будешь? – задал риторический вопрос капитан Семин, которого Веселкин уже давным-давно называл по имени – Игорь. После традиционных трех-четырех шкаликов Игорь превращался в Гарика, а Веселкин в Веселого, отчасти потому, что его тоже звали Игорем. Выпить хотелось обоим, поэтому Веселкин лишь пожал плечами, пока Семин открывал сейф – коньяк был импортный, и, хоть в кабинет начальства никто без разрешения войти не мог, Семин хранил дорогой алкоголь так же надежно, как секретные документы. – За встречу.
– Давай.
Друзья сдвинули бокалы.
– Как сам, как семья? – спросил Семин и тут же пожалел.
Он и все друзья Веселого знали, что семейная жизнь у того была совсем не веселая. Жена крепко попивала, ей хватало всего нескольких бокалов вина, чтобы начать скандалить дома, а на людях, где-нибудь в ресторане или гостях позорно вешаться на каждого молодого мужика, сделавшего ей дежурный комплимент. Друзья не раз советовали приструнить бабу исконным русским способом, то есть слегка «подправить» прическу, но Веселкин жены не трогал, пытался вразумить словами. Но шебутные женщины приличное поведение мужчины часто воспринимают как слабость, и жена Веселкина, протрезвев, относилась к его увещеваниям с презрением. Дело шло, даже катилось к разводу, и их единственная дочь до совершеннолетия была обречена жить с матерью-алкоголичкой.
Это-то угнетало Веселкина больше всего. Но он привычно ответил «нормально» и, вздохнув, сам разлил коньяк по рюмашкам.
– Ну что, допросил злодейку? – дежурно поинтересовался Семин.
– Допросил, – покачал головой Веселкин. – Какой-то кошмар. Мужик ее, которого она ухандокала, принуждал не только к групповухе, но и даже, не за столом будет сказано, к соитию с псиной. Любая бы не выдержала.
– Ну это с ее слов. Мужик-то уже ничего не скажет, – резонно заметил Семин. – Ты знаешь, в камере ее вообще-то недолюбливают, даже побаиваются немного. Пытались ее тут «прописать», но докладывают, что с таким остервенением на баб поперла, что даже рецидивистки растерялись. Говорят – в глазах дьявол сидит.
Веселкин вспомнил, как в одну секунду изменился цвет глаз Макаровой, но сказал про другое.
– А ведь интеллигентная женщина, пианистка.
– Да все бабы – зло, – утверждающе сказал Семин и разлил коньяк.
Веселкин не стал возражать и стукнул стеклом о стекло.
– Слушай, Веселый, я тебе точно говорю – ты ее дело повнимательней посмотри, не могла она терпеть групповуху или эту, как его…
– Зоофилию, – подсказал Веселкин.
– Именно. Тут что-то другое должно быть. Не тот психологический типаж – эта Макарова неубранную посуду терпеть не будет, не то что…
– Думаешь?
– Эта пианистка тут любую под нары чуть ли не загнать может, и это – первоходка. А на воле тем более такой уж смирной быть не могла. В общем, я тебе сказал, а дальше ты уж сам прикидывай.
Допивать бутылку до конца не стали, рабочий день давно закончился, и друзья засобирались домой – Семин с нетерпением, Веселкин – как по приказу. Вышли вместе, Семин приглашающе открыл дверцу «Жигуля» – Веселкин был без машины.
– Пьяным за руль, гражданин начальник?
– Гаишник – тоже человек, а вдруг его подруга какая ко мне попадет за наезд или еще что-нибудь? От сумы и тюрьмы, сам понимаешь.
– Понимаю, Гарик, – глубоко вздохнул Веселкин, – особенно про суму. Тут хоть зарекайся, хоть отрекайся – зарплаты не повышают.
– А жезла нет, – подхватил Семин.
– Это точно.
Осенняя Москва, несмотря на обилие неоновой рекламы, все равно выглядела темной и мрачноватой. «Авторитетные» джипы сплошь черного цвета не церемонились на дороге с «Жигулями», часто подрезая и не пуская так просто в другой ряд. Семин тем более чертыхался, чем отдалялся от дома, – Веселкин жил далеко не на соседней улице. Веселкин же безучастно смотрел в окно – какая-то мысль, словно солнечный зайчик, неуловимо посверкивала где-то на дне подсознания и не давала покоя. Вдруг он резко повернулся к водителю и, перебив очередную тираду в адрес невежливых водителей иномарок, неожиданно спросил:
– Гарик, у тебя Толстой есть?
– Что? Какой Толстой? Ты не заработался, случайно, Веселый? – Семин от неожиданности перестал смотреть на дорогу.
– Толстой Лев Николаевич, классик.
– Черт, – прошипел Семин, еле успев притормозить перед красным светом светофора. – «Войну и мир» решил почитать? От бессонницы?
– Нет. Другое. «Крейцерову сонату». Там что-то похожее на мой случай описано.
Семин, подозрительно косясь на товарища, набрал по мобильному жену Валю, которая тоже поначалу не поняла вопроса. Но, получив разъяснения, что это нужно Веселкину по работе, пошла проверять книжные полки. Нужное нашлось, и, не без удовольствия развернувшись в противоположную сторону, Семин порулил к своему дому.
Пока посидели, пока повспоминали общее прошлое, стало совсем поздно. Веселкин долго не стал себя уговаривать остаться на ночь, его жена, до которой еще пришлось дозваниваться – домашний телефон был равнодушно занят, как бы показывая, что разговаривающие по нему были заняты не им, – никакого беспокойства не проявила. Веселкину постелили на классической раскладушке, Валя придвинула торшер – гость собирался долго читать. В доме стихло, и Веселкин погрузился в бессмертное произведение Толстого.
Первые страницы с общими и пространными рассуждениями попутчиков, едущих в поезде, о правах женщин не вызвали у него особенного интереса. Однако, когда старик купец произнес, что волю бабе не давать надо сначала и что нельзя верить лошади в поле, а жене в доме, Веселкину захотелось отчеркнуть это место жирной линией. «…загодя надо укорачивать женский пол, а то все пропадет», – произнес вслед за купцом Веселкин. Здесь нужно было бы подчеркнуть дважды, а то и трижды да и поставить восклицательный знак. Но книжка была чужая, да и ручки под рукой не было. Веселкин только вздохнул и стал читать дальше. Позднышев начал рассказывать свою невеселую историю. Были не очень понятны рассуждения о разврате и прекращении человеческого рода, глаза начали слипаться, но Веселкин твердо решил дочитать до конца. Однако с фразы «она опять с увлечением взялась за фортепьяно, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось» Веселкин стал читать внимательнее. В воображении ясно возникли фигуры Трухачевского, жены Позднышева, их детей, гостей, приглашенных на домашний концерт.
– «…между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств», – прочитал вслух Веселкин. Та догадка, промелькнувшая солнечным зайчиком, когда они ехали в машине Семина, стала более устойчивой, но все-таки оставалась не оформленной пока в мысль, на уровне интуиции. «Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано». Веселкин хотел представить себе лицо жены Позднышева, но почему-то представилось тоже раскрасневшееся лицо Макаровой, отведенное от сладострастных клавиш и смотрящее жалобно на него, майора Веселкина, своими прозрачными до невиновности голубыми глазами. Глаза вдруг расширились от ужаса, Веселкин обернулся – сзади подходил с огромным кухонным ножом крупный лысоватый человек. Его взгляд матово отсвечивал, точь-в-точь как лезвие ножа.
– Опомнись, Вадим! Что с тобой? Ничего нет, ничего, ничего…Клянусь! – почти как в повести заговорила Макарова.
Веселкин хотел принять оборонительную стойку, но мужчина стал таять в темноте, силуэт расплылся, но не исчез. Только нож все так же холодно отсвечивал в руке. Веселкин вгляделся – рука была женская. Из темноты выступила вся фигура – это была Макарова. Веселкин обернулся – за фортепьяно никого не было, крышка была закрыта.
– Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, – это вздор, неправда, – усмехаясь, проговорила Макарова словами Позднышева, – я все помнила и ни на секунду не переставала помнить…Всякую секунду я знала, что делаю…Но сознание это мелькнуло, как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью…Страшная вещь эта соната…первое престо…и вообще страшная вещь музыка…она действует, страшно действует…но вовсе не возвышающим душу образом…раздражающим душу образом…
Глаза Макаровой расширились, черты исказились, и она занесла нож для удара. Веселкин хотел выбить нож, но все члены обмякли, он стоял, как будто кролик, загпнотизированный удавом, и только шептал:
– Опомнись, ничего не было, не было, клянусь…
Макарова ударила, Веселкин ухватился за нож и вскочил на постели. Его руки сжимали руку Семина, трясшего товарища за плечо.
– Ты чего, Веселый? – с тревогой спросил Семин. – Аустерлиц, что ли, приснился?
– Да уж, – неопределенно ответил Веселкин, выпуская семинскую руку.
Семин пошел на кухню, сказав, что жена уже приготовила завтрак. Веселкин осмотрелся и вытер пот со лба. Сны часто забываются в первые же минуты после пробуждения, но Веселкин все помнил отчетливо. Так же отчетливо он видел всю картину происшедшего с его подследственной. Не вставая с раскладушки, Веселкин протянул руку к пиджаку, висевшему на соседнем стуле, достал мобильник и, дозвонившись своему сотруднику, отдал какое-то указание.
Второй допрос должен был решить участь обвиняемой. Веселкин заранее запасся сигаретами и попросил поставить на стол графин с водой. Через несколько минут ввели Макарову. Та же одежда, та же челка, лишь голубые глаза отдавали инеем. Впрочем, когда женщина села на привинченный стул и снова взглянула на следователя, в ее глазах читалась только внимательная покорность. Веселкин сразу придвинул сигаретную пачку к обвиняемой. Макарова печально улыбнулась в знак благодарности и чуть подалась вперед, к огоньку зажигалки, теперь уже исправной. Дав даме прикурить, Веселкин откинулся назад и стал рассматривать дело, как будто изучал его в первый раз. Комната для допросов наполнялась тишиной вперемешку с сизым дымком, слышны были только шуршание переворачиваемых страниц да звуки выдыхаемого никотина. Когда они оба постарели на одну минуту, Веселкин оторвал голову от документов и мягко спросил:
– Ирина Николаевна, по-моему, вы не все рассказали следствию.
Макарова глубоко затянулась, вбуравив голубой взгляд в Веселкина, как будто допрашиваемый был он.
– О чем это вы, гражданин следователь?
– Я о том, Ирина Николаевна, что никаких угроз, изнасилований и тому подобного не было, не правда ли?
– Да как же вы можете мне не верить? – Женщина уже готова была применить естественное оборонительное оружие – слезы, голос ее задрожал, ресницы беспомощно захлопали. – Я в самом страшном кошмаре не могла себе представить, что мой любимый мужчина, а я любила его, слышите, любила, будет относиться ко мне, как к какой-то непотребной девке…
Слезы уже катились по ресницам, Макарова их не вытирала, а только сложила свои изящные пальцы, как бы призывая небеса в свидетели ее слов.
«Уж слишком театрально», – усомнился про себя Веселкин, но вслух только попросил женщину успокоиться и налил воды из графина.
Макарова взяла стакан и маленькими глоточками, смешивая слезы с водой, стала пить.
Веселкин выждал момент между всхлипываниями.
– Через сколько времени после убийства гражданина Метлова вы позвонили в милицию?
– Я же рассказывала. – Макарова перестала плакать. – Как пришла в себя на кухне… под утро.
– А почему не позвонили сразу, когда увидели, что ваш сожитель не подает признаков жизни?
– Я же говорила – тряслась вся, была как в тумане… такое же не сразу осознать можно…
Веселкин закрыл папку и, не спуская глаз с обвиняемой, вбил главный вопрос:
– А когда Апассионату играли окровавленными пальцами, руки не тряслись?
Макарова спокойно поставила стакан на стол.
– С чего вы взяли? – Ее голос звучал глухо, но ровно.
– Да по вашим отпечаткам на клавишах мы это взяли, Ирина Николаевна. На первом осмотре места преступления никто не догадался поднять крышку фортепьяно, а вы, верно, в полумраке не заметили следов крови на клавишах да и не догадались их вытереть. И так до самого утра играли, вот почему соседи не слышали стонов жертвы. Их опрашивали про шум драки, борьбы, крики и тому подобное, а про музыку у оперативников не хватило фантазии расспросить. А экспертиза показала, что умер-то гражданин Метлов не сразу, а тоже под утро. И характер ранений говорит о том, что наносились они с большими временными промежутками, а из этого следует, что вы, Ирина Николаевна, бросали время от времени игру, подходили к еще живому, но обездвиженному от потери крови и болевого шока Метлову и наносили очередной удар. Потом возвращались к роялю…
– К фортепьяно, – еще глуше поправила Макарова.
– К фортепьяно, – согласился Веселкин, – и играли, играли, наверное, чувствуя необычнейшее вдохновение…
– Да!! Да!! Сто раз да!!! – Макарова изогнулась, как перед прыжком, глаза ее опять затянула серая пелена, зрачки накалились, зубы забелели в зверином оскале. – Этот кобель проклятый, сволочь, когда я его уже любила, решил вернуться к своей жене – шлюхе. Он меня бросил ради той, которая бросила его, и правильно бросила; все вы кобели, всех вас кастрировать надо во младенчестве, яйца отрезать, как блудным котам, да, я так никогда в своей жизни не играла, как в эту ночь, я играла так, как не снилось ни одному Вану Клайберну, я получала оргазм после каждого финала и била, била ножом эту скотину, эту свинью, этого козла лысого, этого… – Женщина захлебнулась, не найдя подходящего слова, и вдруг одним резким движением, так что Веселкин даже не успел отшатнуться, схватила графин и запустила следователю в голову. Веселкин, как в тумане, шарил рукой под столом и не мог нащупать кнопку вызова конвоя, но дверь открылась и в комнату ввалились два сержанта – неистовый женский крик был слышен, наверное, и за пределами тюрьмы. Бьющуюся в судорогах Макарову увели в камеру, а Веселкин с окровавленной головой пошел в тюремную медчасть. Потом они с Семиным допивали не тронутый с момента их последней встречи коньяк, и это помогало Веселкину больше, чем но-шпа и перевязка.
С того случая прошло лет шесть или семь. Макарова получила серьезный срок, Семин перевелся в центральный аппарат МВД, Веселкин же, наоборот, уволился со со службы, переквалифицировался в адвоката по уголовным делам, развелся с женой. Дочку судья-женщина, как водится, оставила матери, бытовой алкоголизм без справки из соответствующего диспансера оказался недоказуем. Веселкин тосковал, но дочка уже стала почти взрослой, и бывший следователь решил попытать счастья во втором браке. По дискотекам и клубам он, естественно, не ходил, знакомиться с женщинами было негде, клиентки же его все были замужем, и Веселкин пошел испытанным путем одиноких людей, живущих замкнутой жизнью, – решил найти спутницу через газету знакомств. Купив в соседнем с домом ларьке несколько таких газет, Веселкин стал с ручкой в руках изучать разделы «Она ищет его», то удивляясь высочайшим требованиям перезрелых женщин к будущим мужьям, то поражаясь их способностям превращать на словах недостатки в достоинства. К примеру, толстые называли себя пышными, низкорослые – миниатюрными, плоскогрудые – хрупкими, ищущие уже четвертого брака – опытными и тому подобное. Ничего не требовало подчеркивания, и Веселкин уже было собирался закрыть очередную газету, как вдруг его внимание привлекло объявление в конце последней страницы. Вчитавшись, Веселкин выронил ручку из пальцев. Объявление было набрано жирным шрифтом и гласило следующее:
«Миловидная брюнетка с голубыми глазами, около сорока лет, без детей, ищет надежного спутника жизни, твердо стоящего на ногах и не лишенного художественного вкуса, особенно в области классической музыки. Ты будешь приходить усталый с работы, погружаться в домашнй уют и ласку, а если ты вдруг загрустишь, мы зажжем свечи от нашей любви, и я буду играть тебе Апассионату».
2007Шумахер из Лотошино
Невеста, Наташа, была родом из Лотошино – небольшого городка почти на границе Московской и Тверской области, где-то тридцать километров за Волоколамск. В среду они с Юрой подали заявление в ЗАГС и решили отметить помолвку на ближайших выходных на даче родителей невесты, в том самом Лотошине. Кроме шашлыков и прочих удовольствий, следовало показать жениха родителям невесты. С ними поехал еще один москвич, неопределенного рода занятий, но Юрин хороший знакомый, оказавшийся в пятницу под рукой. Москвича звали Станиславом, но с Юрой они друг к другу больше обращались по отчеству: Юра называл приятеля Саныч, сам же откликался на Петровича. Наташа была высокой шатенкой, выше Юры и Стаса, особенно на каблуках, и, может быть, поэтому снисходительно называла обоих уменьшительно-ласкательно: Юрик и Стасик.
Выезжать в летнюю пятницу из Москвы по любому шоссе – дело неблагодарное. Через три часа продвижения со скоростью немцев под Сталинградом были переслушаны все музыкальные диски, рассказаны все приличные и неприличные анекдоты и выкурены все сигареты без остатка. Юрина «девятка» напоминала затонированную пепельницу, смеяться больше не хотелось, хотелось, пожалуй, выпить, но из солидарности с водителем Стас и Наташа на этом не настаивали. Включили радио, перескакакивая со станции на станцию. На «Шансоне» затянули грустную песню, что называется, «за жисть». Стас вздохнул.
– Оставь, Петрович. Душевно.
Наташа, однако, не была настроена грустить.
– Охота вам слушать этот блатняк. Давайте найдем что-нибудь пооптимистичней.
Юра прислушивался к пожеланиям будущей супруги и потянулся было к магнитоле, но Стас остановил:
– Дайте хоть дослушать, жизненная вещь.
– Вот как моя мама поет, вот это жизненно. Так, бывало, голос задерет, до самых косточек пробирает, – с гордостью сказала Наташа.
– А сама-то поешь? – через некоторое время спросил Стас.
– Пою, когда компания хорошая. Народные, правда, только.
– Народные самые жизненные и есть, – сказал Юра, – вот увидишь, как простые люди отдыхают.
Стас подождал все-таки, когда окончится песня, потом только ответил:
– Можно подумать, что я народа не знаю.
– Ты, Стасик, москвич…
– Я питерский вообще-то, – перебил Станислав.
– Все равно столичный, – продолжала Наташа, – с детства к городу привык, а там – маленький городок, считай, деревня. Воздух другой, люди другие…Каждый как на ладони, все все друг про друга знают. Жизнь, в общем, другая, ну и песни другие.
– Да я уж по России поездил, слава Богу, и городков и сел повидал, и как люди там живут, знаю. В Москве вообще жизни нет – одышка какая-то. Люди не живут, крутятся, вертятся, выжимают все, что можно и нельзя, из себя и других. Деньги, деньги и еще раз деньги, каким способом – никому не интересно.
– А мне нравится, – не совсем последовательно возразила Наташа, – жизнь бьет ключом, движуха. А в Лотошине скука смертная – мужики только пьют да по бабам гуляют.
– А бабы там будто не пьют и еб…ся, – подключился Юра.
– Юрик, не пошли. Конечно, пьют и трахаются, но иначе как-то.
Мужчины одновременно рассмеялись.
– Иначе – это как? – спросил Юра.
– Да, как это? Особенно второе, – уточнил Станислав.
– И нечего ржать, – сама же смеясь, сказала Наташа, – там по-другому все, без злобы как-то. Вот там про гулящую женщину знают, к примеру, что она гулящая, но больше жалеют, чем осуждают. А в Москве никто никого толком не знает и, главное, не хочет знать. Кто гуляет, с кем гуляет, абсолютно никого не интересует – равнодушная свобода.
– Ты это к чему? – насторожился Юра.
– Я вообще, – успокоительно добавила Наташа.
– Недаром говорят, русская баба не дает, а жалеет, – продолжил тему Станислав, – какое-то, но чувство. А в Москве, как в Америке, – чистый секс. Как гимнастика – для поддержания тонуса. Вместо милого – бойфренд, вместо трапезы – ланч, вместо здравиц – «хэппи берсдэй ту ю». Измельчали, одним словом.
– А что, лучше, как наш мужик – напьется на этой самой трапезе так, что лыка не вяжет, глаза мутные, рубаха расстегнута до пупа, хмель в кулаках заиграет, и пошел все крушить, что не по нраву, – возразила Наташа, – денег домой не приносит, все пропивает с такой же пьянью да еще своим православием гордится – мол, мы не америкосы какие-нибудь, у нас вера своя, душа. А жена его больше его получает, дом держит да над детьми трясется. Как от такого не гулять-то? И без всякой Америки измельчали, сами собой. Уж лучше бойфренд с кредитками, чем милый – от сивухи стылый.
Немного помолчали. Юра сделал какой-то вираж и выехал на полосу посвободнее. Движение вперед всех приободрило. По радио пошла веселая песня, и разговор повернул на другое. Через два с небольшим часа вся компания сидела уже на маленькой кухоньке Наташиных родителей, Любови Николаевны и Александра Семеновича, и пила долгожданную беленькую под рассыпчатую картошечку и огурчики домашнего засола.
Ночевали на даче – до нее от дома Наташиных родителей идти было минут десять. Станислав, пока шли, все вздыхал да смотрел на звезды.
– Чего загрустил, Саныч? – спросил Юра, держа одной рукой невесту за талию.
– Да так…Вы вот молодожены, а у меня… – Станислав махнул рукой.
Друзья знали, что Станиславова жена не только его бросила, но и попыталась отнять детей и все имущество.
– Бабу тебе нужно, только ласковую, – подсказал верное средство Юра.
– А где взять-то такую? Тем более здесь и среди ночи? – еще раз вздохнул Станислав.
– Ну ночью, не ночью, а завтра посмотрим, – загадочно сказала Наташа.
– Что, есть такая? – оживился Станислав. – А сегодня нельзя?
– Да полчетвертого уже, какая баба? – Юра пожал плечами.
– А мы ее разбудим. Серенадой. Где ее балкон?
Все засмеялись.
– До завтра потерпи, есть одна – ласковая, незамужняя, то, что нужно, – приподняла завесу Наташа.
– Красивая? – подозрительно спросил Станислав.
Юра так вкусно причмокнул губами, что Наташа дернула своего жениха за рукав.
– Звезда, а не женщина.
– Нет, правда, симпатяшка. Подруга с детства, – подтвердила Наташа, – я ей про тебя уже рассказывала.
– А она что? – Станислав явно приободрился.
– А это ты завтра увидишь, что. Тут все от тебя зависит. – Наташа хитро посмотрела на Станислава.
– Это завтра, а сегодня… – Станислав опять вздохнул. – А зовут-то как?
– Любаня, – нараспев сказала Наташа.
– Любаня, – так же нараспев повторил Станислав, – красивое имя.
Дача оказалась совсем небольшим срубом о двух комнатах, с маленькой кухней и большой собакой в конуре за крыльцом. Удобства были во дворе – в темноте ходить туда было небезопасно, особенно человеку городскому. Станислав решил перенести умывальные и другие процедуры на утро и постарался побыстрее заснуть в предвкушении завтрашнего дня. Молодожены за дощатой стенкой сделали все возможное, чтобы сон Станиславу не шел, но утомление от долгой езды и водка пересилили, и эта ночь стала прошлым.
Деревенское утро в России отличается от городского не только свежим воздухом и живыми будильниками на заборах. В нем, даже если и не очень солнечно, все-таки разлито что-то парное, теплое, вкусное. А если светит солнце, то оно и не просто светит, а, словно приветливая хозяйка, улыбается каждому пробудившемуся, как желанному гостю на этой земле, желая ему счастливого дня. Станислав открыл глаза и потянулся в постели – от вчерашней усталости не осталось и следа. Наташа уже хлопотала на небольшой кухне, Юра рубил дрова на мангал – из-за окна доносилось звонкое хряпанье топора. Станислав быстро оделся, свернул постель по-военному и вышел на крыльцо. Июньское солнце приглашало рассесться на завалинке, запыхать сигареткой и ни о чем не думать. Но впереди был праздник, а любой праздник нуждается в подготовке. На правах гостя Станислав мог бы и избежать работы, но другу семьи слоняться без дела было бы неловко. Станислав спустился в сад, поздоровался с Юрой, послал воздушный поцелуй Наташе, высунувшейся из окна кухни, и пошел совершать утренние процедуры в угол сада. Через минут двадцать окончательно бодрый и в прекрасном настроении Станислав присоединился к друзьям – ему был поручено резать и мариновать шашлык.
Первой из гостей, вернее, из друзей на дачу пришла Любаня. Наташа о чем-то пошепталась на крыльце с подругой, только потом окликнула Станислава, завозившегося с мясом.
– Стасик, можешь начинать петь свои серенады.
Станислав оглянулся. Перед ним стояла невысокого роста девушка, но очень стройно и пропорционально сложенная, с зеленовато-голубыми глазами, с настороженным любопытством взирающими на него из-под светло-русой челки. Станислав не смог удержаться и окинул взглядом красивую фигуру, зачехленную в джинсы и желтую обтягивающую футболку. Девушка еле заметно усмехнулась. Станислав понял, что первые слова должны быть нестандартными и решат все.
– А Любаня водку пьет? – спросил он Наташу, не отводя взгляда от Любани.
Обе девушки рассмеялись – контакт был налажен.
– Пьет, пьет, но в меру, – успокоила Наташа.
– Я тоже свою меру знаю, но не знаю только, как ее выпить, – пошел юморить Станислав.
Через несколько минут они с Любаней болтали, как старые знакомые, без всякой неловкости и искусственных пауз. Любаню «кинули» на чистку картошки. Станислав, справившийся в скором времени с шашлыком, уселся за стол напротив девушки, склонившейся с ножом над ведром с картошкой, и разлил водку по рюмкам. Рюмок было три – по числу кухонных работников, Наташа здесь же готовила бутерброды и закуску.
– Ну, за красоту. – Станислав протянул девушкам рюмки.
– Что, вот так вот, с утра? – несильно удивилась Любаня. – Я же с ножом работаю.
– В качестве поощрения. Ты уже десять картофелин начистила, можно выпить первый шкалик.
– Ты что, будешь ей за каждый десяток по рюмке подносить? – спросила Наташа, беря свою из Станиславовых рук.
– Будет плохо чистить – тогда только через два десятка, – безаппеляцонно объявил Станислав.
– А сколько картошки-то надо? – Любаня посмотрела на Наташу.
– По шкале Стасика – рюмок пять-шесть.
– Да… какая я буду к вечеру? – покачала головой Любаня, но рюмку взяла, то ли случайно, то ли нет, коснувшись Станиславого мизинца.
– Красивая, – заверил Станислав, приободрившись после этого касания.
– Ну, тогда делать нечего – придется пить, раз мужчина настаивает. – Любаня спокойно, не морщась, отпила полрюмки.
Станислав протянул девушкам тарелку с закусками. В кухню зашел Юра.
– Почему это без меня пьют? Я все дрова наколол, щепу настругал, мне не нальют, что ли?
– Ты хозяин, – ласково сказала Наташа, – сам гостям наливать должен.
– Не вопрос. – Юра потянулся к бутылке.
– Я еще не начистила на вторую, – заметила Любаня.
Станислав только махнул рукой.
– Мы это в протокол заносить не будем. За любовь пить глупо, а вот за Любаню – в самый раз.
Выпили согласно, Юра погладил себя по животу.
– Зря говорят – первая колом, вторая соколом. Хорошо пошла.
– Да на старые-то дрожжи все хорошо идет. – Наташа вернулась к закускам.
Юра со Станиславом пошли на крыльцо.
– Какой воздух, а? Не то что в Москве, – сказал Юра, закурив и выпустив сизый дымок в этот самый воздух.
Станислав по утрам предпочитал обходиться без сигарет – берег дыхалку, но после утренних шкаликов на курево тянуло. Мужчины глубокомысленно затягивались, женщины занимались снедью, сторожевой пес по кличке Бас озирался из своей клетки по сторонам, шумно втягивая носом воздух, – в общем, все было спокойно, правильно, как и должно было быть. Станислав чувствовал себя в полном равновесии с собой и природой, и, что было особенно приятно, с Любаней.
Через пару часов подошли Наташины родители. Любовь Николаевна прошла на кухню, как боцман на палубу своего корабля, – командирским голосом все действия девушек были приведены в систему, блюда на стол стали подаваться быстрее и в ведомом только настоящим хозяйкам порядке. Мужчины зажгли мангал – огонек весело заплясал по дровишкам, закучерявился дымок, растворяясь невысоко над головами. Юра достал сигареты. Станислав зацепил щепкой уголек.
– Зажигалка же есть. – Юра полез в карман.
– От угля – теплее. – Станислав прикурил себе и Александру Семеновичу.
Пока мужчины задумчиво смотрели на огонь, смешивая табачный дым с дровяным, стали подтягиваться гости, в основном, лотошинские дамы. Стол заполнялся быстро – блюда передавали из рук в руки прямо через распахнутое кухонное окно. Скоро и на столе и за столом стало тесновато, хотя мужья женщин еще не подошли. Из дома появились Наташа с Любаней, Любовь Николаевна через окно дала команду садиться за стол. Начали рассаживаться. Мест особо не разбирали, но Станислав спросил у Наташи, куда ему садиться. Наташа показала на место рядом с Юрой. Станислав сразу садиться не стал, посмотрел на Наташу со значением. Та секунду не понимала, но догадалась и показала Любане на стул по соседству со Станиславом.
Первый тост был, естественно, за молодых. Выпив, начали знакомиться поближе. По левую руку от Станислава сидели старинные подруги Любови Николаевны, но главное, что по правую руку сидела Любаня. Девушка и вправду оказалась заботливой, предлагала положить своему новому знакомому даже дальние закуски. Станислав не отказывался, ухаживания Любани были ему очень приятны. Выпили за родителей невесты, потом слово взяла Любовь Николаевна.
– Так вот, зятек, теперь уже могу тебя так называть, Юрочка, с полным правом…
– Да не поженились еще, – весело заметили из-за стола.
– Теперь небось никуда не денется, – заверила будущая Юрина теща.
По ее голосу было ясно, что шутки – шутками, а деваться действительно некуда.
– Так вот, Юра. Береги свою невесту, можно сказать, уже жену. Она – единственное, что у нас есть дорогого, и теперь это дорогое – у тебя. Она тебя любит, мы, родители ейные, тебя тоже очень любим, так вот и живите в любви и мире, как говорится, до гроба и будьте счастливы. Тогда и мы будем счастливы.
С этими словами Любовь Николаевна по-молодецки махнула стаканчик, гости с удовольствием последовали ее примеру. Кто-то крикнул «горько». Несмотря на протесты невесты, что, мол, это не свадьба, а только помолвка, Юра под одобрительные выкрики гостей поцеловал невесту взасос секунд на десять. Все захлопали, и громче всех хлопали Станислав с Любаней.
Постепенно стали появляться мужики, кто один – чья жена уже сидела за столом, кто со своей половиной, а кто со всей семьей. Кто был незнаком – знакомились быстро, в основном, с Юрой и Станиславом. Новые гости приносили что-нибудь к столу, один худощавый малый с веселыми глазами, назвавшийся Андрейка, поставил две бутыли с чем-то красным и желтым. Вокруг стола запрыгали приведенные дети, застолье начало разбиваться на отдельные разговоры. Станислав улучил минуту и налил себе с Любаней.
– Любань, предлагаю без брудершафта перейти на «ты», по-соседски, так сказать, за то и выпить.
– Без «брудершафта» неинтересно. Но сейчас целоваться неловко – это дело «молодых», – с чертинкой в глазах негромко сказала Любаня.
– «Брудершафт» будем считать условным – процедуру перенесем на вечер, когда будет ловко.
– Ну если условным, то ладно.
Станислав с Любаней чокнулись больше глазами, чем рюмками. Станислав улыбнулся – наступало состояние полного равновесия, он Любане явно нравился, эта ночь могла бы стать короткой не только из-за лета.
– Эй, жених, хватит там с молодой шептаться, нашепчешься еще. Давай речь двигай, – громко сказал женский голос с другого конца стола. Станислав с неохотой оторвался от Любани – крупная женщина с короткими рыжими волосами, жена Андрейки, выглядевшая в полтора раза тяжелее и старше своего мужа, смотрела прямо на Станислава.
– Давай, давай, послушаем, как ты невесту любишь, – настойчиво, даже сурово потребовала Андрейкина жена и ударила ладонью по столу.
– Ты чего, Лид, это не жених. Жених-то рядом сидит, – наперебой стали поправлять женщины.
– Так кто жених-то?
– Так вот – Юра. Наташа – невеста.
– А это тогда кто?
– Друг евонный, Стасик, а это Любаня, ты же ее знаешь.
– Так ты женихом будешь? – обратилась Лида к озадаченному Юре.
– Я буду.
– Так пошто молчишь?
– Я не молчу. – Юра пожал плечами и стал подниматься с рюмкой в руках.
– Про любовь, – напомнила Лида.
– Так я про это. В общем, мы с Наташей давно друг друга знаем. Знаем и любим, да, Наташ?
Невеста, смотрящая на Юру внимательными глазами, кивнула. Гости, ожидающие продолжения, почему-то кивнули тоже.
– И я, – продолжал Юра, – уж точно, сделаю все, что в моих силах, чтобы вашей дочери жилось и хорошо, и небедно, и, в общем, счастливо. За мной, в общем, как за каменной стеной, и пусть слушается мужа, тогда все будет хорошо и даже еще лучше.
– Пусть слушается, правильно…да убоится жена мужа своего, – одобрительно загудели мужики, поднимая рюмки.
Андрейка, скосив глаза на жену, тоже буркнул:
– Правильно, Юр.
– Что-то водка горчит, – крикнул кто-то.
– Го-о-рько! – зычно скомандовала Лида.
Юра еще не успел сесть, Наташа встала и обвила руками плечи жениха. Объяснять про разницу помолвки со свадьбой было уже бесполезно, особенно Лиде.
Однако пришло время ставить шашлыки. Мужчины вышли из-за стола. Александр Семенович подавал шампуры, Юра клал их над углями, остальные, обступив их вкруг, закурили.
– Я вот свой трактор так сделал, такой тюнинг замыстарил, что хоть на свадьбу подавай, – ни к кому особенно не обращаясь, сказал Андрейка.
– В смысле? – спросил кто-то из мужиков.
– В таком смысле, что поставил новые сальники, сменил клапана, отрегулировал, что надо, такую мощь сделал, что гоняй, как на мотоцикле.
– Это как? У меня такой же трактор, я тоже клапана заменил, но не гонять же, – засомневался другой мужчина, постарше.
– А у меня – гонять можно, – развел руками Андрейка, как бы показывая всю непонятливость аудитории.
– Гонять – это с какой скоростью? – спросил Юра, положивший уже шампуры на стенки мангала и закуривая от сигареты тестя.
– Да хоть с какой. До ста километров в час, – не колеблясь, ответил Андрейка, делая ударение на первом «о».
– Сколько, сколько? – изумились мужики.
– Как глухие, честное слово. До ста, говорю.
– Прямо-таки сто? – переспросил Станислав.
– Да и больше выжму, если кураж найдет. – Андрейка был невозмутим, только в глазах прыгали веселенькие огоньки.
Пожилой механизатор тоже развел руками, но с другим значением – сами, мол, видите, заливает.
– А убористый твой трактор-то? – тоже с веселинкой поинтересовался Станислав.
– В каком смысле – убористый? – насторожился Андрейка.
– Ну, например, «Порш» набирает сто километров в час за три с чем-то секунды, а «Ламборджини» – вообще меньше чем за три, – пояснил Станислав.
Мужики посмотрели на Андрейку.
– Не… е… За три, понятное дело, не наберет, – покачал головой Андрейка.
– А за сколько наберет? – спросил Юра.
– Ну…
– Особливо если с куражом? – добавил пожилой.
Все заулыбались. Андрейка, ничуть не смущаясь, всерьез прикидывал.
– За минуту, пожалуй, смогет.
Мужики чуть не повалились на траву от хохота. Андрейка улыбался во весь рот, но стоял на своем:
– Зря ржете, как мерины, честное слово. Завтра хоть могём попробовать – за минуту разгонюсь. Ты, Юр, на своей «девятке», может, и не догонишь сразу-то.
Мужиков от смеха перегнуло так, что даже женщины примолкли за столом и глядели на них с подозрением – не о бабах ли говорят.
– Давайте сделаем «Формулу-11» – главный трек в Лотошине для тракторов, – сквозь смех предложил Станислав.
– Андрейка Шумахером будет, – добавил Юра, вытирая слезы рукавом.
Пожилой тракторист взял себя в руки и, изо всех сил стараясь говорить серьезно, спросил:
– Это по асфальту сотню выжмешь или по грунту?
– По шоссе, конечно. Сцепление лучше, да и колдобин нету. – Андрейка говорил и весело и как бы не в шутку. – Но, чтобы ровно, конечно, в смысле – не в гору.
Юра поворачивал шашлыки трясущимися от смеха руками, Станислав держался за живот, остальные просто рыдали.
– Ну я гарантирую, блин, – уверял Андрейка, – под гору, может, и больше выйдет.
Пожилой тракторист замахал руками, мол, все, верим, только ничего не говори больше, от смеха больно.
– А сам-то пробовал гонять, Шумахер? – собравшись с силами, спросил Станислав. – Скорость как замерял?
– По… ве… вет… ру, – чуть ли не икая, выдавил из себя Юра.
– Зачем по ветру? Ветер и так навстречу дуть может, кстати, понижая скорость. По секундомеру и столбам. Так и вышло – один километр за полминуты.
– Ка-а-ким столбам? – Пожилой тракторист уже давился смехом. – Телеграфным?
– Ну блин, Фомы неверующие, честное слово. По верстовым, знамо дело. Шел, как крейсер.
Станислав не выдержал, отошел к столу, налил из Андрейкиной бутылки чего-то красного и залпом выпил. Любаня вопросительно посмотрела на Станислава.
– Не, просто класс. Я так уже годами не расслаблялся, – сказал, отдуваясь, Станислав. – Веселый парень ваш Андрейка. Как ты тут, не скучала?
– Да уже начала немного. – Любаня чуть игриво улыбнулась.
Подошли, досмеиваясь, мужики, держа в руках шампуры – шашлык был готов. Андрейка сел за стол, Лида грозно посмотрела на него, но наливать не воспрепятствовала. Выпили за родителей, потом снова за «совет да любовь», потом за деток, резвящихся вокруг стола, потом Станислав предложил поднять рюмки за Родину, и это прозвучало не пафосно и не фальшиво, а в самый раз. Родина – это люди, а вокруг сидели такие простые и такие разные, но настоящие люди, что было ясно – Россия здесь. Может, даже наверняка не только здесь, а много где еще, но не в Москве, не на Рублевке, а именно здесь, на тесном участке при небольшом домике, где теснота не замечалась из-за какой-то другой, главной широты – той, что внутри. Выпили серьезно, с осознанием. Запелись песни. Начала Любовь Николаевна – Наташа была права, голос был у нее высокий, сильный, чистый. Бабы звонко подхватили, мужчины вступали не сразу, по одному.
Хазбулат у-у-да-лой, бе-дна са-а-кля тво-о-я, —стройно и протяжно неслось над душами. Отпели, без перерыва пошло «Вот кто-то с горочки спустился», потом пошли песни все больше про женскую долю: «Виновата ли я», «Рябина кудрявая», «Ивушки». Мужчины стали понемногу собираться у не потухшего еще мангала. Андрейка, пока Лида не видела, прихватил желтую бутылку – там, как и в красной, была местная бормотуха, забористая донельзя.
– Хороший шашлычок вышел, – сказал, закуривая, пожилой тракторист.
– Это, Семен, Станислав замачивал, – отдал должное автору Александр Викторович.
– Молодец. Городской, а понимает. – Семен кивнул Станиславу.
Станиславу было приятно признание лотошинских мужиков.
– Мастерство не пропьешь.
– Это точно, – вступил Андрейка, – а вот, к примеру, ты пробовал пьяных лягушек?
Мужики насторожились – смеяться после сытного мяса было бы нелегко.
– Как во Франции, что ли? – переспросил Станислав.
– И почему пьяных? – удивился Юра.
– А ты сам пробовал? – начал с главного Семен.
– Я-то нет, а вот на Украине был случай – при Махно, – специально напаивали лягушек.
– Зачем? – спросили все чуть ли не хором.
– А журавлей так приманивали. Нестор-то Иваныч много золота пограбил, а когда красные его прижали, почитай, окружили, золото как-то спасать надо было. А золото в лесу схоронено, а вокруг красные – ну вот и придумал Махно золото через журавлей эвакуировать.
Мужчины переглянулись.
– Как это – через журавлей? – за всех спросил Станислав.
– Какие вы недогадливые, честное слово. Ну журавли же в лесу, на болоте гнездуются, так? И лягушками из этого болота питаются. Так вот махновцы ловили лягушек, бросали их в жбан с водкой, а потом отпускали. Они спиртовались и внутри и снаружи, ну а журавель такую лягушку слопает и закосеет. Потом, пока он, журавель то есть, пьяным валяется, к его лапе привязывали мешочек с золотом, ну так всю стаю подвязали, а потом они с махновским золотом на юг подались, а красные с носом остались. Только потом доедали лягушек, каких журавли не поймали, говорили, что вкусно так – оху…ть.
Грохот смеха заглушил песни за столом. На ногах остался стоять только сам Андрейка – остальные повалились на траву. Андрейка налил себе бормотухи и довольно выпил, оглядывая веселыми глазами корчившихся мужиков.
– Подожди, подожди, – первым пришел в себя Семен, – а как же… – Семен опять затрясся. – А как же… Махно свое золото-то найти думал, если журавли тогой…улетели.
Андрейка посмотрел на него, как на маленького.
– Ну знал он примерно, куда они на осень улетают. Местный колдун там или, как его, ведун подсказал, что в Африку.
Встававший было на ноги Семен рухнул снова. Остальные даже и не пытались встать, начинались колики.
– А… Аф-фри-ка боль-ша-я же, – прохрипел Юра, – где ж там сво-своих-то журавлей… отыс-с-кать?
Андрейка налил себе еще.
– А для этого специальные карты делают. Где кто гнездится, куда кто летает на отдых, зимовку то есть. Искать, конечно, надо потрудиться, но все ж лучше, чем красным отдавать, честное слово.
– Представляю картину, – сказал Станислав, все-таки поднимаясь и отряхивая траву со штанов, – лежат на лугу бухие вдрезину журавли, кто-то гармонь достал, журавлихи стриптиз на столах струячат, а главный у журавлей – так это Махно говорит, ты, говорит, атаман, и я атаман, гулять будем на твое бандитское золото. Дай бутылку, Андрей, запить все это надо.
Станислав выпил с Андрейкой, остальные, отсмеявшись, поднялись и присоединились со своими рюмахами.
– Уф, – вытирая слезы, сказал Семен, – давно я такого от тебя не слышал. Круче трактора будет.
При упоминании скоростного трактора все опять схватились было за животы, но Любовь Николаевна на пару с Лидой потребовали мужчин за стол.
– Чего вы там ржали, как жеребцы в табуне? – поинтересовалась Любаня у обессиленно упавшего на стул Станислава.
– Так не расскажешь, – помотал головой Станислав, – ухандокал нас Андрейка своими историями.
– Этот может, известный балагур, – подтвердила Любаня.
Потихоньку наступали сумерки – облака подсвечивались ушедшим уже к другим людям солнцем и были похожи на огромные румяные караваи. Становилось зябко. Станислав одел свою куртку на Любины плечи. Любаня ласково улыбнулась.
– Хорошо поешь, Любань. Я твой голос отдельно различал, – наклонившись к девушке, почти на ушко сказал Станислав.
– Да как ты слышал-то? Из-за вашего гогота мы и себя-то не слышали.
– А я сердцем слушал.
– Да? – опять улыбнулась Любаня. – Спасибо.
– Это тебе спасибо, – улыбнулся в ответ Станислав и осторожно обнял девушку правой рукой за плечи.
Любаня придвинулась поближе, теплее стало обоим. За столом поредело – некоторые гости, в основном, женщины, ушли, остальные собирали со стола. Лида тоже ушла, забрав детей, но почему-то оставив Андрейку. Наташа вынесла самовар – горячий чай был сейчас очень кстати. Семен подошел к каждому, попрощался за руку и тоже ушел домой вместе с женой. Не то чтобы опустело, просто компания стала теснее. Юра рассказывал тестю про какие-то свои деловые проблемы.
– Я ему говорю, мол, договоримся, мы же власть уважаем, то да се…
– А он что? – степенно спрашивал Александр Викторович.
– А что он? Он – мент, а они одним мирром мазаны – урвать что-нибудь и ни х…я не сделать.
– Это точно. Меня раз оштрафовали на рыбалке – нельзя было в этом месте ловить. Пять метров правее – уже можно, а здесь, видите ли, нельзя. Я ему говорю – прикормлено здесь у меня, понимаешь? С позавчерашнего дня еще. Ну я и так, и этак, договоримся, мол, по-православному, а этот лейтенант желторотый мне – протокол под нос. Говорит, здесь начальник наш рыбалит, а простому народу, значит, не положено. Вот и пойми – мент денег не взял, вроде честный, а начальник его – получается вор.
– Да где вы честных ментов-то видали? – вмешался Станислав. – Я раз по одному делу немеряно денег отдал, так они второе открыли, по другим эпизодам. Снова раздевать начали. Я – к прокурору, тот тоже без гонорара работать не хочет. И вроде формально все правильно – то дело закрыли, о котором договаривались, а кто мог про второе-то предусмотреть?
– Не скажи, – вмешался в разговор немного позабытый Андрейка, – есть еще честные менты.
– Ты же бизнесом не занимаешься, какие у тебя с ментами дела могут быть? – засомневался Юра.
– У меня-то с ними никаких дел нет, а вот один приятель мне рассказал – ему его знакомый мент рассказывал такой случай.
У Андрейки залучились глаза, Станислав попросил было пощады:
– Может, не надо, Андрюш?
– Чего не надо-то? Реальная история. Тут молодежь одна осталась, – сказал Андрейка, имея в виду девушек, – можно рассказать, там с девками случай был, честное слово.
– Давай, давай, расскажи, – загорелись Любаня с Наташей, не обращая внимания на протестующие жесты мужчин, подперли руками щеки и приготовилсь слушать.
– Как было дело-то. Пришла информация, ну стукнул кто-то, что в одном месте, причем таком солидном особняке под Москвой, специальный притон открыли. Такой, где баб плетками охаживают и все такое и все это на видео снимают, потом на Запад за большие деньги продают на кассетах.
– Садо-мазо, – подсказал Станислав.
– Ну типа того. Ну вот, сидят они в засаде, все в бронежилетах, в касках – ОМОН, в общем. А главный у них начальник – как раз друг моего приятеля. Ну он ему и говорит – сидим, значит, час, второй, сопрели уже, а приказа все нет. То ли не все еще записали, то ли главный по этому притону не приехал, ну, в конце концов поступила команда. Они врываются – с автоматами, в касках, в масках, жуть, в общем наводят. Там съемка полным ходом – кого-то плетью стегают, какую-то девку мухобойкой по соскам лупят, та визжит от удовольствия, остальные по-простому еб…ся…
Девушки смеялись громче обессиленных предыдущими историями мужчин.
– Нет, представляешь – мухобойкой по соскам, – толкала Наташа локтем Любаню.
Любаня закрыла руками лицо и смеялась в ладони.
– Ну омоновцы всех мужиков – на пол, прикладами по затылку, ботинками – под ребра, чтоб и не думали рыпаться, одного лицом о перила, ну, в общем, порядок навели. Девок всех лицом к стене поставили, командир говорит – показывайте, какие следы у кого от насилия. Девки, а их там штук пятнадцать было – все модельные, как на подбор, – трусики сразу сняли и попки с красными полосами выставили, так у омоновцев просто дыхание сперло – стоят и глазеют, даже маски поснимали. А одна – та, которую мухобойкой охаживали, – самая красивая была, да еще и с косичками. Так командир ее в подсобку отвел – раздевать уже не надо было, они и так все голые остались – и говорит: «Я взял ее было за косички, чтобы уже на колени опустить, она и не против была, задышала уже, опустить и… – Андрейка вытянул руки, показывая, как держат за косички, и сделал характерное движение на себя. – И… отпустил». Профессионализм, говорит, не позволил девку поиметь.
Юра поперхнулся чаем, тесть смущенно хихикал, смотря в стол, Станислав вообще отвернулся, чтобы не смотреть на торжествующего Андрейку.
– Отпустил… за косички… и отпустил, – звонко заливались смехом девушки.
– Вот так и отпустил? – повернулся Станислав с мокрыми от слез глазами.
– Ей-Богу. – Андрейка перекрестился. – Я бы, правда, не смог.
Смеялись еще долго, утирая глаза и все время представляя себе картину с бравым командиром ОМОНА, страшным усилием воли разжимавшего мускулистые руки и отпускавшего девичьи косички.
Между тем совсем стемнело, Андрейка, спохватившись, выпил еще рюмочку на посошок и оставил измученную компанию. Скоро попрощались и родители, компания осталась вчетвером. Любаня было тоже начала прощаться, но Станислав напомнил об отложенной процедуре «брудершафта». Любаня внимательно посмотрела ему в глаза и подарила долгий поцелуй – такой, после которого не прощаются. Молодежь засела на кухне, Юра включил магнитолу, и стали допивать остатки бормотухи – водка уже давно кончилась. Потом танцевали медляк, потом снова вспоминали Андрейкины рассказы, называя его уже не иначе, как Шумахером, потом молодожены наконец закрылись в своей комнате.
Любаня вопросительно посмотрела на Станислава.
– Нам ли быть в печали? – медянисто сказал Станислав, подхватил девушку на руки и понес на свою постель.
Утром, несмотря на бормотуху, похмелья ни у кого не было, но за завтраком у Наташиных родителей бутылочку все-таки уговорили, не пил только Юра – ему было везти компанию обратно в Москву. Любаня со Станиславом прощались долго, но не надолго – было сговорено о встрече в Москве на ближайшие выходные. Так и вышло – Любаня приехала в эту же пятницу – в косичках.
2007Гитлер
Ничего более занимательного в жизни не бывает, чем встреча с интересными людьми. Особенно в поезде, где необязательность будущих встреч развязывает души, а хороший коньячок или беленькая – языки. При нынешнем сервисе все это разносят по вагонам и не нужно, как в добрые советские времена, договариваться с буфетчицей вагона-ресторана или запасаться спиртным впрок и с загадочным видом фокусника вынимать потом заветную бутылочку из пухлого портфеля командировочного. В этот раз в купе поезда Москва – Волгоград собрались одни мужчины, правда, разного возраста, но почти сутки пути и отсутствие женского общества обещали наибыстрейшее взаимопонимание. При женщинах мужчины не то чтобы глупеют, но начинают говорить совсем не на те темы, которые интересуют остальных мужиков, причем так делает каждый, то есть о присутствующих дамах. Вот дамы умнее – они всегда говорят о себе.
Разговор и вправду занялся быстро. В купе ехали доктор каких-то гуманитарных наук, обычный доктор – хирург, студент и пожилой мужчина-пенсионер. Все профессии выяснились сразу, при знакомстве, только про пенсионера не было точно известно, что он пенсионер, так решили по умолчанию, потому что пожилой мужчина сразу забрался на верхнюю полку и участия в разговоре не принимал. Ну, чем люди моложе, тем коммуникабельнее, старикам труднее понимать свое предыдущее поколение, чем людям зрелым, но не старым – свое. Незадолго до этого наша сборная по футболу каким-то чудом попала в финальную часть чемпионата Европы – более благодарную тему для скрашивания пути разговором и придумать сложно. В футболе, как и в политике, разбираются у нас все, но никто, правда, не может ответить на один вопрос – почему наши так плохо играют и почему нами так плохо управляют. Прояснением этих вечных российских тайн и занимались наши пассажиры несколько часов с небольшими перерывами на перекур. Студент оказался подкованным не меньше, чем хирург и гуманитарий, и даже уместно цитировал что-то умное. Это, конечно, когда разговор шел про политику – про наш футбол цитировать можно разве что Мао Цзэдуна. Но человек интересен тем, что знает именно он, а не все, и постепенно беседа стала черпаться из профессий попутчиков.
– Я вам точно говорю, что у России серьезных шансов выбиться в мировые державы просто нет, – доказывал после тоста за Родину ученый, оказавшийся экономистом-международником.
– Это почему же? – обиделись за державу собеседники.
– Потому что сидим на углеводородах. Сырьевых сверхдержав в XXI веке в принципе быть не может.
– А какие могут?
– Постиндустриальные. То есть такие, чья экономика базируется на новых технологиях. И не просто базируется, а именно производит. Кто производит технологию, тот и определяет стандарты их применения по всему миру. Одна Америка тратит на НИОКР больше сорока миллиардов долларов, то есть только на научные разработки.
– А Россия?
– А Россия-матушка – меньше миллиарда, то есть около одного процента своего ВВП. Это значит, что мы Запад, куда еще и объединенная Европа входит – со сходными показателями, кстати, – не только догнать не можем, но и обречены на прогрессирующее отставание. А это, в свою очередь, значит, что сырье будет занимать все большую долю в доходной части бюджета, короче говоря мы – мировой сырьевой придаток. А как нефть начнет заканчиваться – годков через пятьдесят, – превратимся в классическую колонию. И пока вся страна в поте лица удваивает ВВП для ВВП, технологический разрыв становится непреодолимой пропастью.
Хирург и студент задумались.
– Вот мобильные телефоны у нас российские? – продолжал экономист. – Нет, конечно. Компьютеры? Сами знаете. Наши компьютеры, наши автомобили, как и наш футбол, построены на одном принципе – конкурентоспособность за счет дешевой себестоимости в ущерб качеству. Это все годится для внутреннего употребления, так сказать, то есть на внутренний рынок. Экспортировать это все можно, если наказывать страны, которые это все купят. Вон даже тренер сборной – иностранец, потому что мыслит по другой технологии – не учить играть в футбол, что уже поздновато на уровне сборной, а учить учиться, причем по ходу игры. Я в этом не специалист, но, думаю, и здесь все решит технология подготовки, а не индивидуальное мастерство.
– И то сказать, у нас в медцентре – ведомственном – самое современное оборудование, от томографов до УЗИ, и ничего нашего производства, – покачал головой хирург. – А вот мозги и руки… – хирург вытянул свои изящные пальцы пианиста, – отечественные. Человека до винтика собираем и разбираем, а компьютеры собрать не умеем. А один винтик не доглядишь – и душа на небеса.
– Да… – неопределенно вздохнул экономист.
– А у вас были люди знаменитые какие-нибудь? Ну, на операционном столе? – поинтересовался студент.
– Да нет, чиновники всякие, бизнесмены. Один депутат был – из патриотов, кажется. Но так, чтоб совсем уж знаменитые, нет.
– То есть никто из знаменитых на операции не умирал? – уточнил студент.
– Да Бог с вами, вообще никто не умирал… пока, во всяком случае, – замахал руками хирург, – а с чего такой вопрос, собственно?
– Да я историк…будущий. У меня хобби такое есть… с недавнего времени – собираю предсмертные высказывания великих людей. Ну и известных тоже, – ничуть не обинуясь, объяснил студент.
– Ну-ну, – заинтересовался экономист, – например?
– Странноватое хобби, – сказал себе под нос хирург, но тоже внимательно посмотрел на молодого собеседника.
– К примеру, когда умирал Наполеон, его последние слова были «Франция… армия… авангард», правда, он произнес их в бреду. Когда умирал император Август, он был в полном сознании и произнес следующее: «Коль хорошо сыграли мы (имелось в виду – комедию жизни), похлопайте и проводите добрым нас напутствием». Другой император, Нерон, который, как всем известно, любил петь под кифару, перед тем, как заколоться, сказал своим рабам: «Какой актер умирает…» Сократ же, когда принял чашу растертой цикуты по приговору афинского суда, лег на топчан, закутался в тунику, потом сказал: «Критон, мы должны Асклепию петуха».
– А при чем тут петух? – поинтересовался экономист.
– Асклепий – имеется в виду Эскулап? – со знанием дела спросил доктор.
– Именно. Имелось в виду – умирая несправедливо, мы излечиваем душу. Поэтому петуха и нужно было зарезать в знак душевного выздоровления. А Александр Македонский сказал на смертном одре, что он умирает от помощи слишком многих людей. Ну и так далее.
Экономист хмыкнул, хирург покачал головой.
– А еще интересно, как вообще люди умирают. – Чувствуя заинтересованность аудитории, студент воодушевился. – Я читаю или слышу в новостях, так что иногда жутковато становится, какому какой конец предназначен. Одного кстати в Волгограде, убило во время салюта неразорвавшейся салютинкой, представляете, попала прямо в темечко, другой умер от электричества, что пошло от троллейбусных усов. Помню сообщение, как человек гусарил в ресторане, выпил без рук, зажав фужер зубами, хрусталь треснул, ну и осколок не в то горло попал – умер на руках у официанта.
– Оптимистичная у нас тема, – заметил доктор, который ученый.
– К слову сказать, бывает с точностью до наоборот, – подхватил врач, – помню, у нас случай был. Я еще хирургом работал в районной больнице. Один майор решил свести счеты с жизнью, ну, жена бросила, со службы уволили и все такое. Он встал на перила балкона пятого этажа, накинул на шею петлю, привязав веревку к тем же перилам, достал табельный «Макаров» и пустил себе пулю в висок. Так вот, пуля прошла вскользь, наверное, рука дрогнула, он свалился с балкона, веревка порвалась, а он упал на ветки дерева, растущего под его окном. Его к нам привезли с переломом всего двух ребер, ну и ожогом эпителия височной доли. Видно, не судьба ему была помереть.
– Вы вот о смерти сейчас, – неожиданно раздался хрипловатый голос сверху, – я вам тоже кое-что расскажу.
Все подняли головы, а студент даже вздрогнул. Пенсионер, о существовании которого все уже, кажется, забыли, кряхтя, слез со своей полки. Студент пододвинулся к окну, пенсионер положил руки на столик. Руки были старческие, с проступающими узлами вен и пигментными пятнами на сморщенной коже. Доктор потянулся было к бутылке, но пенсионер покачал головой. Не налив никому, хирург поставил бутылку на место.
– После войны я был мальчишкой, десятилетним пацаном. Все на фронт мечтали попасть, хоть немного фрицам кровь попускать, да наше поколение не успело уже. Поэтому в войну играли с утра до вечера. Школу прогуливали частенько. Но не в этом суть.
Пенсионер тронул себя за тощее горло, ощупывая острый кадык, хищно выпиравший из-под дряхлой желтой кожи.
– Все пацаны были одинаковые, только я отличался, причем с их точки зрения – в худшую сторону. Дело в том, что я знал немецкий – мой батя был до войны переводчиком с немецкого, потом учителем в школе, где и я потом учился. Ну, конечно, меня с детства учил, так что я шпрехал для своих десяти лет очень и очень сносно.
Старик опять потрогал горло. Все внимательно слушали.
– И вот один раз, когда опять делились в игре на Красную армию и фашистов – а фашистами, как вы понимаете, никто быть не хотел, назначали самых слабых и малознакомых ребятишек, – один местный заводила, до сих пор помню, как звали – Васей, предложил, чтобы я был Гитлером. Ну, раз немецкий язык, то уж, точно, фашист, а поскольку еще и батя немецкий знал, то уж, точно, Гитлер. А то, что отец «Славу» за разведку имел, это никого не интересовало. Ну, а Вася – конечно, Сталиным себя назначил… Усы себе пробкой жженой нарисовал – во всю морду. Сталин, в общем.
Ну и начали. То мы, фашисты, наступаем, то Красная армия. Камнями из окопов друг в друга кидались, досками, палками, что под руку попадало. Разведка даже была с каждой стороны – все по-взрослому. Ну вот и подбил Васе камнем глаз кто-то из нашего окопа. Тот захныкал вроде поначалу, ну а потом озверел. Поднял своих красноармейцев и в атаку на наш окоп попер. Ну дальше – рукопашная пошла, тоже всамделишная, без штыков разве. Кому охота битым быть – вот и отбивались, стиснув зубы. Я еще потом вспомнил – молча бились, без крика, без воя, так насмерть обычно бьются. Ну разбили нас, понятно. Так всегда и бывало – во фрицы же самых щуплых записывали. Ну разбили и разбили, разошлись бы по домам, как обычно. Но тогда Васю – «Сталина» чего-то уж серьезно заклинило. Разогнали они пацанов, которые за фрицев дрались, а меня связали и решили надо мной Нюрнбергский трибунал учинить.
Рука пенсионера опять нашла горло. Старик обвел аудиторию выцветшими голубыми глазами, будто убеждаясь, что его рассказ никому не наскучил. Все смотрели с вниманием, студент даже рот приоткрыл.
– Ну так вот. Трибунал назначил, конечно, сам Вася – кого Жуковым, кого Вышинским, ну и так далее. Лежу я связанным посреди всей этой кодлы, они костер развели и расселись вокруг меня, как каннибалы вокруг добычи. Долго не говорили, порешили меня как главного военного преступника повесить.
– В шутку, что ли? – не выдержал студент.
– Я так тоже подумал, да вот Вася – «Сталин» по-другому рассудил. Правда, ребят долго уговаривать пришлось. Порешить-то порешили, а исполнять – дело другое. Живого человека все-таки вешать. Но Вася пацанов на «слабо» взял – мальчишки ведь. Трусом и предателем никто быть не желал, ну и развязали меня, чтобы на этой же веревке вздернуть, а руки ремнем за спиной перетянули. Стою я и сам себе не верю, что смертный час приходит – игра же, с одного двора, с одной школы многие. Но глаза у них злые, от костра какие-то проблески в зрачках – нечеловеческие. И меня начинает жуть забирать – кажись, все всерьез. Кто-то картонку нашел, той же пробкой написал – «Гитлер» и мне на рубашку прикрепил. Тут заминка вышла – на карьере-то дело было, деревьев нет, на чем вешать? Не виселицу же сооружать. Долго спорили, потом так решили – повесить на доске над обрывом, и на доску ту встать всем, чтобы, значит, вес удержать. Сволокли меня к самому краю с петлей на шее да и без лишних разговоров веревку на доску накрутили и спихнули меня с обрыва. Никаких последних слов там или лозунгов, ничего не было, я даже и «мама» не успел сказать – в каком-то оцепенении был. До сих пор забыть не могу, как веревка мне в горло впилась. – Тут старик опять пощупал кадык. – В глазах потемнело, и только слышу смех сверху. Вася смеялся – так тебе и надо, мол, Гитлер недорезанный.
Ну и все. Я сознание потерял, очнулся уже на дне карьера. Потом мне на следствии рассказали, что не устояли они все на доске, места не хватило – узкая доска-то оказалась, из-под ног ушла.
Старик снова пощупал горло и замолчал, глядя на столик. В тишине купе особенно громко стучали колеса на стыках. Хирург покачал головой, взял бутылку и разлил водку по пластмассовым стаканчикам.
– Ну, отец, сто лет тебе жизни – в рубашке родился. Да и история твоя не про смерть все-таки, а про жизнь, за это и выпьем.
– Да я не пью. Совсем, но компанию поддержу. Тем более – история-то моя про смерть как раз.
– Так вы же живым остались. – Экономист удивленно обвел всех глазами. – Раз нам все рассказали. – Как будто и без рассказа это было не очевидно.
– Я-то остался. А вот Васю той самой доской убило – гвоздь там был. Когда доска у них выскочила, то этим самым гвоздем ему прямо в висок попало – умер на месте. Следствие-то как раз по этому вопросу было. Долго тянули – все политику искали, но отстали потом – несчастный случай, и шабаш.
Старик пригубил водки самую малость и полез к себе на верхнюю полку. Больше в этот вечер не разговаривали, улеглись, свет выключили, только студент записывал что-то в записную книжку под своей лампочкой почти до утра.
2007Проверка
Его звали Лука, ее – Матильда. Редкие в наше время имена. Он был «средовек», то есть мужчина среднего возраста – чуть за сорок. Она – молодая натуральная блондинка, вернее, светло-русая, красивая какой-то капризно-кукольной, надменной красотой. Лука к своим восьми пятилеткам, одному неудачному браку и одному инфаркту перепробовал много всяких профессий – от рабочего сцены до прораба. Когда Лука познакомился с Матильдой, он занимал ответственную, но нелегкую должность руководителя подразделения в немаленькой строительной фирме, специализирующейся на загородном коттеджном строительстве. Именно на одном из объектов он приметил дочку заказчиков, приехавшую вместе с родителями принимать работу. Она молчала, пока папаша с мамашей придирчиво осматривали отделанные дубовыми панелями стены, включали и выключали люстры, затапливали камин – не дымит ли, трогали перила – не шатаются ли и открывали-закрывали окна. Лука с профессиональной спокойной гордостью демонстрировал результаты заказчику – все работало исправно, все было пригнано, подогнано, ничего не скрипело, не дымило, не отваливалось и не сыпалось, в общем, без халтуры. Дочка слушала объяснения Луки внимательно, молчала, но поглядывала на Луку с некоторой усмешкой, как будто говоря: «Мы-то знаем, что все равно свороровал что-нибудь». Тем более было неожиданно, когда месяца через три в офисе фирмы его застал телефонный звонок. Незнакомый девичий голос безапелляционно сказал в трубку:
– Вы Лука Семенович? Меня зовут Мотя, ну…Матильда. вы еще нам дом на Истре строили, помните?
Это «помните» прозвучало риторически, в интонации не чувствовалось и намека на сомнение, что ее кто-то может не помнить. Лука удивился звонку, но не надолго – может, мать или отец просили уточнить что-то по дому или что-нибудь в этом духе. Но Матильда вдруг предложила встретиться сегодня же вечером в каком-то ресторане. Да и не в каком-то, а в известном арт-кафе с богемными посетителями и соответствующими ценами. Лука пожал плечами и согласился.
Конечно, девушки в назначенный час в зале не было. Лука справился у метрдотеля, заказан ли столик. Ни на ее, ни на его фамилию заказа не было, но Лука решил подождать. Многие люди, когда у них назначена встреча в кафе или ресторане, ждут опаздывающего на улице – то ли потому, что боятся, что счет принесут первому обосновавшемуся за столиком, то ли не намерены тратить деньги даже на себя, если встреча не состоится. Лука, когда приезжал первым, всегда ждал внутри – мелочным он не был, да и девушку все равно кормить ему. Матильда появилась, когда он уже выпил водку с соком на аперитив и раздумывал насчет горячего – Лука с утра ничего не ел. Она шла по ресторану в скромном полувечернем платье, но эта «скромность» явно тянула на несколько тысяч американских денег. Белокурые кудри искрились от уличных снежинок, как от бриллиантовой крошки, и спадали волнами на слегка оголенные плечи – живая Лорелея. Немногочисленые посетители, включая дам, проводили глазами все дифеле. Лука галантно встал из-за стола, официант с аристократической уверенностью в движениях пододвинул стул. Только после этого, заметил Лука, в зале снова вернулись к своим делам.
Матильда была великолепна. Лука кормил свой интеллект ее умом, взгляд – ее фигурой, ну а желудок насыщался явствами – полная вкусовая гармония. Девушка, несмотря на молодые годы (ей было всего двадцать четыре), была классически образована (филфак МГУ), очень начитана (от Еврепида до Улицкой), но, главное, владела талантом беседы – то есть умела слушать. Лука рассказывал о перипетиях своей нелегкой жизни, о взаимоотношениях с бывшей женой и хитросплетениях строительного бизнеса. Матильда показывала и участие, и неподдельную заинтересованность, на веселые эпизоды откликалась милым смехом, при этом обнажая безупречные зубки и в особенные моменты касаясь его колена. Вечер лился игристым вином, но Луке все-таки было непонятно, что на дне бутылки. Ну не соблазнять же решила его эта красавица, а о деле или причине встречи речь все никак не заходила. Наконец Матильда, когда уже принесли кофе, сказала, не жеманясь:
– Ты знаешь (они перешли на «ты» почти сразу, без обиняков), я тебе позвонила, потому что ты мне сразу понравился. И как человек и… как мужчина. Не только в физическом смысле – от тебя веет надежностью, а женщину это привлекает больше всего. Наши отношения… их можно продолжить, не сразу… так… постепенно. Я была бы очень рада, если бы все сложилось, как и наше первое настоящее знакомство. Спасибо тебе, вечер был просто замечательный.
– Это тебе спасибо, ты же меня нашла.
Они обменялись номерами мобильных телефонов, правда, Матильда сказала, что свой скоро будет менять – поклонники досаждают. Простились у ресторана, девушка сказала, что провожать не нужно, она еще должна заехать к подруге. Лука посадил ее в такси, поцеловав в ловко подставленную щеку. Желтая машина долго пропускала проезжающий поток – сейчас уступать не модно. Все это время Лука стоял с шапкой в руках и смотрел на такси, не замечая ни начавшейся метели, ни задевающих его плечами прохожих. Единственное, о чем он сожалел, так это, что не пришел в ресторан с цветами, хотя бы небольшим «вежливым» букетиком. Наконец, найдя пролом в торосах автомобильного потока, такси вывернуло на широкую воду и исчезло в снежном пространстве. Лука вздохнул, надел шапку и стал голосовать – свою машину он оставил у дома, чтобы не рисковать после выпитого с ГАИ. Несколько частных «бомбил» сразу же вильнули к нему, препятствуя задним, как обычно, раздалась ругань автомобильных гудков. Лука сказал адрес и сел в машину, даже не спрашивая, сколько с него возьмут. Сегодня он отдал бы все деньги, чтобы поехать домой с ней, поэтому цена на себя одного Луку не интересовала.
Дома Лука налил себе ароматного коньяка и залпом выпил. Он был, конечно, достаточно опытен в жизни, но не настолько, чтобы заматереть в любви. А Лука влюбился, причем окончательно, вдрызг, как шестнадцатилетний пацан. Лука был не просто влюблен – он был сражен. Никогда он и представить не мог, что женщина может быть так красива…как-то вся красива – и обликом, и обхождением, и нежными мимолетными прикосновениями, и неженским взрослым разумом. В ней все было идеально, без допущений, без натяжек. Лука, конечно, встречал женщин в своей жизни, и до женитьбы и после, одни были просто милые, другие довольно красивые, но почему-то несексуальные, третьи наоборот – могли зажечь похоть любого мужчины одними глазами без объективных внешних данных. Матильда же…о, Матильда как будто забрала все достоинства всех остальных женщин, уступив им недостатки. Матильда представлялась Луке золотым сечением всего женского пола, идеалом, ангелом, богиней. Лука и не заметил, как опорожнил бутылку, но совсем не опьянел. На душе было легко и радостно, как бывает в первые солнечные весенние дни, когда просто хорошо и все вокруг – от ворчливого соседа до бездомной злой собаки – вызывает умиление.
Всю оставшуюся рабочую неделю его не узнавали сослуживцы – указания подчиненным Лука Семенович отдавал весело, без какого-либо нажима, за ошибки, приводящие к жалобам наших всегда капризных клиентов, никого не «разносил», как принято, а спокойно журил, вникая во все детали, и сам успокаивал заказчиков, работа у него спорилась, как никогда, с девушками – сотрудницами кокетничал и улыбался, даже когда получал выговоры от начальства за тех же клиентов. «Влюбился наш Лука», – вынесло окончательный вердикт вечное женское жюри присяжных, существующее в каждом коллективе.
– Забрало мужика-то как, – вздыхали в курилке другие мужики, – пропадет, если на стерву нарвется. Оно всегда так – чем лучше мужик, тем баба стервенее.
Но после выходных лучезарность в выражении лица Луки Семеновича несколько померкла, что, естественно никем не осталось не замеченным. И действительно, Матильда не звонила. Ее телефон отвечал стандартное: «Абонент недоступен», – при этом услуги автоответчика там не было. Лука помнил, что она собиралась сменить номер, но за это время могла бы и позвонить или хотя бы прислать эсэмэску. Лука не находил себе места. Он даже хотел позвонить ее отцу, телефоны заказчиков сохранялись в компьютере, но не решился. Что бы он ему сказал, чем объяснил, что ему нужно поговорить с его дочерью, может быть, и Матильду, Мотечку бы этим подвел. Шла неделя за неделей, абонент был по-прежнему недоступен. Лука стал хуже спать, как-то осунулся, на работе стал раздражительным и неприветливым. Внешне он следил за собой – брился, как и прежде тщательно, рубашки и брюки гладила домработница, но внутри был, конечно, полный беспорядок. И странное дело, чем дольше она не звонила, тем больше и больше Лука о ней думал. Думал днем и ночью, на работе и за едой, когда пища не лезла в горло. Лука взял в офисной базе данных заказчиков московский адрес ее родителей и неделю кряду дежурил в машине у ее подъезда – в вечернее время, конечно. Пару раз он видел ее мать – похожую на Матильду, но все-таки не обладавшую такой божественной красотой даже в молодости женщину. Она приезжала с водителем на дорогом джипе, водитель таскал за ней сумки в квартиру, и Лука даже было подумал расспросить про Матильду у него, но не решился. Вдруг подумают что плохое, потащат в милицию – сейчас маньяков хоть отбавляй, и потом позора не оберешься. Один раз Лука съездил на построенную им дачу, но окна были темные – наверное, заезжать туда планировалось только летом.
Скоро мысли о белокурой богине стали одержимостью, и Лука стал пить перед сном все больше коньяка, потом и водки, которую не очень-то любил раньше. Да и сейчас не любил, просто лекарство было под стать болезни – горькое. Коньяком или чем-то изысканным, виски там или ликерами, тоску не запьешь, горе тем более. Потом стал брать «дозу» и с утра и вообще при всяком удобном и неудобном случае. Совсем неудивительно, что через пару месяцев его перевели на должность пониже, а еще через некоторое время рассчитали. С тех пор Лука не выходил из дома, а только смотрел в окно и на телефон, лежащий на подоконнике. Телефон молчал – ему не звонила не только Матильда, но и бывшие друзья, он как-то сразу стал никому не интересен. Телефон молчал, Лука тоже молчал. Но Лука еще и плакал – под весенний дождь, стекавший капельками по давно не мытому лицу его окна. Все чаще приходили недобрые мысли – встать на этот подоконник, наступив на этот проклятый телефон, открыть окно и… все закончить. без всяких записок, обвинений в его смерти, а может, и наоборот, написать ей пространное письмо, может, и в стихах, чтобы знала, бестия, как можно и нужно любить и до чего доводит любовь…или нелюбовь. Лука жил на седьмом этаже – никаких разочарований, шагни он за окно, не последовало бы. Может, он так бы и поступил, но как-то утром после очередного стакана что-то щелкнуло в сердце и в окне потемнело, как будто на него накинули светомаскировку с той стороны. Луке повезло, что телефон лежал на подоконнике, под рукой – последним усилием он набрал «03» и сообщил адрес. Темнота вышла из окна и накрыла его голову тихим капюшоном.
Лука очнулся в больничной палате – на белой постели и среди белых халатов. Сестра, дежурившая рядом с ним, ласково погладила его по руке – все нормально, Лука Семенович, молодец, что быстро позвонили, второй инфаркт – не шутки. Еще повезло, что домработница как раз заходила в квартиру, а то, пока бы двери ломали, Бог знает, успели бы или нет, как вы себя чувствуете?
– Телефон. Где мой мобильный телефон? – закричал Лука, но услышал только свой сухой шепот.
– Все нормально, Лука Семенович. – Сестра снова погладила его руку. – Вот он, рядом с вами, только он не работает, разрядился, наверное.
– Зарядку, зарядку скорее, зарядное устройство… мне звонить должны, умоляю. – Лука приподнялся на подушке, рука сестры стала строже и уложила его обратно.
Хорошо, что у Луки была стандартная «Нокия» – зарядку нашли быстро, и хорошо, что у него не истек срок страховки в дорогом русско-американском медицинском центре, иначе бы, понятно, и искать не стали.
В жизни всякое бывает, случилось и это. Матидьда позвонила через несколько минут после включения телефона. Лука оторопел, захлебнулся и закашлялся, чтобы Матильда, не дай Бог, не отключилась, замычал в трубку что-то неопределенное – слышу, слышу тебя хорошо, Матильда, Матильда…Сестра неодобрительно покачала головой.
– Я так давно тебе не звонила, милый, извини, была такая суматоха в делах, потом телефон твой потерялся…
– Мотечка, Мотечка, ну да что ты, что ты, – ошарашенно лепетал не верящий, что это ему не видится в галлюцинации, Лука.
– Мне нужна твоя помощь. Очень нужна…сейчас, почти немедленно. Понимаешь, тут…
– Ну что ты, конечно, все, что потребуется!
– Я не в Москве, я… в Питере… – Голос Матильды задрожал. – Меня ограбили здесь – ни документов, ни денег, я из гостиницы выписаться не могу. Помоги мне, Лука, дорогой.
– Где, где я тебя там найду? – кричал уже по-настоящему Лука, хотя связь была устойчивой.
Матильда продиктовала название отеля и отключилась. Лука снял ноги с койки, посмотрев на сестру так, что та ничего не решилась сказать. Тем не менее Луку из больницы так сразу не выпустили – пришлось подписать массу документов, в том числе и расписку о том, что всю ответственность за последствия он берет на себя. Лука подписывал все, не читая, и через несколько часов был уже в «Шереметьево-1». Билетов на самолет не было на две недели вперед, но в России можно многое, если тебе действительно что-то очень нужно. Старшая смены диспетчеров пожалела не очень молодого мужчину с растрепанными волосами и горящими от возбуждения глазами, несущего какую-то околесицу про любимую женщину, котороя попала в какую-то беду в Петербурге. Свободных мест действительно не было, Лука стоял в проходе самолета, но главное – летел, летел к своему ангелу, и хотя в небе был он, а ангел – на земле, но это ничего не меняло.
Лука нашел Матильду быстро, особо искать было и не нужно – Матильда, еще прекрасней, чем раньше, сидела в лобби отеля в середине какой-то веселой компании, человек семь, не меньше. Красивые девушки, какие-то длинноволосые парни богемного типа – все чокались друг с другом и взахлеб смеялись рассказу одного из длинноволосых. Лука застыл в дверях, глядя на одну Матильду. Она смеялась, смешно морща носик и прикрывая ротик розовой ладошкой. Букет из пяти черных роз, купленный им в Пулкове, больно укололол ладонь, но Лука ничего не замечал – он глядел на свою любовь, не понимая причины ее веселья. Взгляд его весил в эту минуту немало, и Матильда наконец почувствовала тяжесть в затылке – обернулась. Обернулась, узнала, но даже не привстала с кресла, а только всплеснула руками – смотрите, мол, кто пришел. К Луке обернулись и остальные – он переводил взгляд с одного на другого, потом опять посмотрел на Матильду.
– Давай же, Лука, давай к нам! Что стоишь, как неродной? – В голосе Матильды прозвучало что-то насмешливое, нехорошее.
Все отвернулись и опять стали слушать длинноволосого. Лука подошел к креслу Матильды и с немым вопросом в глазах протянул букет.
– Какая роскошь! – снова всплеснула руками Матильда, принимая цветы.
– Вот видишь, не только примчался, да еще и с букетом, – тихо, впрочем, не так уж, чтобы все не услышали, сказала одна девушка другой через стол.
– Ну я ему и говорю на это – ты не только козел, а баран в козлиной шкуре, – закончил свою историю длинноволосый.
Все засмеялись. Матильда, отвернувшись от Луки, засмеялась тоже, мельком тронув рассказчика за колено. Этот жест Лука хорошо помнил – у Матильды он означал крайнюю симпатию. Или ничего не означал – Лука уже ничего не мог сообразить. Он стоял рядом с этой веселой компанией, рядом со своей девушкой, попавшей в беду, но на беду это как-то не походило. На него никто не обращал внимания, даже Матильда, отдавшая уже букет официанту для постановки в вазу. Длинноволосый начал рассказывать новую историю.
– Матильда, – негромко позвал Лука.
– Да возьми ты кресло, садись, дай дослушать. Молодой человек, – с нетерпеливой досадой обратилась Матильда к официанту, принесшему вазу с розами, – дайте уже этому мужчине кресло.
Лука остался стоять.
– Матильда, ты же сказала, у тебя… неприятности.
– Да нет, какие у меня могут быть неприятности, – с неудовольствием оторвалась от рассказчика Матильда. – Садись, я позже расскажу.
Но, увидев, что Лука застыл и фигурой и взглядом, слегка поморщилась.
– Нет никаких неприятностей, просто… ну мы тут с Ангелиной поспорили, как еще – мужики не совсем измельчали в России, на что готовы ради женщины. Ну, почти все мои приятели здесь – мы вместе на белые ночи приехали тусоваться, – на ком-то надо было проверить. Ну а ты молодец, быстро приехал. Так что, Анжелка, гони сто баксов, – обернулась Матильда к какой-то девице, сидевшей напротив.
– А… это тот самый? Дон Хуан ваш? – вальяжно оглядев Луку с ног до головы, спросил длинноволосый. Ему было неприятно, что он перестал быть центром внимания.
– Не Дон Хуан, а Дон Кихот, кретин, – процедила Ангелина, вынимая из сумочки стодолларовую купюру и кидая ее на стол по направлению к Матильде. Матильда взяла купюру изящными пальцами и протянула Луке.
– Так забирай свой приз…
Лука развернулся и пошел к выходу. Сзади засмеялись – видно, длинноволосый сказал что-то остроумное. Лука остановился, как будто на что-то натолкнувшись. Потом развернулся и, быстро подойдя к Матильде, прячущей зеленую купюру в свою сумочку, дал ей несильную пощечину. Все замерли, длинноволосый чуть не выронил стакан, Матильда захлопала шикарными ресницами.
– Сука ты… если не хуже, – выдохнул Лука и пошел быстрым шагом к дверям.
На этот раз за спиной было тихо.
Уже сидя в кафе на Московском вокзале, Лука терзал себя, что не догадался, ведь она могла бы и должна была позвонить родителям, матери, кому угодно, но только не случайному приятелю, с которым и романа-то не было. От этой своей глупости почему-то было досадней, чем от краха всей его жизни. Хотя сердце начало знакомо ныть, Лука заказал водки. Официант, вернувшийся с графином, не стал будить задремавшего пассажира, опустившего голову на руки. Человек по виду приличный, не бомж, расплатится. Да и не мешает никому, а чаевые обещают быть неплохие. Если бы Лука сразу завалился на пол, его, наверное, еще можно было спасти, но официант вызвал «скорую», когда водка уже явно перегрелась.
2008Драка
Русские люди, конечно, сильно изменились с развитием капитализма, но петь не разлюбили. Именно поэтому в городах, особенно в Москве, где не соберешься на лугу, на речке или ином каком просторе, так много караоке-баров. В одном из них произошла эта драка.
Час был поздний, вернее, ранний – около пяти утра. Народу за час до закрытия оставалось немного – завсегдатаи, в основном, девушки. Некоторые хорошо, годами знали друг друга, кто-то вообще здесь работал в другую смену, а сейчас пел в свое удовольствие. Были еще режиссер всяких музыкальных конкурсов – Женя, его приятель Валентин, еще пара засидевшихся мужиков, ну и все. Ничего, как водится, не предвещало. Но тут в караоке, как два горных орла, влетели какие-то не очень русские молодые люди. Влетели – не влетели, а вошли по-хозяйски, с блатной походочкой, презрительно поглядывая по сторонам. Один, пониже, в цветастой рубашке, все «нырял» по-боксерски, имитируя удары. Второй, высокий, под два метра, с прической «под горшок», вел себя посолиднее, в смысле – не «нырял», зато время от времени бил себе кулаком в ладонь, как бы подчеркивая готовность к бою. Было впечатление, что ребят зачем-то сорвали с ночной тренировки, еще не разогретых, и вызвали попеть. Среди девушек у них нашлась знакомая – какая-то длинная рыжая лярва прямо приютила у себя на груди «цветастого». Тем временем девушка-диджей разносила микрофоны, петь черед был Жене, а надо сказать, что в том караоке собирались, в основном, профи и полупрофи, так что голосами заслушаешься просто. Женя был из профи – полилось что-то современное, молодежное.
– Хорошо как ваш друг поет, – заметила девушка, сидевшая с подругой на соседнем диванчике.
– Хотите, потом познакомлю? – Валентин и сам рассчитывал на знакомство.
Знакомиться с симпатичными подружками лучше парой – с товарищем, к тому же Женя был уже в фаворе, так что шансы Валентина поднимались тоже.
– Ну… попозже только, – заскромничала девушка.
Микрофон дошел до «цветастого». Голос у того был неплохой, не профессиональный, конечно, но «цветастый» и не старался – орал, лишь бы громче, при этом, бросив рыжую, «пошел в народ» клеить своим пением новых девочек. Рыжая не очень заволновалась, хотя шею выгнула. При ней остался высокий – гладил по голому колену, наверное, успокаивал.
– Что за люди? – спросил Валентин у официантки.
– Да бывали здесь пару раз. Драчливые, а кто, откуда – не знаю, – пожала плечиками подошедшая официанточка.
– Ингуши, наверное, – сказал Женя, – или кабарда, что-то в этом духе.
«Цветастый» тем временем начал в буквальном смысле лезть из кожи, вернее, из рубашки. Девица, «облагодетельствованная» вниманием, не знала, куда деть глаза, она явно не хотела от этого парня ни стриптиза, ни песни, ни общества, но скандал поднимать не решалась.
– Вы бы к нам пересаживались, – обратился Валентин к соседке, – скоро до вас дойдет.
– Да… если что, мы вас позовем на помощь. – Девушка благожелательно улыбнулась.
«Цветастый» закончил изгаляться, но от девицы не отстал – остался за ее столиком, приобняв за плечи. Тут же подвалил и высокий – начали «клеить» с двух сторон. Рыжая лярва опрокидывала в горло рюмку за рюмкой во временном одиночестве.
– Слушай, они у себя там в ауле так же себя ведут? – спросил Валентин.
– Вряд ли. Там они все друг другу родня, не забалуешь. А тут – мы для них никто, стадо.
– А их старики там не воспитывают, не говорят, как себя в гостях вести нужно?
– В том-то и дело, что они давно себя чувствуют в Москве, как дома.
Валентин пропустил свою очередь – петь как-то расхотелось. Женя снова вышел из-за столика с микрофоном. Песня была такая нежная, что не станцевать с дамой было невозможно. Валентин только повернулся к соседке, но ее уже настойчиво приглашал высокий. Девушка посмотрела с мольбой на Валентина.
– Оставь девочку, она со мной, – не вдаваясь в церемонии, сказал Валентин.
– Слушай, кто ты такой, а? Я подошел – она за другим столиком сидит. Свободен, короче.
– Короче не получится. – Валентин встал.
Дрались двое на двое, вернее, сначала орлы вдвоем навалились на Валентина, потом, когда вступился Женя, вдвоем на него. Когда Валентин очнулся, в зале уже почти никого не было – на стуле сидел Женя и прикладывал лед к обоим подбитым глазам. Официантка принесла лед и Валентину, и, внимательно посмотрев ему в зрачки, пошла за стаканом водки. Поле боя осталось за друзьями, но потери были внушительные, особенно у Жени, которого добивали на полу ногами – глаза заплыли полностью, вся одежда была залита кровью.
– А где охрана-то ваша? – уже больше теоретически поинтересовался Валентин.
– Охрана, мать ее туда, стояла и смотрела. Козлы они, а не охрана, способны только спрашивать, столик заказан или нет, – отозвался Женя.
– Как стояла? Что, и оттащить не пытались? – слабо удивляясь, спросил Валентин.
– Козлы и трусы, – морщась то ли от боли, то ли от презрения, прошипел Евгений.
Принесли водку – за счет заведения. Валентин опрокинул стаканчик, на душе повеселело.
– Зря пьешь, – прокомментировал Женя. – Сейчас менты приедут, протокол, туда-сюда, а от тебя водярой несет. Еще и виноватым окажешься.
Замечание было резонным, но наряд милиции, действительно появившийся через пару минут, о протоколе и не думал. Лейтенант задал пару вопросов и, даже не переписав паспортных данных, посоветовал ехать в больницу или травмопункт снимать побои.
– Когда бумажка от врачей будет, тогда и будем разбираться, – заключил лейтенант и направился к выходу.
Сержант последовал за ним, разведя на прощание руками, сами, мол, видите, начальство «землю рыть» не велит. Видя такое дело, Валентин попросил еще водки – для анестезии. Когда принесли рюмашку, появилась бригада «скорой». Ребята молчаливо осмотрели Женю, потом прошлись взглядом по Валентину – все-таки ему досталось значительно меньше, записали Женину фамилию в свои бумаги и, поддерживая его под руки, повели к выходу, к машине. Валя пошел с ними.
В Первой Градской, кажется, тоже отмечали какой-то праздник – врачей в столь раннее утро почти не было. Вернее, они были, но не в своих кабинетах. Двери были везде открыты, но внутри не было даже медсестер. Валентин вспомнил, что действительно праздник-то наличествовал, по иронии судьбы – День святого Валентина. Наконец появилась женщина-офтальмолог, Женю повели на осмотр, Валентин зашел вместе с ним, Евгений без посторонней помощи передвигаться уже не мог – вместо глаз на лице светилось два красных фонаря. Но офтальмолог утешила – отслоения сетчатки и прочих неприятностей не случилось, в принципе, глаза остались целы. Следующим врачом был хирург. Пока ждали в коридоре, Евгения начало трясти – наступал болевой шок. Валентин завел друга в кабинет хирурга, положил на диванчик и пошел разыскивать хирурга. Того нигде не было, Валентин хотел спросить у офтальмолога, но ее тоже след простыл. Валентин вернулся к пустому кабинету, ну, пустому от врача – Женя по-прежнему лежал на диване и тихо поскуливал:
– Валя, Валентин, Валя…
– Здесь я. Хирурга искал, не нашел пока, никто и не видел, где он может быть.
– Валь, мне бы обезболивающее… изнутри жжет, голова лопается…
Валентин отправился было на поиски, но столкнулся с хирургом в дверях.
– Так, что это за проходной двор? Сами входят, ложатся тут…
– Доктор, мой друг… совсем плохо ему, мы уж в коридоре ждали, – начал оправдываться Валентин.
– Как фамилия? Так, карты на него нет, берите вашего друга и – в коридор.
– Нас офтальмолог к вам направил, карту у него заводили.
– Ничего не знаю, без карты лечить не буду. Будет карта, тогда заходите, а пока – в коридор, там ждите… – Хирург добавил строгости в голосе.
Делать было нечего, Валентин усадил трясущегося уже всем телом Евгения на диванчик в коридоре и отправился на поиски карты.
– Что за гестапо! – Чудом карта нашлась – ее уже отнесли в операционную, откуда и вернулся в свой кабинет хирург. Так или иначе, с Валиной помощью правда восторжествовала, и Женю повезли зашивать. Идя за носилками, где стонал его друг, Валентин вдруг подумал, что и у охраны караоке, и у милиции, и у врачей было что-то общее – полное безучастие. Равнодушие и безучастие. Или даже что то смешанное – грязнодушие… Вот у малых народов – чеченов там, ингушей и прочих такого нет – все друг друга знают, каждый второй родня, там слепого больного в коридор не выгонят. Может, нас, русских, слишком много, чтоб чувствовать себя народом, то есть родными друг другу людьми. Может, поэтому и хамят, что знают – равнодушие убило чувство национальной принадлежности? Валентин проводил друга до операционной и пошел к известному уже хирургу – позаботиться о себе. Но, поскольку бригада «скорой» его фамилии не вписала, то на него карту никто и думал заводить – в регистратуре посоветовали ехать в больницу по месту жительства, то есть на другой конец города.
– Кто ж меня повезет в таком виде? И в метро не пустят, – возражал было Валентин, показывая обильно обрызганные кровью рукава водолазки и брюки.
Девушка за регистратурным окном пожала плечиками и углубилась в медкарты тех, кому «повезло» больше. Валентин хотел сплюнуть в сердцах, но вспомнил, что это все-таки больница, плевать не стал и с досадой толккнул дверь.
Уже совсем рассвело, по Ленинскому проспекту неслись машины – люди выживали в этом городе, кто как умел. Валентин голосовал долго, даже успел замерзнуть, все-таки его вид отпугивал издалека. Наконец-то остановилась какая-то замызганная «шестерка». За рулем сидело лицо «кавказской национальности» примерно одного с Валентином возраста.
– До «Сокола»? Пятьсот рублей устроит, дарагой?
Это было дороговато, но Валентин уже зверски устал для торговли. Хотя ехать с кавказцем по понятным причинам не хотелось, но другие национальности не останавливались.
2008Газпром и Яблоко
Писатель Леонид Антонович Серегин был уже давно маститым. Дело литературного признания имеет свои четкие степени – от «молодого», вне зависимости от возраста, до гения. Маститость была где-то посередине между крупным и великим и шла к его высокому лбу, седым бровям над мудрыми глазами и даже лысине. Серегин писал просто – мог себе позволить, потому что ясно представлял себе, о чем пишет. Поэтому его проза была настоящей – без лишних изысков и умствований и хорошо впитывалась. И неудивительно, что его регулярно приглашали на разные творческие вечера, корпоративные встречи с читателями, если сказать по-современному. Вот и сейчас он собирался на такую встречу, да не куда-нибудь, а в Газпром. Точнее – в бибилиотеку Газпрома на встречу с детьми газпромовских работников. Серегин много писал и для детей, совершенно разделяя точку зрения классика, что для них надо писать, как для взрослых, только лучше.
Корпоративная библиотека была больше похожа на оранжерею – кругом разные ухоженные цветы, аквариум с экзотическими рыбами, был даже небольшой фонтан. Вода из него плескалась шепотом, настраивая на уютное чтение. За солидными стеклами в массивных шкафах причесанно стояли книги с красивыми и ровными корешками – никакая книжка не выделялась из установленного для них порядка. За округлыми столами из красного дерева под цвет шкафов сидели такие же ухоженные, как цветы, дети. В их глазах светилась вежливость. Серегин сразу отметил, что эта вежливость покрывала позолотой воспитания отсутствие всякого интереса к встрече с известным, для них – детским, писателем. На некоторых столах лежали распечатки из Интернета – книжки самого Серегина в этой библиотеке не было.
– Два месяца, как открылись, вы уж извините, Леонид Антонович, вашу книгу еще не успели выписать, – смущенно объяснила пожилая библиотекараша, ответственная за проведение мероприятия. – Вот, скачали из сети, что нашли.
– А что нашли? – уточнил Серегин.
Библиотекарша замялась – было понятно, что в распечатки она не вчитывалась.
– Я имею в виду, что хотелось бы знать, что именно ребята успели прочитать, что с ними обсуждать, ну… понимаете…
– Рассказы вся… Ваши то есть рассказы, Леонид Антонович.
Серегин не стал дальше пытать пошедшую красными пятнами библиотекаршу, все-таки его пригласили из руководства самого Газпрома и женщина уже начинала бояться за свою работу.
Серегин знал секрет, как заинтересовать разговором детей разного возраста – говорить с ними серьезно, но просто, как он и писал. Перед ним сидели шестнадцать – восемнадцать пятиклассников – два параллельных класса, в газпромовской школе более десяти человек в классе не училось.
– Ребята, кто из вас не любит животных? – начал Серегин, обводя глазами младое племя.
Дети переглянулись – вопрос показался им странным. Разве бывают люди, которые не любят животных?
– Значит, все любят. А любить – это значит знать. Вот кто знает, отчего крокодил плачет?
Дети снова переглянулись. Кто-то углубился в распечатки, как будто там был ответ на вопрос.
– Я знаю, – сказал какой-то прилизанный мальчик.
– И почему же?
– Крокодил вымывает из глаз соринки всякие, чтобы лучше видеть добычу.
Дети уставились на Серегина – что скажет писатель?
– Правильно, отсюда и выражение – «крокодиловы слезы». Так говорят, когда кто-то из людей притворяется, что кого-то жалеет или о ком-то грустит.
Дети заулыбались и немного расслабились – мол, знай наших.
– Вот у вас бывает такое, что кого-то совсем не хочется жалеть, а признаться в этом никак нельзя – стыдно или заругают? – не снижал темпа Серегин.
Дети снова задумались. Кто-то стал шушукаться с соседом – видно, напоминал о подобном случае.
– У Маши Красильниковой всегда так, – решилась одна девочка с недобрыми глазами, – она всегда притворяется. Даже когда смеется, притворяется, и плачет когда – тем более.
– Ты-то откуда знаешь? Сама списываешь у меня, а притворяешься, что тебе пятерки за мозги ставят, – немедленно парировала другая девочка, очевидно, сама Маша Красильникова.
Дети завелись. Библиотека превратилась в ристалище – ученики разделились на два почти равных лагеря. Серегин спокойно выжидал, хотя библиотекарша снова начала покрываться пятнами. Только когда в ход пошли аргументы, у чьего папы должность выше, Серегин, как древнеримский трибун, поднял руку.
– А известно ли кому, отчего…
Пауза была мастерской – все затихли.
– Отчего медведь сосет зимой лапу?
Мальчики усмехнулись, девочки смущенно захихикали. «Рановато что-то им так реагировать», – подумал про себя Серегин, но невозмутимо обвел глазами зал. По озорным огонькам в глазах было ясно, что готов любой ответ, кроме правильного. Руку поднял тот же прилизанный мальчик. Серегин кивнул.
– Медведи сосут лапу в берлоге, потому что спят, а раз спят, то не могут есть, а когда лапу сосут, им кажется, что они едят, ну… молоко там или… в общем, как из соски.
Мальчик сел, довольный собой – он знал наверняка, что ответ верный. «Умненький, странно, что без очков, а то был бы на Знайку похож», – подумал про себя Серегин, поощрительно улыбаясь.
– Именно так. Как тебя зовут?
– Илья его зовут, – ответила за мальчика девочка с недобрыми глазами, – у него папу недавно уволили.
– Не уволили, а перевели на другую работу, – вспыхнул Илья, повернувшись к недоброжелательнице.
– А еще уголовное дело завели, – подлила керосина Маша Красильникова.
Видно, Илья был у соперниц общей темой. Дети снова загалдели. Серегину было странно слышать из уст подростков слова «менты», «прокурорские», «администрация президента», «хоронить активы» и прочие термины, подслушанные в домашних разговорах. Серегин быстро взял бразды разговора в свои руки.
– А вот где белые медведи устраивают себе берлогу, если они живут среди льдов?
– В снегу! В торосах! Под льдинами! – Дети мгновенно переключились.
– Вот интересно, как получается, что снег холодный, а может греть? Люди тоже строят себе жилища из льда. Такие ледяные юрты называются «иглу» – традиционный дом для эскимосов. В природе все устроено очень мудро, и человек эти премудрости постигал, наблюдая за животными.
Серегин рассказывал детям про развитие человечества, как люди учились летать, подражая птицам, как строились первые финикийские корабли, как финикийская письменность распространилась по всему миру, как открывались секреты выплавки меди и стали, про Архимеда и Циолковского, и все в связи с законами природы. Дети слушали, открыв рты, но когда Серегин закончил, как-то дежурно похлопали и вернулись к своим полувзрослым проблемам. Библиотекарша, не скрывая радости от того, что все обошлось, суетливо сунула Серегину в руку конверт с гонораром и проводила его до выхода. Не то чтобы что-то было неправильно, но обычно в России приглашенных писателей и поэтов привечают иначе – накрывают какой-никакой стол, обмениваются впечатлениями, благодарят, в конце концов, по-человечески, за рюмкой. Серегин шел к метро, немного ссутулившись. Обиды не было – скорее недоумение. Сентябрь только начался – погоды стояли летние, но уже без духоты. Серегин завернул в кафешку, даже не завернул, а присел за выставленный на улицу столик и заказал себе пивка. Мимо шли омосквиченные прохожие с неизбывной заботой на лицах. Серегин втянул ноздрями теплый вечер и вдруг вспомнил, как лет пятнадцать тому назад он отдыхал у своего друга в деревне под Калугой и директорша местной школы, узнав, что в их краях гостит известный писатель, пригласила его выступить перед детьми в сельской школе. Глаза деревенских ребятишек светились от восторга, а в конце какая-то девчушка с тугой русой косой, в легком сарафанчике с пятном от варенья, смущаясь и краснея, подошла к нему и протянула ему яблоко. Яблоко было крупное, спелое, ядреное, настоящий «белый налив». То ли, что налито оно было бесхитростной детской благодарностью, то ли от свежего воздуха, но вкусней ничего в тот день Серегин не вкушал. Вспомнилось, что на вопрос о крокодиле именно та девочка ответила, что крокодил плачет оттого, что его никто не любит, а все боятся. Потом они вместе с приятелем, директоршой и кем-то из сельсовета уговорили под беседу бутыль шикарного местного самогона. Тогда угощали как-то по-православному, не откупаясь деньгами в конвертах. И яблоки тоже были на столе, но Сергеев их не трогал – у него было свое, особое, дороже любого гонорара. По-другому к нему тогда отнеслись, другие были люди, другие были дети. То ли не знали Интернета, то ли еще почему. А может, потому, что в сельской библиотеке книжка Серегина все-таки наличествовала и явно не пылилась.
2008На свадьбе похорон
Ты сядешь или нет в вагон,
Чтобы присутствовать
На свадьбе похорон
И спеть в последнюю
Печаль мне «аллилуйя»?
Сергей ЕсенинСвященное озеро Шамсутдин было красивое и холодное, по-женски надменно осознавая свою красоту. А тот июльский день был теплым и ласковым, как влюбленный юноша. Именно в такие дни из жизненного ила всплывают на поверхность бытия самые простые и самые сложные желания – любить и быть счастливым в любви. Над Шамсутдином качались крупные чайки, похожие на белые лодки в приливе неба. Густые ели, как красивые волосы, обрамляли лицо Шамсутдина, смотрящегося в чистое небо, словно в зеркало, казалось, сейчас природа любуется сама собой, и только в протяжных криках чаек царапалась тоска. Аллах в мудрости своей создал этот мир красивым, но люди часто не замечают этого. Спешат…В спешке не смотрят вокруг себя, для этого надо оставаться недвижимым. Спешить жить – значит спешить умереть. Впрочем, на все воля небес, ибо нет Бога, кроме Аллаха, и Муххамед – пророк его.
Глаза имам-хатыба Фанила Гайсина смотрели на неподвижную гладь озера, меряясь с ним глубиной. Имам был мудр, но даже он находился в затруднении. Сегодня нужно было принять решение, которое перечило всем канонам ислама, но никакое другое не вмещалось в сердце. Имам колебался. Священное озеро оставалось недвижимым, словно всматривалось в муллу, ожидая, на что тот решится. Именно озеро имело право узнать мысли имама первым, и право это было сродни смерти…
– Хан, хан, ты – счастливый отец, да продлит Аллах годы твои! У тебя родилась прекрасная дочь! – кричали башкирские воины, потрясая саблями. Яркое солнце резалось о клинки и слепило глаза. Хан прищурился, не выпуская своего счастья на суровое лицо. Воину подобает носить себя тяжело, а хану тем более. Спешившись и отдав коня слуге, хан, сдерживая шаг, прошел в бураму[5]. Жена, опустошенная после родов, показала светящимися глазами на повитуху. Бабка поклонилась хану и протянула ему завернутую по обычаю в отцовскую рубашку новую жизнь. Девочка смотрела на отца без страха, с любопытством. С первого взгляда было понятно, что Аллах одарил ее редкой, дивной красотой. «Мои глаза, точь-в-точь мои». Хан смотрел на свое дитя, уже не скрывая умиления. Через три дня хан по обычаю предков устроил пир. Мулла вознес подобающую молитву и, нашептав на ухо младенцу азан[6], возвестил имя ханской дочери, такое же прекрасное, как она сама. Так в этот мир пришла Зульфия и так начиналась легенда.
Аллаху было угодно, чтобы в этот же день в другом аймаке[7] в семье безвестного бедняка родился мальчик. У отца не было ни денег, ни скота, чтобы справить бэби туе и исем кушу[8], но люди помогли ему, чем могли, и тот же мулла на скромном пиру, нашептав ну ухо младенцу азан, возвестил имя бедняцкого сына. Так в этот мир пришел Шамсутдин, и с этого момента судьбы двух детей переплелись в одну.
В первый раз они увидели друг друга в семь лет на берегу древнего красивого озера, в том месте, где ели росли, наклонясь, будто рассматривая что-то на дне.
– Я – Шамсутдин, сын Наиля, – сказал мальчик, не отводя глаз от самой красивой девочки, которую он видел за всю свою короткую жизнь.
– Я – дочь хана Мангута, – ответила девочка, глядя прямо и не смущаясь, как остальные.
Сосны зашумели, радуясь их знакомству. Дети взялись за руки и сели у воды, больше ничего не говоря друг другу, – разговаривали их сердца. Так они просидели до темноты и расстались только потому, что их уже начали искать – отец мальчика и ханские слуги. Но с тех пор каждый день Шамсутдин и Зульфия приходили на это место, и даже если кто-то не мог прийти из-за дел или болезни, второй приходил непременно, потому что теперь только здесь жили их души. Они сидели и любовались озером и друг другом, не зная, что озеро тоже смотрит на них.
Детские годы прошли быстро – Зульфия выросла в прекрасную девушку, с красотой которой могла поспорить лишь луна, а Шамсутдин – в рослого и смелого батыра, с отвагой которого не стал бы спорить даже лев. Но один раз Зульфия прибежала на берег заплаканной.
– Что случилось, лучезарная моя? – встревоженно спрашивал Шамсутдин, нежно гладя свою любимую по шелковым волосам.
– Отец выдает меня за сына бая. У них все сговорено, они уже выпили бата[9], и отец назначил богатый калым.
Зульфия плакала на плече юноши, Шамсутдин молчал, глядя вдаль. Там, посередине озера был остров, с незапамятных времен называвшийся островом любви. На острове было несколько ветхих хижин, оставшихся от какого-то другого народа, исчезнувшего, когда сюда пришли башкиры.
Шамсутдин встал. Зульфия подняла на него огромные глаза, напоминавшие теперь чаши с водой.
– Я достану лодку, любимая моя. Мы сядем в лодку и уплывем – сначала схоронимся на острове, потом, когда погоня угомонится, я отвезу тебе в другие края, к другим людям – русским. Они – гостеприимный и добрый народ, они дадут нам кров и работу. Я буду работать или воевать, ты же, ханская дочь, будешь только ждать меня.
Зульфия вздрогнула при упоминании погони, но улыбнулась, когда услышала, что даже в такой миг ее любимый помнит о самом не важном сейчас – что она ханская дочь и ей не пристало трудиться.
– Так скажи мне, любимая… подумай… потом не будет пути назад…
Зульфия перебила юношу долгим поцелуем – это и был ответ. Сосны зашумели, как в их первую встречу много лет назад, но на этот раз печально, словно провидя будущее. А озеро, как всегда, оставалось спокойным – теперь оно тоже было частью их судьбы.
Когда Мангут-бий узнал о бегстве дочери, в его сердце зашли и солнце и луна и наступила мертвая темь.
– Я дам тебе лучших сто моих воинов, – наконец вымолвил хан, обращаясь к жениху, ловившему каждое ханское слово, – если ты найдешь беглянку, она будет в твоей полной власти. Моя дочь принадлежит тебе по праву. О презренном псе Шамсутдине я не хочу говорить – он не стоит даже проклятий.
Хан понимал, что делал. Жених, чьего имени не сохранили века, улыбнулся краешком губ. Он понял хана.
Как ни велика была ханская любовь к своей единственной дочери, закон и обычай выше любви. Закон выше всего, ибо велика ненависть Аллаха к тому, что уверовавшие говорят, но чего не делают.
Беглецов нашли на второй день. Зульфию привязали к дубу, Шамсутдину же на глазах Зульфии отрубили обе руки и бросили его в озеро. Сын бая приказал воинам отойти на сто шагов.
– Зульфия… Зульфия… я сошел с ума, но я готов тебе все простить за твою любовь. Я забуду все, что произошло, и людские пересуды не коснутся моего сердца. Я по-прежнему твой жених, и ты моя невеста, Зульфия! Я забуду все, и ты забудь презренного Шамсутдина, не достойного ханской дочери!
Презрительный взгляд красавицы был ему ответом. Всю ночь провела Зульфия привязанной к дубу, жених то замахивался саблей, то падал на колени. И лишь когда рассвело, он увидел, что взгляд Зульфии прикован к тому месту, где утонул Шамсутдин. Для нее уже не существовало ни сабли, ни веревок, ни смерти, только тоска по любимому. И тогда он понял, что его самого для этой девушки не существует тоже. Несчастливый жених кликнул воинов, не сомкнувших глаз в эту ночь. Зульфию бросили в воду, связав руки за спиной, в то же место, где утопили ее суженого. С тех пор озеро получило от людей имя, и имя это было – Шамсутдин…
Имам Фанил Гайсин принял решение. Предание о Шамсутдине, всплывшее со дна веков, подсказало его. Роковое озеро не раз забирало влюбленных, но никогда не разлучало их. Так случилось и на этот раз. Так случилось и вчера.
Лиана и Айнур из башкирского села Новый Исхан дружили еще со школьной скамьи, и, когда пришло время, дружба расцвела в любовь. Их родители не могли нарадоваться на детей, и когда Айнур по весне признался своей матери, что влюблен в молодую красавицу Лиану, радости его матери не было конца, ведь они с родителями Лианы уже давно мечтали о свадьбе своих детей. Лиана училась в Бирске, и юноша, не мешкая, поехал к своей любимой.
Студентки снимали одну квартиру на троих, и две подруги Лианы не смогли сдержать слезы, когда прямо с порога Айнур бросил огромную охапку красивых цветов под ноги и слова, красивей любого букета, в сердце своей подруги: ты выйдешь за меня замуж?
– Да, – выдохнула Лиана, и влюбленные переплелись в поцелуе, нежном, как крылья бабочки, и долгожданном, как весна.
Свадьбу назначили на середину лета, договорившись муллой, что он прочтет молодым никах[10] в июле. До тех пор влюбленные встречались каждые выходные, когда Айнур мог приезжать в Бирск, и каждый день, когда наступило лето и Лиана приехала на каникулы в их родное село. Молодые были счастливы. Чудилось, птицы поют только одно – Айнур и Лиана, казалось, что цветы растут только для них и даже солнце просило луну освещать путь ночью только для влюбленных. Только любимая сирень Айнура, которая росла у дома уже тридцать лет, вдруг завяла. И вековые ели, растущие в одном месте, наклонившись, будто в поклоне, над озером Шамсутдин, шумели тихой печалью, словно провидя будущее.
Это было самое уютное место на берегу Шамсутдина, и Айнур с Лианой сидели там с самого утра, спрятавшись от жары и от многочисленных друзей, приехавших на свадьбу.
– Завтра, любовь моя, мы наконец-то станем мужем и женой, – нежно сказал Айнур, не выпуская из своей руки прозрачную кисть своей суженой.
– Да, мой милый, всего-то один день. Я ждала этого дня всю жизнь, я так счастлива, – прошептала Лиана, закутав плечо любимого в шелк своих волос.
Недалеко послышались голоса – друзья, соскучившись, выкликали их имена. Лиана посмотрела на Айнура – она никого не хотела сейчас видеть, кроме него.
– Знаешь что? – вскочил на ноги Айнур. – Я достану лодку, давай уплывем на самую середину озера – на остров любви, там нас никто не найдет. А вернемся поздно вечером, когда все угомонятся.
Лиана улыбнулась – любимый понимал все без слов. Уже начало темнеть, когда Айнур подогнал лодку к их месту, но Лиане не было страшно – ведь рядом с ней был самый любимый и надежный мужчина…
– Что случилось с вами, уважаемая Зиля-апа? – спросила молоденькая медсестра, приехавшая по вызову из райцентра.
– Ох, доченька, что-то нехорошо мне. Задыхаюсь я… как-то душит… с утра какая-то не своя, все из рук валится. Вот даже в магазине покупки забыла, – покачала головой Зиля-апа – мать Айнура.
– А ничего другого не болит? Сердце? Покалывает немного? Подправим сейчас. А насчет удушья – вы астмой никогда не болели?
– Да что ты, дочка, хвала Аллаху, в нашем роду ничего такого не было. Может, порча какая?
Медсестра сделала укол магнезии и улыбнулась.
– Да за что вам порча, вас все в селе любят, уважают, вот и о свадьбе у Айнура вашего все говорят с придыханием прямо.
– Что… говорят?
– Да люди говорят, что счастливей пары и найти нельзя на белом свете.
Зиля-апа потерла сердце.
– Ох, не знаю, дочка… Завистников ведь всегда хватает.
Медсестра опять мило улыбнулась.
– Да это вы просто наступление грозы чувствуете. Все скоро пройдет, вы здоровы, Зиля-апа, хвала Аллаху, просто подвержены климатическим изменениям.
Но не грозу чувствовало сердце матери, беду.
Лиана сидела на самом краю лодки, болтая ножками в холодной – из-за подземных ключей – воде.
Стало почти совсем темно, но не от захода солнца, а от иссиня-черной тучи, которая, казалось еще час назад, была совсем далеко. Но ветра почти не было – лодка спокойно скользила по глади озера, Айнур аккуратно опускал весла, чтобы холодные брызги не тревожили беззаботную Лиану. Сейчас она казалась ему русалкой, выплывшей из серых вод Шамсутдина, чтобы остаться с ним навсегда. Берег уже начал сливаться с небом в фиолетовой темноте, когда прямо над лодкой ударила гигантская молния. Когда Айнур после краткого ослепления снова обрел зрение, Лианы в лодке уже не было – от испуга девушка потеряла равновесие и соскользнула в воду.
– Лиа-а-на!!! – прокричал Айнур, но в упавшем громе сам не смог расслышать свой крик.
Айнур, не разуваясь, прыгнул с лодки, и озеро Шамсутдин сомкнуло над ним стальные воды.
Их нашли водолазы на следующее утро, тела лежали на дне озера рядом – Шамсутдин не разлучал влюбленных. Родители и гости, собравшиеся на свадьбу, плакали над мертвыми. Лиана, прекрасная и после смерти, лежала в свадебном платье, Айнур, казалось, просто уснул, не сняв пошитого для свадьбы темного костюма. Их лица были спокойны и безмятежны, словно не ведали они, почему слезы катятся из опустевших глаз их родителей и друзей.
Имам-хатыб Фанил Гайсин не смог отказать матерям. Сегодня был назначен день свадьбы их детей, и они на коленях умоляли его похоронить их мужем и женой. Никогда не было такого, чтобы мулла венчал мертвых, но разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей? И имам Фанил Гайсин во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного, начал читать никах над двумя гробами.
Тот июльский день был теплым и ласковым, и только озеро Шамсутдин оставалось холодным, каким создал его Аллах в незапамятные времена.
2008Калека
Тот бой в Панджерских предгорьях был последним для девяти убитых бойцов и для одного живого, но потерявшего сознание. Если бы не бежавший рядом командир, принявший на себя все осколки, то он неминуемо потерял бы и жизнь. Моджахеды тыкали стволами в тела – но никто не стонал и не шевелился. Добивать было некого.
– Уходим, – глухо рыкнул на пушту старший через черную как смоль бороду – работы здесь больше нет.
Обыскав трупы врагов и забрав своих, воины Аллаха бесшумно исчезли в зеленке – так же, как и появились оттуда полчаса назад – из засады.
Ночь осела на землю чужой росой, и капельки влаги освежили запеченные губы. Сержант Сергей Таранов открыл глаза – в него хищно всматривались южные звезды, словно целились, чтобы выстрелить, когда он пошевелится. Сергей пошевелился, и граната как будто разорвалась в нем во второй раз – от боли перекосило сознание. Сержант передохнул и, стиснув зубы, приподнялся на локтях – вместо левой ноги от колена виднелось что-то плоское, как будто из шарика цвета униформы выпустили воздух.
– Вот же черт, твою мать! – тихо выругался сержант и потянулся за медпакетом.
Перевязав ногу жгутом и остановив последнюю кровь, сержант оглянулся – его боевые товарищи, насколько он мог видеть под прожектором луны, не подавали признаков жизни, сливаясь с пейзажем. Медленно переползая от одного к другому, он убедился в том, в чем убедились и душманы – выживших не было. Правда, духи ошиблись на одного – на него.
Таранов не нашел ни рации, ни карты, ни оружия, даже сухпайков и фляг – все забрали моджахеды. Где наши, куда ползти, сержант не имел ни малейшего представления. Он помнил только, что к этому месту их группа выдвигалась часов семь-восемь. Их боевой задачей были засада и уничтожение каравана с оружием на одной из многочисленных тайных троп, но в засаду они попали сами. Таранов не сомневался, что их кто-то продал из афганских штабных. Часто, обыскивая трупы убитых духов, они находили карты с обозначением передвижений наших войск или транспорта, которые считались сверхсекретными. Тогда их командир старший лейтенант Муровцев, «Муравей», как звали его за глаза солдаты, зло суживал глаза и сучился сквозь зубы. Ругань была по адресу не противника, а предателей, которыми брезговали и с той и с другой стороны. Брезговали, но услугами пользовались. На этот раз воспользовались тоже. Группу «Муравья» продали, это было понятно – уж слишком подготовленной оказалась засада. Полковая вертушка, очевидно, была послана за ними, но, не обнаружив ни живых, ни мертвых, вернулась в ППД. Да и никакой тревоги они не успели передать – духи, как положено истинным духам, материализовались тихо и внезапно со всех сторон сразу. А последний раз «Муравей» выходил на связь за час до этого – километров в пяти-шести отсюда. Какая там вертушка – со спутника никто не найдет. Без связи, без ноги и с такой потерей крови добраться до своих было практически невозможно. Именно поэтому сержант Таранов не стал больше думать, а пополз, подгребая под себя проклятую чужую землю – в противоположную сторону от суровых синих гор.
Он полз уже три дня, вернее, три ночи, отлеживаясь в светлое время суток в зеленке. Культя почему-то не болела, зудела, ныла, но не оглушала болью. Боев нигде не было слышно, раз только где-то за горизонтом заныли минометы, но через час все стихло. В сумерках на камнях появлялась роса, и сержант подолгу слизывал ее языком, потом полз дальше, оставляя за собой слабый кровяной след.
На вторую ночь внезапно наступил дикий голод. Раньше как-то терпелось, его можно было отогнать, как ворона, забыть о нем, но теперь голод заполнил собой все сознание. Сержант пытался есть листья и грызть кору дикого инжира, но голод становился только больше. Очень скоро он разросся до размеров огромного волка и стал грызть живое тело изнутри. Боль от культи заглохла совсем – ее, как гигантская волна, захлестнула другая – из живота. Сержант перевернулся на спину и стал смотреть в темнеющее небо. Ползти в эту ночь у него уже не было сил. Жить сил тоже не было. Сержант с завистью подумал, что его товарищи погибли легкой смертью, но застрелиться он не мог – безоружный. В небе вдруг ясно проступило чье-то лицо. Таранов напряг зрение – лицо было расплывчатым, бесформенным, но, вглядевшись в глаза, он узнал – это было самое прекрасное лицо – его матери. Оно приближалось, как будто мать наклонялась к нему, словно желая поднять его с этой неродной земли, где ему не подобало лежать. Сама мать – Галина Сергеевна – уже два года как покоилась в своей земле, русской, в Тверской области. Его и назвали в честь деда – материного отца, не вернувшегося с Отечественной. Собственного отца Сергей почти не помнил, он бросил их, когда мальчику едва исполнилось семь лет. Что там произошло между ними, мать никогда не говорила, да и Сергей перестал со временем расспрашивать – не хотел бередить мамино сердце. Так и жили вдвоем, и Сергей был единственным мужчиной в доме с самого детства. Когда хоронил мать, у него в кармане уже лежала повестка, но отсрочки добиваться не стал – хотелось поскорее уехать хоть куда, чтобы приглушить боль потери.
Мать печально улыбалась, собирая теплые морщинки у глаз.
– Все будет хорошо, сыночек мой, кровинушка моя. Все будет хорошо, продержись немного, ты же гордость моя, защита моя, опора моя. Держись, родненький мой, я и внуков хочу дождаться. Жаль вот, понянчиться с ними не сумею.
– Мама, мама, – застонал Таранов и очнулся.
Рядом с ним стоял шакал и внимательно смотрел ему в глаза. В шакальем взгляде чувствовалась усмешка. Лежащий человек, пахнущий теплой кровью, был уже почти пищей – хватило бы на целую неделю, ставалось лишь немного подождать. Сержант нащупал рукой камень – перед ним была спасительная еда. Шакал что-то учуял – усмешка в его желтых круглых глазах уступила место настороженности, он отступил чуть назад. Таранов прикрыл веки, расслабил мышцы, не выпуская камня из пальцев и, насколько мог, приглушил дыхание. Не раньше чем через час шакал подошел чуть ближе – он был не так голоден, как человек. За это время Таранов изучил пальцами каждую шероховатость, каждую ложбинку и выступ на камне, который был его единственным оружием и последним шансом выжить. Камень был неудобный, неровный и тяжеловатый – резко не метнешь, надо было бить в голову, наверняка. Чуть слышно шорохнуло – шакал подступил ближе. Сержант перестал дышать, ловя каждый звук, но слышал только свое сердце. Когда воздух в легких уже совсем кончился, Таранов вдруг услышал над самым ухом, как зверь втягивал носом воздух – совсем, совсем рядом. На выдохе сержант резко выбросил руку на звук – мозг чуть не лопнул от боли, но сознание Таранов потерял только после того, как увидел, что у шакала подкосились лапы – удар пришелся тому под ухо.
Сознание к сержанту вернулось вовремя – очухавшийся шакал, удар оказался несмертельным, скуля, отползал прочь, задние лапы, как и ноги у перехитрившего его человека, волочились по земле. Таранов, изо всех последних сил помогая себе локтями, догнал раненого падальщика, перехватил тому голову и, рыча по-звериному, впился в шакалье горло зубами. Густая черная кровь уняла первые голодные спазмы. Сержант разорвал горло руками и стал жадно есть теплое кровавое мясо. Его стошнило – но не от сырого мяса – сжавшийся желудок не хотел принимать пищу. Таранов с трудом оторвал себя от туши: еще пара кусков – и спасительная еда могла стать смертельной. Утром пошло легче, к закату от шакала осталась половина. Другую, привязав шнурком за хвост к ботинку на здоровой ноге, сержант поволочил за собой. Хотя шакалье мясо начало быстро протухать, Таранов растянул его еще на два дня, больше такой удачи могло бы и не выпасть, хотя чьи-то следящие за ним горящие глаза, то ли волчьи, то ли шакальи, он видел из кустов каждую ночь. Зверье не подходило близко – человек, съевший сырого шакала, был для них таким же зверем, как они, хоть и раненым, но все-таки опасным. Голод стал постепенно возвращаться, и с ним стали таять вернувшиеся было силы. Таранов лежал в лощине и думал, что второй раз ему с едой не повезет. Хотелось закончить это все, бессмысленную борьбу за угасающую жизнь. Левое колено невыносимо жгло. «Наверное, гангрена» – уже равнодушно подумал сержант. Антонов огонь, как говорили бабки в деревне. Таранов прищурился на злые зрачки звезд, усмехнулся и стал нашаривать рукой камень – на этот раз он хотел разбить голову себе. Камень нашелся быстро, как и тот, первый, которым он прибил шакала, увесистый и угловатый – в самый раз. Из кустов послышался шорох. Таранов представил себе, как его тело будут терзать падальщики, уже наверняка обглодавшие останки его товарищей, и его передернуло. «Врешь, падла, не сожрешь», – прошипел сержант и бросил камень в кусты. Шорох на секунду прекратился, потом ветки раздвинулись и ему в лоб уперся черный ствол.
– Ты кто? – тихо спросили по-русски.
Таранов смог только прошептать «братцы, братцы» и затрясся в плаче. Война для него кончилась.
Сержанта Таранова нашли бойцы полковой разведки соседнего полка, возращавшиеся с задания. Как оказалось, дела его были не так уж плохи, гангрена только началась, ногу отняли не всю – чуть выше колена. Провалявшись в госпитале пару месяцев и получив там медаль «За Отвагу», сержант под чистую комиссовался. На родине его ждала пустая пятистенка да неухоженная могила матери. Девушки у Таранова не было, вернее, была в Твери одна подруга, но не невеста, так, для легких отношений. Она наверняка его не ждала, да и не обещала, искать ее не имело большого смысла – либо уже замуж выскочила, а если нет – гуляет с кем-нибудь другим. Сосед дядя Боря – рано постаревший от горького пьянства – выставил по случаю возвращения Сергея бутылку вкусной и мягкой кашинской водки.
– Для себя хранил, для праздника какого. Обычно-то самогон идет-то, ты знаешь, но сейчас верный праздник. Давай, за возвращение, – прогудел дядя Боря, уважительно косясь на костыли.
– Не спрашиваю тебя, как там воевалось… – замялся дядя Боря на исходе бутылки, – но скажи, много наших полегло-то? Когда закончится-то этот Афган-то?
– А… – махнул рукой Сергей. – Много… не одна тысяча, дядь Борь. А когда кончится, один Бог да… – Таранов показал глазами вверх, – знают. Завязли там по самое не могу.
– А чего вообще полезли-то? Нам-то чего до ихних дел афганских? – завернул в политику сосед.
– А х. й его знает. Нас там особо не любят – ни духи, ни местная власть. Эти вообще слабаки – нашими руками жар загребают, суки. – Таранов помолчал. – За что воюем, не знаем.
Дядя Боря покачал головой и махнул стакан.
– Раньше-то всегда знали, за что воевали-то. За землю свою-то, да… За Родину, в общем. А сейчас за Родину и выпить-то нечего, одну бормотуху продают. Вот «Кашинская» разве. Ну давай за медаль твою, Серега.
Таранов пил два дня подряд – дядя Боря, как водка кончилась, притащил огромную бутыль самогона, но сам темпа не выдержал, – качаясь, ушел под утро к себе. Самогон бил в голову, но память не глушил. Изредка Сергей брал забытую дядей Борей маленькую трехрядку и напевал сам себе что-то грустное. До армии он играл довольно сносно, слух у него был от природы, а аккордам научил сосед. Но печальные, протяжные песни только растравляли сердце, а веселых Сергей не знал. Вот матушка, та любила всякие, народные больше, но и веселые пела с удовольствием, задорно, даром что старухой уже была. Так и сидели, бывало, в погожий денек вдвоем на приступке, Сережа аккомпанировал, а мать задумчиво напевала. Веселые только с подругами пела, парой таких же русских старушек, тогда уж на «девичник» дядю Борю приглашали. Ставили бутылку, конечно, закусь немудреную и гуляли. Отгуливали свое, вернее сказать. Сергей вспоминал материны посиделки, вздыхал и тянулся к стакану. На третий день бутыль кончилась и началась мирная жизнь. Началась плохо – никакой работы в селе не было и для здоровых, а для него, калеки, чего уж там говорить. Если только на трактор, но единственный тракторист по прозвищу Пузырь – из-за своего дикого живота – держался за свой трактор крепко, пахал справно, им были довольны, а других тракторов в селе не было. Село больше жило молочным делом – все, кто не старухи, работали доярками на соседнем молочном комбинате, мужской работы не находилось. Плотничать или там столярничать Сергей не умел, после техникума получил профессиию сварщика, но в МТС вакансий не было. Таранов решил податься в город, не в Тверь, а сразу в Москву, наудачу. Город большой, возможностей больше. Заколотил дом, сходил на могилу матери, посидел немного, да и поковылял до платформы, оставляя на желтой дороге следы от одного башмака и двух костылей.
Камиль был вполне устоявшимся человеком сорока пяти лет. Врачебная профессия психолога давала стабильный заработок и серьезные связи. По нынешним временам стресс становился самым распространенным недомоганием, даже болезнью. Ему были подвержены практически все, вне зависимости от профессии и достатка. Жизнь стала напоминать эскалатор, с лязгом несущий неторопливо поднимающихся или просто стоящих на нем, вниз, в беспросветную темь потерянности, отчаяния и нищеты. Чтобы подниматься по этому эскалатору жизни, нужно было каждый день бежать по ступенькам вверх, толкая зазевавшихся и перешагивая через уставших. Сохранить в себе душевное равновесие редко кому удавалась. Камиль не мог просто физически сопереживать каждому пациенту, да от него требовалось как от профессионала совсем другое – находить в людях заглохшие струнки воли и оптимизма и по-новому настраивать их душевный инструмент. Это отличалось от работы психотерапевта, лечившего уже различные фобии и мании споткнувшихся людей. После лечения психотерапевта человек уходил другим, может, даже лучшим, чем был. Камиль же возвращал человека самому себе прежним. В силу специфики профессии Камиль не мог быть жалостливым человеком, врачи вообще одни из самых циничных людей, но, прекрасно зная мотивы поступков, ведущих и к взлету, и к падению, поддерживал даже в малознакомых людях первые и доброжелательно осуждал вторые. Именно поэтому Камиль почти никогда не давал милостыню. Сейчас он поступил так же – в пробке на Тверском бульваре к его «ниссану» требовательной походкой подошла уже давно примелькавшаяся бабуся и протянула руку. Камиль не стал отводить глаза или делать вид, что не замечает старушки, как стыдливо поступали многие, а твердо покачал головой в знак отказа. Эта бабулька и бабулькой-то не была – пожилая, вполне работоспособная женщина, одетая в старившие ее лохмотья. Нищенка сжала губы в знак презрения. Камиль давно заприметил ее на этой «точке» и знал, что еще более презрительно она смотрела на тех, кто отсыпал ей какую-нибудь мелочь из бокового окна автомобиля. Несомненно, она винила в своих бедах всех вокруг и считала подаяние единственным способом для человечества замолить свои грехи перед ней. Отказавшим она шептала что-то вслед треснувшими губами, не иначе проклятия. Вообще от попрошаек не стало проходу – чумазые узбекские дети стаями охотились среди машин и даже повисали на ручках тронувшегося с места автомобиля, на инвалидных колясках у светофоров катались туда-сюда увечные молодые люди в военной униформе и беретах, с табличками на тельниках, сутулые монашки с пугливым взглядом держали в руках коробочки для денег с обязательной надписью «На ремонт храма», в каждом переходе цыганки сидели с запеленутыми кульками, похожих на грудных детей. Все знали, что нищенский бизнес очень доходный, что держат его цыганские бароны и большая часть милостыни идет им на шикарные особняки и роскошную жизнь, что милиция за долю от барышей не разгоняет побирушек, даже охраняет их от конкурентов, но сердобольный русский народ по исконной душевной традиции жалел юродивых и нищих, кидая им по всей стране медь и мелкие купюры.
Камиль остановился у билетных касс Казанского вокзала. Завтра у него начинался отпуск, и Камиль твердо решил съездить на родину, в Казань, провести хотя бы одну летнюю неделю среди родни. Московская жизнь, затягивая в свой водоворот пациентов, неумолимо затягивала туда же и их врачей. Камиль не видел своих родителей уже два года, недавно со службы, а еще точнее – из Афганистана, вернулся племяш, сын материной сестры, его невеста Люсия его дождалась – скоро ожидалась свадьба. Его очень ждали в Казани, а разве не тянет людей больше всего туда, где их ждут? Камиль взял билеты без стояния в шумной и злобной очереди – директор вокзала был хорошим знакомым одного его пациента. Все складывалось удачно, Камиль вышел с вокзала, потрогал свою капитанскую бородку и улыбнулся теплому летнему дню. Хотелось даже что-то насвистеть, какую-нибудь незатейливую мелодийку из новой эстрады, которую в народе стали полупрезрительно называть «попсой». В этот момент Камиль почувствовал что-то на своем затылке, какую-то тяжесть, как будто в него целился снайпер. Камиль медленно повернулся – на него со ступенек вокзала в упор смотрел нищий калека – вместо левой ноги к культе была привязана грубая деревяшка. Молодой мужчина был одет в поношенные брюки неопределенного цвета, на потертом пиджаке отсвечивала какая-то медаль. Перед ним лежала шапка, очевидно, для милостыни. Какая-то женщина бросила в нее горсть монет, но калека не отвел глаза от Камиля, не поблагодарил женщину и не перекрестился, как делали почти, все, как бы прибавляя к собственной благодарности Божью. Камиль почувствовал себя неловко, потрогал себя за бороду и невольно сузил глаза – нищий смотрел на него с каким-то вызовом. Врач-психолог понял, что его беззаботность вызывала в калеке неосознанное озлобление, и быстрым шагом пошел к машине. Камиль не мог видеть спиной, но отчего-то был уверен, что калека усмехнулся.
На следующий день Камиль чуть не опоздал к поезду – такси (свою машину на время долгой отлучки разумные люди оставляют в гараже) попало в вечную пробку на Волгоградском проспекте. Водители ругались, орали друг на друга, в воздухе, смешавшись с бензиновыми парами, растекалось озлобление.
– Озверел народ совсем, – вздохнул пожилой таксист, – это еще пробка не тяжелая. Что дальше с людьми будет?
Камиль грустно улыбнулся. Он представлял себе, как никто другой, к чему приводит людей злоба. Борьба за выживание начала уже приобретать какой-то зоологический оттенок, расчеловечивая людей. Государство самоустранилось от социальных проблем, бросив своих граждан на произвол судьбы, причем врало им в открытую со страниц газет и телеэкранов. Правительство охраняло только свою власть и ничего, кроме брезгливости, у народа не вызывало. Все стали равны – но не перед законом, а беззаконием. Все решали организованные «братки», милиция сама их опасалась. Распад души могла бы остановить только религия, вернее сказать, вера. Но христианство, особенно православие, призывало к многотерпению в земном мире, характера обязывающего закона не имело. Сколько чужих душ нужно сломать, чтобы понять, что пора спасать свою. Коран же был намного конкретнее, чем Новый завет. «Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и пересчитывает его, думая, что богатство увековечит его», – вспомнился Камилю аят из суры «Аль-Хумаза». А Христос обошелся притчей об игольем ушке, через которому богачу, как верблюду, не пролезть в загробное царство. Теологические размышления прервал резкий толчок – кто-то въехал в них сзади. Пока водители препирались, Камиль то и дело смотрел на часы – до отхода поезда времени оставалось совсем немного. По уму, надо было бы выйти из такси и искать попутку, не очень, правда, хотелось открывать багажник, вынимать чемодан и сумку, но опоздать хотелось еще меньше. Камиль вышел из машины. Водитель, въехавший в них сзади, молодой парень, орал на таксиста.
– Ты чего, пень старый, тормозишь, как лох? За тобой люди едут!
Камиль бросил взгляд на «поцеловавшую» их машину – в ней сидела какая-то смазливая блондинка и красила губы, глядясь в зеркало заднего вида. Происходящее ее совсем не беспокоило.
– Вы, молодой человек, у кого это научились на старших кричать? Кто едет сзади, должен дистанцию соблюдать, не знали? – почти дружелюбно, но твердо сказал Камиль.
– А ты кто такой вооще? Ты пассажир, так заткни хайло и жди, пока мы тут перетрем, – вскинулся молодой.
Камиль погладил свою бородку и резко ударил левой молодому в печень – в молодости занимался боксом и как спортсмен и как врач точно знал местоположение важного для здоровья и вразумления органа. Таксисист с опаской поглядел на Камиля, но тот уже улыбался, почти виновато.
– Опаздываем, отец. Я за бампер добавлю – ничего, тут одна царапина, чуть выгнуть и все. Поехали, отец.
Таксист улыбнулся в ответ и сел за руль. Машину с присевшим рядом на колени хамовитым водителем и хлопочущей вокруг него блондинкой стали объезжать, скоро их не стало видно за другими автомобилями.
– Лихо вы его. Занимались? – уважительно спросил таксист, втискиваясь в нужный ряд.
– Немного. Главное – не давать волю собственным чувствам. Не опаздывал бы, поговорил бы с ним подольше, он бы и так понял.
– Да это вряд ли. Таких только сила остановит. Людей не уважают, себя не уважают, никого и ничего не уважают, одну силу, – не соглашался таксист.
Камиль уже не спускал глаз с наручных часов, думая, на какой поезд ему менять свой билет, как пробка вдруг невероятным образом рассосалась и они выскочили на Садовое кольцо.
– В Москве всегда так – никогда не угадаешь, где застрянешь, где поедешь. Если так пойдет – через десять минут будем, – оживился таксист.
И действительно, получилось так, что приехали не только вовремя, а даже с небольшим запасом. Камиль рассчитался, добавил было обещанное, но таксист вернул «бамперные» и пожелал Камилю удачи. Камиль пожелал в ответ того же и быстрым шагом пошел к поездам.
Давешнего калеку он заметил почти сразу. Он сидел в той же позе, выставив деревяшку, в той же истертой одежде. Одинокая медаль свисала с груди, нищий сидел, уронив голову, ни на кого не глядя. Камиль замедлил шаг, и, чуть поколебавшись, подошел к калеке и положил в шапку десять рублей – приличную по тем временам сумму, столько примерно мог стоить новый бампер для «Волги». Нищий поднял голову – его взгляд был смурной, казалось, мощный перегар шел не из горла, а из этих мутных глаз. Вдруг нищий прищурился, в зрачках блеснула какая-то молния – видимо, он узнал подающего.
– Пошел на х. й! – зло и четко произнес калека.
Камиль нахмурился, для одного дня хамства было уже многовато.
– Пошел на х. й! Не глухой небось? – голос калеки треснул и он закашлялся, ударяя себя в грудь и мотая головой.
Камиль отошел, обернулся было, но нищего продолжал трясти кашель. Камиль быстро дошел до вагона, отдал билет проводнице и, найдя свое купе, сунул чемодан под нижнюю полку. За окном по перрону шли или бежали отъезжающие, сталкиваясь с неспешно идущими прибывшими пассажирами. Денек выдался светлый, теплый, женщины в открытых легких платьях, казалось, были все молодые и беззаботные. А может, они своей женской природой понимали, что никак не хотели понимать умом зацикленные на жизненной борьбе мужчины – даже солнечный пригожий день дается людям в радость и если совсем не замечать таких вроде бы маленьких и естественных радостей, жизнь может потускнеть окончательно и в сердце наступит вечная промозглая осень. Камиль посмотрел на часы – до отхода поезда оставалось минут семь-восемь – и вышел из вагона.
Калека продолжал сидеть на своем месте, уставившись в свою шапку. Кашель его больше не бил, сутулые плечи не тряслись, казалось, он спал сидя. Камиль подошел вплотную и присел на корточки, чтобы лица оказались вровень. Нищий поднял голову, в его мутных глазах плавало безразличие.
– Ты вот воевал, медаль имеешь, – твердым тоном сказал Камиль, – а всему миру показываешь, как тебе плохо. Мужчиной ты был, это точно, а сейчас думаешь, что им и остался. Так вот зря, болезный, ты так думаешь. Мужчиной ты станешь опять только тогда, когда докажешь этому миру, что тебе хорошо. И не просто хорошо, а лучше, чем тем, кто кидает тебе мелочь. Настоящего бойца можно убить, но сам он себя никогда живьем не похоронит. Вот так-то, брат, – Камиль поднялся и пошел на перрон, не оглядываясь, но чувствуя спиной тяжелый взгляд калеки.
Время проходит для людей, занятых любимыми людьми и любимой работой, незаметно. С тех пор, как Камиль гостил у своих в Казани, прошел год, пролетел, как один день. У родителей и родни все шло хорошо, племянник женился на Люсии, они ждали первенца. Тогда Камиль хотел поговорить с ним о войне, но особого разговора не вышло – парень смотрел душой в будущее, о прошлом вспоминать не хотел. Хотя явно было что, у него на форме сверкали четыре медали, одна из них такая же, как у того калеки с вокзала. На работе все шло неплохо – без резких рывков и качаний, одним словом – стабильно. Но, главное, Камиль решил жениться. Невеста – красивая татарка Гуля, но крещеная – из кряшен, работала медсестрой в той же клинике. Она жила уже пару месяцев у него и Камиль решил устроить ну если не мальчишник, то знакомство своих друзей о своей будущей женой, чтобы уже на свадьбу они не пришли незнакомыми ей людьми. Друзья работали в разных областях, некоторые были его бывшими пациентами. В один воскресный день Камиль поехал на рынок за продуктами, Гуля осталась убираться в доме перед приходом гостей. Камиль остановился перед прилавком с продуктами и только стал прицениваться, как почувствовал весьма твердый удар кулаком в бок.
– Вы чего? – нахмурился Камиль, оборачиваясь.
Перед ним стоял моложавый мужчина, улыбаясь во все лицо и обнимая полную женщину, державшую свою голову у него на плече. На другом плече у мужчины висела гармонь.
– Не признал, а? Не признал… Это тот самый, я тебе говорил, – обернулся мужчина к своей спутнице, смотревшей на него с обожанием, – а так узнаёшь? – незнакомец задрал левую штанину – вместо ноги поблескивал металлический протез. – Помнишь того инвалида-побирушку? Казанский вокзал? Ну, вспомнил? Меня Сергеем кличут, Сергей Таранов.
Камиль расправил морщины на лбу светлой улыбкой и пожал протянутую руку – он вспомнил.
– Да, брат, выручил меня ты тогда. Я же чуть не сдох, побираясь – цыгане только еду, как собаке, давали да паленой водкой поили. Потом убегал от них пару раз, так в смерть избивали, типа должен там чего-то… Но я одного ромалу ножечком достал, у него же отнятым, так, не до смерти, для острастки… вроде оставили. Теперь вот, – Сергей потрепал рукой гармонь, – народ честным трудом развлекаю – песнями русскими народными, ну и эстраду всю наизусть знаю. А это жена моя, – Сергей тем же жестом потрепал женщину, льнувшую к нему, как упитанная кошка к хозяину, – Варвара, Варенька. Здесь же на рынке в мясном торгует. Я-то сам мясо ни в каком виде не ем, физически не могу, а жена с мясного отдела, бывает же такое. Да… Выходная сегодня. Ну я-то не меньше, небось, заколачиваю, а Варь?
Женщина тепло и уютно улыбнулась мужу в глаза – было видно, что любовь у них в самом разгаре.
– Ментам, правда, долю отдаю, но ничего…власть, как-никак… законная. Да, ты меня сильно тогда выручил. Не деньгами, конечно. Меня твои слова, как пуля, зацепили, чувствую, что ты прав, и злюсь на себя, злюсь за то, что сломался, что каждый день от предыдущего ничем не отличается, как один мусорный бачок от другого. Ну и взялся за дело, да… Кстати, – Сергей зашуршал в кармане, – вот, тот самый червонец. Я его тогда не потратил, хоть нужда жуткая была, и ромалам не отдал, заначал в шапке. Они-то тебя всего обыщут, а шапку – нет, не допетрят. Ну, голь на выдумки хитра… Да… Так вот, веришь, все время его хранил – думаю, повстречаю тебя, непременно отдам. Сам понимаешь, не в деньгах дело, ты уж не побрезгуй, для меня это вопрос важный. Это на добрую память. Ну, бывай, хороший человек. Да, на рынке мясо только у Варюхи теперь бери – все будет без всяких там торговых штучек, все, как родному. Да… к другой пойдешь – меня обидишь. Ну, бывай, – Сергей обнялся коротко и пошел, почти не хромая, обнимая жену и гармонь. Камиль так и остался стоять с купюрой в руке.
– Ты все привез, дорогой? – жена встретила Камиля у дверей.
– Все, что нужно. Званый вечер – это званый вечер. Все должно быть очень вкусно. Вот сдача, только этот червончик положи мне в коробку с фотографиями.
– Зачем? Заначка, что ли, так их мужчины втайне делают, – удивилась Гуля.
– Нет, не заначка, – Камиль потрогал свою уже начавшую седеть бороду и тепло улыбнулся, – на добрую память.
2008День десантника
Этот рассказ, в общем-то, не содержит никакой особой морали, а может, и содержит, уж коль написался. Зря ведь перо к бумаге не потянется, правда? В любом случае это могло произойти только в России, только русский может понять, в чем тут соль, и только русский поймет мораль, если она здесь есть. А если и нет, то только русский поймет, почему.
Когда друзья собираются в дорогу, дорога начинается с рюмашки в баре пункта отправления – в порту, на вокзале, в общем, там, откуда везут, а не когда сам едешь за рулем. Почему так на Руси повелось, точно неизвестно, наверное, от врожденного уважения (и опаски) к необъятности русского пространства. Опаска проходит по прибытии, но уважение остается, поэтому приезд обычно отмечают не менее душевно. Ну а когда не сам едешь, а тебя везут, да еще и праздник на носу, то не пить в дороге почти подозрительно, если ты не язвенник, конечно.
Я и Юра не были ни язвенниками, ни сердечниками, а вполне и вполне здоровыми зрелыми мужчинами под сороковник, бывшими десантниками, летящими рейсом «Аэрофлота» в Иркутск и дальше – в Листвянку, на Байкал, отмечать 2 августа – святой день для всех служивших в ВДВ. Почему именно туда, сказать сложно, но одно известно наверняка – каждое 2 августа мы отмечали в новом городе. Из любопытства к новым места, конечно, хотя некоторые злые языки утверждают, что нас в те места, где мы уже праздновали, старались не пускать. Может, и так, уж что-что, а «зажигать» мы умели, почти не повторяясь, исходя из местной специфики и обстановки.
В Иркутск прилетели ранним пасмурным утром, хотя из Москвы вылетали ранним погожим вечером. Умом, конечно, все понятно про разность часовых поясов, но душа восхищалась широтой Родины. Еще душа неудомевала, как можно было с вечера до утра выпить всего по бутылке на брата. Души-то умом не обманешь.
Так или иначе, нас ждала машина с водителем-гидом-сопровождающим. Юра по моему поручению (работал у меня заместителем) организовал за счет фирмы, разумеется, эту поездку, и поэтому Хайдар, субтильный гид с бурятскими корнями на скуластом лице, обратился прямо к нему, не ведая о нашей субординации. Не то чтобы меня это покоробило, но Юра почему-то уселся на переднее сиденье, хотя это мое любимое место. Хоть по протоколу начальник и должен сидеть сзади, но в России начальство сидит там, где ему хочется. Кроме Ходорковского, разумеется. О чем это я? Ну да. В те годы все было нормально даже у Ходорковского с Березовским и вообще в стране было весело. Но Юра огорчился невероятно, когда я настоял на своем и мы поменялись местами. Поменялись – неточно сказано, оскорбленный до глубины души Юра хлопнул дверцей и направился в Листвянку (70 километров) пешком. Это было странно, потому что обычно спьяну он добреет, но я же говорю – недопили. Я категорически приказал Хайдару, не останавливаясь, обогнать новоявленного пилигрима и притормозить за пригорком, чтобы нас не было видно. Бросить товарища я, конечно, не мог, но подучить стоило. Так мы и сделали, и я уже ждал дружеского раскаяния, как вдруг Хайдар со взлетевшими вверх бровями указал рукой на дорогу. Я обернулся и обомлел. Нас обгонял рейсовый автобус, в лобовом стекле рядом с водителем белела Юрина рубашка (тельники у нас были надеты под рубахи, свой берет он оставил в машине), сам он жестикулировал понятным каждому (даже иностранцу) недвусмысленным образом. Да, десант есть десант, и лохов там не держали. Как он остановил автобус на пустом шоссе и как он убедил водителя (в автобусе было много пассажиров) не останавливаться ни на одной остановке (пустых, правда, без пассажиров), так и оставалось тайной некоторое время, пока мы были вынуждены плестись за этим автобусом до конечной остановки. После моего восхищения Юриной находчивостью и незамедлительно последовавшего примирения выяснилось, что водитель автобуса – тоже бывший десантник и по-братски обещал оторваться от слежки, то есть от нас. Как они решили с пассажирами, осталось неизвестным, но я думаю, что все ехали до конечной. Юра, конечно, намекал, что дело было по-другому (захватил, что ли, в заложники?), а я не стал настаивать. В общем, до Листвянки мы доехали уже повеселевшими – праздник явно начался.
Гостиница в Листвянке, по-моему, с одноименным названием, оказалась очень и очень приличной. Хотя мы не смогли понять это сразу, потому что, получив подтверждение, что баня для нас (Юра заказал все из Москвы) растоплена, поручили все наши вещи носильщику и, не мешкая, нырнули в банный сруб.
О, русская баня! О, русская ты баня! О, храм, дающий очищение страждущим и избавляющий от томления духа! О, источник внутренней гармонии! О, прибежище русского человека! Сколько наших классиков описывали тебя благоговейно – и Лесков, и Гиляровский, и Шукшин, и Высоцкий, и еще кто-то наверняка. Уж я-то, парильщик с огромным стажем, еще с армейской службы, толк в этом знаю. Сначала, как в добром вине, нужно вкусить аромат. В правильной бане от всего должно пахнуть березой, хвоей, сеном, немного мятой и костровым, с легким дымком теплом. Венички, которые мастера пара вяжут обязательно на Троицу, висят по стенкам предбанника, сразу настраивая на отдохновение. Рабочие веники уже томятся в парной в кадушке, сам пар – это отдельная история. У нас в Москве мастера делают до пяти разных видов пара, под разогрев – один, под пробивочку – другой, с добавлением мяты и эвкалипта для ингаляции, ну а для самого парения – свой, развешивая по стенкам парилки то гречиху, то хмель, то еще что, непременно обливая стены водой из кадушки веничной. На основное пропаривание уважительно на сенцо положат, особливый веничек – под нос, другой – под ноги, пройдутся сначала по воздуху, сбрасывая холодные капли на разгоряченную кожу, потом протянут листьями вдоль станины, убирая первый пот, затем с двух рук, а то и с четырех начнут обхаживать. В эти минуты ты уже не совсем на земле, в бане точно, а на земле этой грешной – не совсем. Знатных парильщиков и парят по-знатоцки – с легким оттягом, по просьбе беспокойные места – поясница там или голень – веником прижмут, да руками надавят – пар в кость вгоняют. Если мышца какая беспокоит, то пихтой поколят, а то и крапивой жиганут. Все вроде, терпеть уж сил нет, а ты расслабься, подумай о хорошем, дай мастеру доделать, он по твоей коже да по дыханию сам видит, когда хватит. Ну все, отпустили, и ты в зависимости от обстоятельств то ли в прорубь, то ли в снег, то ли в холодный бассейн – нырк… и петь хочется. Но нырять – это в первые разы, после основного парения тебя, сидящего уже за банными дверьми, из шаек поливают то теплой, то холодной до льда, то горячей – никогда не угадаешь. И потом уже вомнут в плечи горячую свежую простыню и отпустят с Богом пока – до мойки и массажа. Вот тут уже крылья чувствуешь за спиной, а нескольких лет уже не чувствуешь. Только после этого и первый шкалик пропустить можно, ибо не зря говорят на Руси – после бани укради, но выпей.
Первый такой стопарик в Листвянской бане пошел не то что на ура, это – ничего не сказать, полился амброзией прямо в наши умиротворенные души и привел нас в полное состояние гармонии, то есть не только с окружающим миром, но и с самими собой. Но гармония тем и отличается от мертвой симметрии, что в первой есть некоторая неправильность. Ее мы быстро распознали – в бане не было гитары. Наш доблестный банщик, как ни странно, оказавшийся грузином по имени Нугзар, позвонил, куда надо, и организовал гитару, а заодно и девочек (не подумайте чего – для публики), и мы второй шкалик выпили уже за него, в том смысле, что настоящий мастер пара в России, будь он хоть грузином, хоть ев…, нет, это, пожалуй, вряд ли, всегда и мастер жизни. Нугзар это доказал еще и тем, что, взяв вскорости доставленную гитару в руки, оказался практически профессиональным гитаристом. Банщика-гитариста даже мне, парившегося во всех банях разных городов, где мне доводилось бывать, а это – пол-России, встречать до тех пор не доводилось. Мы с Юрой, любящие дворовые песни и бренькавшие аккомпанемент на классических трех (ну у меня-то побольше) аккордах, просто заслушались его балладами и романсами. В самый разгар сольного нугзаровского концерта привезли публичных девок, то есть, я хотел сказать, девочек для публики. Ох, хороши русские девахи в провинции! Нет в их глазах московского охотничьего прищура, когда чувствуешь себя взятым в оптический прицел, нет с трудом сдерживаемого презрения к кли…к гостям, нет дурацкой столичной привычки жаловаться на жизнь и нужду престарелых родственников, оставленных на малой родине, которым нужно помогать, поэтому такая высокая цена, э… я хотел сказать, поэтому так мало времени на вечеринку. Ну а их настоящая, природная привлекательность отличается от потасканной чахлой или, наоборот, вызывающе тропической, но в любом случае надменной и нескромной красоты московских б… барышень, как свежая луговая ромашка от пыльной герани на подоконнике, закрытом наглухо стеклопакетом от отравленного воздуха Садового кольца. Вот, отобрав двух таких ромашек, я вышел с суте…со старшим группы в предбанник договориться о… э… графике участия девчонок в нашем празднике. Верите, нет, но Игорь (так его звали) тоже оказался бывшим десантником. Все вопросы были сразу сняты, и Игорь без всяких лишних уговоров был усажен за стол. Послав Нугзара готовить следующие пары, мы взяли гитару в свои руки и под весело струящуюся беленькую начали петь десантные песни и вспоминать службу.
– Пятьсот один…пятьсот два…пятьсот три…есть купол!! – то и дело воскликал один из нас. – За тех, кто в ботинках!
Девчонки, быстро освоившись, наливали нам и себе и светились уютом и удовольствием.
– А деса-а-нтники… цепью по-о небу… как рома-ашки плывут по ре-еке!
– По-о бе-е-ретам разлилась, по по-го-онам!
– Пятьсот один… пятьсот два… пятьсот три… есть купол!! За тех, кто на стропах!!
– За Родину!
– За Победу! – Тут настоящий русский всегда добавит: – За нашу Победу!
Добавили все.
– Он вчера не вернулся из боя!..
– Пятьсот один… пятьсот два… пятьсот три… есть купол!! За тех, кто в беретах!
– Про-отопи ты мне ба-аньку по-бе-е-елому!
Как на заказ, именно в этом месте пришел Нугзар и доложил о парной готовности. Взяв девчонок (Игорь почему-то не пошел), пока они не выпили уже не доступную для парилки норму, мы пошли греться. Сами-то мы, будучи уже отпаренными по-православному, сели на нижний полок – просто погреться, девочек же предупредили о необходимости пройти обязательную процедуру парения без визгов и ломаний.
– В бане ни генералов, ни полов нет, – сказал Юра, заметив, что девочки быстро переглянулись, – считайте, что это медицинская процедура, Нугзар здесь – не мужчина, а врач, так что смело можете показывать все прелести, никто пялиться не будет.
– Да, – не мог не добавить я, – а мы с Юрой – медбратья, хотя я на такую красоту с удовольствием попялюсь. Тем более она – в нашем распоряжении.
Освобожденные нами от бремени ложной скромности, девахи распахнулись, и баня продолжилась.
Про это вообще можно было бы написать повесть, но, самоограниченный рамками рассказа, пропускаю примерно полсуток, которые мы провели, не выходя из бани. Нет, вру, где-то в середине дня Игорь отвез нас с Юрой прямо в простынях на Байкал. Ну где еще можно так, а? Из парилки – почти сразу – в Байкал. Красота! Хоть нас и предупреждали, что вода в Байкале не бывает теплее 4 градусов, но что десантуре до температуры? Правда, когда я вылезал по камням на берег, голые бейцы пищали, как устрицы под лимоном, но не все ж их паром баловать. Абсолютно протрезвев после заплыва, мы начали париться по новой, с самого начала. Так вот весело и незаметно прошли день и ночь, и уже на следующее утро к нам постучались.
– Директорша гостиницы, – сообщил Нугзар с опаской, видимо, баба была строгой.
– Что ей надо? – по-барски спросил Юра, на плече которого спала одна из «ромашек».
– Время, говорит, кончилось. В смысле, надо освобождать.
– Чего, чего? – Мы с Юрой вскочили, как по тревоге.
«Ромашки» очнулись и, сладко потянувшись, распахнули на нас васильковые глазищи.
Я взял в руки полено, Юра – кочергу, и, запахнув простыни на манер тог, хмуро и сурово вышли на крыльцо, словно римские консулы – на Форум во времена гражданских волнений эпохи Гая Гракха. В глазах директорши – миловидной, кстати, женщины лет сорока – мелькнуло неподдельное уважение.
– Ребята, я все понимаю, у вас праздник, хотя он вчера закончился, но вы заказывали баню только на вчера, а сейчас другие гости уже на подъезде. У них тоже заказ. – Женщина сразу взяла предупредительный тон, единствннно верный в той ситуации.
– А они в каких войсках служили? – резонно поинтересовался Юра, поигрывая кочергой. – Если не в десанте, то хоть ОМОН вызывайте, а из бани мы не выйдем.
Директорша развела руками. Но Юра поэтому и заместитель, а не начальник, потому что не владеет искусством внезапной беседы. В гостях вообще-то с ОМОНа не начинают.
– Можно ли узнать имя такой красивой начальницы? – взялся за дело я, демонстрационно разоружившись, то есть приставив полено к перилам.
– Валентина Ивановна… Валя. – Женщина приветливо улыбнулась.
– Валюша… – Я взял директоршу под руку. – Тут ведь какое дело. Православная баня для нас святое, а она у вас – ну просто православней не бывает. Мои комплименты, так давно отдыхать не приходилось. Мы вам обязательно благодарственное письмо оставим, ну и… соответственно, вообще не останемся неблагодарны. Но полденька еще хотелось бы посидеть.
– Да я все понимаю, ребята, но если бы вы хотя бы продлили вчера, а то мы заказ уже приняли. Да и что вам именно эта баня, у вас же рыбалка на Байкале через два часа, с ночевкой на острове, а там своя баня, еще лучше. Островная, самая настоящая – лесная. Уж напаритесь от души, я вам гарантирую.
Я посмотрел на Юру – программу готовил он, – Юра кивнул в знак подтверждения. В принципе, вопрос был решен наилучшим образом, но почему-то (что мне вообще-то несвойственно) захотелось поупрямиться.
– Валь, давай так. Вот выпьешь со мной стакан водки на брудершафт, и через пять минут мы баню освобождаем. А то что там еще за остров, какой пар, еще неизвестно.
Вот за что я люблю Россию – директорша, не моргнув глазом, дала указание по рации, и буквально в мгновение ока из гостиничного ресторана на подносе принесли два, ну, если и не стакана, так полных больших фужера водки и тарелочку с нарезанными огурчиками. Мы переплели руки и выпили: я до дна, женщина – до конца. Потом, поцеловав ее взасос в спелые губы, я, придерживая рукой тогу, ибо поцелуй был весьма чувственный, выразился в том смысле, что слово десантника крепче спирта, и дал команду одеваться. Так, с почетом и при знаменах мы оставили баню и передислоцировались на время в гостиницу, конечно, не забыв о нашей восторженной публике.
Кстати, о гостинице. Очень приятно, когда далеко от Богом оставленной Москвы, но все-таки столицы мирового уровня, таких же цен и такого же качества обслуживания, все чаще и чаще встречаешь частные, по-толковому, по-хозяйски крепко и красиво, с выдумкой организованные, с природным гостеприимством поставленные рестораны, мотели, гостиницы, турбазы и тому подобное. «Совком» там уже и не пахнет, клиента ценят, если не сказать – ублажают. Ну и гости, соответственно, уважают администрацию и соседей, меньше скандалят, злобствуют, открывают бутылки о край стола и вытирают губы скатерью. Гостиница в Листвянке к тому же и расположена красиво – на пригорке, из окон открывается потрясающий вид на долину и соседнюю сопку, глаз радует озерная блестящая полоска, ну а воздух – хоть бери с собой в банках и дыши в им в Москве в часы пробок.
Моя «ромашка» успела за пару часов многое, если не сказать – все. Ну это и понятно, девчонки хоть немного успели подремать в бане, а вот меня после ласк неуклонно понесло в объятия Морфея. Но, не предусматривая никакой, даже теоретической возможности подмочить две мужские репутации сразу – десантную и столичную (а к москвичам в остальной России всегда пристрастны), я, посмотрев на часы, твердым голосом приказал одеваться.
– Ну… давай еще немножко поваляемся, – мило закапризничила прелестница, не желая вылезать из теплой (я бы сказал – горячей) постельки.
Но дисциплинированность – мое второе имя, поэтому к Хайдару, ожидавшему нас в холле, мы вышли с немецкой точностью, минута в минуту в оговоренное время… Юру же, никоим образом не могущего служить образцом самодисциплины, пришлось будить стуком в дверь, ибо полчаса звонков по внутреннему телефону оказались тщетными. Когда я увидел его с его «ромашкой» в растрепанном виде, я с удовольствием отметил для себя, что моя деваха все-таки была заметно сексуальнее.
Но не в этом дело. На катер мы поехали все вместе, включая Хайдара, а Игорь пригласил еще и свою жену. Как я понял, именно жена заправляла семейным бизнесом, а Игорь осуществлял роль водителя и охранника. Но дело, опять же, не в этом. Катер оказался солидной посудиной, с кают-компанией и большим столом на палубе. Капитан, сейчас не помню точно, как его звали, кажется, Миша, с помощником отдали швартовы, и мы вышли на открытую байкальскую воду.
Да, ребята, Байкал – это что-то! Обрамленный оправой Саянских гор, это редчайший бриллиант чистой, самой чистой воды. Во всех смыслах. Водители заливают воду прямо из озера вместо дистиллированной, да что заливают – ее разливают прямо в бутылки, без очистки. Прозрачна настолько, что взгляд проникает аж на сорок метров. Зимой даже услуга есть – подледное плавание, и говорят, рисунок башмака снизу виден через лед, а толщина льда – четыре метра… На льду же привязывают тросом запаску к джипу и на запаске катают экстремалов. Сама же зима из-за влияния огромной массы воды на климат заметно теплее, чем, скажем, в том же Иркутске. Из-за низкой температуры воды испарение с поверхности озера очень незначительное, и поэтому небо над Байкалом почти всегда чистое, без облаков, такое же глубокое и прозрачное, как и само озеро. А байкальская глубина – максимальная за полтора километра, а какая ширь – нет, такое озеро может идти к лицу только красавице России.
Рыбачить было решено у острова, а пока мы развлекались стрельбой по пластиковым бутылкам – такой сервис там тоже есть. Кстати, попасть не так уж просто – волна не только качает цель, но и прячет ее из вида. Но десант и тут не подкачал. Только врожденная скромность, о которой я могу говорить часами, не позволяет мне сейчас уточнять, кто поразил большинство целей. Потом, за столом, разлив для согреву из взятых Хайдаром на остров запасов бутылочку беленькой, мы под рассыпчатого сагудая (вид местной рыбы) стали травить свежие анекдоты, которых, как выяснилось, и Хайдар и Игорь знали предостаточно. Девушки рыдали от хохота, чайки, кружившие над нами, по-моему, тоже.
Миша принес из кают-компании пледы.
– Накиньте, девчонки. Сейчас сарма дуванет, озябнете.
Я переспросил, оказалось, сарма – название резкого ветра, дующего из ущелий. Миша, видя мой интерес, присел к нам за стол.
– Хотите, я вам про Байкал расскажу?
– Конечно, конечно. Мы – с удовольствием, – ответил я за всех и не ошибся.
Все-таки людьми славна Россия, а не только нефтью с лесом. Миша рассказывал так увлеченно, что мы слушали, как в другие времена дети слушали былины. А любовь к родным местам только и делает человека гражданином. Вот на таких, как Миша, неравнодушных, и стоит Россия. Ну и на десантниках, конечно.
Между делом мы подошли к острову, где ничто не выдавало его обитаемости, кроме небольшого деревянного причала. Августовское щедрое солнце освещало верхушки елей, приветливо кланявшихся под ветром в нашу сторону, и казалось, что кончики елей голубовато искрились. Кинув якорь метров в пятидесяти от берега, мы начали разворачивать рыбалку. Миша принес спиннинги, но ловить предполагалось не на блесну, а на «кораблик». Ну, рыбаки знают, что это такое, для остальных коротко скажу, что «кораблик» – такое устройство из дерева, поплавок, обладающий мореходными качествами, имеющий способность оставаться на месте, несмотря на течение. Пока московские гости, то есть мы с Юрой, с умным видом стояли со спиннингами в руках, то подтягивая, то отпуская наши «кораблики», за столом веселились без нас. Солнце стало клониться к Саянам, будто там в каком-нибудь ущелье у него был ночлег. Заметно похолодало, ничего не клевало, и через некоторое время рыбалить надоело, тем более потянуло в общество. Я оглянулся и увидел, что о нас почти забыли, мужики продолжали развлекать женщин анекдотами, «ромашки» по нам явно не скучали. Мы смотали лески, и тут меня взяла какая-то полуревность, полуобида за забвение.
– А что-то десант давно не плескался, – достаточно громко, чтобы обратить внимание ветреных дам, молвил я и начал раздеваться догола.
Эффект был достигнут, дамы заверещали, что, мол, вода совсем ледяная, что мы и так герои, и все в таком духе. Ну не отменять же в самом деле такое действо, и я голышом (все уже были свои) сиганул с борта. Уже купавшись накануне, я подозревал, что будет холодно, но так…Одно дело разгоряченным, после бани и водки и совсем другое – просто после водки. Однако, кляня себя в душе за показуху, я сделал пару десятков красивых размеренных гребков кролем и вернулся к борту, но уже баттерфляем. Не из пижонства, а из-за леденящего холода, который запросто мог привести к судороге. Подняв меня на борт, мне тут же поднесли стакан водки, а обе «ромашки» принялись меня кутать в свои пледы. Надо сказать, что восторг, лучащийся из их глаз, согрел меня куда больше, чем стакан, о край которого я страшным усилием воли заставил себя не клацать зубами. Под охи и ахи дам я оделся и триумфально прошел к столу, где Миша и Хайдар (помощник был в рубке) уважительно пожали мне руку и тут же снова налили, чтобы выпить за лучших представителей Москвы. Но не успели мы сдвинуть стаканы, как на время упущенный мной из вида Юра крикнул позади «Есть купол!», мы обернулись, но увидели только мелькнувшую голую задницу и брызги, взлетевшие над бортом, – Юра решил повторить мой подвиг. Уже без восторгов, а больше с досадой мы все скучковались на юте (корма). Юра явно заплыл далековато (специально, наверное, дальше меня), но не рассчитал обратной дороги. Тут все заметили, что на поверхности озера метрах в двадцати распласталась скатом какая-то солдатская шинель, Юра признался мне позже, что именно это и решило его последние сомнения, в нем сработал какой-то инстинкт – достать что-то из воды. До шинели он, правда, не доплыл и повернул обратно. И все бы ничего, да для таких подвигов нужно плавать с детства (я-то вообще, как говорят, «в воде родился»), а этого «героя» затянуло под катер.
– Цепляйся за что-нибудь! – завопил Миша (ему, если что, отвечать первым как капитану), готовя конец.
Конец, если кто глупо захихикал, это флотское название каната. Но Юра почему-то не стал хвататься ни за конец, ни за наши опущенные вдоль борта руки.
– Вылезай, блин, околеешь, – теряя терпение, крикнул Миша.
– Не…нор-р-м-м-мально…вс-се, н-не холл-л-лод-д-дно, – стуча зубами, заверил Юра из-под катера.
– Хорош, вые…ся, – на правах товарища стал урезонивать я, – погеройствовал, и будет. Кроме меня, все волнуются.
– Дайте ему туда водки, – дельно посоветовала Игорева жена, – задубеет же.
– Правильно, – сообразил Игорь, – он высунет руку, тут мы его и цапнем.
– Нет, не так надо. Тем более, человек он интеллигентный, – поправил я и крикнул: – Юр, держи стакан!
Из-под катера тут же показалась Юрина длань и, судорожно пощупав пальцами воздух, схватила наконец стакан водки и, подобно щупальцу осьминога, утащила его вниз. Я подмигнул товарищам, мол, приготовьтесь, и тут только до всех дошел смысл моих слов насчет интеллигентности. Юра был достаточно воспитан, чтобы вернуть пустой стакан обратно, и именно в этот момент мы его и схватили за руку. Вытаскивать этого кабана было нелегко, по уму, надо было вообще бросить – раз такой гордый, греб бы к берегу, но десантное братство взяло верх над моралью, и через пару секунд голая посиневшая туша перевалилась через борт на палубу. Девочки отвернулись – в отличие от моего выхода из пучины это было неэстетическое зрелище. Поэтому пледами его укутывали Миша с Хайдаром.
Сами понимаете, после таких событий вторая за эти сутки баня показалась нам на порядок лучше первой. Не буду утомлять читателя повторением банных подробностей, одно скажу, а вы попробуйте представить эту красоту наяву – окунаться после парилки мы под желтый душ из лунного света бегали голышом в лесной ручей и сидели на теплых еще камушках, никого не стесняясь (даже Игорева жена), а кругом – глухой сказочный лес, разные шорохи и запахи. Теперь нетрудно и представить, с каким прекрасным настроением мы ужинали на заимке, которая была арендована для нас, как пошли пупырчатые свежесоленые огурчики, как рассыпалась во рту сдобренная маслицем отварная картошка, как уминались омуль и селедочка, как хрустели на зубах грузди и лисички и как весело звенели друг о друга русские граненые лафетнички с тонкими ножками.
На вторую ночь мы уже могли без потери репутации выспаться, как говорится, с запасом. Но то ли девственно свежий байкальский воздух, то ли подсознательная горечь от скорого отъезда разбудили меня с первыми лучами солнца. С легким недоумением увидев рядом с собой вторую – Юрину «ромашку» вместо уже привычной, я взял гитару и пошел будить товарища песней. То ли я был с утра не в голосе, то ли еще почему, но Юра начал брыкать меня ногой из-под одеяла. И лишь когда я затянул что-то военное, его наконец-то проняло, и мы спустились к столу завтракать. Как понимает читатель, завтрак был больше жидкий. Уже позже наши хозяйственные подруги присоединились к нам и сделали вкуснейшую глазунью с лучком и помидорчиками. Постепенно продрали глаза и остальные, и оставшиеся часы до отплытия мы провели душевнейшим образом, хотя и с легкой грустинкой. Ну почему все хорошее так быстро проходит и, главное, так редко повторяется? Этот последний день, как и наше настроение, пошел по нисходящей, и даже чуть не разразившаяся из-за дам драка с местными мужиками, заселившимися в нашу гостиницу, не добавила веселья. Игорь увез к вечеру жену и «ромашек», Хайдар тоже откланялся (его срочно вызвали в агенство), обеспечив нам такси, и мы направились, тихие и мирные, в аэропорт. Праздник, по сути, кончился, и лишь таксист нас немного развеселил, спросив по пути:
– Это у вас тут десантников в Байкале на водку ловили?
Все-таки ВДВ у нас уважают.
2008Сестра и брат
Они потерялись еще в детстве на вокзале города Н-ска. Вернее сказать, потерялась она – маленькая робкая девочка с русой косой, перетянутой шикарным голубым бантом, и испуганными васильковыми глазами. Проезжающие невольно любовались маленькой русской красавицей, и никому не приходило в голову подойти и спросить, почему васильки в глазах такие мокрые. Никому, кроме пожилой женщины, торговавшей здесь же пирожками.
– Что у нас такой цветочек и в слезах? – Женщина достала из сетки платок, и девочка послушно уткнула в него курносый носик.
– Мм-а-ама потерялась, – еле сдерживаясь, чтоб не зареветь в три ручья, всхлипнула девочка.
Женщина покачала головой в вязаном платке.
– Ишь ты, мама у нее потерялась. Это ты потерялась. Как тебя зовут-то?
– И б-бра-атик. – Девочка доверчиво заглянула в глаза незнакомой тетеньке.
– И братик? Эх ты… как зовут тебя, говорю?
– Ле-е-на. – Девочка, почувствовав близкую помощь, стала всхлипывать меньше.
Женщина выпрямилась и взяла ребенка за руку.
– Пойдем, Леночка, искать твою маму и братика. А папка не потерялся?
Девочка семенила рядом с торговкой, словно преданная собачонка.
– Не, папка не потерялся. Только его все равно нету.
– Не потерялся, а нету?
– Мама говорит, что он давно в лес ушел, ну в эту… тайгу. Он… это… геолог.
Женщина вздохнула, поправила свободной рукой платок и тихо себе сказала:
– Знаем мы этих геологов. К другой сбежал, детей на мать бросил. Все они… геологи.
– А мы в этом поезде ехали, – сказала девочка, показывая на вагоны.
– Точно, в этом? А не в том? Или вон в том?
Девочка от волнения стала грызть ногти.
– Не зна-а-ю, те-тенька. – Лена снова была готова зареветь.
– А раз не знаешь, мы пойдем к милиционеру, там объявление дадут по вокзалу, найдутся твои мама с братом.
– А милиционер добрый? – на всякий случай спросила Лена.
– Да уж, – неопределенно вздохнула торговка, – добрее просто не бывает.
В отделении при вокзале мятый сержант недовольно взглянул на женщину с ребенком.
– Ты, Михеевна, все время какие-то хлопоты доставляешь. То граждане от твоих пирогов травятся, то крадут их у тебя. Теперь вот… – Сержант кивнул на девочку.
Женщина укоризненно покачала головой.
– Ты что, не православный, что ль? Окстись, видишь, ребенок потерялся. Ты – власть, должон меры принять.
Сержант покряхтел, но достал бланк и уставился на девочку.
– Так, значит. Как тебя зовут, как фамилия, сколько лет, с кем ехала и куда, как мать зовут…
– Да ты не гони так, маленькая ведь совсем. – Михеевна снова покачала головой. – Лена ее зовут. Леночка, а как мамино имя?
– Мамино? Галя… Галина… – Лена переводила взгляд с милиционера на женщину.
– Хорошее имя. Главное – редкое, – прокряхтел сержант и помассировал виски. – Дальше, значит. Фамилия какая?
– Фа-а-милия? – У девочки от ужаса распахнулись глаза – от волнения она ее забыла. – Фа-а-милия? Я не-е по-омню.
– Послушай, Коля… Николай Степаныч. Пока ты тут протоколы пишешь, у них поезд уйдет. Дай объявлению по вокзалу, что девочка Лена потерялась… Тебе, Леночка, сколько годков? Ну вот – шести лет. У мамаши все и расспросишь. – Михеевна устало присела на скамейку напротив дежурного, не выпуская девочкиной руки.
– Ты, Михеевна, не указывай здесь. Может, они как раз прибыли. И вообще шлепай по своим делам. Без тебя как-нибудь разберемся. – Как бы для весомости указания сержант водрузил фуражку, лежавшую до этого на столе.
Михеевна снова вздохнула, достала из сетки пару пирожков.
– Леночка, один с мясом, другой с капустой. Уже остыли немного, но все равно вкусные. Поешь маленько, пока мамка найдется.
– Тетенька, не уходите, пожалуйста! Мне одной страшно… – Девочка снова захлюпала носом.
– Ничего, малышка… дядя милиционер, он… добрый. Найдет твою маму Галю. А мне, вон видишь, идтить надо. Ну, не плачь, все будет нормально. – Михеевна поднялась с лавки и вышла из отделения.
Объявление по вокзалу прозвучало только минут через пятнадцать – двадцать. Разобрать, что там говорилось, было нелегко, старый динамик шипел и хрипел. Михеевна, услышав слово «потерялась», выглянула из своего ларька, как будто ожидала кого-то увидеть, к примеру, бегущую, запыхавшуюся маму Галю. Но никто никуда не бежал, разве какой-то опаздывающий пассажир с чемоданом. Объявление повторили еще раз, потом пошли сообщения о прибывающих и отходящих поездах. Под конец дня, пересчитав выручку и забрав с собой оставшийся товар, Михеевна пошла было домой – она жила одна неподалеку в старом деревянном домишке с голубыми наличниками, – но на полпути остановилась. Потоптавшись немного на одном месте, Михеевна покачала головой, прошептала что-то про себя да и направилась в отделение. Сердце ее не обмануло: на скамейке сидела зареванная Лена, сержанту Коле было не до нее – оформлял местного бомжа, в обезьяннике молодые менты кого-то били.
– Те-е-тенька, а ма-ма не при-и-шла. – Лена вскочила и уткнулась лицом в Михеевне в живот.
– Эх, ну надо же. Мамаша, тоже мне. – Михеевна гладила девочку по русой головке, стараясь не сбить бант.
Этот великолепный бант смотрелся в отделении странно и нелепо, как будто в душную прокуренную комнату с воли залетела огромная бабочка-махаон с голубыми крыльями. Михеевна посмотрела на сержанта, потом на девочку.
– Коль, а Коль!
– Ну чего тебе еще? Видишь занят. – Сержант мельком взглянул в ее сторону.
– Да я вот подумала… мамаша-то ребенка не забрала, а ночь уже на дворе. Заберу-ка я ее к себе пока. Найдется эта… мама, так заберет. А, Николай Степанович?
– Не положено, Михеевна. Оформим в детприемник.
– Ну какой приемник, Коля? Такого ангелочка – и в приемник. Она же не из детдома или колонии сбежала, а потерялась. Ей сейчас домашний уход да ласка нужны, а ты – приемник. И найти ее будет легче – все же знают, где я живу. А, Николай Степаныч?
Сержант еще раз посмотрел на девочку. Возиться с лишними документами к вечеру ему не хотелось.
– Ну ладно. Напиши заявление, как ты ее нашла, привела, ну и что, соответственно, забираешь на временное проживание, пока родственники не найдутся. Напиши также, что обязуешься отдать им ребенка по первому требованию. Ну и адрес места жительства, подпись, число, чтоб все чин по чину. Вон тебе бумага и ручка, пиши уж, сердобольная ты наша.
Михеевна вздохнула бессчетный раз уже за сегодня и, кряхтя, начала колдовать над бумагой. Когда все было закончено, сержант, морщась, прочитал написанное, заставил что-то вычеркнуть, что-то дополнить и отпустил их с миром.
Хотя стоял летний вечер, ветер дул прохладный. Пожилая женщина остановилась, сняла платок и укутала в него девчачьи плечи. Лена благодарно посмотрела на тетю Михеевну, сама она давно озябла, но пожаловаться не решалась. Через несколько минут подошли к пустому темному дому. Михеевна первым делом усадила девочку к столу, стоявшему посередине комнаты, где белым уступом выпирала русская печь. Пока Михеевна собирала нехитрую снедь, Лена сидела за столом, сложив руки, как в школе за партой, оглядываясь на всякий шорох из кухни.
– Ну вот. Как говорится, чем Бог послал. – Михеевна вынесла шкворчащую сковородку с картошкой и корзинку с неизменными пирожками. – Сейчас молока принесу. Любишь молоко?
Девочка сразу кивнула – было ясно, что она уже изголодалась. Пока Лена обжигалась картошкой, Михеевна смотрела на нее, подперев щеку полной рукой, и тихо вздыхала. Ей было понятно, что этот ребенок маму в ближайшее время не увидит, раз уж сразу не нашлась, значит, уехала. И не то чтобы бросила, наверное, сын оставался в поезде, пока мамаша металась по вокзалу, и надо было выбирать, кого оставлять на волю случая – сына или дочь. Михеевна давно торговала на вокзале и вообще давно жила на белом свете и о подобных случаях слышала чаще, чем хотелось бы. Лена умяла картошку и вопросительно посмотрела на Михеевну. Та спохватилась:
– Эх, что же я, клуша! Сейчас молочка принесу.
После всех переживаний за день да и сытной еды у девочки начали слипаться глаза. Михеевна постелила Лене на своей кровати, раздела, уложила, подоткнула пуховое одеяло, а сама присела за стол. Она жила уже давно одна. Муж погиб еще в семидесятых – попал по пьяни под поезд. Их единственная дочь Маша вышла замуж куда-то в Украину, писала редко, приезжала еще реже – раз в несколько лет. Почему так вышло, Михеевна не понимала, в дочке души не чаяла, поднимала на ноги, как могла. Ну да не зря в народе говорится – родительское сердце в детях, а детское – в камушке. К одиночеству она привыкла и на судьбу не роптала и даже сохранила беззлобие к людям. Но сейчас, когда пришлось позаботиться о беззащитном маленьком человеческом существе, на сердце засвербило. Отвыкшая сама от человеческой ласки и забывшая заботу о других, Михеевна ощутила вдруг такой прилив неизрасходаванной нежности, что тихо заплакала. Так эта ночь и прошла, и когда Лена проснулась, то увидела, что добрая тетя Михеевна спит за столом, уронив голову на пухлые руки. Стакан из-под молока, видно, задетый во сне этими руками, лежал, опрокинутый, на самом краю стола. Лена выскользнула из-под одеяла, поставила стакан и осторожно погладила спящую женщину по голове.
– Давай, Ленчик, порхай, как птенчик, пить охота, дай компота. – Алексей, известный балагур среди водил-дальнобойщиков, хотел шлепнуть официантку по попке, но та привычно увернулась.
В шоферской столовой, которую в новейшие времена гордо стали называть кафе «Колесо», нравы были соответствующие. Здесь неподалеку водители ставили свои фуры на ночную стоянку – гуртом, как известно, надежней – и отрывались по полной программе после многочасового перегона. Тут же гнездовались проститутки, специализирующиеся на дальнобойщиках, посасывали подслащенные коктейли их «мамочки», питалась во всех смыслах дорожная власть с жезлами и цепким взглядом из-под фуражек да перекусывали отдельные автотуристы.
– Ишь недотрога на дальнюю дорогу, – беззлобно засмеялся Алексей.
Сидевшая с ним компания шоферов одобрительно загудела – к Лене здесь относились по-доброму, особо не приставали, хотя слава о ее красоте докатилась на их колесах далеко за пределы области. Все знали ее историю – она искала брата, который вроде бы крутил баранку, как и они, только где, в какой губернии необъятной России, было одному Господу Богу ведомо. Она и официанткой-то пошла в такое место, чтобы не пропустить, если кто чего узнает или услышит. Но весточек не было, шоферюги, разводя грубые руки, вздыхали и пожимали плечами, ничего нового, мол. Да и, по правде сказать, сложно было надеяться – кроме имени Валера она и сама ничего не знала. Свою настоящую фамилию Лена так и не вспомнила – тогда на вокзале от стресса отказала память. Ее названная бабушка Полина Михеевна справки, конечно, наводила, как могла, но только лет через десять удалось узнать, что какая-то женщина, потерявшая ребенка на вокзале, приезжала в их город, искала, да не нашла. Состав вокзального отделения милиции сменился уже несколько раз, расписка Михеевны затерялась, а люди, к которым эта женщина обращалась, про историю с Леной не вспомнили. Она, конечно, оставила адрес, но письмо, которое Михеевна вместе с Леной туда написали, вернулось за отсутствием адресата. Единственной ниточкой было то, что Лена помнила о мечте своего братика – когда вырастет, стать шофером грузовика, такого, который надо по разным городам водить. Глупо, конечно, но, кроме детской мечты брата, других зацепок не было. И когда Полина Михеевна преставилась, отписав свой домишко не родной дочери, а не родной, но любимой внучке, Лена решила устроиться на работу, чтоб поближе к этой зацепочке. Вот уже третий год она таскала подносы, знала всех водил в лицо и по именам, но… слишком уж у нас большая страна, чтобы люди в ней находились так же легко, как терялись.
Алексей вышел из-за стола, подошел к девушке, ожидавшей на раздаче заказ.
– Лен, это… поговорить надо бы.
– Говори, кто мешает?
Алексей переминулся с ноги на ногу.
– Да нет… не здесь. Серьезный разговор.
Лена бросила взгляд.
– Ну если серьезный, ты знаешь, моя смена в двенадцать заканчивается. Тогда и поговорим, а сейчас… посторонись-ка. – Лена взяла поднос и поплыла в накуренный зал.
Попрощавшись с поварами и второй официанткой, Лена вышла за дверь. Там на ступеньках, набросив пиджак на плечи, сидел Алексей и затягивался папироской. Судя по груде окурков неподалеку, ждал порядком.
– Ну? О чем гразговор-то? Только давай быстрей, устала я.
Алексей встал, просунул руки в рукава, одернул пиджак.
– Лен, тут вот какое дело. Я… ну, в общем, ты меня знаешь. Я и заколачиваю неплохо, и не пью почти. Ребята меня уважают, у кого хочешь спроси…
– Да знаю, знаю. Не тяни.
– Да не тяну я. Не сбивай… пожалуйста.
Лена опустила сумку с продуктами – традиционная ресторанная надбавка работникам общепита к домашнему столу – и внимательно посмотрела на парня.
– Слушаю, Леша.
– Ну вот. Холостой я, и ты хол… неженатая, тьфу, незамужняя… – Алексей достал новую папиросу, закурил. – В общем… ну… выходи за меня.
Лена, хотя и ожидала нечто подобное, удивленно засмеялась.
– Женихаться решил? А вдруг у меня уже жених есть?
Алексей посмотрел сердито.
– Да брось ты, Лен. Все знают… я не то хотел сказать… ну, в общем… был бы жених, я бы знал, наверное. То есть ты, конечно, баба видная, может, и есть, только мне без разницы. Люба ты мне, Лен. Давно люба. За мной как за каменной стеной будешь, в обиду не дам и вообще. Выходи, а Лен?
Лена снова рассмялась, но мягче.
– Хороший ты парень, Леш. Но… ладно, подумаю.
Не дав Алексею подсобить с сумкой – чтоб не провожал, потом не отвяжешься, – Лена пошла домой.
Все шло своим чередом. Алексей, заходя в кафе, уже не балагурил по Лениному адресу и рукам, конечно, воли не давал. Лена его из посетителей не выделяла, улыбалась ровно, как и всем, только чаевых с него не брала ни копейки. Известий насчет брата тоже не было никаких. Лена написала письмо в передачу «Ищу тебя», но и там было глухо. Но все чаще стали приходить мысли о свадьбе. Лена представляла Алексея своим мужем, как они вместе рука об руку идут по городу, как он, усталый, приходит домой, она накрывает ему стол и смотрит, как он уплетает ее готовку, как между делом рассказывает, куда ездил, что возил, каких людей встречал. На самом деле у нее жених был – не жених даже, а хахаль, – молодой шебутной парень из деревни, приезжавший к ней раз или два в месяц. Ей хватало, ну а у него, видно, семь невест по околотку, чаще не наведывался. Где она работает, не интересовался, вернее, не уточнял, поэтому в «Колесе» ни разу не бывал. Ну а насчет женитьбы и вовсе не заикался. Сравнить с Алексеем и невозможно, хоть и шире в плечах, и помогутнее, а все ж Алексей виднее. И веселый, и смелый, и сильный, хоть и поджарый. И глаза у Алексея с удоволинкой, когда он на нее смотрит. Лена чаще стала крутиться у зеркала, даже не крутиться, а всматриваться. Самый сок бабочка – двадцать пятый год, свежа, как малина. И сладкая такая же. Чистая русская красавица, которые на зависть всему миру только у нас водятся. Уже больше украшений надевала, смену не в тапочках, а на каблучках отхаживала, хоть ноги и нудели потом. Алексея прилюдно все ж не выделяла. Мужики уже – доносилось до нее – и гадать начали: для кого, мол, девчушка старается? Алексей, хоть и догадывался, что для него, тоже с места в карьер не брал – ждал, пока на первое предложение ответит. Гордый парень, про себя хвалила Лена.
В тот день вроде было все, как обычно. Мужики ели, пили, разговаривали о своем, безбожно смоля. Дорожные путаны, которых все пользовали не единожды и знали как облупленных, лениво строили им глазки со своего столика. Но внезапно что-то изменилось, стало тише, что ли. В кафе зашел рослый красивый русоволосый парень. По замасленным рукам было видно, что из шоферов. Весело оглядев всех, подсел прямо к девочкам. Местные водилы притушили разговор и внимательно смотрели на неизвестного. Парень между тем заказал бутылку шампанского – на всех и прибавил что-то веселое, путаны громко захихикали. Лена принесла заказ, расставила фужеры. Парень внимательно посмотрел на нее.
– Тебя, красавица, как зовут?
– Лена, а что? Таблички на груди не видишь?
– На такой роскошной груди крупнее писать надо, – не полез за словом чужак, – меня вот зовут…
– Это по-х…ю, – как тебя зовут. – В дверях стоял неизвестно откуда взявшийся Алексей. – Быстро встал и съехал отсюда. За бутылку я расплачусь.
Драка была душевной. Мужики не дали начать в кафе – не принято было, – но на улице окружили их кольцом.
– Ну-ка, Леха, просвети залетного, что к чему, – сказал кто-то под общее одобрение.
Схлестнулись одновременно, одновременно упали. Каждый дрался красиво, без ярости, ногами не пинал, давал другому встать. Чья взяла, осталось неясно – Лена решительно встала между дерущимися и, пропустив крепкое, привычное всем словцо, бой остановила. Не хватало еще разговоров, думала она, что из-за меня дерутся уже, хотя, конечно, приятно было, не без этого. А какой женщине не было бы приятно. Чужой парень вытер кровь с лица, сбил с брюк пыль и вытащил из кармана купюру.
– Держи, красавица Лена. Вкусное у вас тут шампанское, ничего не скажешь.
Алексей было дернулся, но Лена остановила взглядом. Взяв деньги, улыбнулась.
– Раз заказ оплачен, идите, выпейте мировую. Если не за рулем, конечно.
– Ладно, – примирительно сказал чужак. – Я все равно здесь заночевать собрался. Если что не так, извиняйте. – Он подал Алексею руку. – Хорошо махаешься. Меня Валера зовут.
Лена, уже было вернувшаяся в кафе, остановилась.
– Как тебя зовут, ты сказал?
– До таблички не дорос еще, но по документам и в миру Валерой кличут.
Алексей пожал протянутую руку и посмотрел на Лену со значением.
– Я чего к бабам-то подсел, – продолжал Валера, – бабы-то они все знают, так уж устроены. У меня когда-то давно в этом городе сестренка потерялась…
На Ленин крик мужики снова высыпали на улицу, по хмурым лицам было ясно, что они готовы растерзать чужака, если он их любимицу хоть пальцем тронул. Но, к их изумлению, картина была противоположной – Лена висела на шее незнакомца и сквозь слезы лихорадочно целовала в голову, щеки и даже в глаза. Рядом, открыв рот, стоял Алексей.
– Брат нашелся, – наконец пояснил обалдевшим мужикам.
Всю ночь сестра и брат просидели в той самой комнате, где когда-то Полина Михеевна кормила потерявшуюся девочку. Что тогда, много лет назад произошло, почему так вышло, они никому никогда не рассказывали. Единственное, что узнали обыватели Н-ска, так это, что брат с сестрой давно уже сироты – мать померла, отец так никогда и не нашелся. Может, и вправду в тайге сгинул, может, среди людей затерялся, что побезнадежней, чем в лесу, будет. Не знаю.
Свадьбу справляли, естественно, здесь же, в «Колесе». Народу было много, все сразу и не поместились. Многие шофера даже крюк сделали, чтобы у Леши на свадьбе погулять. Валера сидел рядом с сестрой, всем видом показывая, что больше не расстанется с ней ни на час, если только под присмотром своего деверя. Лена была сказочно обворожительна, тугая русая коса лилась из-под фаты, и впрям, как в сказках описывают. А в косу был вплетен огромный бант, похожий на бабочку-махаона, только с голубыми крыльями.
2008Ай лав ю, Мышкин!
Да, ребята, рыбалка в России больше, чем рыбалка. А рыбалка на Волге – это… это… В общем, было так.
Сразу договорившись с Олегом, мол, несмотря ни на что, возьмем лодку и хотя бы полдня из трех порыбачим, мы заказали гостиницу «Мышкино подворье» – на другой стороне Волги, от самого Мышкина.
– Баню заказал? – спросил я сразу. – Олег в тех краях уже бывал и взял организацию на себя.
– Але? Это баня? Не, это Болодя, – санекдотил Олег под рюмашку.
Мы с Олегом – парни веселые, зажигать умеем, но баня – дело серьезное, и я проявил настойчивость.
– Да заказал, заказал. Только веники, шапки там, рукавицы с собой брать надо.
– Возьмем. Банщик?
– Тоже с собой. В твоем лице.
Я действительно люблю не только париться, но и парить.
– Тоже возьмем. В моем лице. А экскурсия?
Я был давно наслышан о Мышкине – о единственном в мире музее Мыши, музее валенок (тоже, кажется, единственном) и особливо о музее водки.
– Заказано. Так получается – в пятницу приезжаем, в субботу рыбачим, в воскресенье экскурсия.
– А болодя?
– Болодя тоже в воскресенье, ну а в понедельник тронемся обратно.
– Ага, – сказал я и тоже хлопнул рюмашку.
Тем самым план был утвержден, и мы заговорили о деталях – кто и сколько берет шашлыка, водки, и о прочих приятностях, бабах, например. Олег ехал с женой – Светкой, а она ехала с подругой – Таней. Получалось конгруэнтно, то есть симметрично, оставалось симметрию привести в гармонию. Ну это-то мы умеем.
Оставшаяся пара недель до поездки у нас прошла в суете, поэтому время пролетело незаметно. Не помню уж, почему, но выехали мы не утром, как планировалось, а в середине дня, даже, можно сказать, под вечер и тут же оказались запертыми в пробке на Ярославке.
– Говорил же я – надо выезжать пораньше, – начал бесполезно сетовать Олег, он вообще за рулем нервный.
Мы с Таней сидели на заднем сиденье, Светка штурманила. Схемы проезда Олег скачал из Интернета и вручил с картой Ярославской области супруге.
– Может, водочки? – спросил я Свету, принимавшую на себя раздражение мужа.
Олег покачал головой – капитан борта, естественно, пить не мог и штурману тоже заказал. Мы с Таней понимающе разлили беленькую по пластиковым стаканчикам на двоих.
– За капитана нашего дорожного судна, без которого мы никогда бы не выехали! За Олежика! – В чем в чем, а в политике я силен.
Олег только крякнул, Светка вздохнула. Вы заметили, уважаемый читатель, что в присутствии тех, кому употреблять нельзя, пьется гораздо вкуснее? Вот и мы с Танькой, вмяв стаканчики, получили дополнительное послевкусие от злорадства.
– За штурмана нашего дорожного судна, без которого мы никогда не приехали бы! За Светика! – я продолжал настраивать гармонию.
Таня недоуменно на меня посмотрела, для нее это был непривычный темп, но рыбалка есть рыбалка, и кочевряжиться неуместно. Мы снова выпили, и Танино недоумение начало понемногу проходить. Машины впереди нас чуть-чуть продвинулись вперед.
– Такими темпами мы к полуночи приедем, – прокомментировал Олег, выруливая в соседний ряд.
– Да, а в машине только одна бутылка. – Я, как всегда, подчеркнул наиболее существенное.
– Кто о чем, а вшивый о бане, – наконец смогла отомстить Светлана.
– Кстати, о бане. Там что, такой сервис, что веники с собой тащить надо? А кочергу, к примеру, не надо? – Я пропустил слабый Светкин выпад мимо ушей.
– Обещали растопить к шести часам в воскресенье, значит, кочерга там есть, по логике.
– Какая логика может быть в России? – удивился я, наполняя стаканчики, и, как показали дальнейшие события, оказался прав. – Ну, за пассажира нашего дорожного судна, без которого, то есть без которой, вообще ехать не было бы смысла! За Танюху!
На этот раз прошло веселей, глаза пассажирки замерцали. Светка по мужниному недогляду обернулась со стеклянной рюмкой в руке (рюмки в машине – это куртуазно).
– А за боцмана нашего дорожного судна, с которым трезвым еще никто никуда не приезжал?
Боцман – это я. С раннего детства я очень любил боцманов, хотя батя у меня был капитаном дальнего плавания. Но у боцманов – и такелаж (канаты, тросы, вкусно пахнущие смолой и пенькой), и монеты разных неведомых дальних стран, и тельняшки, а у капитана только бинокль и канты на рукаве. Для мальчишки, конечно, несравнимые ценности. С тех пор, когда нужно оценить человека одним словом, я говорю – реально боцман или не боцман. Так и ко мне приклеилось.
– Согласен! – Я не стал, естественно, упрямиться и быстро налил Светке, потом нам с Танюхой.
Олег снова крякнул, но уже легче – пробка начала рассасываться. Еще через пару рюмок мы были уже в Сергиевом Посаде.
– Каяться будем? – спросил я, потянувшись к бутылке.
– Бесполезно, – ответил за всех Олег, – столько грехов, что не успеем. И вообще будем гнать без остановок. И без тостов, если можно.
– Можно. – Я не стал настаивать и выпил молча.
В установившейся таким образом тишине мы «сделали» еще километров шестьдесят. Музыки никто не включал, слышны были только шелест колес да урчание ситроеновского движка. Стемнело. Даже как-то очень стемнело – на небо посыпались звезды, и светить им никто не мешал, – вокруг за версту не было ни построек, ни фонарей. Шоссе разворачивалось полосатой лентой, на «торпеде» уютно светились зеленые огоньки, спидометр показывал сто с хвостиком. Олег чуть притормозил.
– Свет, посмотри, что за деревня?
– Иу… помедленней езжай… Иуди… Иудино!
– Как? – хором спросили все.
– Иудино, точно говорю.
Чего только не встретишь на Родине. Интересно, как называются жители села Иудино? Не иудеи же, тем более не иуды.
– Иудки и иудияне, – предположила Татьяна.
– Не, иудцы, наверное, – подхватил Олег.
– А женщины тогда как? – резонно поинтересовалась Света.
– Не знаю… тут без бутылки не разберешься, – сказал Олег и спохватился было, но поздно – я уже разливал.
– За славных жителей села Иудино, за мисс и мистер Иудино и отдельно – за председателя Иудинского исполкома! Кстати, а как называются жители Мышкина?
– Это-то я как раз знаю. – Олег вовсе не обращал внимания на наши пластмассовые чоканья на заднем сиденье. – Мышкари и мышкарки.
– Ну и за мышкарок тоже!
– Я чего спрашивал – на карте Иудино есть? – Это Олег Светке.
– Нету здесь Иудино, мне бы в глаза такое сразу бы бросилось.
– А что есть? Следующий населенный пункт какой?
– Углич. Перед базарной площадью – направо, потом Калязин, перед ним тоже направо, потом Т-образный перекресток, там налево и рукой подать.
– Куда какой рукой и что значит потом? Ты мне в километрах говори, там же написано! – опять занервничал Олег.
Светка обиженно засопела, но выдала требуемую информацию. По всему выходило, что большую часть пути мы уже проехали. Что примечательно – в бутылке оставалось больше половины, так что, упрекая меня в бражничестве, Света возводила напраслину. Но штурман Светка отменный – версту в версту показалась надпись «Углич – 5 км».
– Ну что, выйдем, в тычку поиграем? – предложил я.
– В какую еще тычку, – почти хором возмутились девчонки, – нам на горшок надо.
– В тычку играл царевич Дмитрий в Угличе, где проживал под надзором Бориса Годунова, – не обращая внимания на выкрики с мест, продолжал я исторический экскурс.
– Да… сын и наследник Ивана Грозного. Не с теми вот только играл, доигрался, – подхватил не менее начитанный Олег.
– В тычку – это как? – заинтересовались девушки.
– В ножичек, – прокомментировал я, чувствуя, что идея с горшком меня тоже интересует, – этим ножечком и зарезался… по официальной версии.
– Ну что ж, теперь не писать, что ли? – без видимой взаимосвязи молвила Татьяна.
Светка согласно закивала головой, да и я, не куривший уже (у Олега в машине не курят, да и все были некурящие. Хорошо, что хоть пьющие) несколько часов, выразился в том смысле, что к народу надо прислушиваться во избежание бунтов и разных там тычек. Оправиться удалось только у того самого Т-образного перекрестка в полнейшей темноте, но на дурманяще свежем воздухе. Я даже закурил больше по привычке, чтобы лекгие не испытывали никотиновой декомпрессии. Дальше мы подали рукой и недалече после Белозерова въехали наконец-то на «Мышкино подворье».
Я сознательно пропускаю первый вечер в местном ресторане, где все было здорово – от коктейлей «СУ-27» до водки «Родимая», которыми Олег снимал стресс после дороги и в чем я ему солидарно помогал. За соседним столом сидела ростовая кукла – Емеля с румяным лицом и в лаптях и сурово, как непьющие смотрят на вольно выпивающих, смотрел на нашу компанию. Так или иначе, на нас это не действовало, но закрылся даже бар, и мы, смыв с души Иудино, отправились в объятия Морфея.
Воздух там такой, ребята, что выйдешь на крыльцо утром – и как в речку прыгнул. Вдоволь потянувшись и надышавшись, я стал будить остальных.
– Рыбалка есть рыбалка, хорош дрыхнуть! – Я постучался в соседнее окно.
Оказалось, все уже ушли на завтрак, о чем гласила записка на двери, которую я поначалу не заметил. Перед рыбалкой никогда не мешает подкрепиться, и через минуту я присоединился к честной компании, включая хмурого Емелю, сидевшего за соседним столом.
– Вот такой вопрос, – зашел в лоб Олег, поднимая рюмаху, – мы когда будем рыбачить? До шашлыка или после?
– Вообще не вопрос. – Четыре рюмки сошлись в сладком перезвоне. – Девочкам зажигаем мангал и в путину. Они пока жарят, хотя, конечно, мясо – дело мужское, но ввиду, так сказать, линии партии мы добываем рыбу, которую тоже жарим после мяса на не остывших углях страсти.
– Эко завернул, – уважительно сказала Татьяна, подливая мне следующую порцию.
Не выпив и полштофа, дисциплина – моё второе имя, мы отправились на берег, в мангальную зону. На лодочной станции никого не было, но после звонка в администрацию с мобильника Олега к нам подошел молодой человек блондинистого цвета. Оказалось, его тоже звали Дима.
– Это судьба, – осмыслил я происходящее и попросил лодку и снасти в десятиминутной готовности, а заодно топор и газету.
Дима с сомнением посмотрел на наш стол, уставленный батареей «Родимой», но пообещал все наладить. Топор, правда, оказался с «плавающим» лезвием, то есть соскальзывал с топорища, газета – прошлогодним таблоидом, но мастерство не пропьешь, и я взялся за дело. Настрогав лучин (дрова принесли к мангалу без щепы и бумаги – разжигай, как хочешь, на ветру) – я никогда не опускаюсь до бензина или всяких воспламеняющихся жидкостей для разжига – и выложив дровишки колодцем вперемешку со страницами, откуда на меня прощально глядели какие-то полуобнаженные эстрадные шлю… в смысле – звезды, я попросил всех наполнить бокалы.
– Самое сладкое в жизни – проводить ее в компании интересных и близких тебе людей! Этот огонь да слижет своим красным языком все неприятности прошлого! – с этим полуязыческим тостом я поджег дровишки с одной спички – как учили в разведке.
– За нас и за спецназ!
– За Волгу!
– Чтобы все!
Перезвона не получилось – стаканчики были пласмассовые, но удоволинка прошла. Не откладывая дела в долгий ящик, мы с Олегом взяли снасти, бутылку и отправились к указанной лодке. Не успели мы пройти и двадцати шагов, как нам навстречу вышли двое мужиков с удочками. Кроме снастей, в руках у них ничего не было.
– Что, не клюет? – хором спросили мы с Олегом.
– Какое там, – махнул рукой один, – зябко, качает, ни одна сука не клюет… С утра вон рыбалим, ни х…я. Окоченели аж, вы, мужики, особо время не теряйте, лучше вон… – Рыбак кивнул на водку. – Делом займитесь.
Угостив мужиков из горла, мы последовали их совету и повернули назад. Девчонки встретили нас дружным смехом.
– Сильно нарыбачили!
– Я так и знала, – покачала головой Светка, – у них любая рыбалка кончается на первой бутылке.
– Не надо грязи. – Олег поднял руку с бутылкой. – Мы за пару глотков купили стратегическую информацию – рыба сейчас спит. И вообще вы что, нам не рады?
– Рады, рады, – заверили девушки, – тем более мангал затухает.
– Так за ним следить надо, – вразумил я дилетанток, подняв с земли какой-то металлический прут, служивший здесь кочергой.
Огонь весело вспыхнул, мы весело выпили, и я решил заменить рыбалку купанием. Быстро раздевшись догола, я с разбегу влетел в Волгу. Ох, это было бодряще, скажу я вам. Хмель ушел куда-то внутрь, его место заняла энергия лучшей реки в мире. И почему я родился на брегах Невы, а не Волги? Впрочем, где родился, там и сгодился, но не зря в народе Волгу называют «нашей красавицей», а Неву никак не называют. Она, конечно, тоже красавица, но надменная, со свинцовым взглядом в синих зрачках, а Волга… Волга… красивая гостеприимная хозяйка с теплыми светлыми глазами. Обретя состояние полного равновесия, я, ако Апполлон, вышел из пучины. Девчонки тут же налили мне с холода стаканчик и начали вытирать невесть откуда взявшимся полотенцем. Поскольку я закрывался одной рукой, а второй держал стакан, то, естественно, когда кто-то из барышень перестарался и толкнул меня на мангал, среагировал поздно – в десяти сантиметрах от «нижнего друга» зашипело мясо, уже мое, и пошел дым с запахом паленой кожи.
– Вы что, девки, еба…сь совсем? – заорал я неблагим матом.
Одна бутылка водки ушла на наружную медицину, вторая – на примирение. Прожаренный и рассыпчатый шашлык окончательно вернул хорошее настроение, и мы стали строить планы на вечер.
– Предлагаю «СУ-27» сегодня не пить, – массируя виски, сказала Татьяна.
– Предлагаю вообще не пить, – пустила было крамолу Светка, но, глядя на наши с Олегом покрасневшие от возмущения физиономии, сразу уточнила: – В смысле, я винцо больше, не водку.
Слово свое она, кстати, сдержала, но частично – пила в ресторане не водку, а коньяк. Танька же менять галс не стала, и «Родимая» удержалась на верхней позиции нашего рейтинга. В середине застолья я вышел покурить – ресторан был объявлен некурящей зоной – и, как это часто у нас водится, сразу познакомился с курящими на крыльце мужиками из недавно заехавшей тургруппы.
– Дима.
– Володя.
– Алексей.
– Иван Иванович, – назвался почему-то с отчеством самый молодой из курящих, самый худощавый, с жестким взглядом из-под легких очков мужчина.
Скоро мы сидели уже за одним столом и рядились за Родину.
– Я, если будет гражданская война, первым автомат возьму. Рука не дрогнет петли таким, как ты, намыливать, – комиссарил Иван Иванович, целясь глазами Олегу прямо в зрачки. – Вы, интеллигенция, всю страну просрали.
– Ты же инженер-технолог, – возразил Олег, – значит, тоже интеллигенция. Технологическая… техническая, то есть.
– Я народ! – ударил себя в грудь Иван Иванович.
– Отец орет, что он народ, мол, кто не ест, тот и не пьет, и выпил, кстати… все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез – кто не работает, не ест, ты спутал, батя. Как про тебя написано, – влез я с поправкой, то есть цитатой.
– Высоцкого любишь… уважаю… – Иван Иванович налил всем по рюмке, наши девочки отказались, его друзья – частично. – Почему я тебе верю, а ему… – он кивнул на Олега, – нет?
– Потому что у меня, если что, тоже рука не дрогнет, но тебе петлю мылить не буду. Ты стоишь расстрела.
Иван Иваныч посмотрел на меня внимательно и о чем-то задумался.
– Пойдем выйдем, – наконец-то услышал я «классическое» приглашение на драку.
– Пошли.
Мы вышли на крыльцо и для начала закурили.
– Прочитай что-нибудь, – сказал Иван Иванович.
– Легко. – Я не стал ломаться и прочитал ему подходящее к минуте стихотворение с лирическим названием «Берия».
Пока я читал, на крыльцо вышел весь наш общий стол: девчонки – разнимать, мужики – разминаться.
– Не, все-таки я ему не верю, – вспомнил про Олега Иван Иванович.
Олег хотел что-то сказать, но все сделала Татьяна.
– Рано тебе еще понимать, Иван, блин, Иванович. Какой-то ты еще… маленький, – с презрительным спокойствием сказала Танюха и выпустила дымок в оппонента.
Не найдя, что ответить, Иваныч отошел в темноту. Скоро до нас донеслись характерные звуки, несостоявшийся комиссар от души блевал. Мы разошлись по своим столам и Ивана Ивановича больше в тот вечер да и вообще больше не видели. Да, есть еще женщины в русских селеньях… Я вообще с удовольствием замечаю, что женщины, добывающие себе сами кусок хлеба и не передком, а умом, стали разбираться в жизни лучше многих мужиков (к сожалению), даже не лучше, а правильнее. Пользоваться уважением таких женщин приятно, ничего не скажешь, но сейчас не об этом.
На следующий день, достигнув необходимой для встречи с неведомым высоты духа (или глубину) после пары рюмашек уже ставшей родимой «Родимой» с классической глазуньей и блинчиками, мы всей компанией погрузились в заказанное такси и поехали в Мышкин.
Паром подходил к нашему берегу неспешно и тяжело, как старый конь-водовоз к заслуженному овсу. Люди и автомобили быстро вытекли с палубы, и мы зашли на паром первыми. В Мышкин ехало немного народа, и через пару сигарет между нашим бортом, где мы стояли веселой кучкой, и берегом пролегла водная полоса недолгого расставания. Волга в этом месте не самая широкая (в Самаре или Волгограде куда шире), но и этого хватило, чтобы задышать Родиной. Сколько же народа за русскую историю пило глазами эту спокойную ширь! Сколько же событий видели эти берега! Ну а сколько здесь потопло, и говорить не приходится.
– Ребята, пикчерните меня на фоне реки! – сказала Татьяна.
Мы с Олегом, как по команде, уставились на нашу спутницу и молча посмотрели ей за зрачки.
– Вы чего, ребят? – немного растерялась Таня, чуя недоброе.
– Как ты сказала? – придав голосу глухости, вопросил я.
– Я имела в виду… ну… сфотографируйте, чтобы Волга была… на фоне… а что, на пароме нельзя фотографироваться? – вконец растерялась Татьяна.
– Что ты имела в виду, понятно, но как ты сказала? Пикчерните? – тоном энкавэдистского следователя переспросил Олег.
– Ну да… а что?
Мы с Олегом давние и ревностные ревнители русского языка и русских традиций и от своих друзей (а от подруг тем более) ждем того же.
– Тань! Вот ты в сердце Родины, на Волге-матушке… не Волга-мазере и не Волга-муттере (что, слава Богу, не вышло), а МАТУШКЕ! И в присутствии двух русских поэтов плюешься иноземными словами прямо в такую красоту! Ты не православная, что ли? – Чтобы придать замечанию большую весомость, я даже отшагнул от подвергнутой обструкции. – Это все равно, как если я скажу: ай лав ю, Мышкин!
– Ой, ну простите. С иностранцами работаю, прилипло уже, – облегчающе улыбнулась Танюха, видно, ожидала чего-то более серьезного.
– Лучше бы ты материлась. – Я не стал раздувать и щелкнул Танюху с друзьями, так, чтобы Волги в кадре было побольше.
Паром тем временем стал разворачивать корму для швартовки на другом берегу.
– Словно к Родине подтягивают, – заметил Олег.
Я показал большой палец. Ведь действительно, точнее не скажешь, я чувствовал то же самое. Еще пара минут, и мы вышли в Мышкине. В нескольких метрах от пристани стояла стройная красивая девушка и выискивала кого-то глазами.
– Нам что, повезло с экскурсоводом? – не поверил я.
Среди многочисленных экскурсоводов в разных городах России и мира мне, в основном, попадались либо усохшие и злые полустарухи, либо туповатые и малообразованные студентки, либо мрачные и непьющие мужланы – не боцмана.
Кроме Питера, когда я с помощью профессонала показывал город одному своему австрийскому другу, Суздаля, Иерусалима и Венеции.
– Похоже, – ответил Олег, которого Света тут же взяла под руку.
Девушка (вернее сказать, молодая женщина) ждала именно нас.
– Меня зовут Светлана, я ваш экскурсовод. – Голос у нее был профессионально поставлен, но природной звонкости от этого не потерял.
– Во, одной Светкой больше. – Я начал с ходу настраивать гармонию. – Первый вопрос: как точно называются жители достославного города Мышкин?
– Мышкари, – подтвердила Светлана (чтобы не путать читателя, экскурсовода далее я буду называть Светланой, а Олегову жену – Светкой. Если проскользнет Светик, Света или Светусик, догадайтесь по контексту) слова Олега, – тут вообще все связано с мышью. Музей Мыши, ресторан «Мышеловка», единственное место в России, наверное, где сыр дают бесплатно, клумба в виде мыши и еще многое, словом, увидите сами. С чего начнем? Я предлагаю зайти в музей валенок.
– А Музей мыши?
– А Музей водки?
– Музей мыши закрыт сейчас, к сожалению. Реконструкция, – пожала плечами Светлана, – Музей водки тоже. Деньги у мэрии все заканчиваются не вовремя.
– Интересно, а когда они заканчивались вовремя? – несколько разочарованно пробубнил я, но хорошего настроения не утратил.
Все-таки какая прелесть – наши волжские городки. Сами небольшие, невеликие, они гораздо больше, чем крупные, сохранили в себе православный настрой, и не из-за изобилия куполов, а из-за какой-то тихой незлобивости, покоя и отсутствия суеты, превращающей жителя большого города в шестеренку лязгающей на ухабах жизненной машины. Да и каждый знает друг друга чуть не в лицо – отсюда и уважение и вежливость. И жизнь там, несмотря на завихрения, какие везде есть, течет спокойно и привольно – как сама Волга. Не Москва, слава Богу. Мы начали подниматься в гору по главной улице, как мое внимание привлек очкастый юноша в древнерусском шлеме, с бармицей и мечом в руке.
– Ты кто, витязь? – Я остановился как вкопанный.
– Дима, – сказал парень, подбоченясь.
– Опаздываем, Димочка. – Это женщины мне.
– Дима, это судьба. – Это я юноше и женщинам. – Дай-ка.
Водрузив на себя шлем, между прочим, солидного веса, и взяв в руку меч, я рубанул воздух. Олег отшатнулся, девушки полезли за фотоаппаратами. Я расспросил тезку – оказывается, ребята там организованы в исторический клуб, ездят на Куликово поле, реконструируют Мамаево побоище. Не мельчает-таки Русь в молодом поколении, так что все будет не кока-кола, а все будет хорошо, пока память народная не избывает.
– А вы в музей зайдите – вот прямо за вами вход, – показал Дима.
Я отдал доспехи юному Ослябе и затянул всех в народный этнографический музей. Светлана хоть и посмотрела на часы, но отговаривать не стала – странно экскурсоводу одергивать туристов, которые сами себе музеи находят.
Осмотрев предметы старинного народного быта, мы заглянули в соседнюю комнату. Там сидел молодой парень и лепил что-то из глины.
– Не хотите купить? – Парень поднял на нас глаза, но руки продолжали мять глиняный кусочек. – Прямо при вас окарину сделаю.
Теперь-то я знаю, что окарина – это название глиняной свистульки, но тогда не только переспросил, но и записал слово в свою походную книжечку. Свистодел перестал мять, осмотрел глину, принявшую форму уточки, и ловко сделал несколько отверстий.
– И все? – удивился я.
Вместо ответа умелец поднес уточку к губам и задул. На глубоком спокойном звуке полилась мелодия.
– Это же «Генералы песчаных карьеров», – узнал Олег.
Свистодел кивнул, продолжая играть.
– А Есенина могешь? – спросил я, когда он кончил. – «Отговорила роща…» там или «Ты жива еще, моя старушка…»?
– Да, или «Москву»… или «Я московский озорной гуляка», – присоединился Олег.
Парень помотал головой.
– Вообще-то наши крестьяне испокон играли, чтобы у коров удой повышался. Спокойная мелодия на них хорошо действует.
– Да? – удивились наши девушки. – Коровы музыку чувствуют?
– Это только москвичи ничего не чувствуют, – ответил я за умельца, который, наверное, только из вежливости со мной не согласился, – даже беспастушная скотина гармонию любит.
Покупать окарину мы не стали, но денежку в ящик с надписью «На развитие музея» на выходе потихоньку бросили.
Перед какой-то амбарной дверью Светлана сделала нам знак обождать и зашла внутрь.
– Хорошо-то как, Господи, – потянулась Татьяна, – красиво здесь.
– Точно! – подхватила Светка. – Пусть меня сюда привезут умирать.
– Сначала выпить надо, – отрезвил я девушек, – потом помирать можно. Эх, гу-у-лять бу-у-дем, а смерть при-и-дет, поми-и-рать будем!
– Дим, – без всякой связи спросила Таня, – давно хочу тебя спросить: почему ты так много материшься? Ты же поэт.
– Ха! Не много, а часто. И потом, кратчайшее расстояние между точками – прямая, а между мыслями – мат. Это – эмоциальная краска русской речи, самая емкая, между прочим. Недаром в народе говорят: русский без мата – что борщ без томата. К примеру, когда ты говоришь – одень шапку на х…й, а то уши замерзнут, то…
Появившаяся из амбара Светлана не дала мне возможность закончить мою филологическую мысль.
– Это – старая мельница, можно сказать даже, мельница-музей. Заходите, пожалуйста.
Внутри в глаза сразу бросились жернова и мыши. Я имею в виду ростовые куклы, конечно. На лавках сидели Мышь-папа, Мышь-мама, Мыши-детки, пришедшие к Мыши-мельнику за мукой. Мышь-мельник сидел за жерновами. Весь мышиный народ был очень симпатичный. Мы, конечно, сфоткались с Мышами на лавке («пикчернулись», блин. Ну как тут не матернуться?), Светлана начала рассказывать про мельницу. Потом подошли к жерновам, за которыми в гарусной жилетке сидел Мышь-мельник.
– Верхний жернов назывался «бегун», нижний – «лежняк», если зерна было немного, то его мололи вот за такими жерновами вручную.
И вдруг на этих словах Мышь-мельник ожил и начал крутить за ручку «бегун». Это было так неожиданно, что наши подруги завизжали от испуга, Олег отскочил, я инстинктивно сгруппировался в боксерскую стойку. Мышь еще покрутила жернов и встала.
– Ух, – выдохнули мы все вместе, а Светка даже перекрестилась, – так и инфаркт схлопотать можно.
– Да, или по чухальнику, – добавил Олег, осторожно приблизившись, – однако классно…
Стало понятно, почему Светлана попросила нас обождать снаружи. Мы сфотографировались с Мышью-мельником, обнявшись, и вышли на улицу.
– Ты, Тань, не права, что Димасика ругаешь, – сказала Светка, оглянувшись на мельницу, как будто за нами оттуда могли увязаться остальные ожившие мыши, – тот самый случай, когда, кроме как «пиз…ц», сказать ничего нельзя. Я думала, помру на месте от страха.
– Да я не ругаю вовсе. Просто ушки непривычные.
– Это скоро пройдет, – заверил я, – куда сейчас направим стопы свои?
Светлана направила наши стопы в музей валенок. Вот уж не знал, не ведал, что валенки – тоже искусство. Еще какое – скажу я вам. Ну, пересказывать все не буду, сами в Мышкин съездите, посмотрите – там и обычные валенки, и с бисером, и даже валенок-самолет, и чуни, и лапти, подержите в руках кочедык, которым лапти плетут, и сапоги с наборными каблуками, и жук-лакей, о который обувку снимали, и подбитые золотыми монетами цыганские сапоги или, к примеру, сапоги со вшитой берестяной полоской, чтобы скрипу придать.
Самовары, самовары, самовары дутые, Которы парни заняты – сапоги загнутые.С этой старинной частушкой Светлана сняла с полки сапог с загнутым голенищем.
– Если парень уже выбрал себе невесту или просто любил какую-то определенную девушку, то загибал сапог и тем показывал, что с другими девушками он уже гулять не будет.
– Олег, загни себе чего-нибудь, – посоветовал я, глядя на его немыслимо красные кроссовки, – а то теперь Светка неправильно поймет.
– Если надо, я загну, – не заставил сомневаться Олег, – я такое загну…
– Не надо, – тут же попросила Светка, – я тебе верю.
– А то загну…
– Верю, верю. – Светка чмокнула благоверного.
Олег и вправду загнул тем же вечером, но обо всем по порядку. Пройдя мимо великолепного Успенского собора, все перекрестились.
– А вот был такой академик словесности Львов-Рогачевский, который учил Есенина, что неправильно писать: «Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, И на известку колоколен невольно крестится рука». Мол, не рука крестится, а рукой крестятся, и не на известку, а на церковь. Никто этого Львова и не помнит, а есенинская строка навсегда осталась. И правильнее уже и не скажешь, – сказал я, отводя глаза от купола, – вот чем поэзия отличается от гладкописи.
Девушки молча вздохнули. Светлана посмотрела на часы.
– Мы как, сейчас пообедаем или сначала на утес пойдем?
– На утес, – сказали было наши подруги, но я пресек бунт бессмертной ерофеевской фразой:
– И немедленно выпил! Вы что – с Дикого Запада, что ли? Город нужно не только осмотреть, но и прочувствовать. А где его можно лучше прочувствовать, если не в его кабаках?
– Ну, понятно, – махнула рукой Светка, – без рюмки никуда.
– А я бы немного выпила, – неожиданно поддержала Танюха, – за Мышкин. Тут так здорово. Да и есть уже хочется.
– Да! За Мышкин я бы тоже выпил, – присоединился Олег, который бы и без Мышкина выпил, конечно.
– Ну вот! Светочка, веди нас, мы будем воскуривать фимиам вашему славному городу! – выразил я свое мнение, уже ставшее общим.
Как назло, все рестораны были закрыты на спецобслуживание – где банкет, где свадьба. На свадьбе, кстати, наших девчонок стали с ходу клеить, и Светлана буквально за руки нас оттащила от места возможного боя.
– Сколько их было, ты посчитал? – спросил Олег.
– Десять – двенадцать, – прикинул я, – веселуха.
– Да уж… – Олег неопределенно покачал головой. – Привезли бы с собой сувениры – на лице.
– Кстати, о сувенирах… – Я вынул из пакета свои валенки с зеленой каймой и переобулся. – Так теплее и родней.
– Думаешь, за своего сойдешь? – Олег покачал головой. – В них убегать труднее.
– С бабами вообще не побежишь, так что лучше теплей. А то полночи пили, а ноги с утра холодные.
– У меня и руки холодные, хотя вроде тепло. – Олег поежился. – Все-таки Волга есть Волга, не забалуешь.
– Как тут не выпить, – подытожил я, и на этот раз со мной никто не спорил, тем более мы уже заходили в небольшую кафешку.
Светлана как лицо официальное пыталась отказываться от тостов довольно долго – минут десять. Но когда я вознес кубок за здоровье любимых людей, сдалась. У Светланы подрастала дочь, и за детей мы выпили отдельно. За Мышкин выпилось само собой. Потом под пельмеши выпилось за давешних мышей, причем за Мышь-мельника дважды.
– Ребята, с такими темпами мы на аэродром, то есть паром, не попадаем. – Олег посмотрел на часы – часов на руке не было. – А где котлы?
– Что, на рыбалке потеряли? – как участливо, так и наивно спросила Светлана.
– Да, рыбалка была та еще. На часы ловили, – не без укоризны заметила Светик.
– А ты, а ты… раз так, будем на живца ловить, – заверил Олег.
– На Светку или на Таньку? – уточнил я для проформы, в принципе, обе были вкусные.
– Кинем жребий?
– Мы не будем полагаться на случай (золотой кинофонд и есть золотой). Пойдем простым логическим ходом.
– Пойдем вместе. – Олег уже забыл про паром и поднял рюмку.
– Предлагаю в качестве живца нашу несравненную мышкарку Светлану. Она местная, ее рыба уважает.
– Да! Да! За Светлану! – Гармония перерастала в полное равновесие.
– Первый раз встречаю таких славных… интересных… классных… – Светлана явно не хотела называть нас туристами.
– Подонков, – подсказал Олег.
– Гастролер! Артист! Подо-о-нок! – Я (из золотого кинофонда).
– Что вы, что вы… – Светлана замахала свободной рукой (в другой была рюмка, естественно). – Таких классных ребят.
– А… – протянул Олег. – Что есть, то есть.
– Скромность – наше второе имя. – Я подчеркнул и без того очевидное. – О ней мы можем говорить часами. И вообще скромность украшает мужчину, когда у него нет других достоинств. Ну… за скромность.
Посидели мы в том кафе по-хлебному, но, поскольку нами правят последствия наших поступков, на паром, который был по плану, мы не успели. Естественно, такси, которое (теоретически) нас ждало на том берегу, нас не ждало. Но скорее небо упадет на землю, чем боцман утонет в обстоятельствах, и через десять минут по двойному тарифу мы ехали в баню на частнике.
– Веники, валенки, рукавицы, кочерга у кого? – задал я стратегический вопрос, оказавшийся риторическим, – все причиндалы остались в гостинице.
На пару минут завернули в «Мышкино подворье», где выяснилось, что Олеговы часы лежали на полу у кровати – счастливые не только не наблюдают часов, но и бросают их под кровать во время секса, чтобы не царапались. Память – не второе имя Олега, как и предусмотрительность. Естественно, он забыл спросить в администрации гостиницы дорогу к бане, потому что предполагалось, что заказанный водитель ее знает. Все выяснилось среди ночной темноты на вымершей трассе, когда частник спросил, куда поворачивать.
– А х…й его знает, – беспечно сказал Олег, которому и так было хорошо.
– В смысле? – не понял водитель.
– В том смысле, что некоторые карту незнакомой местности с собой не берут, – пояснил я. – Олег, давай звони в гостиницу, пусть объяснят. Я свой мобильник в номере оставил.
– В чьем номере? – Олег пребывал в блаженном неведении относительно происходящего.
– В номере Иван Иваныча, блин! Девчонки, дайте Олегу мобильник.
– А у меня баланс сел, – радостно сообщила Татьяна.
Я молча посмотрел на Светку – она была последней надёжей.
– А у меня батарейка того.
– Чегой тогой? (золотой фонд). Вы что, сговорились все?
– Так куда едем? – Водила стал проявлять нетерпение.
– В баню, – тонко подсказал дорогу Олег.
Чувствуя, что и два счетчика не спасут нас от высадки в глухую темноту посреди полей, я успокоил шофера:
– Не волнуйся, командир, у нас водки много, не останемся неблагодарны. Сейчас все наладим.
– А водку мы не брали, – мудро и, главное, вовремя заявила Татьяна.
Водитель покосился на меня как-то недобро.
– Коньяк тоже есть, – заверил я, незаметно показав Таньке кулак. – Деревня как-то смешно называться должна. Красноармейцево… Канарейцево… Крейцево…
– Коломейцево? – устало вздохнул частник. – Так это… проехали уже. Разворачиваться, что ли?
– Там еще колесо на доме должно быть, – вспомнил Олег важнейшую примету, наверное, ему об этом сказали, когда он заказывал баню из Москвы.
– Там номер вообще-то должен быть… какой номер дома? – спросил водитель, разворачивая свою «десятку».
Все посмотрели на Олега.
– А х…й его знает. – Олег проявлял последовательность в ответах.
Слава Богу, в Коломейцеве я смог провести опрос туземного населения в лице какого-то обшарпанного старика, бредшего, пошатываясь, по России. И, хотя его ответы по вразумительности мало чем отличались от Олеговых, баню мы все-таки нашли. Расплатившись с водителем, мы вошли в открытую калитку. В доме, на стене которого действительно было прикреплено колесо от телеги, все двери были заперты. На стук в дверь, естественно, никто не вышел, окна были темные, только над крыльцом фонарь писал жидкой струйкой света нам под ноги.
– Чего-то я не понял, – обратился я к Олегу, – мы баню оплачивали?
– Оплачивали вроде. – Олег растянулся в улыбке, ему было забавно.
– В каком роде? В среднем? – уточнил я, пиная дверь ногой.
– Ой, ребята, там внизу огоньки горят, у самой Волги, – принесла весть Татьяна, обходившая дом кругом. – Может, нам туда?
Делать было нечего, мы спустились вниз по каменным ступенькам, только Олег пошел напрямую, по траве, и, как оказалось, зря.
– Светик! Света!! – Что-то в Олеговой интонации насторожило Светку, и она пошла в темноту на зов.
Оказалось, Олег поскользнулся на мокром травяном уклоне и скатился вниз кубарем. Видно, в падении он что-то зашиб, потому встать самостоятельно не мог.
– Ты чего? – спросил я потиравшего поясницу Олега.
– На звезды засмотрелся.
– Если все время смотреть на звезды, неизбежно вляпаешься в дерьмо, – выдал я авторскую сентенцию.
– Там никакого дерьма не было, просто скользко.
– Это аллегорически, – пояснил я и дернул ручку входной двери деревянного домика, оказавшегося действительно баней.
В бане никого не было, в печке догорали дрова, жар в парилке был на излете. За дровами, естественно, пошел я – тот, который смотрит на звезды, стоя на месте, а не на ходу. В нескольких метрах шумела неспокойная Волга, косой дождь хлестал в лицо, темнота была абсолютной, но очертания какого-то навеса все-таки проступили. Когда я вернулся с охапкой дров, девушки уже переоделись в полотенца, лишь один Олег оставался в одежде.
– Ты чего, париться не будешь? – спросил я, бухая дрова к топке.
– Буду, – сказал Олег и надел кожанку, – чего-то знобит.
– Пить надо чаще, а не раз в неделю. – Меня чего-то потянуло на философию. – Сейчас по новой протопим.
– Кстати, а какой это коньяк ты имел в виду? – заинтересовался по теме Олег.
– Это тоже было аллегорически, вернее, политически. Никакого коньяка нет. Водки, как я понял, тоже нет. В общем, ни х…я нет, как ты выражаешься.
– Это не я… это народ.
– Ну, началось… за народ давно не говорили. – Я сунул несколько полешек в печь и быстро разделся, обернувшись в простыню, – в предбаннике было достаточно тепло, никто, кроме Олега, не мерз.
Минут через сорок жар вернулся, и мы могли пойти на разогрев. Венички (два березовых и один можжевеловый) я по уму сунул в кадушку с водой и оставил в парилке томиться.
– А минералки тоже нет? – спросил кто-то из девушек, уже немного разомлевших.
– Тебе по-народному ответить? – помня давешнюю критику, на всякий случай уточнил я.
– Не надо, я поняла. – Сейчас вспомнил, это была Татьяна.
Тут, жалобно скрипнув, отворилась дверь и в предбанник без всякого стука вошел экзотического вида гражданин. Низкого роста, со всклокоченной седой бородой и красными мешками под глазами, он был похож на спившегося лешего. Девушки на всякий случай отсели на дальний край стола.
– Ну че тут у вас? – неожиданным для субтильного тела басом прогундел леший.
– Ты кто, дядя? – в свою очередь, спросил я, выбрав интонацию потяжелее.
– Электрик я здесь, а че?
– Стучаться надо, дядя, вот че. Почему запаса дров в бане не было?
– И не встретил никто, мы тут хоть одну живую душу обыскались, – присоединился к разговору Олег, – баню еле нашли вообще.
– А че, хозяев нет, я вообще… – леший куда-то махнул рукой, – в вагончике живу. Чего я тут должон торчать?
– Ты дрова должон приготовить, если тут тебя хозяева присматривать оставили. – Я проявлял ангельское терпение. – А то деньги за что плачены?
– Да я энти деньги и в глаза не видел, я вообще электрик, – пробасил леший.
– Тебя, дядя, как кличут-то? – Я стал переходить к делу.
– Василий, а че?
Девушки, судя по их смешку, немного расслабились.
– Значит так, Вася. – Я взял лешего под руку и вывел на крыльцо. – Нужна водка и минералка.
– А где я возьму-то? – искренне удивился Вася.
– Мы, чай, не в Хайфе, а в России, здесь водка всегда найдется. Не останемся неблагодарны, в смысле – твое старание будет оплачено. Итак, как с водкой?
– Ну… не знаю, есть тут один, может сгонять до гостиницы, купить. У него машина есть, – начал поддаваться электрик.
– Вот видишь, никогда не говори «никогда». И как нам вызвать этого одного?
Леший достал из кармана мобильник и с кем-то вступил в переговоры. Не успел я выкурить и полсигареты, как Вася доложился:
– Щас приедет. Но двести рублей сверху.
– Об чем разговор, Вася, – ласково сказал я, – пошли на шоссе.
– Зачем это? Я приведу.
– Нет уж, тут у вас как-то уж слишком пустынно. – Я взял купюру, и мы пошли к калитке, я на всякий случай поддерживал Васю под руку, чтоб не сбежал, издалека нас можно было бы принять за закадычных друзей.
Через пятнадцать – двадцать минут, за которые я довольно основательно продрог в своей простынке, приехали «один» и еще «один» – два накачанных местных братка.
– Так, надо чего? – обратился «один».
– Тут такое дело. Водочки у нас нет в бане, и водички бы надо. Минеральной.
– Так че? Ты конкретно говори, какой водяры и сколько?
Пахнуло девяностыми.
– Конкретно – два бутыля по ноль семь любой непаленой беленькой и минералки – любой без пузырьков – тоже две большие. Реально.
– Базара нет, давай. – Браток вскинул глаза к тем же звездам. – Косарь, в общем.
– Нема проблем. – Я разжал кулак с синенькой. – Долго?
– Не журись, пацан, – сказал второй «один», – в полчаса пригоним.
Братва укатила на задание, я снова взял Васю под локоть.
– Ты че? – трепыхнулся электрик.
– У нас подождем, пока ездят, расскажешь, как тут и что.
– А че рассказывать-то? – спросил Вася уже на обратном пути, понимая, что приглашен в заложники.
– А вообще… про края ваши. Красиво тут… без базара. Рыбалка есть рыбалка.
Вася вздохнул, покоряясь судьбе. На обратном пути мы захватили еще дров, и баня продолжилась. Электрический леший сел в углу, противоположном от девушек, под наблюдением продолжавшего трястись Олега. Я пропарил обеих подруг от души, из двух березовых веников остались всего полвеника и один полноценный можжевель. Выскочив в темноту под дождь, мы скинули простыни и бухнулись с разбегу в кипевшую Волгу. Да… Мне вспомнилось мое послебанное купание в Байкале, это было похоже, но все-таки речная вода, хоть и байкальской температуры, была ласковей. Да и вход в воду был песочный, а не каменный, а это намного приятней, как понимаете. Вдоволь побарахтавшись, мы в состоянии отдохновения вернулись под банную крышу. Давешние братаны были уже там и вынимали бутылки из пакета.
– Все, как сговаривались, – сказал первый «один», – с тебя двести рубчиков.
Я вспомнил, что двести было сверху. Мелочь достал кто-то из девушек, с трудом отведя заблестевшие глаза от бычьих шей поставщиков. Заметив эти маслянистые взгляды, я не стал настаивать на совместном застолье, и братва, захватив лешего, который, в свою очередь, не мог оторвать взгляд от водки, удалилась.
– С легким паром, други! – Я разлил беленькую по стакашкам.
Олег потянул было свой, но Светка его остепенила.
– Ты что, тебе завтра, вернее, сегодня уже везти нас в Москву. Как ты за руль сядешь, попарился хотя бы.
– Спокуха! Рыбалка есть рыбалка! – сказал Олег и сам налил себе по полной.
Светка покачала головой, я пожал плечами, Танька улыбнулась.
– Если что, я могу сесть за руль. Я почти трезвая, а после бани с Волгой, так вообще. Могу сейчас не пить.
Олег поставил стакан и тотчас налил себе еще.
– С легким паром! Ты думаешь, я водить разучился? А мы, правда, сегодня едем?
– Теперь не знаю, – ответил я за Татьяну (золотой фонд) и тоже выпил, – ну, за Волгу!
Через бутылку Олега перестало трясти, может, по той причине, что он уснул, уронив голову на стол. Его храп мешал мне рассказывать девкам сальные анекдоты вперемешку с лирическими стихами, но Светка не дала будить мужа.
– Пускай себе. Может, хоть немного проспится.
– Лучше бы пропарить, – сказал я, и на этих словах выключился свет.
– Обана! – сказал девичий голос в кромешной темноте.
– Пиз…ц! – сказал второй девичий голос.
– В эксперимент включился электрик, – сказал мой голос (фонд).
Используя Танин телефон по последней оставшейся функции – в качестве фонаря, – мы стали искать щиток. Я догадался открыть заслонку, от углей в топке стало чуть светлей, но щиток не находился.
– Гостеприимство – просто зашибись, – прошипела Света, ударившись коленкой о стол, – точно не баня, а болодя какая то.
– Родину не выбирают, – заметил я и тут нащупал щиток на стене. – Одну минуточку… так… а так… ни х…я, как говорят в народе.
Свет отключился фатально.
– По-моему, надо валить в гостиницу, – мудро предложила Татьяна.
– Согласен, – поддержал я, – а на чем? Таксиста-то еще в Мышкине прое…ли.
Девушки от души выругались.
– Вот видите, мат как эмоциональная окраска русского живого языка наиболее интонационно емко передает личностную оценку происходящего…
– Я вот сейчас муженька разбужу и емко передам ему свою оценку, – не дала мне закончить мысль Светка, – так емко… емче не бывает. Где кочерга?
Олег замычал во сне, наверное, уловил интонационную оценку супруги.
– Без паники на «Титанике», – скомандовал я, – все сидят здесь, никто отсюда никуда не уходит, что бы ни случилось. Хоть бы эта баня сгорела к еб…ням! Я иду на разведку – в смысле – за Васей. Также насчет транспорта организую. Никто никуда не выходит, понятно?
Девушки выразились в том смысле, что слушаются и повинуются, но боятся остаться одни.
– Олега не будить – пусть спит. Он еще не совсем потерян для общества, – наказал я и, наспех одевшись и прихватив с собой последнюю бутылку водки, вышел в волжскую ночь.
Мокрое шоссе было абсолютно пустым. Вдалеке светил одинокий фонарь, завидуя пышным звездам. Я вспомнил армейские разведнавыки, сориентировался на местности и скоро обнаружил какие-то строительные вагончики. В тусклом свете фонаря проступила надпись «Хранилище ебня». «Какая-то загадочная местность», – подумал я и постучал в дверь вагончика.
– Что надо? – На порог вышел заспанный охранник.
– Ты сам православный? – спросил я и вытащил из-за пазухи бутылку.
Ожидаемый эффект превзошел все ожидания. Через пять минут мы с Толиком сидели в его вагончике, ругали правительство, Америку и тещ. Попутно я звонил с Толикиного мобильника в Москву, чтобы мне дали телефон диспетчера такси в Ярославле, откуда уже могли позвонить в Углич и вызвать нам машину.
– Ты Васю-электрика знаешь? Что-то мне подсказывает, что он не мог уйти далеко, – спросил я, закусывая Толиной капустой.
– Знаю. Чудной человек. В соседнем вагончике обретается.
– Где ебню хранят?
– Чего хранят?
Я сказал про надпись, Толик, захлебываясь смехом пояснил, что имелся ввиду щебень, но «Щ» кто-то замазал, может, и Вася.
Дождавшись звонка из Углича и договорившись о встрече эвакуационного транспорта под вывеской «Коломейцево» с нужной стороны, я по-братски обнял Толика и пошел за лешим. Вася долго не мог поверить, глядя в окно, что я ему не приснился и стучу наяву. Наконец в его красных глазках появилось осмысленное выражение, и электрик вышел на крыльцо. Заграбастав его за воротник, я повел его выполнять непосредственные обязанности.
– Фонарь, блин, это опять фонарь. Сколько я раз говорил – заливает фонарь-то. Через это и замкнуло. Не впервой уже. Говорил вот хозяям, и че? Мне и денег-то не перепадает, блин, получаю, как кот наплакал. С меня и спрос ишо. Чё я, нанимался им за такую зарплату, – лепетал Вася по дороге.
– Ди-и-ма!! Ди-и-мон!! – раздалось прямо по курсу.
– Называется, никуда не выходить, – поморщился я, убедившись в низкой дисциплине спутниц. – Бабы, потому дуры. А ну ко мне!!
Девушки выплыли из темноты и только не бросились мне на шею. Они, видите ли, испугались, что я пропал. Дуры, дуры, хотя обычно умные. Отчитав их по-народному, я передал им на руки вконец обалдевшего Васю и отправился на пост на окраину славного села Коломейцево – ждать такси. Облокотившись на столбик с вывеской, я закурил в ночной прохладе. Дождь уже не хлестал, накрапывал на излете. Я выдохнул дымок прямо в звезды, висевшие надо мной, как гигантская люстра космического дизайна, и задумался о бренности московской жизни.
Отчего так получается, что чужие помогают, когда родные предают? Почему чужим чаще прощаем, чего близким не простим никогда? Почему люди не выдерживают несложного, если посмотреть, испытания деньгами? Откуда появился этот желтый дьявол и, словно угарный газ, влез в людские души? Все ищут счастья во внешнем, вовне себя – успех видят в деньгах, в славе, вернее, узнаваемости, которую легко конвертировать в чистоган, а не внутри себя, не в работе над собой. А разве равновесие можно обрести вовне себя? Женщины, которые всегда задавали планку развития мира, опустили эту самую планку до уровня кошелька. Сейчас мужчине достаточно быть богатым, неграмотным, трусливым, тупым, хамовитым, скабарем, но богатым, чтобы привлечь женское внимание. А раньше, в «галантный» век, если кавалер не убил с десяток противников на дуэли, не владел изысканными манерами и не сумел написать в альбом красавице блестящий мадригал, он никогда бы не смог добиться благосклонности у дамы своего сердца. Достаточно вспомнить бессмертное произведение Ростана – стоило Кристиану заговорить своими словами, а не высоким стилем Сирано, Роксана сразу теряла к нему интерес. Все-таки прав был Бердяев, когда написал, что демократия есть нездоровое состояние народа, имея в виду, что чем демократичнее культура, тем она дешевле. У нас уже дешевле некуда, проще тоже некуда… одна ебня какая-то с телевизора льется. Не на пустом месте появляются такие вот Иваны Ивановичи – вешать легче, чем лечить, да и забавней им…Все-таки удалось америкосам разложить нас изнутри своими «общечеловеческими» ценностями», которые вылились всего в одну – деньги любой ценой. А ведь все, что можно купить за деньги, стоит дешево. Подешевел народец, измельчал… но, с другой стороны, что-то осталось в провинции, вот и Толик помог, а мог бы телефон и не давать…
Из темноты блеснули два желтых машинных глаза, через полминуты авто начало подмигивать поворотником. Я выбросил сигарету и подался вперед – спасение было близко. И действительно, это приехало заказанное через Москву такси. Поздоровавшись с водителем, как с родным, я отправился за товарищами.
Зайдя в баню, я обнаружил странную картину в восстановленном Васей свете. Татьяна сидела в углу, понуро глядя в окно, Олег ходил по предбаннику почему-то без штанов – в трусах с вызывающе красной полосой на заднице (под цвет кроссовок, наверное), но в кожаной куртке. Видно, в решении париться застрял на полпути.
– А Светлана где?
– Там, – кивнула Татьяна на парилку, – мы едем? Я устала ужасно.
Светка спала на полке в одежде. Растолкав Олегову жену, я дал команду на выход. Через пару минут ночной таксист мчал нас в гостиницу. Часы показывали полпятого утра, до выезда в Москву оставалось меньше шести часов. Вынимая вещи из багажника, я заметил среди них кочергу.
– Вы чего, кочергу с собой прихватили? А шапки и рукавицы где?
Действительно, в головах честной компании что-то спуталось – свое оставили и захватили чужое, и главное, самое необходимое.
– Сувенир, – виновато пожал плечами Олег, – водочки в номере выпьем?
– Со Светкой выпьешь, только кочергу от нее спрячь, – сказал я на прощание, протягивая ему «сувенир», – она грозилась уже. Тебе за руль скоро, какая водка?
– А мы что, утром выезжаем? – удивился Олег. – Может, завтра поедем? Порыбачим еще…
Я попрощался красноречивым взглядом и отправился в номер. Кочерга осталась у Олега, наши банные принадлежности в бане, Олег при Светке, Танька в недоумении.
Дорога обратно проходила в том же составе, конечно, но с переменой мест слагаемых – по Светкиной просьбе я сидел на переднем сиденье. Недопротрезвевший Олег хмуро держал штурвал, девчонки сзади беззаботно щебетали. Каким-то непостижимым образом в машине осталась та самая недопитая бутылка водки, с которой мы ехали в Мышкин. Не обращая внимания на Олеговы страдания, мы весело отмечали прохождение каждого неординарного населенного пункта, не замеченного нами раньше. Проехали через реку Юхоть, миновали село Волковойню (!), я попеременно менял ручку на рюмку, не успевая записывать и наливать одновременно. Где-то на селе Полубарское (!) бутылка кончилась, Олег приободрился и включил классический рок – Дип Перпл, как сейчас помню. Когда отгремел мой любимый «Демонс ай», Олег спросил меня:
– Интересно, что бы сказал Ричи Блэкмор, если бы съездил с нами на рыбалку?
– Да что бы он смог сказать, не владея русским матом, – ответил я, допив из горла последнюю каплю, – ай лав ю, Мышкин!
2008Поросенок Боря
Здесь, читатель, право, нет никакой моей заслуги как автора, разве только чуткий глаз. Такая уж у нас страна, что выдумывать практически ничего не нужно: жизнь в России – одна нескончаемая трагикомедия, только успевай записывать. А здесь и записывать не пришлось, если только обстоятельства, при которых я получил в руки этот протокол. Впрочем, по порядку. У меня на следующий день должно было состояться судебное заседания Московского городского суда по кассационной жалобе бывшей жены (о, читатель, об этой истории стоит написать целый роман), пытавшейся отобрать все нажитое за 18 лет брака имущество. Сон не шел, все-таки следующий день обещал стать одним из самых многопоследственных в моей странной жизни. Я щелкал телевизионным пультом, ища что-нибудь неагрессивное, без стрельбы и порнухи, без «говорящих голов», малограмотно рядящихся за Родину, что-нибудь душевное и спокойное. И надо же – по какому-то нецентральному каналу нашел «Аниськина». Великолепный сельский детектив, мудрый и справедливый, знающий цену людям и людским ценностям, герой блистательного Жарова распутывал очередное преступление, и не преступление даже, а жизненный клубок русских судеб. Все, как всегда, кончилось «Слава Богу», и следующее, что помнил ваш покорный слуга, это – нервная езда по пробкам на Богородский вал в Мосгорсуд. По обыкновению, мы ждали нашего вызова часа четыре, не меньше. Правда, ничего нет хуже, чем ждать и догонять. Мне пришлось делать это одновременно, адвокаты же с моей и с другой стороны, уже, можно сказать, подружившиеся за полтора года судебных разбирательств, стали вспоминать истории из своей практики. Я, тоже человек бывалый, только убедился в том, что со времен судебной реформы Александра II в России все стало только хуже – закон у нас стал не только дышло, куда повернешь, туда и вышло, но прямым произволом власть предержащих, особенно в погонах, а законность – предметом самого бесстыдного торга. Я только качал головой, понимая, что мой случай, который я считал тяжелым, на самом деле – рядовой и на справедливость, как и на здравый смысл, надеяться нельзя. Тут мой адвокат Юрий (спасибо ему), видя, что я чего-то потускнел, вытащил из своего портфеля какой-то документ и сказал:
– Хочешь отвлечься – почитай. Мой коллега из Сибири прислал.
Не помню, чтобы я смеялся с таким удовольствием в зданиях суда или зданиях чего-нибудь другого. Привожу этот протокол полностью, не изменив ни запятой.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отказе в возбуждении уголовного дела
р. п. Усть-Ишим 17. 09. 79
Я, участковый инспектор Усть-Ишимского РОВД УВД Омской области капитан милиции Мителев, рассмотрев заявление гр. Погребковской, которая проживает в поселке Мал. Бича по ул. Колхозная,
УСТАНОВИЛ:
Что гр. Погребковская имеет в своем хозяйстве три поросенка в возрасте 4 месяцев, одну свиноматку в возрасте 3 лет и одного кабана в возрасте 6 месяцев. 17 сентября 1979 г. 1 поросенок в возрасте 3 месяцев по кличке Боря не вернулся вместе с остальными поросятами. Мною было установлено, что Погребковская проживает на краю пос. Малая Бича и поросята паслись на берегу р. Ягодка, которая впадает в р. Иртыш. Отбившись от основного стада, поросенок Боря пасся один вдоль берега р. Ягодка. На противоположном берегу колхозниками был посажен овес, который к этому времени уже вырос и выглядел аппетитным. Отказавшись кормиться травой, Боря решил переплыть реку и попробовать овес, но долго не решался, т. к. на противоположном берегу ходили колхозники и могли его побить. В 12 часов колхозники ушли на обед и Боря решился плыть. Но он не учел направления ветра и силу течения. и т. к. р. Ягодка впадает в р. Иртыш, Борю течением вынесло в р. Иртыш, где неразумное животное продолжало плыть против течения, надеясь, что выплывет, но не рассчитало свои силы и возможности. Стадо поросят видело, что Боря погибает, но оказать действенную помощь не смогло и, громко визжа, бегало вдоль берега, пытаясь таким образом привлечь внимание людей. Поросенок Боря длительное время барахтался в воде, при этом оглашая громким визгом окрестности пос. Малая Бича и, после того, как изнемог, покорился участи и тихо утонул.
Данную смерть поросенка Бори видели колхозники, которые убирали урожай и о чем подтверждают в своих показаниях. Таким образом кражи не было.
Руководствуясь ст. 113 УПК и ст. 5 п. 1 УПК
ПОСТАНОВИЛ
В возбуждении уголовного дела по факту кражи поросенка Бори у гр. Погребковской отказать, о чем ее уведомить.
Участковый инспектор Усть-Ишимского РОВДУВД Омской областиКапитан милиции Мителев.Вот такие Аниськины с поэтическим воображением работали в свое время в России. Теперь таких не найдешь, наверное. Суд я тогда выиграл, но хорошее настроение у меня держалось еще неделю не только от победы, но и от этого забавного документа жизни в нашей глубинке.
2009Самоубийца
Павлин был несчастлив с детства – сначала из-за своего дурацкого имени. Почему родители так его нарекли, не по святцам же, Павлин не знал и никогда не спрашивал, даже когда приходил весь в слезах из школы.
– Павлинчик, а где твои перья? Фазан, чего хвост не распускаешь? Павлин, кудахтать можешь? – дразнились беспощадные одноклассники, особенно девчонки.
Никто не хотел сидеть с ним за одной партой, а про девочек и говорить нечего – поднести портфель или с молчаливого разрешения подергать за косички было неосуществимой мечтой робкого, хотя и не тщедушного мальчика. Мама всегда его жалела, и хотя это было приятно – выплакаться на материнской груди, но и добавляло тоски от предчувствия завтрашнего школьного, без маминого надзора утра. Отец, бригадир на стройке, отмахивался от его слез и недовольно бурчал, мол, мужик ты или нет – бей обидчиков по морде. Обидчиков-то еще ладно, хотя одного ударишь – всей стаей накинутся, а с девчонками, самыми язвительными и злобными существами на свете, что делать? От всех этих неприятностей рос Павлин мальчиком замкнутым, молчаливым, но с очень выразительными карими глазами, готовыми тут же ответить теплом на любую ласку.
В армии было немножко полегче, тем более он служил год – как получивший высшее образование, но в институте без военной кафедры. Институт был неплохой, текстильный, обучение там давало верное трудоустройство в текстильной промышленности, а потом, со сменой социалистического строя на противоположный, – и в соответствующем бизнесе. Все-таки грамотный солдат, да еще не выставляющий грамотности своей напоказ, зато всегда готовый подправить или приукрасить письмо родным, что святое для каждого солдата, или подтянуть в смысле политической подготовки, пользовался уважением, а над смешным именем сослуживцам издеваться казалось мальчишеством – все считали себя уже взрослыми, настоящими мужчинами. Поначалу, конечно, усмехались, но потом просто привыкли и даже переиначили Павлина на Павлика. Дембельнувшись, Павлин поступил на работу в текстильный НИИ, занимался, как все, полубессмысленной работой, получал зарплату, как все, женился в свое время на девушке тихой красоты, возился с дочкой по выходным, и жизнь его была до поры до времени похожа на эскалатор – если не оглядываться по сторонам, то и не замечаешь, что тебя везет куда-то, даже если ты сам, казалось бы, стоишь на месте. Павлина, как оказалось, везло вниз. Сначала разорился кооператив по пошиву джинсовых курток, куда он вложил почти все свои накопления. Вернее сказать, не разорился, а был задавлен конкурентами с Рижского рынка, во всяком случае, их начальник был убит выстрелом в спину, а бухгалтер зарезан в подъезде. Конечно, официально это были отдельные, между собой не связанные убийства, но так или иначе их кооперативчик рассыпался, точнее сказать – разбежался. На память осталась только та самая джинсовая «вареная» куртка на белом меху со стильным капюшоном. Потом случилась грабительская павловская денежная реформа – последние сбережения его и матери превратились в пыль. Матушка это приняла так близко к сердцу, что сердце не выдержало, и Павлину пришлось занимать деньги на похороны у бывших коллег по НИИ. Дальше – больше: тихая и покорная жена, оказывается, боролась за существование своим, женским способом и очень скоро, взяв десятилетнюю дочь, ушла к богатому любовнику, который почему-то обещал стать ей мужем, а его дочери – новым папой. Павлина больше всего поразило в объяснениях бывшей жены заявление, что она это сделала в интересах ребенка.
– При живом отце жить с чужим дядей – это в интересах ребенка?! – возмутился было Павлин.
– Хоть с кем, только не с таким неудачником, как ты, – отрезала жена и бросила трубку.
Обращение в суд ничего не дало – то ли судью «подмазали», то ли сама судья, пятидесятилетняя грымза с лицом и манерами рыночной торговки, ненавидела мужчин по своему опыту, но под надуманным предлогом, сославшись на какую-то психологическую экспертизу, утверждавшую, что общение с отцом вредит психическому здоровью ребенка, Павлину в свиданиях с дочкой было отказано.
Павлин начал по русской традиции пить, но то ли из-за своей природной робости, то ли по причине непривычки к алкоголю напиваться до состояния счастья так и не научился. Алкоголь отрубал сознание довольно быстро, но боли и тоски в сознательном состоянии не гасил, а только усиливал. Поэтому решение покончить счеты с жизнью пришло к нему на трезвую голову одним осенним промозглым вечером. Было зябко и снаружи и внутри, на самом сердце, смысл дальнейшего существования облетел вместе с мертвыми желтыми листьями. Оставалось только выбрать способ. Павлин смотрел в унылое окно, не включая света, холодная темнота заползала в комнату, в глаза, в самую душу, и решение пришло вместе с этой мерзлой темнотой – утопиться. Не то чтобы Павлин перебирал и взвешивал в уме другие способы, хотя разные картинки – как он будет выглядеть со стороны в том или ином случае, воображение подсказывало. Нет, просто смерть в холодной, темной, мутной воде больше всего подходила к его жизни в последние годы – в холодном, темном, мутном мире. Павлин надел свою «варенку» с капюшоном и пошел к мосту.
Мост через речку Уфимку был известным местом – отсюда прыгали на спор, бросали побежденных в драке и топились, конечно. Быстрое течение в последнем случае относило тела довольно далеко, так что находили утопленников не сразу и не всегда в опознаваемом виде. Павлина это устраивало, мыслишка о том, как отпрянет от его вспухшего тела бывшая жена, даже злорадно щекотала. У решившегося покончить с жизнью впереди вечность, а значит, торопиться уже некуда. Павлин перелез через перила, уселся на ферму, свесив ноги, и стал смотреть в воду. Рука как-то сама собой нащупала в кармане пачку сигарет, но ни зажигалки, ни спичек не было. Павлин крякнул с досады – даже здесь ему не везло, а ведь покурить перед смертью давали даже осужденным на казнь. Это надышаться перед смертью нельзя, а накуриться-то еще как можно, думал Павлин, шаря в карманах. Но неудачник и есть неудачник, приходилось помирать без курева – не идти же, в самом деле, к ларьку. Павлин вздохнул, встал на ноги, не вынимая сигареты изо рта, задрал голову наверх, неуверенно наложил на себя крест и…
– Что, паря, огоньку не нашлось перед смертью? – спросил откуда-то сверху веселый голос.
Павлин чертыхнулся и снова сел – переждать досадную помеху. Но помеха в лице моложавого светловолосого мужчины не собиралась уходить, а даже наоборот – судя по сопению, перелезала к нему. И точно – рядом с ним, легкомысленно болтая ногами, уселся этот блондин и щелкнул зажигалкой. Павлин вздохнул и наклонился к огоньку – раз уж так вышло, почему бы и не затянуться.
– Эх, паря, дело, конечно, твое, но зряшное, – сказал блондин, прикурив тоже, – меня Иваном зовут.
Павлину тоже нужно было представиться, но наталкиваться еще и на усмешку в последние минуты жизни не хотелось, и он назвался по армейской кликухе:
– Павлик.
– Ну, будем знакомы, Павел. – Иван протянул большую мозолистую рабочую ладонь. – А я иду себе мимо, от Люськи, смотрю – а ты прыгать собрался. Дай, думаю, поговорю с человеком, может, передумает.
Павлину понравилось, что Иван не скрывал своих намерений отговорить его, не лукавил и не притворялся, что ему все равно. Правда, топиться захотелось еще больше.
– Что, жена бросила? – Иван сразу попал в «десятку». – Меня, брат, тоже бросила. Не Люська, другая, раньше еще. Такая стерва оказалась, да еще и шлюха. Все они такими блядовитыми созданы, что ли? Ведь и муж есть, хотя и не расписанными жили, и добытчик и защитник, казалось, живи, как за каменной стеной, так нет – кто-нибудь из кобелей с восторгом посмотрит, и все – завиляла бедрами, сучка, нравиться хочется и всего остального сразу хочется. А то, что в ней только самку и видят, чтобы засунуть пару раз да дальше себе пойти, эти бабы глупые не понимают. Не понимают, что нужны-то только в нижней части для мужской потехи, а что она, кто она – никому не интересно. И за эту нижнюю часть готовы рискнуть всем верхним и внутренним, за что их замуж берут. Не, я тебе скажу – любая баба создана блядью, кто-то это в себе контролирует, кто-то нет, особенно когда напьется. Тогда – пиши пропало, по рукам пойдет, и чем больше мужа позорит, тем больше ему и хамит еще. Да еще ребенком отнимается – я, мол, мать, я для ребенка все делаю, и прочая чепуха. Хорошая отмазка – для ребенка, а какая ты мать, если на тебя все пальцем показывают и знают, за сколько тебя в койку затащить можно. Не мать, а блядь!
Павлин, поначалу не хотевший слушать случайного соседа, подумал, что Иван абсолютно прав. Бабы – зло.
– Бабы, я тебе скажу… – Иван будто подслушал Павлиновы мысли. – Исчадие ада.
Павлин, отмалчивашийся покуда, кивнул.
– Именно.
– И главное, мужиков бить, а скольким я ухажерам этой стервы глаз «подсветил», и не вспомнишь, мужиков, говорю, бить бесполезно. Сучку надо учить, не зря говорят – сучка не захочет, кобель не вскочит. А они сразу в крик – на женщину руку поднял! Мерзавец! Подлец! Не мужчина! А если я рога носить не хочу, значит, я уже не мужчина? Удобно устроились, твари! – Иван смачно сплюнул в реку.
Павлин тоже сплюнул – и от солидарности с Иваном и от презрения к этим особям женского пола, защищающимся этим полом, как щитом, от простой мужской правды.
– Вот-вот. И стоит из-за них так страдать? – Иван добавил еще крепкое словцо и удивился, вытащив сигаретную пачку. – Тю… кончились. У тебя есть еще?
Павлин передал ему всю свою пачку, вытащив себе одну, последнюю – на большее он в этой жизни уже не рассчитывал. Снова закурили.
– Вот, у тебя сигареты нашлись, у меня огонек, – задумчиво произнес Иван, – так вот всякий бы раз… взаимопомощь.
– С друзьями нелады? – на этот раз угадал Павлин.
– Эх, – махнул рукой Иван, – хуже. Моя-то, не Люська, а Ленка, невеста уже моя была, к дружку-то моему закадычному и сбежала. Люська – вроде хорошая баба, утешает, а я все забыть не могу… ни Ленку, ни друга. А ведь из одного двора, служили вместе в погранцах, бились в одной стенке двор на двор, всем делились… Вот доделились… Убить хотел… сперва обоих, потом только его, потом ее… не смог.
По дрогнувшему голосу Павлин понял, что у его нового знакомого навернулись слезы, не видные ему в темноте.
– И главное, – продолжал Иван, – Люсю не люблю, только греюсь о нее, как о печку, а Ленка никак из сердца не идет. Людмила-то это чувствует, тоже извелась вся.
– А дети? – участливо спросил Павлин.
– Был сын, – глухо ответил Иван, – от первой жены еще, до Лены. Три года было – под машину попал…вместе с тещей. Карга старая, хоть и на переходе, а смотреть-то надо по сторонам, сколько уродов на дорогах! Теща, зараза, почему-то выжила…
– Понятно, – вздохнул Павлин и подумал, что жизнь шибанула этого мужика крепче, чем его самого.
– У меня сразу и руки опустились, рассеянным каким-то стал, как в тумане, что ли. На заводе в формовочном брак стал допускать, зарплату срезали, а после этой дерьмократовой прихватизации вообще турнули. Сейчас с мужиками шабашим иногда – то в деревне, то здесь, что подвернется. Надежную работу разве найдешь – если банкиром только. Да нас на банкиров не учили.
– Не скажи. Банкиры хоть и хлеб с маслом, да еще и с икрой поверх едят, а отстреливают их, почитай, как волков в сезон. Если в новостях о чем таком не скажут, то и день какой-то не такой. Пустой как будто.
– Поделом им, – затянулся Иван, – я так вообще бы гражданскую войну против них начал бы, буржуи хреновы. Народ голодает, эти с жиру бесятся – чем не семнадцатый год? Мне вот вообще коммунальные платежи почему-то за весь год пришли – как я оплачу, когда шабашки нет? Грозятся выселить, на мороз прямо. Точно говорю, народ еще свое слово скажет этим… либералам хреновым.
– Да… – неопределенно вздохнул Павлин.
Некоторое время сидели молча в сгустившейся темноте, так что соседа можно было видеть только по огоньку сигареты. У Ивана огонек полетел вниз, туда, где слышалось дыхание реки.
– Вот что я тебе скажу, паря, – сказал Иван, – нас никто не любит. Значит, никому мы не нужны.
Теперь вниз полетел окурок Павлина, огонек рассыпался внизу на маленькие искорки и исчез в темной воде.
– Это точно. Вообще никто никого не любит. Люди какие-то стали… злые, и не злые даже… равнодушные… пустые совсем. У нас в соседнем подъезде мамаша оставила детей грудных в пустой квартире. Сама то ли в загул пошла, то ли на панель, в общем, несколько дней пропадала где-то. Дети кричали, плакали, ну и померли, конечно. От голода и… это… обезвоживания. Никто из соседей на крик даже носа не высунул, участковый не интересовался, в общем всем было наплевать. Опека – не опека, вообще никто и ничего. Представляешь – два младенца. От голода – в нашем-то веке.
– Не от голода. Люди от людей погибают, причем в любом возрасте. Тот хрен собачий, который на мерсе своем на переход выскочил, пьяный был. Я на него заяву, конечно, привлекли его, так я смотрю на него в суде и тихо так, чтоб никто не слышал, спрашиваю: ты, когда бутылку засадил и за руль сел, ты представлял себе, что убить кого-то можешь? Если б твоего ребенка вот так, по пьяни…
– А он чего?
– Чего-чего. Молчит, гад, даже глаз не прячет. Чуть не усмехается – откуплюсь, мол, а тебе-то уже не поможешь. Честное слово, хорошо, что у нас оружия не продают, а то бы взял бы «Калаш» и порешил бы, ой, многих бы порешил, а потом уж и спокойно можно уже…
– И как кончилось?
Иван снова сплюнул.
– Да как, как…Условно дали гаденышу, экспертизу переделали и еще, главное, сделали, как будто у него сердечный приступ как раз в этот момент случился. Сволочи продажные!
– А у меня вот дочь и живая, слава Богу, а вроде и как нет ее. Мамаша, сучье вымя, отсудила. И судья – тоже мне «Ваша честь», а какая она, на хрен, «честь», взятки берет с каждой стороны, мне адвокат рассказывал потом – смотрит на меня, как солдат на вошь, уже по глазам видно, что все для себя решила. Эта стерва, жена бишь, столько напела, что чуть ли беременной ее бил, все ахали да охали, а я сижу, как оплеванный. Так вот и отсудили – ни свиданий, ничего, а алименты при этом плати. Это как же, а? Родного ребенка не видишь, алименты все равно плати, куда жена эти алименты девает, неизвестно, пропивает, может быть, а что она дочке на отца наговаривает, понятно – папа плохой, папа нас бросил, и все в таком духе. Как потом эту ложь от ее сердца отскребешь, скажи. А дочь – она видит, как мамаша поступает, и так же по жизни двигаться будет, такой же стервой станет, не дай Бог, конечно, но отца-то рядом нет. А этот, новый… полупапа, полудядя, он же к неродной крови равнодушен. Вот я и думаю – есть у меня дочь или нету вовсе? Сигареты у тебя, дай затянуться.
Иван передал Павлину его пачку, вытащив, как и Павлин недавно, себе только одну.
– Да… нанесут обиду… не совместимую с жизнью, потом удивляются, отчего люди… ну, сам понимаешь. Я вот с Люськой потому и не рискую, что опять обжечься боюсь, – сказал Иван, прикурив Павлину и себе, – да если еще и дети… Получится, как у тебя, меня тогда на третий раз не хватит. А если без детей, зачем жизнь тогда? К чему? Для чего, вернее сказать – для кого? Для себя уже надоело.
– Это ты точно сказал. Без детей никуда. И новых заводить боязно – а если опять так же? Я тоже второй раз жениться не надумал. По сердцу как утюгом прошлись, любить-то и нечем уже, одни головешки.
Иван молча кивнул. Этого было уже не видно, но Павлин почувствовал.
– Пить пробовал?
– Да уж, паря… Павлик. Напробовался за милую душу, – вздохнул Иван, – до самого скотства доходил, Люська меня пьяным чуть не из-под заборов вытаскивала да домой отводила. И ей под горячую руку доставалось, но терпит. Аж зло берет, до чего терпеливая баба. Но терпит… сука. Через это я себя совсем подонком ощущаю, вернее, раньше так было, сейчас не пью совсем. Зашился – Людмила настояла, даже врача оплатила. Хотя, что пьешь, что не пьешь – все одно тошно.
Иван помолчал, как будто размышляя, говорить ли дальше, потом продолжил:
– Я все думал, кто виноват в этом во всем? Сначала казалось – все остальные, но никак ни я. Теща, гад этот на мерине, Ленка-сучка… Но потом думаю, а если бы я чуял… ну, вернее, больше беспокоился бы, тещу инструктировал бы получше или вообще бы не доверял, а сам сына возил… хотя я тогда на заводе работал, ну, все равно… Первая-то жена тихо умом тронулась от горя, и я тоже не помог. Не умею я утешать, что ли, не знаю. А теща, мать ейная, мне на глаза вообще показываться не смела, так вот в дурдом и определили… женушку-то. Разговаривать перестала, есть перестала, только иногда… имя назовет… Сережа… сына так звали. – Иван сглотнул комок, закашлялся, но не замолчал. – Тихо там и преставилась. Я тогда в Ленку, через год встретил, как в запой ушел, почти счастливым был, старое горе не то что забывать стал, а как-то новым счастьем, как облепихой ожог, залечивалось. Но, может, я слишком ревнив был или требовал от нее многого, может, ей еще нагуляться надо было, черт ее знает. А красива ведь, зараза, стройненькая… эх. Вот я и думаю, может, я в чем виноват, что со мной случилось, может, и вообще во всем, а? Иначе не ясно, за что это мне все? После Ленки так пил, так меня загибало, ну, я тебе говорил, вот только Люська и спасла… а я даже благодарности не чувствую, тоску только. И опять я виноват – утешать не умею, благодарить не умею, любить не умею… правильно ты про головешки.
Иван замолчал. Молчание было таким же темным, как этот поздний вечер и как эта шепчущая внизу вода. Они сидели, слившись с ночью, и даже не курили.
Через какое-то время Павлин поежился – стало холодно даже в куртке, – но надевать капюшон при Иване как-то постеснялся. Выполнить задуманное – тем более, и Павлин поднялся на ноги.
– Ладно, Ваня, пойду я. Не судьба, видно, сегодня.
Иван молча пожал протянутую руку и снова уставился в темную глубь. Павлин чуть помялся, подумал, может, оставить человеку сигареты, но от Ивана веяло чем-то таким тяжелым, что он почувствовал себя здесь совсем лишним. Перемахнув за перила обратно на мост, Павлин быстрым шагом пошел домой – все-таки он очень сильно продрог. Только через несколько минут он все понял, развернулся и побежал назад, но было поздно – шумный всплеск донесся до него, когда до моста оставалось еще несколько метров. Павлин остановился как вкопанный, потом накинул капюшон и пошел прочь – обратно в темную, холодную, но все-таки жизнь.
2010Кукла
Опыт приходит со скоростью уплывающего имущества – это Владилен усвоил после тяжелого развода. Уплыло буквально все – и приличная трехкомнатная квартира и дача, пусть небольшая, дощатая, но все-таки. Даже машины не осталось – все было записано на жену, теперь бывшую. А все – характер. Широкий был характер у Владилена – когда чего покупали, Владилен оформлял все на нее, мерцающей ему благодарными глазами. Он по-мужски считал – мало ли что с ним может случиться, пусть все останется в семье. Кому доверять, как не матери его маленькой дочки-конфетки? Ан нет, зря доверился. После внезапного развода, и повода-то не было, пара претензий, пара скандалов, и все – «Я так больше не могу, ты нам не подходишь, мы найдем другого папу, который не шляется с друзьями по кабакам и баням, который нас будет беречь», и все такое, – так вот, после развода оказалось, что все уже переписано на «золотую» тещу. И тут опять характер – не потерпел Владилен обиды, «накрутил хвоста», чуть ли не ремнем отлупил. Ну бабе только повод дай завопить – руку поднял, убить хотел, бил головой об асфальт, и все в таком нехорошем духе. Владилен перебрался жить в гараж. Гараж достался ему по наследству еще до брака, поэтому карающе-гребущая длань бывшей жены до него не добралась. Не хоромы, конечно, но все-таки не вокзал. Владилен помаленьку обустроился – пристроил паяльную лампу для готовки, на шинах соорудил ложе, даже занавесочку повесил. Удобств никаких не существовало по определению, но Владилен как-то наловчился обходиться – друзья какие-никакие пускали иногда помыться, когда их «лучших половин» не было дома, снабдили украдкой от них же постельным бельем, предоставляли стиральные машины. Вот с работой действительно случилась беда. И обратно – характер. Работал Владилен официантом, даже старшим официантом в приличном ресторане на Арбате. Приносил домой достаточно – посетителей обсчитывал в меру, чаевые брал даже самые мелкие, с продуктами проблем не было. Клиентам улыбался, поддавал юмор, если гость в настроении, с женщинами немного кокетничал – насчет этого они всегда в настроении. Но раз зашла одна, из новых русских стерв. В белой шляпе, манерная. Молодая, да ранняя – сразу начала «ставить на место».
– Вообще-то полагается даме сразу прикурить дать, а ты даже не пошевелился. Кто тут у вас только персонал набирает? – сказала «дама», вынимая из сумочки пачку тонких сигарет.
Владилен не стал стирать с лица улыбку, хотя тех, кто обращался к официантам на «ты», считал быдлом. Человек воспитанный не станет тыкать, тем более пятидесятилетнему, седому уже мужчине.
– Извините, не успел. – Владилен вытащил зажигалку, но дамочка вальяжно махнула рукой.
– Я теперь уж сама. Меню принеси.
– Меню у вас на столе, – подсказал Владилен.
– Тогда шампанского, пока я выбираю.
Желаемого «Асти Марти» не было.
– Я же не спрашиваю, есть или нет, ты принеси! – сплющила красные губки клиентка.
Владилен пожал плечами и остался стоять на месте. Вообще-то это было не его дело – можно было вызвать сомелье или менеджера, но что-то его зацепило. За десятилетия работы он навидался хамов самого разного сорта, женское хамство, как и женское пьянство, всегда выглядело самым безобразным. Но здесь было что-то еще. Владилен спокойно ждал.
– Ты еще здесь? – Из-под шляпы зло сверкнули черные глаза.
«А ведь красивая, – подумал Владилен, – чего выделывается, ведь не идет ей».
– Так… – прошипела дамочка. – Ты оглох, что ли?
Владилен хотел было позвать менеджера, как в ресторан зашла лысая небритая горилла в дорогом вальяжном костюме.
– Что случилось, кто обижает? – Горилла поцеловал руку стерве.
– Да вот… не приносит заказа.
– Мужик, быстро – ноги в руки и выполнять! – Горилла отвернулся и сел за столик к стерве.
Владилен остался стоять. Он уже не улыбался – смотрел внимательно.
– Ты чего, халдей? – удивился горилла. – Правда, оглох? Так я тебе уши прочищу.
Владилену, бывало, и угрожали по пьяни, но так…сразу, как лакею при крепостном праве, это было в первый раз. Владилен отошел к бару, взял поднос, подошел к парочке и коротко, не размахиваясь, хватил гориллу ребром по виску. Мужик заревел, падая под стол, дамочка завизжала, другие посетители замерли. Прибежал Колян – менеджер ресторана.
– Что случилось? Владилен, что?
Владилен неопределенно махнул рукой.
– Да вы че тут с гостями творите?! – визжала дамочка, вытирая салфеткой кровь с лысого черепа.
Горилла очухался, полез было в драку и уделал бы Владилена по полной программе, если бы другие официанты не растащили. Дело кончилось милицией и увольнением – горилла оказался знакомым владельца. Но хуже всего, что в трудовой книжке по указанию самого владельца оказалась запись – «уволить по недоверию». Это как черная метка – в другие места с такой записью не брали, тем более что конкуренция высокая. Владилен потыкался, потыкался и устроился работать медведем. Знакомый бармен договорился с директором нового ресторана «Медведь» – тому пришла в голову мысль зазывать клиентов ростовой куклой. Вот и ходил теперь Владилен в медвежьей шкуре, размахивал лапами, смешно качал ушастой головой и раздавал рекламные приглашения на бизнес-ланч. Платили сдельно – с клиента, представляшего для скидки такие рекламки. Скудно, конечно, но хоть кормили задарма. Владилен не жаловался, только иногда его мишка ходил грустной, уже стариковской походкой.
Потихоньку медведь – Владилен начал спиваться. В гараже уже было мало места от бутылок, в его районе никаких пунктов приема стеклотары не наблюдалось. Владилен перестал даже наливать в стакан – пил из горла. Жизнь утекала так же – из горла. Владилен брился раз в неделю, умывался по случаю, в общем, стал неизбежно опускаться. Особенно жгла тоска по дочке-конфетке. Жена видеться с Машулькой не давала, да и Владилен сам не хотел показываться в таком виде. Но и издали поглядеть тоже не получалось, жена времени не теряла, завела нового мужа или хахаля с тонированным джипом – теперь дочка в школу не ходила, а ездила. Владилен чувствовал, что дочь, разагитированная матерью, его и знать не хочет. Да и зачем – вот новый папа, у него джип и деньги, зачем нужен родной, но бедный? Владилен женился поздно, разменяв сороковник, и в единственном ребенке души не чаял. Сейчас Машке шел одиннадцатый год, в таком возрасте это поколение соображает не хуже взрослых. Значит, с горечью признавал Владилен, не хочет дочка видеть отца, хотела бы – давно заглянула в гараж, ведь не раз сюда вместе приезжали. Эта обида никак не заливалась, даже когда Владилен перешел на две бутылки в день. Гаражный сторож дед Петро успокаивал – повзрослеет, поумнеет, заценит отца, куда денется. Вона, говорил, сколько детей из детдомов мечтают о родителях, а тут – живой отец. Владилен вздыхал, прикладывался к горлышку и упирал зрачки в какую-то видимую только ему одному стену. Иногда на следующий день после таких посиделок медведь ходил по улице, чуть покачиваясь, но это было даже забавно. Женщины не обращали внимания, а некоторые мужики понимающе усмехались. Хорошо еще, что опохмелиться давали – официанты его, как бывшего коллегу, еще уважали. Владилен снимал медвежью голову, клал рядом с собой на кухне и дергал сто грамм – больше не наливали. Ради него самого не наливали – было ясно, что другой работы Владилену уже не найти. Владилен растягивал этот шкалик на весь обеденный перерыв, получалось, как курить не в затяжку – что-то чувствуется, а кайфа нет. Повариха наливала ему суп помясистей – жалела. Но повариху звали тоже Маша, и, когда ее окликали, заставлявший себя не думать о дочери Владилен невольно чувствовал в глазах сырость.
Через некоторое время Владилена совсем заклинило. Он отворачивался, когда по улице шла или бежала вприпрыжку любая девочка-подросток, не мог смотреть. В горле моментально вспухал ком, из глаз текло. Хуже всего было то, что другого клина, чтобы выбить этот, не находилось. Женщинам он был не интересен, да и не виден из-за своего медвежьего обличья, а в свободное время из своего логова не выходил. Телевизора и даже радио в гараже не было. Водка оглушала, конечно, но не веселила. Цели никакой тоже не было. Некоторое время Владилен притворялся, что ждет. Ждет, когда повзрослеет его Машулька, Маруська, Мася, Марик, Мария Владиленовна и, как обещал сторож, «заценит» родного отца. Но когда прошел очередной Новый год, отмеченный в компании с мишкиной головой на его же шкуре (не стал сдавать администратору), Владилен понял, что ждать нечего. Он давно не живет в сердце своей дочки, и с годами вытравленное зерно не прорастет. Владилен всю ночь вспоминал, какие смешные куклы он ей покупал, как она любила возиться с разными Барби, как делала ей домик, укладывала спать и кормила с ложечки.
– Балби, Балби, Мася тебя любит, – говорила дочурка, кутая куклу в одеяло.
Сейчас он тоже был куклой, но никто о нем не заботился и даже не вспоминал. В крещенские морозы помер Петро – Владилен слышал разговор гаражных соседей. Теперь не осталось никого, кто мог хотя бы посочувствовать за бутылкой. Владилен ушел в глухой запой и, как настоящий медведь, провел остаток зимы в гаражной берлоге. За дверьми нанесло сугробы и, Владилен еле-еле протискивался в узкую щель, выходя оправиться да купить водки и хлеба на закуску. Денег пока хватало: на новогодние праздники директор ресторана расщедрился – одарил сотрудников премией. Что там теперь на работе, Владилен не думал. Выгнали его за прогулы и за присвоение имущества в виде мишкиной головы, нашли замену или ждут еще, ему было все равно. Никто не знал места его обитания, никто не мог его проведать, хотя бы только для того, чтобы вернуть костюм медведя. Он совсем уже не управлял ни своей жизнью, ни своей волей, ни своим горем. Владилен все чаще примеривался взглядом к балке под потолком – веревка в гараже нашлась бы. Но когда это сделать можно в любой момент, спешить тоже не обязательно, и Владилен перекладывал сведение счетов с жизнью на потом.
В один из дней Владилен проснулся с легкой головой. Дверь открылась больше чем наполовину – брызнул свет, снег таял, наступила весна. Владилен огляделся, втянул пахучий воздух, тряхнул головой и скинул пропотевший свитер. Обтираясь колючим еще снегом, Владилен фыркал и шипел от удовольствия. Муть в мозгу осела, мир понемногу прояснился. Владилен сделал несколько приседаний, оделся и, захватив под мышку костюм медведя, двинул на Арбат.
По офонаревшему в перестроечные времена Арбату ходил праздный люд. Кто-то приценивался к сувенирам, кто-то позировал художникам, другие слушали дворовых музыкантов. Владилен остановился у одного дуэта – гитарист и бас-гитарист, – он знал этих ребят. Парень с соло-гитарой и в шляпе, певший негромко, но душевно, лучшее из русского рока, – это был Гена. Гена всегда выступал в одной и той же потрепанной шляпе, говорил, она приносит удачу. Они познакомились в прошлом году, когда Владилен остался последним из публики. Он тогда вместо денег положил в кофр две бутылки пива, купленные на опохмелку. Пивко пришлось кстати, Гена тоже был с бодуна. Разговорились. Гена тоже пострадал от бабы, но по-своему. Как истый художник, Гена не знал меры в любви. Он влюбился сразу и бесповоротно в одну девушку, остановившуюся его послушать. Гена мнгновенно забыл про жену и двух почти взрослых детей, живших в Подольске. Он буквально вымолил у пассии номер мобильного телефона и прыгнул в омут. Девушка оказалась не только обеспеченной – дочерью какого-то дельца, но и сметливой. Генины ухаживания были оценены – с материальной стороны, от него потребовалась красивая и веселая жизнь. Гена тайком от жены заложил квартиру в Подольске. Они гуляли в лучших ресторанах, он покупал ей бриллианты и катал в ночные клубы на лимузинах. В этот период старая шляпа валялась дома. Кредита хватило на полгода, потом Гену зажали. Он выкрутился, семья переехала в две комнаты в коммуналке, но уже без него, жена пригрозила уголовным делом – без ее согласия закладывать недвижимость было нельзя. Гена сунулся к предмету обожания, но там страсть в кредит выдавать никто не собирался. Гена оказался один, на улице, у него в отличие от Владилена не было даже гаража. Голый почти в буквальном смысле – все личные вещи бывшая жена выбросила на помойку. Остались только шляпа и ремесло – хватало на аренду комнаты в коммуналке на окраине. По этому поводу Гена философски говорил, что лучше один раз побывать на вершине любви и упасть в пропасть, чем всю жизнь пастись коровой в низине.
Из стаи сбоку выскочила какая-то размалеванная девица с черными обводами у глаз и пирсингом на губах, подошла, пританцовывая, к басисту и начала извиваться, стараясь стукнуться своей задницей в его. Потом она стала приседать, эротично проводя рукой по его ноге. Басиста звали Сергей. Он неодобрительно косил на девку, но ноги не убирал. Почитательница запустила руку в пах, публика одобрительно заулюлюкала. Сергей сделал пару шагов в сторону, и готка отстала и вернулась к своим. Сергей был много старше Гены, седой и мудрый. Не сделал в свое время никаких глупостей, кроме одной – плюнул в харю председателю худсовета. В советские времена это означало немедленную подпольную славу среди музыкантов и официальное забвение. К тому же на каком-то сборном концерте Сергей умудрился повздорить с Кобзоном. Это было круче, чем с худсоветчиком, и, соответственно, многопоследственнее. Причины у всех разные, результат один – улица. Владилен не раз и не два выпивал с ними после их концертов прямо здесь, на улице. У покореженных жизнью всегда есть, о чем поговорить за бутылкой, еще больше – о чем помолчать. Владилен приветственно помахал рукой, Гена посмотрел на него, но почему-то даже не кивнул, хотя песня кончилась. Серега слушал вновь подошедшую готку и кивал головой – наверное, договаривались об интимной встрече. Такие девушки платят за все не деньгами. Владилен пожал плечами и пошел дальше.
К его удивлению, на месте его ресторана теперь был магазин «Меха». Через витрину Владилен смотрел на девиц, кутающихся перед зеркалами в пышные шубы, и их спутников, лоснящихся господ, вальяжно кивающих продавщицам.
Первое, что пришло на ум: не надо сдавать шкуру. Владилен усмехнулся: получалось, что мишка – его трофей, можно сказать, шуба. Еще подумалось – ничто не вечно, даже рестораны, вернее, особенно рестораны, где наливали и кормили как своего. Владилен всмотрелся в витрину по-другому – на него глядел худой старик с седой бородой и неопрятными седыми космами. Владилен понял, почему Гена не поздоровался, – узнать его было просто невозможно. Это был уже не Владилен, какой-то другой человек, из дальних, неизведанных краев, из лесных трущоб, партизан, старовер, леший.
«Да, именно леший, – подумал Владилен, – но что же делать-то? И ни одного телефона нету – ни Коляна, ни кого из официантов».
Из дверей выглянул хмуролобый охранник, и Владилен отошел от стекла. Подумав с минуту, Владилен начал влезать в медвежью шкуру. Не узнают по лицу, узнáют по морде, думал Владилен, напяливая мишкину голову. Бродячие музыканты могли бы хоть немного покормить и наверняка налить стакан. Может, удастся и в долю войти – а что, медвежья подтанцовка, такого здесь еще не было. Владилен помахал руками-лапами. Шкура за зиму как-то ссохлась, села и давила в подмышках и в паху. Владилен пару раз присел, подпрыгнул – вроде притерлось.
– Ма, смотри, какой медведь уматный, – раздался звонкий голосок за спиной, – ну точно, как тот в цирке, помнишь, куда мы с дядь Сашей на мой день рождения ходили, когда еще ТОТ у нас жил?
Владилен замер, потом резко обернулся – перед ним стояла его дочь, его кровинушка, его Масик и показывала на него пальцем. Рядом облизывала мороженое бывшая жена. В другой руке она держала пару больших картонных пакетов, какие выдают в фирменных магазинах одежды.
– Смотри, медведь выполняет «замри», мам, ну глянь, правда ж, что цирковой и облезлый – видно тож линька! – засмеялась дочка.
Медведь очнулся, сделал поклон и протянул лапу девочке.
– Ой, здорово! Мама, ничего, если с ним поздоровоюсь?
Женщина со вздохом кивнула – видно, дочка уже не раз ее отвлекала от шопинг-маршрута. Девочка сделала осторожный шаг и вложила свою ладошку в большую кожаную лапу. Медведь вдруг потянул на себя и взял девочку на руки.
– Эй! – всполошилась женщина.
Девочка, однако, совсем не испугалась и погладила медведя по голове. Медведь осторожно покрутился на месте, словно танцуя с ребенком на руках, потом опустил ее на землю, встал на четвереньки и, словно большой кот, потерся головой о девчачью шубку. Так они часто играли в детстве – он был тигром или львом, Масик была укротительницей.
– Хороший миша, очень хороший. – Девочка снова погладила медведя по голове.
– Ну хватит уже. – Бывшая жена бросила мороженое, получилось – под медвежью морду и потянула девочку за собой. – Он какой-то непромытый. Пошли, темнеет уже.
Девочка еще пару раз оборачивалась – медведь стоял уже в полный рост и махал лапой ей вслед. Если бы она была рядом, то услышала, что медведь еще и говорящий.
– Папа тебя любит, папа тебя очень любит, папа тебя любит больше всех на свете, – все тише и тише говорил медведь.
Кончился какой-то завод, и медведь замолчал. Он стоял так до самой темноты – молча и не шевелясь, не обращая внимания на других детей, что останавливались и глазели на него. Потом снял шкуру, превратившись опять в старого неопрятного человека, взял ее под мышку и куда-то ушел. Больше медведя на Арбате не встречали.
Владилена обнаружили только к лету, когда из его гаража уже явственно слышался трупный запах. Когда взломали дверь, даже бывалый участковый, вызванный новым сторожем, оторопел. Такого он еще не видел. В петле висел седой старик в медвежьей шкуре. Меховая голова со стеклянными глазами лежала на полу – видно, свалилась с висельника. На столе, придавленная отверткой, лежала записка. Участковый вызвал опергруппу с судмедэкспертом, взял бумагу и вышел на свет. Ровным красивым почерком было написано странное:
«КУКЛУ МОЖЕТ СЛОМАТЬ ТОЛЬКО РЕБЕНОК».
2010Сутяга
Судья одного из мировых судов города Челябинска Лена Войнович была молодой и красивой женщиной тридцати лет и отзывалась на «девушку» вполне оправданно. Хотя коллеги называли ее уважительно Еленой Викторовной, но обращение «Леночка» шло ей больше. Потому также, что ее большие зеленые глаза были распахнуты на добро и веселье, словно муть уголовных и гражданских дел ее подопечных никогда не оседала в них жизненным илом. Или оттого, что Лена имела недевичью волю и не давала ежедневному рабочему злу застилать от нее солнце. Этот понедельник в отличие от огромного большинства русских понедельников начался с очень хорошей новости – Елену Войнович перевели из мировых судей в федеральные. Назначили пожизненно, а это означало стабильность. С мужем Лена рассталась пару лет назад, поэтому стабильность помогала в другом – написании докторской диссертации (это в тридцать-то лет!) и романтических увлечениях на независимой финансовой основе. И погода в этот понедельник была под настроение – солнечная и недушная, с легким ветерком, который так и хотелось назвать бризом.
Дверь в кабинет, с которым надо прощаться, открылась по-особенному. Как все становится особенным, когда в последний раз. В этот последний день в должности мирового судьи Елена Викторовна должна была разобрать поступившие иски (заседаний сегодня не было, но после обеда был прием граждан) и расписать уже кому-то из коллег. Дело обычное, отказ или прием в производство исполняется по процессуальному трафарету. Секретарь – девушка еще моложе самой судьи – притащила из канцелярии стопку дел. Стопка была, на радость и на редкость, не пухлой. Непонедельничный понедельник, но раз уж с утра задался, так, значит, и пойдет хорошо, улыбнулась сама себе Елена Викторовна и открыла первое дело. Через двадцать минут оно уже было расписано, еще через полчаса Лена легко справилась со следующим. День и вправду катился, как по маслу. Потом масло немного загустело – пошли неприятные тяжбы по разделу имущества. Но и это, слава Богу, было изучено и расписано. Обеденный перерыв уже был в разгаре, и последнюю тоненькую папочку Лена решила дочитать в столовой суда. Взяв один салатик и суп – Лена следила, чтобы стройность фигуры также была стабильна, – судья поуютней разместилась за угловым столиком, черпнула ложкой и открыла папку с делом.
«454 091, улица Коммуны, 87
Центральный районный суд г. Челябинска
Истец: Попов Василий Петрович,
454 006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 11, кв. 13
Ответчик: Попова Глафира Петровна, 454 006, Челябинск, ул. Российская, д. 11, кв. 13.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании брака недействительным
Суть моего заявления в следующем:
В марте 1961 года по приказу начальника Карталы и некого отделения ЮУЖД я прибыл на станцию Буранная для работы в должности начальника станции. Был я молод, холост, наверное, красив, и деревенские девушки бегали за мной буквально «табуном». Но больше всех старалась «молодуха» Глашка Новикова. Она вцепилась в меня буквально «клещами». Было ей тогда от роду 14 лет, и только 6 мая 1961 года ей исполнилось 15 лет. Боясь, что я не стану связываться с ней, она обманула меня, сказав, что родилась в 1944 году, т. е. прибавила два года.
Не буду рассказывать о «подвигах» этой «молодухи». Пускай лучше расскажут свидетели. Скажу лишь, что в 13–14 лет она уже была женщиной (моей вины нет)… – На этом месте Елена Викторовна чуть не поперхнулась супом. – …в апреле 1961 года бросила школу, не окончив даже 8-го класса, все время слонялась с парнями – строителями (на станции строилось два 4-квартирных дома) по посадкам, нигде не работала и т. д.
Единственная стратегическая цель ее была – одурачить меня и женить на себе. В период с сентября – декабря 1961 года она вместе со своей матерью, а также своими бывалыми подругами в результате принуждения, обмана и шантажа вынудила меня согласиться на временное совместное проживание…»
Судья вздохнула и отложила дело. Если так пойдет и дальше, аппетит совсем пропадет. Все дела были не очень-то простыми, но этот истец был истым сутягой. В ее практике приходилось делить не только квартиры и комнаты, но даже столовую утварь, и тем не менее такого описания своей «второй половины» Лена еще не встречала. Стало грустновато, но Лена встряхнула своими золотистыми волосами, которым позавидовала бы и Лорелея, и, улыбнувшись сама себе, принялась за салат. Иногда она ловила себя на мысли, что, разбирая по должности тяжбы самых разных людей, особенно родственников, немного радуется. Не проблемам и даже горю истцов и ответчиков, а тому, что ее это все миновало. Так человек, помогающий соседу тушить дом, невольно радуется, что пожар не дошел до его собственного. «Интересно, что бы про меня мой бывший написал, если бы чего-нибудь делили? – усмехнулась молодая судья. – Что я его тоже вынудила на совместное проживание?»
До конца перерыва оставалось еще несколько минут, Лена отодвинула тарелки и снова открыла дело.
«В декабре 1962 года у нас родилась дочь. Свидетельство о рождении было выдано на фамилию Новикова И.А. В конце августа 1963 года я уехал на учебу в г. Новосибирск и возвращаться, естественно, не собирался. После окончания первого года учебы, в августе 1964 года, по пути из дома (Донецкая область) в Новосибирск я заехал на станцию Буранная, где работал до учебы в институте, для сдачи своей квартиры, в которой жила моя сожительница с ребенком и на которую я уже потерял право. Во время прибытия туда я ужаснулся, в каких условиях она живет: работает путевым рабочим в бригаде, где тяжелый физический труд, вся исхудала, страшная. Со слезами бросилась ко мне и начала жаловаться на очень тяжелую жизнь, что она только живет надеждой на то, что я заберу ее в Новосибирск. Особенно дико было слышать от ней, что родные родители ничем не помогают.
И я, находясь в таком оцепенении, забыл про все ее “подвиги”, совершенные ранее, и, пожалев ее и дочь, согласился. Все же я жестко заявил ей, что прощаю все грехи ее на Буранной, но если и дальше она позволит себе что-то подобное, безжалостно выгоню ее. Она поклялась, что всю жизнь будет мне верной женой и будет ухаживать за мной, как служанка (сейчас она уже отрицает, что обещала быть верной женой, говорила, мол, только служанкой). Не разглядел я тогда безумной подлости и дикого аферизма этой женщины, ее креда жизни… – Лена, обладающая абсолютной грамотностью, в этом месте поморщилась. – …не поддающегося человеческому разуму, за что и жестоко поплатился. В конце августа 1964 года мы с женой уехали в Новосибирск, оставив дочь у родителей жены».
Лена захлопнула папку. Все-таки такие «печальные повести» комфортней читать за письменным столом. Перед кабинетом уже сидели ожидающие приема. Один интеллигентного вида старик с седой эспаньолкой и старомодными роговыми очками на орлином носу встал, видимо, в очереди был первым.
– Проходите, – бросила Лена на ходу, хотя обычно посетителей приглашала секретарь. Но это был последний день на этом месте, и церемониться не хотелось.
– Здрасьте! – Если бы вместо очков с толстыми линзами, напоминавшими бутылочные донышки, дедуля носил пенсне, его можно было принять за ожившего, но сильно постаревшего Чехова.
Чехов был уже наполовину в кабинете, но искал глазами подтверждения, что можно войти целиком. Лена села за стол, открыла папку и кивнула, мол, проходите, не задерживайте очередь.
– Спасибо, здрасьте еще раз! – Старик суетливо присел на стул напротив. В этом он, конечно, проигрывал Чехову – классики всегда степенны.
«Приехав в Новосибирск, мне пришлось много “побегать” по милицейским кабинетам, чтобы прописать жену. После прописки трудностей в поиске работы не было, и она устроилась на работу на предприятие – почтовый ящик, где изготавливали полупроводниковые приборы (диоды, триоды и т. д.). Попутно я заставил ее поступить в вечернюю школу рабочей молодежи для получения среднего образования.
Уже через две недели с момента начала женой работы я понял, что натворил, взяв ее с собой в Новосибирск. Начав работать во вторую смену, она почти постоянно возвращалась домой на полтора – два часа позже. Нетрудно было понять, что она изменяет мне с кем-то из заводских работников. Мне же она “вешала лапшу на уши” и нагло врала».
– Извиняюсь, – кашлянул «Чехов», – я насчет своего дела…
В другой день Елена Викторовна, может, и заметила бы ему, что здесь все по делу, но сегодня лишнее напряжение было именно лишним.
– Я вас слушаю.
– Ну… я того… Попов моя фамилия…
Лена сразу посмотрела на папку иска – неужели этот сутяга? Да, очевидно, он.
– Василий Петрович?
– Да, да, собственной персоной. – Старик придвинулся на самый краешек стула и заглянул Лене в глаза. – Вы, позвольте поинтересоваться, ознакомились с моим делом?
– Да вот, знакомлюсь. – Лена, как могла, нахмурила красивый лоб. – Что ж вы о своей супруге нелицеприятно-то так? И столько лишнего написали… диоды, триоды какие-то…
– Истая правда. – Попов так нервно приложил руку к сердцу, что могло показаться, что схватился от боли. – Все правда, и ничего, кроме правды. Такая она… Вам, товарищ судья, как женщине, может, и неприятно будет слышать…
– Обращайтесь ко мне «Ваша честь»! – осадила Лена. – Мне и читать-то неприятно, не то что слушать. Подождите минуту, я перечитываю как раз.
«Мне стыдно было разводиться с ней практически через месяц после приезда. Стыдно было перед самим собой, перед институтскими товарищами по курсу, тем более что я был комсоргом курса. И я решил терпеть до окончания института, после чего развестись. За все время проживания в Новосибирске жена “порхала” как бабочка, была беспредельно веселой и довольной, со смехом ходила на аборты, которых она сделала практически за три с половиной года аж десять штук!».
Лена подняла глаза на истца и покачала головой. Попов хотел понимающе улыбнуться судье, но вышла какая-то гримаса.
– Так уж и десять штук абортов? Документы подтверждающие имеются?
Попов заерзал.
– Не то чтобы не имеются… понимаете, това… Ваша честь, она их у какой-то знахарки или полуподпольно…
– Понятно, не объясняйте. – Лена махнула рукой и продолжила читать.
«По окончании института я был направлен на работу в г. Карталы. Сразу по прибытии туда я позвонил своему отцу в Донбасс и рассказал ему о жизни в Новосибирске и принятом решении развестись с женой. Он напомнил мне, что я не спросил согласия родителей, ни когда уехал на Урал после окончания техникума, ни когда женился, чем сильно обидел его и мать. Оставив решение этого вопроса на моей совести, папа попросил меня помнить, что в нашем роду до сих пор никто и никогда не бросал детей. Последними словами он обрек меня на долгие годы жизни с неверной женой.
За первые три года жизни в Карталах жена сделала только два аборта… – Тут Лена не смогла сдержать усмешки. – …хотя условия нашей половой жизни абсолютно не изменились по сравнению с Новосибирском. Это объективно доказывает ее двойную половую жизнь в Новосибирске (со мной и заводскими ходоками)».
Лене стало нестерпимо смешно. Захотелось взяться за живот и рыдать навзрыд от хохота. Если бы не сидевший рядом истец, у нее началась бы истерика. Пришлось обхватить голову руками, чтобы несчастный Попов не видел растянувшихся губ. Старик вздохнул, видимо, догадался, на каком месте остановились глаза судьи. Лена подавила спазм и взглянула на истца.
– Послушайте, но это же… но так же нельзя… гражданин… Попов…
– Что нельзя? – Попов поджал губы и повел орлиным носом.
Увеличенные линзами до неправдоподобия карие глаза блеснули обидой.
– Ну при чем здесь… зачем писать о каких-то ходоках… зачем это все… Вы ж себя унижаете, а не супругу.
Попов заерзал на стуле.
– Это Глашка, стерва, меня всю жизнь унижала. Всю жизнь эту гадюку подлую пригревал… кусачую. Все же истая правда, ей-Богу! Хотите, перекрещусь?
Лена не успела помотать головой, как Попов вскочил и положил три размашистых креста с поклонами.
– Здесь не храм, а суд. – Лена взглядом усадила истца обратно. – Не надо паясничать!
– Вот вы такая молодая… и красивая, а старика обижаете. Кто ж паясничает? Никто не паясничает. Я объясняю вам… – Попов ткнул коряжистым пальцем в сторону стола. – …там только правда написана. От первого до последнего… альфа, так сказать, и омега!
– Что? – Лена снова почувствовала накатывающий приступ смеха. – Какая омега?
– Ну… я это… как в Библии, сказал. Альфа и омега… так Христос говорил… в том смысле – от первой до последней буквы…
– Вы такой верующий человек? А написали, что комсоргом были, – уточнила Елена Викторовна и тут же пожалела – Попов снова вскочил.
– Я очень верующий. Всегда в Бога верил! Даже во времена Советской власти! Комсоргом тоже был, но верил! Тайно! Крестился, правда, при перестройке! В церковь хожу. Каждое воскресенье! Молитвы знаю. Хотите – «Отче наш…» прямо с ходу? Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет…
– Прекратите уже! Сядьте! – Лена сама привстала.
Из совещательной комнаты на шум выглянула секретарь.
Попов печально глянул на нее и, не найдя сочувствия, покорно сел.
– Могу и Архангелу Варахиилу – покровителю благочестивых семейств…
– Не надо никаких архангелов! – Лена опустилась в свое кресло и махнула рукой, мол, все нормально.
Секретарь скрылась за дверью.
– У вас-то у самого с благочестием в семье не очень, я погляжу, – примирительно сказала Лена, Попов начинал вызывать у нее какую-то жалость.
Попов глубоко вздохнул, но говорить что-то пока не решился. Лена стала читать дальше.
«Так она жила и в дальнейшем, особенно в Воркуте, вплоть до 2005 года включительно. Как она случайно призналась мне в ноябре 2009 года, что половую жизнь вела по принципу “каждый сам по себе”, несмотря на то что такого договора между нами никогда не было. Все это я терпел ради детей. Сначала ради дочери, с 1964-го по 1982 год, затем ради сына, с 1982-го по 2008 год. И так “дотерпелся” до 2010 года, пытаясь выполнить просьбу сына о строительстве садового дома.
В связи с вышеизложенным
Прошу Вас, Уважаемый Суд:
В соответствии с положением абзаца два, пункта один статьи 28 Семейного кодекса РФ признать недействительным брак с моей женой от 01. 08. 1964 года и восстановить добрачные фамилии.
За оскорбление женой (своим поведением) моей чести и достоинства личности, а также моего доброго имени и в соответствии с положением пункта 4 статьи 30 Семейного кодекса РФ и статей 150, 151 и 1099–1101 ГК РФ взыскать с моей жены за причиненный моральный вред 500 000 рублей. При этом необходимо учесть, что по гороскопу я Скорпион. А он при страданиях пожирает себя и в состоянии раздражения свой яд направляет как раз на себя, т. е. является “самоедом”.
Невозможно даже представить себе, сколько нервных клеток я потерял за 46 лет жизни с неверной женой.
3. Свидетелями моих страданий являются:
Тяпкин Иван Семенович, работавший вместе со мной в 1961–1963 годах на станции Буранная и проживающий сейчас в г. Магнитогорске по улице К. Маркса, 5, кв. 12.
Данилова Тамара Ивановна, проживающая в г. Чесма Челябинской области, улица Уральская, 37.
И другие по мере нахождения.
В.П. Попов11 июля 2010 года».Лена подняла глаза на Попова. Тот сидел смирно и гладил свою «чеховскую» бородку. Зашевелившаяся было жалость к «самоеду» исчезла. Лена знала по опыту – переводить свои чувства в деньги обычно пытаются бесчувственные люди. Оцененное в рублях горе – и не горе вовсе, а так… повод заработать. Что ж о счастье говорить. Все думают – вот нахапаю золотую кучу и буду счастлив. Накуплю роскоши, и вот оно – счастье. Так и муж бывший до сих пор думает. А когда не получается – так хоть «горе» отоварить.
– Что ж так мало просите?
– А? – взбодрился Попов. – А можно больше?
– Полмиллиона за сорок шесть лет… чуть больше десяти тысяч за год…не продешевили, гражданин Попов?
Попов ответил не сразу, повел носом.
– Насмехаетесь, тов… извиняюсь… Ваша честь?
Лена закрыла папку.
– Я не могу принять ваш иск к производству, гражданин Попов.
Старик снял очки, полез в карман – видимо, за платком – и, не найдя ничего, нацепил очки обратно.
– Это почему же, извиняюсь?
– По многим причинам. Процессуального характера.
Попов снова заерзал.
– Ну-ну?
– Василий Петрович! Брак, зарегистрированный в соответствии с нормами законодательства о браке и семье, невозможно признать недействительным. Есть Семейный кодекс. Он содержит исчерпывающий перечень оснований удовлетворения судом данных исковых требований.
– Ну вот! У меня как раз требования…
Лена подняла руку.
– Не перебивайте, гражданин Попов!
– Да-да, извиняюсь, слушаю, слушаю. – Старик пересел на самый краешек стула.
– Ну так вот. К таким требованиям относятся: отсутствие взаимного, повторяю – взаимного – добровольного согласия мужчины и женщины, вступающих в брак, недостижение кем-нибудь из них брачного возраста, наличие у них… ну, в данном случае у кого-нибудь из вас с гражданкой Поповой нерасторгнутого брака, заключение брака между близкими родственниками… ну, и много еще требований. Вы же не были близкими родственниками на момент брака?
– Да Боже упаси! – Попов снова вскочил и широко перекрестился.
Судья только вздохнула.
– Короче говоря, ваш иск рассматриваться не будет. Подробный письменный ответ сможете получить в канцелярии.
Попов только сейчас понял, что ему отказали. Оставаясь стоять, поправил галстук, давший слабину при размашистых наложениях крестов, и погладил бородку.
– Вы знаете что? Я на вас буду жаловаться. Прокурору! До Верховного суда дойду! До президента! До…
– Хоть Господу Богу жалуйтесь, – устало сказала Лена, у нее начало поламывать в висках.
– И Ему! У вас будут неприятности! – Попов тыкнул вверх пальцем, указывая то ли на высокое начальство, то ли на Высшее.
Лена покачала головой и посмотрела на часики. Все-таки это слишком сладко, если бы последний день прошел без историй. Но терпеть оставалось недолго – еще несколько часов, и все. Попов неожиданно бухнулся на колени. Лена онемела.
– Умоляю, дочка! Ну, рассмотри ты мое дело, Христом Богом прошу! Ведь никакого сладу с ней нету, змеюкой подколодной! И деньги эти не мне нужны! Не мне – сыну! Болеет он, дочка, рак у него! Операция, сама знаешь, сколько стоит! Я все свои отдал уже, и этих, боюсь, не хватит! Понимаешь ты?! А матери хоть бы хны, что он помрет через полгода, понимаешь ты или нет!!
Из-под толстых линз потекли слезы. Лена спохватилась и выскочила из-за стола.
– Да вы что! Встаньте немедленно! Василий Петрович, встаньте, я вам говорю!
Из совещательной комнаты снова выглянула секретарь и так и осталась стоять с разинутым ртом. Старик посмотрел на нее, замолк, но не обмяк, как бывает при истериках, а как-то подобрался, шмыгнул носом и встал. Отряхнув колени и поправив очки, молча пошел к дверям. Лена и секретарь смотрели ему в спину. Попов открыл дверь, чуть помедлил и вышел не оборачиваясь. Лена посмотрела на секретаря. Та пожала плечами, мол, много сумасшедших ходит. Лена села за стол и потерла виски. Все-таки понедельник – всегда понедельник и совсем без происшествий не обходится. Виски заныли больше. Надо бы выпить анальгетик и продолжать прием, но таблеток не было ни у нее, ни у секретаря. Судья послала ее за обезболивающим и сама пригласила следующего посетителя. В кабинет вошла пожилая женщина и уверенно уселась напротив. Лена приготовилась выслушивать очередную сутяжную историю, как вернулась секретарь и положила на стол таблетку.
– Не поверите, Елена Викторовна. Ни у кого из судей не оказалось, даже у девочек в канцелярии. Этот, с бородкой внизу стоял, вытирал сопли. Услышал, как я спрашиваю, полез в карман и просил вам передать. Анальгин. Старомодно, пенталгин было бы лучше, но на безрыбье…
– Извините, – спокойно сказала Лена, встала из-за стола и вышла из кабинета.
Попов стоял на улице. Стоял, как стоят люди, не знающие, куда идти.
Безнадежно как-то стоял. Лена подошла вплотную. Старик удивленно заморгал – в толстых линзах это выглядело совсем по-детски.
– Знаете что? Вот вам номер. – Лена вытащила ручку из-под мантии. – Это мой хороший знакомый врач. Онколог. Я его предупрежу – он вашего сына посмотрит. Постарается совсем недорого. Найдется, куда записать?
Попов перестал моргать и вздернул бородку.
– Напрасно умасливаете, товарищ судья! Жалобу я все равно напишу, так и знайте!
В глазах Попова темнела глухая злоба. Лена повернулась и пошла в здание суда. На столе лежала таблетка и ждал предупредительно налитый секретарем стакан воды. Посетительница сидела, капризно поджав губы. Лена еще раз потерла виски, взяла таблетку, повертела в изящных пальцах и выбросила в корзину.
– Слушаю вас…
2010Русский лабиринт
В одном намоленном городке в Подмосковье за стойкой бара в самом дорогом местном ресторане сидел крупный подвыпивший мужик лет пятидесяти. Ему было хорошо. Он вонзал строгие глаза в каждого входящего, будто подозревая, что тому не нравится, когда ему хорошо. Некоторые посетители отводили взгляд, а то у нас ведь как – сначала вопрос «чего уставился?», потом вне зависимости от ответа – «ты сам кто такой?», потом слово за слово – и вот, пожалуйста, драка, милиция, протокол. И все на пустом месте. Но некоторые задерживались глазами на его холеном, но опухшем лице, «фирменном» пиджаке и крупном перстне на правой руке.
– Варя, а ну-ка – водочки мне плесни, красава! – громко, на весь зал сказал мужчина официантке за стойкой, не отворачиваясь от входящего посетителя.
Барменша Варя – полная аппетитная женщина в фирменной рубахе «а-ля рюсс» – только качала головой.
– Да полно уж, Валерий Степаныч, шли бы домой, жена же ждет.
Было понятно, что Валерий Степаныч гость здесь неслучайный.
– Жена на то и жена, чтобы ждать! Зачем мы, мужики, на вас, дурах бабах, женимся, а? – вопрошал мужчина, принимая от барменши рюмку. – Зачем, я тебя спрашиваю? А?
Варя с понимающим смешком пожимала пампушными плечами.
– А-а! – Мужчина поднял палец с перстнем. – А затем, чтобы она, то бишь жена… ждала! Вникаешь? За нее!
Варя вздохнула.
– Степаныч, ну мы тебя ждем на крыльце, задубели уже… – В ресторан вошел другой мужчина, помельче Степаныча, в куртке-аляске и нерповой боярке.
– А-а! Паша! Ты вот там меня ждешь, жена меня дома ждет… – Валерий Степаныч обернулся к барменше за подтверждением, Варя утвердительно кивнула. – А я здесь жду! Мы все ждем, и все в разных местах! Вникаешь?
Мужчина, названный Пашей, подсел за стойку.
– Варвара! По рюмахе нам быстро организуй!
Барменша вздохнула. Но спорить с авторитетным Степанычем не решилась.
– Павел! Давай за тебя! Вот сколько я тебя знаю, а сколько я тебя знаю?
– Лет пять.
– Во! Вникаешь, я тебя пять лет знаю…
– А то и больше, – задумался Паша.
– Во! Даже и больше…и ни разу…слышь…ни разу ты меня не подвел. Вот я тебя не люблю, можно сказать, в тебе мне многое не нравится, а за это вот люблю! Потому что – ни разу… – Степаныч поднял драгоценный палец, – …ни разу не подвел. Вникаешь?
Паша с тоской посмотрел на рюмку, почти в точности повторив Варин вздох. Было понятно, что свое он сегодня отгулял. Мужчины смачно чокнулись и выпили.
– Степаныч, все, давай, все уже замерзли на улице. – Паша взял товарища за руку.
– А чего они мерзнут? – удивился Степаныч. – Пущай сюда идут, я угощаю!
– Мы тут уже полдня просидели, пора уже! – возразил Павел. – Вон, другим отдыхать мешаешь! – Павел указал на скромную пару за ближайшим столом.
– Я мешаю?! – изумился Степаныч. – Парень, я тебе мешаю?
Молодой человек быстро помотал головой и даже приложил руку к сердцу, какая, мол, помеха, все нормально.
– А бабе твоей мешаю?
Юноша помотал головой и за спутницу.
– Вишь! – Степаныч повернулся к приятелю. – Совсем не мешаю, а даже наоборот! Вникаешь? Это жинка твоя? – Степаныч снова отвлекся на соседний стол.
Было заметно, что молодой человек напрягся. То ли девушка с ним была «неофициально», то ли он не знал, как ответить.
– Ну ладно. Не обращайте внимания, молодежь. Давай, одеваемся уже. Где твой номерок?
– А где мой номерок? Вот он, мой номерок. – Степаныч бросил на стойку гардеробный номерок, словно фишку на рулетку, и снова уставился на спутницу молодого человека.
Варя передала номерок рядом стоящему официанту, совмещавшему, по-видимому, должность гардеробщика. Вместе с Пашей они кое-как напялили на Степаныча меховое пальто и нахлобучили дорогой лисий малахай. Повели, держа под руки, к выходу. Молодой человек, не стесняясь своей дамы, выдохнул с облегчением.
– Погодь, а на ход ноги? – вдруг опомнился Валерий Степаныч. – Как же без посошка, а? Нет, погодь! Варя!
Буфетчица, убиравшая было рюмки, выпрямилась.
– Варюха! Давай нам это…на посошок! Не…стременную пока! Вникаешь?
Варя досадливо поставила рюмки на стойку, молодой человек по соседству закусил губу.
– Эх, Варюха! Ты знаешь, как я Пашку уважаю! – Степаныч положил свой малахай на стойку и расцеловал товарища трижды, по-православному.
Паша почти не уклонялся.
– Ну, давай накатим!
– Давай, Валерий Степаныч, но по-быстрому. Люди ведь ждут.
– Ждут…ждут, ждут…мы все кого-то ждем…а кого?
– Кого? – сконцентрировал внимание Паша.
– Во! Мы ждем того, кто ждет не нас…кого угодно, но не нас. Вникаешь? Вот моя жена, к примеру. Я ее ребенка усыновил, пасынка, то есть…сейчас взрослый уже – вон, как этот охламон. – Степаныч опять уставился на юношу. – Тебе сколько лет-то, охламон?
– Тихо, Степаныч, не бузи! – Паша взял товарища за руку и попытался сдвинуть с барного стула.
– Вот такой же молодой охламон. – Степаныч перевел взгляд на друга. – А знаешь, что он у меня деньги из бумажника пиз…т?!
– Тихо, не ругайся громко, чего ты? – Паша потянул сильнее, но безрезультатно.
– Я тебе говорю! Причем незаметно так, из тридцати тысяч – три. – Степаныч показал три пальца. – Из двадцати – две. – Степаныч загнул один палец. – Из десяти…
– Одну! – закончил за друга Паша.
– Откуда ты знаешь? – изумился Степаныч.
– Догадался. Пошли, Степаныч, самая пора уже.
– Ты что, мои деньги считаешь? Мои деньги считать удумал? – Степаныч хотел взять товарища за грудки, но Паша его руки хоть и вежливо, но уверенно с себя снял.
– Да никто ничего у тебя не считает, что ты! Почапали!
– А ты знаешь, сколько у меня денег? Хошь, скажу?
Паша поморщился.
– Это твои деньги, зачем мне знать. Ну, пошли.
Степаныч помотал головой.
– А я тебе скажу! А я скажу! У меня денег…у меня денег…внукам хватит, вникаешь? Я все девяностые эти, мать их туды-сюды, по тонкому льду ходил, чтоб свое взять. Чтобы то, что мне положено, взять. Чего только не было, да ты сам знаешь, чего было. Чуть не посадили, а стрелок сколько забивали, а? А сколько пацанов на этих стрелках полегло, а? За пацанов! Варя, по полной! За пацанов!
Опытная барменша подвинула рюмки – налила заранее.
– За пацанов! Давай! – Степаныч опрокинул свою одним махом.
Паша чуть попридержал, выдохнул и выпил.
Был пацан, и нет пацана Без него на земле весна, И шапки долой, и рюмку до дна За этого пацана.На последней строчке Степаныч уронил голову на Пашину грудь и рыдалисто вопросил:
– А знаешь что?..
– Знаю. Мы должны идти уже. Пойдем, Валер. Пойдем, дорогой.
– Мы пой… пойдем другим путем!
– Вот именно. – Паше как-то удалось стащить товарища со стула. – К другим!
Друзья направились к выходу, шатаясь, как на палубе в шторм. Юноша – «охламон», не выпускавший их ни на минуту из периферического зрения, заметно приободрился и что-то сказал своей подруге. Та помотала головой, отказываясь. Когда за «пацанами» закрылась входная дверь, в зале стало ощутимо тише и можно было расслышать, как молодой человек заказал официантке кофе с молоком и тортик. Официантка посмотрела на девушку, та снова помотала головой – было ясно, что ей хотелось уйти отсюда поскорей. Этого хотел и ее спутник, но когда «опасность» миновала, он, видимо, расхрабрился. И напрасно, потому что, не успела официантка отойти за заказом, в зал снова ввалилась та же компания, и даже в расширенном составе. Степаныч вел за одну руку Пашу, за другую – женщину в желтой дубленке с капюшоном. Женщина упиралась заметнее.
– Наташа! Наташенька! Красавица моя! Сейчас выпьем за твою красоту и, точно, пойдем! Вникаешь?
– Валера, ну сколько можно? Тебя же дома ждут, мы ждем, все ждут, ну! У тебя же дочка больная дома, а ты все…
– Варя! – не поддавался на увещевания Степаныч. – Давай еще одну рюмаху!
Буфетчица с отрешенным видом достала три рюмки и бутылку водки. Степаныч взгромоздился на стул и почти насильно усадил женщину. Павел остался стоять.
– За милых дам! – провозгласил Степаныч и сильно чокнулся с Наташей, чуть не выбив рюмку из ее пальцев.
Наташа переглянулась с Павлом, и оба покорно пригубили.
– Не! Так не пойдет! – не потерявший бдительности Степаныч не дал им опустить рюмки на стойку. – За дам – до дна!
Выпили до дна.
– На-та-ли! Но в дороге я устал…На-та-ли! Утоли мои печали, На-та-ли! – запел во весь голос удовлетворенный Степаныч.
«Охламону» принесли кофе, тот нетерпеливо стал пить его горячим и поперхнулся. Степаныч смолк и вперился мутными глазами в молодого человека.
– Тебе что, песня не нравится? Или Натали?
В его голосе звучала уже неприкрытая угроза. «Охламон» отвернулся к окну и усмехнулся, но так, про себя, чтобы не было заметно. Натали дернула Степаныча за рукав – не приставай, мол, к посетителям. Степаныч высвободил руку и начал приподниматься со стула.
– Варвара! – приказал многоопытный Паша, рюмки сразу наполнились.
– За здоровье твоей дочки! – Паша действительно давно знал Степаныча – внимание того мигом переключилось.
– Во! Давай! Давно пора! Знаешь, какая она лапочка у меня… – у Степаныча из кармана донеслась металлическая мелодия «Раммштайна». – Вникаешь, легка на помине.
Следующие несколько минут весь ресторан слушал разговор Степаныча с дочерью.
– А ты скажи маме, что я уже еду… Ну час назад я тоже ехал, только не совсем… тут меня задержали немного… – На этих словах Паша с Натали переглянулись. – Лекарства?.. Какие лекарства?.. Ах, для мамы… ну, купил… почти… а мама тоже зачихала?.. Эту… флюенцию подхватила?.. А, от сердца, ну, слава Богу, то есть что я говорю… мы тут как раз за твое здоровье, доченька… в смысле обсуждали… мамино тоже… а какие конкретно лекарства, напомни. – Степаныч полез было в пиджак за ручкой, но расторопный Паша протянул свою. – Ага… ага… вникаю… записал, доченька, все куплю… а ты как себя чувствуешь? Еду, еду…
Степаныч положил телефон на стойку вместе с салфеткой, на которой записывал названия лекарств.
– Вишь, какая она меня – сама больная, а о маме заботится…
– Валера, ну вот, уже вся семья болеет, ехать надо, – решительно встала Натали.
Степаныч покосился на пустую рюмку, но возражать не стал. Нахлобучив свой пышный рыжий малахай на самые глаза, он обнял Пашу и Натали, так что, когда они выходили, можно было подумать, что тащат раненого.
– Кто был со мно-о-ю, все меня поки-и-ньте! – вдруг пьяно запел Степаныч у самых дверей, оттолкнув сопровождающих. – Я заблудился, вы-ы-хода мне не-ет, в тебе бро-жу я, сло-овно в лабиринте…
– Вот выход из лабиринта, – успокоил Паша, открывая дверь.
Юный «охламон» пробормотал про себя, что, мол, давно пора на выход. Степаныч сделал было шаг на улицу, но остановился.
– А может, я сердцем заблудился? А может, я ее не люблю, вникаешь?
– Кого? – устало спросила Натали.
– А никого! – Степаныч мотнул головой, будто бодаясь. – Никого!
– Да ладно тебе, пошли. – Паша потянул друга за порог. – Они зато тебя любят!
– За что – за то?! Если любит, почему она тогда глазки всем строит, а? – предъявил Степаныч. – На любой тусне, сука, со всеми танцует, кто пригласит. Я знаю – мне Ирка, подруга ейная, рассказала. Никому не отказывает, тварь. Я уже ей раз сказал – что узнаю про тебя конкретное, не мужика бить буду, а по тебе пройдусь, так она чуть на развод не подала, самка задрипанная. А как деньги кончаются – так сразу «Валерчик, Валерчик, хороший мой». Вникаешь?
Паша вздохнул.
– Ну что ты хочешь, баба и есть баба.
– Тоже мне, подруге поверил, – подключилась Натали. – Женщина другую женщину редко хвалит.
– А! – поднял палец Степаныч. – Потому что все вы одним мирром мазаны, суки! И ты сука!
Теперь вздохнула Натали.
– Если бы не дочь родная, послал бы ее с пасынком этим куда подальше. Даже денег бы дал, ей-Богу, чтобы только отвязалась. Знаешь, сколько у меня денег?
– Внукам хватит. – Паша потер висок.
– А ты откуда знаешь? – снова насторожился Степаныч.
– Да ты сам сказал.
– Я не говорил, – по-бычьи наклонил голову Степаныч.
– Валер, ты пойми, в салоне все уже ждут больше часа. Без тебя никто не уедет – твоя же машина.
– Я не могу ехать, я же выпил. Хотя кто меня здесь остановит, каждая гаишная собака знает.
– Ну вот. – Паша снова потянул товарища за рукав. – Тем более.
– Валерий Степаныч, дует из дверей! – осмелилась Варвара, поежившись за стойкой.
– Да не могу я, пойми! – Не обращая никакого внимания на буфетчицу, Степаныч высвободил руку. – Не люблю я ее. А дочку люблю. А кого из них больше – люблю или не люблю, не знаю. Пока не разберусь, не поеду! Все меня покиньте!!
– А гости? – уже не скрывая раздражения спросила Наташа. – Ты же их сам на юбилей пригласил. А теперь получается, что бросил. В гостиницу их довези и делай, что хочешь. А то некрасиво как-то. Не по-православному.
– Вот именно! А Ленка, сука, не пришла. На юбилей собственного мужа! Это красиво? Это про… по… по-праславному? Покиньте меня, я сказал! – Степаныч сделал шаг назад, в ресторан.
– Так заболела же, сам слышал. – Паша посмотрел на Натали, призывая ту в свидетели.
Женщина махнула рукой и вышла. Степаныч грузно сел на неостывшее еще место у стойки и посмотрел на буфетчицу.
– Эх, Варя, Варя! Дай мне еще соточку.
Варя налила и внимательно посмотрела на оставшегося стоять в дверях Пашу. Тот безнадежно развел руки. Степаныч взял рюмку и повернулся к юноше.
– Ты меня извини, парень! Это я с излома. А девчонка у тебя красивая. Главное, чтобы любила, тогда все заладится. А любовь – это, знаешь что?
Нахохлившийся снова «охламон» неопределенно пожал плечами.
– Не знаешь… А я вот уже знаю. Любовь – это когда не за что-то, а когда несмотря ни на что… вникаешь?
Юноша снова пожал плечами. Девушка посмотрела на Степаныча более внимательно.
– Когда – вопреки! Да…а когда, вот как Ленка моя, с расчетом, тогда…тогда, как в этой песне поется – каждый шаг подобен пытке… в общем – любви по плану не бывает, помни, парень! За настоящую любовь! – Степаныч опрокинул рюмку и, на удивление всем, встал и сам пошел к выходу. Шел нормально, не качаясь, будто и не пил столько. Посередине зала мужчина остановился, обернулся к буфетчице и наказал записать счет юной пары на него. Он сказал это совсем трезво, но так угрюмо-тяжело, что никто и не подумал возражать. В дверях Степаныч снова обнял друга Пашу, они вышли, на этот раз окончательно. Но еще стояли на крыльце, потому что даже с улицы нестройно доносилось некоторое время:
– Я заблудился, выхода мне не-ет! В тебе бро-о-жу я, словно в ла-а-биринте!
– Вот женятся на шалавах, – под нос себе сказала Варвара, вытирая стойку, – а потом «выхода мне нет». Чисто по-русски. Взял бы меня тогда замуж, не бродил бы по лабиринтам… козел!
2011Псих
Пошел третий день охоты. Первый день, собственно, и охотились, остальное время парились в «черной» бане, стреляли по пустым бутылкам на полную бутылку «Кашинской» и отмечали первый день.
– Хорошее у тебя ружье, Фомич! Даже больше, чем хорошее, отличное просто! – сказал мужчина в расцвете лет с соломенными волосами, поднимая рюмку.
Егерь Фомич хмыкнул.
– Как же, конечно, хорошее. Помповая машина, Бекас эмэрка… сто тридцать третья… самозарядная… Этот мужик вроде охотник бывалый, а вот сам без своего.
– У меня вот Бенелли, – продолжал соломоволосый, – с женским именем… Монтефелтро. Так только княжну итальянскую называть. Да я и не стрелял из нее ни разу. Вытащу из сейфа, поглажу шкуркой, как бабу, честное слово, полюбуюсь да обратно положу. Целка еще. А твоя вот… – Соломоволосый кивнул на ружье, стоявшее у его стула. – Меткая женщина оказалась.
– Не томи, Андриян, водка вскипает, – сказал кто-то за столом.
– Ну да… что я могу сказать – за Фомича! Такую охоту с засидки только мастер сделает. А этот мир несут на плечах мастера, я уверен. За Фомича!
Четверо сидевших за столом охотников согласно зазвенели рюмками.
– Точно, за Фомича! Уважительный мужик, что говорить! Знатная охота!
– Капусточка, мужики, помидорчики моченые не забываем! Моя делала, по-домашнему.
Охотники вкусно брали капусту в щепоть и отправляли в рты. Румяные помидорчики тоже не задерживались. Через часик, когда все по нескольку раз обменялись впечатлениями от кабаньей охоты, егерь вышел ненадолго и вернулся с кусками мяса.
– О! Наконец-то! Добыча! Это Андрюха сеголетку завалил, ему первый кусок! – оживились за столом.
Егерь не стал нарушать традицию и положил кабанятину на тарелку мужчины с соломенными волосами.
– По-знатоцки зажарено! С дымком да с жирком! В майоране. Говорю же, мастер! – сказал Андрей, смакуя сочное мясо.
Остальные закивали. Снова разлили и выпили под жаркое.
– А чего свою Бенелли на охоту не берете? – спросил через пару рюмок егерь соломоволосого. – Бережете?
– Не то чтобы… у меня старый охотничий билет при переезде потерялся куда-то. Да и срок вышел, нужно было новый получать. Интересная, кстати, история, мужики. Хотите знать, как я чуть психом не стал?
– Ты – психом? – удивился кто-то. – Ты даже не пьянеешь, сколько в тебя ни влей. Только водку зря переводишь.
– Ну, это я так… к слову. А ведь на самом деле было. Мне-то как раз для нового билета справки нужно было получать. Ну, сами знаете, нарколог, тыры-пыры… ну, и справку, что я в психдиспансере на учете не состою.
– А ты состоишь? – подначили за столом.
– Теперь не знаю, – развел руками Андрей, – как раз после того, как я за справкой пошел. В моем районе – это психдиспансер на Селезневской, ну, там, где бани недалеко. Помните, парились там под Новый год? В ночь с двадцать восьмого на тридцатое?
– Еще как помним, – закивали остальные, – цены там, точно, сумасшедшие. В этом году давай какое другое место найди… для нормальных людей.
– Не об этом сейчас, – махнул рукой Андрей, – в общем, поехал я туда, а у меня спина болит, в спортзале надорвал малость. Да так прихватывает, зараза, что мне в свой джипарь без чужой помощи и забраться трудно. Ну, поднимаюсь на второй этаж, в регистратуру, отстоял очередь и говорю бабе в окошке – мне, мол, справка нужна, что я у вас ни на каком учете не состою и не состоял. Она, понятное дело, взяла паспорт, сверила по картотеке и дает мне какой-то листок, ну, форму какую-то для заполнения и квитанцию на оплату – рублей двести. Говорит, Сбербанк недалеко, за углом, придете с оплаченной квитанцией. Я, хватаясь за поясницу каждые пять шагов, доперся-таки до Сбербанка, отстоял еще одну очередь, оплатил и приковылял обратно. В этой регистратуре снова очередь, да из психов реальных каких-то, смотрят исподлобья, в глазах блеск нездоровый. В общем, доказал я, что стоял тут недавно, и протягиваю этой грымзе в окошко квитанцию. Она дает мне что-то на подпись, тут, где галочка, теперь тут, теперь с обратной стороны, ставит какой-то штемпель, в котором я тоже расписался, а там, кстати, форма такая, что я, мол, не отказываюсь от психиатрического обследования. Ну что нормальный человек подумает – подписываешь для проформы, чтобы не было повода придраться, раз здоров, значит, не против. А это, между прочим, уже карточка моя – завели, как в обычной поликлинике. Ну, я расписался, где сказали, она и говорит – вам в двести пятый кабинет. Я – зачем это? Мне справка нужна, я ведь не состоял у вас на учете и вообще никогда не обращался, в картотеке же нет ничего – вот и дайте мне справку об этом. Грымза ни в какую – не выдам, пока не сходите к врачу в двести пятую. Я ей снова – мне не обследование нужно, а справка. Она обратно – без собеседования с врачом никаких справок не выдаём. И психи из очереди уже бурчать начинают, что задерживаю. Хотя куда им торопиться, по глазам видать – всю жизнь здесь лечатся. Но делать нечего, взял я свою карту и пошел в двести пятую. Открываю дверь – там сидит… такая… не грымза даже, а оборотень в белом халате… лет пятидесяти. Глаза водянистые, щека левая подрагивает, волосы зализаны. Кивает мне на стул и таким… голосом следователя говорит – присаживайтесь, сейчас начнем. Я остаюсь стоять, хотя спина давно покоя просит, и отвечаю: я ни на какое не на собеседование, я за справкой. Ну и дальше все то же самое – охотничий билет просрочен, нужна всего лишь бумажка и прочее тыры-пыры. Она на меня уставилась и так с холодком говорит, у меня до обеда всего пятнадцать минут, сами себя лишний час ждать заставите. А мне что с больной спиной-то лишний час торчать? Ну, я подошел, сел на стул, даю свою карту, снова за справку говорю. Врачиха как не слышит, заполнила что-то в моей карточке, потом вынула из ящика стола какую-то папку, открыла и, как Вышинский приговор, зачитала мне какие-то выдержки из закона о психиатрии… кажись, еще девяносто второго года. Поняли, спрашивает? Зло так спрашивает, у самой щека еще больше дергается. Я ей – что я должен понять? Она говорит, что «должен» – как раз ключевое слово, потому что каждый гражданин, оказывается, должен проходить обследование у психиатра. И дальше вынимает какие-то листки, тесты наверняка, и готовится уже прямо начать это самое обследование. Я говорю – одну минуточку! Это что же получается, Вы тут одна сейчас будете принимать решение о моей дееспособности? Мне не обследование, мне справка нужна как раз по поводу того, что я никаких обследований у вас никогда не проходил. Я же вижу, она меня ненавидит уже, что я самостоятельность проявляю. Они там к власти-то привыкли, а вы меня, мужики, знаете, у меня характер свободолюбивый. Врачиха говорит дальше такое, что я и про спину забыл. Говорит: то, что вы у нас на учете не стоите, не ваша заслуга, а моя недоработка. Я ей в тон – ага, то есть здоровых нет, есть необследованные? Эта комиссарша в халате задергала щекой опять и чуть не шипит. Если, мол, мой вывод о вашем психическом здоровье вам не понравится, вы можете обратиться в комиссию при нашем диспансере. А в комиссии уже три врача, включая главного. Другими словами – можете жаловаться. Я ей говорю – я за справкой, понимаете, мне ни на какие комиссии ходить не резон. Какие, к чертям собачьим, комиссии? Ну, это я уже про себя, не вслух, конечно. Но вижу, она реально ко мне уже что-то личное испытывает. Причем нехорошее личное. В минимальном случае – неприязнь.
Тут медсестра заходит. Надевает халат, слушает, как я с врачихой препираюсь, а врачиха уже и ручку в пальцы взяла – ответы мои записывать. Я снова о своем. Комиссарша в мою подпись на карте тычет – вы же сами согласились, говорит, обследование пройти. Я по новой – я ж не знал, что не для формы, а в действительности нужно. Тем более – мне это, точно, не нужно. Тут и медсестра встряла – боитесь, спрашивает? Я даже про боль в спине забыл, повернулся к ней и аж губу закусил – так прихватило. Не знаю, какая гримаса у меня на лице была, но на ее лице такая ухмылочка нехорошая – до сих пор не забуду. Говорю ей: видите ли, меня на «слабо» уже с детского сада взять не могли, так что недорогой у вас аргумент. А вы, женщина – это я уже к врачихе повернулся, – и не надейтесь ни на какое мое обследование… ну, то есть обследование меня. Я, говорю, здоров, а вот к вам подходит одно древнее изречение Гиппократа. Это намек на «врачу – исцелись сам!». Тут, мужики, медсестра аж зашлась. Кричит прямо – это вам не женщина! Это доктор! Я вижу, надо сматывать потихоньку, скандал разгорается, сейчас братву, то есть медбратьев кликнут, и все – пиши привод в психушку. Еще мне же чего и вколют для успокоения и на учет, уже точно, поставят. Я поднимаюсь, стараюсь не кряхтеть и направляюсь к выходу. Не женщина, а доктор с нескрываемым изумлением – куда это вы? Я говорю – уже у дверей, чтобы выскочить в случае чего, – мол, у вас уже обеденный перерыв, не смею задерживать, после как-нибудь зайду. Она так мило мне в ответ: ничего страшного, мы для вас время найдем. Только не надо хамить. Я ей: а где я нахамил и чем? Эта змея тут меня добила, честное слово. Говорит: вы вроде культурный человек, а на жаргоне каком-то изъясняетесь. Неприлично, мол. Я уже за ручку дверную держусь, но все-таки меня любопытство разобрало. Какой такой жаргон, спрашиваю? А вот «слабо» какое-то… что это такое? …Я не понимаю таких слов, примитивный и хамский жаргон. Я вам в карту пишу – отказались от обследования! Подпишите! Ну что тут сделаешь? Смеяться – как-то не хочется, возражать бесполезно. Да и бессмысленно. Постучал кулаком по голове, потом по двери и вышел. Пока на выход шел, даже шагу прибавил, про спину забыл начисто. Вдруг, думаю, догонят, расписываться заставят. В общем, еле ушел!
За столом долго смеялись. Потом перешли на скабрезные анекдоты и, подогретые Андреевой историей, смеялись навзрыд. Егерь Фомич хохотал вместе со всеми, вытирая слезы с глаз. «Редко, когда такие веселые охотники приезжают», – думал Фомич. Тут его взгляд зацепился за свое ружье, из которого Андрей завалил кабана.
– Почистить надобно, – сказал егерь, не переставая смеяться, взял спокойно ружье и отнес к себе в комнату. «Мужик вроде нормальный, но черт его знает… справки-то ему не дали. А может, и в самом деле псих какой», – подумал егерь, потом вспомнил последний анекдот и улыбнулся.
2011Кемска волость
Откуда повелось название «лабух» для ресторанного музыканта, точно никто не знает. Кто-то считает, что от цыганского «габан» – «пойте». Кто-то думает, что от псковского «лабута», что означает бестолковый ротозей, никчемный халтурщик. А может, от двух смыслов сразу. Толя Щагин, да и никто из игравших с ним в ресторане с пернатым названием «Чайка» города Беломорска тоже не знал и даже не задумывался над этим. Лабух и есть лабух. Но Анатолий был лабухом экстра-класса. Играл почти на всех инструментах, разве что кроме духовых. А когда брал в руки гитару – в своей компании, конечно, не на работе, то за столом никто не шевелился. Пел Толик еще лучше, чем играл, и тоже своим особым манером. Голоса, от природы сильного, не выпячивал, но как-то неуловимо выражал ту самую, единственно верную интонацию, исходящую из песенного слова, особенно грустного, так любимого на Руси. В такие минуты редкая женщина не смахивала слезу или даже, не смущаясь, комкала платочком совсем намокшие глаза. Никому бы в голову не пришло назвать его в такой момент лабухом, скорее, Толян тянул на полубога. Не то чтобы он пользовался своим искусством, но нужды в женской ласке не испытывал и был с дамами неумолимо нежен. Тем более к своим годам удержался холостым, по принципу – никогда не рано поздно жениться. Взял гитару в руки Толя и сегодня, на дне рождения коллеги по ресторанному песнопению. Все были уже солидные мужики, за сорок, только имениннику, басисту Володе, стукнуло тридцать восемь. Играл он неплохо, даже хорошо, но как-то не так. Как-то неправильно, свысока, что ли. Казалось, он не играл, а цедил звуки, как цедят презрительные слова через оттопыренную губу. Публику басист Володя искренне презирал, особенно тех из нее, кто совал им мятые пятерки и десятки, как говорили в советские времена – вбухивал в оркестр. Бывают такие музыканты да и вообще творческие люди, про которых правильно было бы сказать, что Бог не наделил, а плюнул в них талантом. Но играл он хоть и без вдохновения, но правильно, на совесть. Правда, совесть его была спесива, но уж ладно. Да и приходил на работу всегда вовремя. Себя ждать не заставлял и никого не подводил. Поэтому пиром в его честь никто не побрезговал.
Компания с разрешения метрдотеля осталась после закрытия в том же ресторане, продуктов с кухни было навалом, спиртного тоже. Кроме пары официанток и буфетчицы, за стол залетели еще несколько девушек – пассий оркестрантов и подруг пассий самого разного калибра, возраста и расцветки. Непонятно откуда затесалась даже узбечка с заплетенными тугими косами, жгутами спадавшими из-под тюбетейки. Говоря проще, к глубокой ночи баб уже было навалом, и все рыдали – Толя пел про трагическую любовь. Одна девушка нравилась ему особо – именно на нее он поднимал свои голубые, с веселой лукавинкой глаза от струн, по которым бегали его искусные пальцы. Девушку звали Тоня, она пришла, кажется, с ударником Степой. Или к Степе, но это было уже не важно, потому что уходить она твердо решила с Толей. Худосочному Степану, захмелевшему раньше всех, было все равно, а Толян Тонину симпатию чувствовал и выдыхал слова только в ее сторону. Песня за песней, рюмка за рюмкой, пространство между музыкантом и новой музой неизбежно сокращалось, и к рассвету захмелевшая Тоня уже сидела у Толика на коленках.
– Антонина, – строго и вместе с тем ласково вопрошал Толян, – откуда ты все-таки родом? Я вот из Бердянска.
– Где это? – в десятый спрашивала немного отупевшая с водки Антонина.
– Махно знаешь?
– Махно? Какого Махно?
– Того самого. Что с Гуляйполя.
– Ага, – кивала на все согласная Тоня, – знаю!
– Вот это недалеко. А ты местная?
Антонина обвила Толяна за шею.
– Да нет.
– Не понял, Тонечка. Да или нет?
– Ну… я недалеко отсюдова. Тут работаю только.
И все было бы хорошо, за исключением, что не произошло бы этой истории, а значит, и не было бы этого рассказа, удовольствовался Толик её уклончивым ответом. Но он бывал упорным до упрямства. А может быть, не знал, чем заполнить неизбежную паузу между музыкой и постельными утехами. Так или иначе, Толян переспросил:
– Так откудова оттудова?
Антонина взъерошила ему волосы, икнула и игриво ответила:
– А я с Кеми. Кемь – знаешь? Кемска волость, как в том фильме.
– Йа, йа, Кемска волость, – подтвердил Толян знание то ли фильма, то ли географии. – Как не знать. У меня там вообще родственники.
– Не может быть! Мы что, земляки, можно сказать? – приятно удивилась муза.
– Вот те крест! – божился Анатолий под недоуменные взгляды коллег – лабухов, они слышали про это впервые.
С чего Толя брякнул про родню, которой у него отродясь не было в тех краях, он и сам не знал. Наверное, чтобы окончательно завоевать Антонино доверие. Прием оказался эффективным, но, как выяснилось позже, с неожиданной стороны. В любом хорошем русском да и вообще православном застолье наступает момент, называющийся «добрый самогон был, все под столом – ни выпить, ни побиться». Ну, в тот день, положим, никто под стол не падал, даже мордой в классический «оливье» не упал, даже Степан, но люди начали теряться. И одной из первых пропала ветреная Антонина. Как Толян не усмотрел, непонятно. Одно из двух – либо давно не брал в руки гитару, либо не брал за талию Тоню. Но, как уже известно, Анатолий был типом упорным. Уже с рассветом, захватив на случай встречи с превосходящими силами соперника, друзей-лабухов, (опричь храпевшего за столом ударника), он отправился по просыпавшемуся Беломорску на поиски коварной музы. В светлой майской ночи соперника с похищенной добычей тем не менее нигде не было видно, и ноги как-то сами собой принесли компанию на вокзал.
Вокзал в России больше, чем вокзал, – знает каждый бывалый человек. Кому-то это – место разлуки, иногда горькой, со слезами в три ручья, бегом по перрону с заглядыванием в мутное окно, откуда смотрят печально увозимые в бескрайные просторы родные глаза. Для других – место радостного и нетерпеливого ожидания с топтанием с ноги на ногу на том же перроне в лютый мороз, когда поезд опаздывает. Стоит такой человек в скромном пальтишке, в штиблетах на тонкой подошве, никак не рассчитанных на срыв графика движения, хлопает себя под мышками, а в зал ожидания почему-то не идет. А потому не идет – хочет дорогого себе пассажира прямо у вагона встретить, чтобы приятно тому сделалось, чтобы сразу увидел, а не вытягивал шею, выйдя из вагона со смутным подозрением – неужто не встречают? Иным вокзал – и вовсе пристанище, хоть на одну ночь. И совсем не обязательно, что бомж какой. Может, домой никак нельзя по сердечной обиде, а друг не принял переночевать из-за сварливой жены. Мучается бедолага, проклинает все и вся, а потом, глядишь, ближе к рассвету и в себе вину искать начинает. Бывает и так, что просто выпить надо в неурочный час, а где ж тогда, если не в буфете или ресторане привокзальном? Знает, знает русский человек, что не совсем обычное это место – вокзал. Всегда тут люди, всегда движение. И поезда, как люди, все отбывают куда-то, все прибывают, текут дождевыми струйками по всему неровному телу России, где ночью на протяжении многих верст и иного света не видно, кроме как – из окон вагонных. Вся скоротечность бытия здесь проявляется, и всякий, пусть даже и без билета, а по какой другой причине на вокзале оказавшийся, уже лучше понимает, что он в жизни пассажир, не больше. И где его конечная станция, скоро ли слазить навсегда, один Бог ведает. И хоть ворья все больше становится, так что за бумажником постоянно приглядывать желательно, и милиция вокзальная особый прищур нехороший имеет, и казенным духом веет от сквозняков, а все-таки вокзал – приют души, пусть и временный. А решишься на что-то – так вот касса, бери билет в любую сторону, бери билет…билет…билет…
– Билет, гражданин! – Анатолий с трудом оторвал голову от локтя, послужившего ему, видимо, подушкой.
На него недобро смотрела тетка в железнодорожной форме.
– Билет…сейчас…билет, значит… – Толян с трудом рассмотрел обстановку – он лежал один в купе на нижней полке, в одежде, ботинках и без всякого постельного белья. – Какой билет? Куда билет?
– Во, надрался-то! Не знаете, куда едете, гражданин?
– А я… это…еду?
Толя тряхнул головой – виски тотчас заломило – и, морщась, глянул в окно. Назад неслись чахлые березы и серый невзрачный кустарник.
– Действительно, еду. А куда?
Проводница фыркнула.
– Ищите билет. Ваши друзья его вам куда-то сунули, когда провожали. Я подойду скоро.
– Друзья? Меня? Провожали? – спросил Толян сам себя.
Постепенные мозговые усилия вынесли на берег памяти светлый образ Антонины и мутный лик басиста Володи. Другие лица смешивались пока в темном потоке похмелья и явственно не различались.
– Но, черт меня дери, куда я еду? К Тоньке, что ли? А зачем? И где она сама тогда? И билет мой где? Хотя какой, к собакам, билет, я же никуда не собирался. Мне ж играть сегодня! Что, еттыть, происходит-то?
Пребывая в крайнем недоумении, Толян, кряхтя, поднялся с жесткого ложа и выглянул в коридор. Коридорное ущелье было пусто, только в конце, у туалета ждала своей очереди какая-то женщина в узбекском халате. Толя протер глаза – что-то в ее виде показалось знакомым.
Качаясь, но не в такт с поездом, отдельно, он подошел наконец-то к туалету. Как только Толян собрался спросить узбечку, знает ли она Антонину или, на худой конец, его самого, дверь туалета открылась, выпустив по-русски широкую деваху лет под тридцать. Тощая узбечка уклейкой шмыгнула внутрь.
Деваха – дородной стати, чисто купчиха с полотна Кустодиева, с большими коровьими глазами на каравайном лице и налитыми пудовыми грудями – спросила неожиданно тонким голосом:
– Извините, ради Бога. Буфет не работает, а сигареты кончились. У вас не найдется?
Толян снова полез по карманам. Мятая полупустая пачка сигарет в отличие от билета нашлась. В ней же лежала и зажигалка. Пропустив «купчиху» вперед в тамбур, Анатолий поднес огонек даме и с особым похмельным наслаждением затянулся сам. Прелесть первой сигареты отчасти вернула веселое настроение.
– А вот, не пойми неправильно, – выкать Толе было не по самочувствию, – хочу спросить. Чтобы удостовериться, так сказать.
– Меня Авдотья зовут, – просто сказала купчиха.
– Не, я не про то… вернее, очень приятно… Анатолий…
– И мне приятно. – Авдотья улыбнулась во все сдобное лицо, отчего на каравае образовались лунки – ямочки.
Толя еле оторвал взгляд от этих румяных ямочек. Авдотья смотрела с тихой лаской, вытесняя из ненадежной Толиной памяти былой образ Антонины.
– Трубы горят небось, А-на-то-лий? – не переставая улыбаться, нараспев спросила купчиха.
– Это да. Пивка бы, конечно, не помешало бы.
– Ну ладно. Повезло тебе. Я тут в спецбуфете работаю. Приедем в Кемь скоро, так и быть – открою. Угощу хорошим портвейном.
– Как в Кемь?! – Толян чуть не выронил сигарету. – Какая Кемь?
– Как это – какая? Обычная. Я там живу.
Толя еще не успел осмыслить услышанное, как в тамбур вошла давешняя узбечка.
– Привет, Толик! Как едется? Родня встречает?
В памяти солнечным зайчиком что-то блеснуло. Ну конечно, вчера она была у них на Володькином банкете, будь он не ладен. И Володька, и банкет. Как ее звали-то? Его-то она запомнила. Хали – гали… хули – гули… а, Гуля!
– Не уверен… Гуля, – осторожно ответил Толя.
– Гулечка всю дорогу мне рассказывала, как ты на гитаре играешь классно.
– И поет! – добавила узбекская подруга.
– Ещё и поёт! Споешь для меня, как приедем, А-на-то-лий?
Похоже, банкет вчера не закончился, а просто переносился в другое географическое пространство.
– Так… гитары-то нет. А где гитара, кстати? Гуля, не помнишь, я с гитарой садился?
Узбечка усмехнулась.
– Садился – это громко сказано! Скорее, тебя в поезд внесли.
– Да? А кто?
Спрашивать – зачем – не было никакого смысла.
– Твои друзья. И именинник больше всех старался. Ты, кстати, его подъелдыкнул… послал, сам понимаешь, куда. В эротическое путешествие в один конец. Сквозь сон, но четко. Ты что, не помнишь ничего?
Авдотья понимающе улыбнулась.
– Ну что ты пристала к маэстро. Поправится малость и вспомнит. Да, А-на-то-лий?
Поезд немного шатнуло, Толя оказался лицом на грудных Дусиных подушках. Авдотья отклоняться не стала.
– А гитару мы тебе в Кеми найдем. Это уж не проблема. – Авдотья успела использовать краткий миг соприкосновения и погладила Толю по шевелюре.
Банкет не просто не прекращался, но и обещал чувственное продолжение.
– А чего послал? – Поезд шатнуло в другую сторону, и Толик отлепился от купчихи.
– Уж не знаю. Сказал только, что среди твоей кемской родни таких козлов нет.
Толя потушил сигарету в тамбурной пепельнице. Авдотья была права – вспоминать вчерашние детали до поправки здоровья было бессмысленно.
Дверь в тамбур открылась – явилась проводница с лицом еще более снулым.
– Так что с билетом, гражданин?
– Алена! Если человек не помнит, как он оказался в поезде, как он может вспомнить за билет? – Оказалось, Авдотья была знакома с проводницей коротко.
– Порядок есть порядок. Безбилетный пассажир…
– Да ладно тебе. Не мучь человека. Это ты должна знать, как он к тебе без билета попал.
– Все Манька. Она на вагоне в Беломорске стояла. Да сошла в Мягреке – бригадир отпустил. По семейным обстоятельствам, грит. А я вот думаю, у них с бригадиром обстоятельства.
– У Маньки? Да у нее с каждым вторым обстоятельства. Не бери в голову, Палыч на нее не позарится.
– Да чегой-то изнадеялась я, девки.
Пока дамы обсуждали Манькины перспективы в отношении бригадира Палыча, на которого, как явствовало, положила глаз сама хмурая Алена, Толик сочувственно кивал. Кивал и соображал, как успеть вернуться к сегодняшнему вечеру на место работы, то бишь в ресторан «Чайка». Авдотья через свое милосердие могла стать серьезным препятствием. И какого черта его потянуло в эту Кемь? В этой связи в памяти вспыхивало только «Йа, йа, Кемска волость!». Смертельно захотелось обещанного портвейна. Толя затянулся следующей сигаретой.
– Извините. А мы когда прибываем?
Алена смерила Толю взглядом. Но не как пассажира, а как нового хахаля подруги Авдотьи.
– Через полтора часа, болезный.
Анатолий вскинул правую руку – часов не было. Вроде вчера были, а сейчас вот нет. Но точно Толян вспомнить не мог, да и морщить лоб было больно.
– А сейчас сколько?
– А сейчас девять утра, А-на-то-лий! – пропела Авдотья.
– Ага. А обратный поезд когда?
И узбечка, и проводница взглянули на Авдотью с немым вопросом.
– Да что тебе об обратном поезде-то думать? Никуда твой обратный поезд не денется. Ты еще на этом-то не доехал, А-на-то-лий!
Толян затянулся поглубже. На него явно строили планы. Причем планы коварные, с манком в виде спецбуфета. Но, как сказал классик, из двух зол надо выбирать то, что больше нравится. «Ничего, выпью стакан, два и отвалю. Отбрехаюсь как-нибудь, не впервой», – сделал выбор Толян и поднял тихие глаза.
– Твоя правда, Дуся! Не будем торопиться.
Авдотья расплылась во весь свой каравай – добыча уже билась в сетях.
До Кеми доехали точно по расписанию. Чай, принесенный подобревшей проводницей, особо не помог. Толян уже весь измаялся, но наконец-то показался залузганный перрон.
– Действительно, Кемь. – Толя проводил глазами табличку на перроне. – Бывает же такое.
Узбечка Гуля поспешно простилась и пошла вперед быстрым шагом. Анатолий по-джентльменски взял баул своей новой необъятной подруги и пошел за ней навстречу року.
Авдотья не соврала – спецбуфет, вернее, спецмагазин действительно был. И недалеко от вокзала – поклажа не успела оттянуть Толины музыкальные пальцы. И ключи от рая были у нее. «Часы работы – 12.00–21.00. Выходные – суббота, воскресенье». «А ведь сегодня, кажется, воскресенье. Нет, точно, у Вовки в субботу гуляли. Или в пятницу?» – соображал Толян. Но по-любому выходило, что Авдотья открывала свой Сезам исключительно для него. Этот факт превращал подозрения насчет Дуниных намерений в опасную реальность. Толя остановился на пороге, глубоко вздохнул и вошел внутрь.
– Располагайся, – неопределенно махнула мощной дланью Авдотья, уходя куда-то за прилавок.
Толян огляделся – присесть было некуда, разве на подоконник. Но не успел он «расположиться», раздался зов:
– А-на-то-лий! Иди сюда!
Толя пошел на голос и, чуть не разбив лоб о низкую притолоку, открыл дверь в подсобку. Открыл и замер. На ящике из-под бутылок среди густо заставленных всяким алкоголем полок, положив ногу на ногу, сидела полуобнаженная рубенсовская Венера. Две огромные дыни закрывали почти весь живот, вздернутая юбка обнажала мощные ляжки, похожие на огромные окорока. На пыльном полу стояли открытая бутылка белого марочного портвейна «Крымский» (это Толян отметил автоматически) и два мутных граненых стакана. Венера наклонилась, так что груди чуть не коснулись пола, взяла бутылку и протянула Толяну.
– Ну что же ты? Робкий какой. Сначала выпьем или опосля?
– Погоди…одну минуточку. Сейчас. Забыл. Сейчас. – Толян подтверждающе кивнул головой, осторожно прикрыл дверь и, как ошпаренный, вылетел из магазина.
На шаг он перешел только минут через десять. Толян на всякий случай оглянулся, хотя какая погоня в таком виде?
– Да…дела. Этак она бы меня там задавила. Авдоха, е…ись без вздоха. Выпить, оно, конечно. Но пропадать за портвейн… – Толян покрутил головой, представив на секунду, как бы купчиха его утулила в этой подсобке.
Толян оглянулся. Обстановка была совершенно незнакомой. Он явно ринулся в противоположную сторону от вокзала. Улица, посреди которой он встал, носила название «Коммунистический тупик». Над обшарпанной стене напротив над темной, наверное, еще дореволюционной дверью висела надпись «Рюмочна». Буквы «Я» не хватало, наверное, осталась где-то в старом режиме.
– Я, точно, в тупике, – вздохнул Толян, подходя к двери.
Несмотря на утренний час, рюмочная работала. Видимо, только открылась – внутри никого из посетителей не было. За буфетной стойкой стояла живописная старуха в очках. Стекла были с такими диоптриями, что напоминали донья от бутылок. Старуха жевала в губах «Беломор» – сизый дым антисанитарно вился в закопченный потолок.
– Извините, – прокашлялся Анатолий, – я чего-то заплутал малехо. Не подскажите, к вокзалу как пройти?
Старуха медленно оглядела посетителя с ботинок до головы. Толян почувствовал себя, как на медосмотре.
– Заказывать что будешь, сынок? – будто не слышала вопроса старуха.
Толян вспомнил, что здоровье после вчерашнего так и не поправлял. На лбу сразу выступила испарина, задрожали руки. Пошарив по карманам, Анатолий понял, что у него не только не было билета, но и денег. Ни на обратный билет, ни даже на рюмку лекарства. Видимо, это состояние бездомной дворняги отразилось в его глазах, когда Толя криво улыбнулся продавщице. Старуха наклонилась под прилавок и достала початую бутылку водки.
– На! Ебони′, а то не дойдешь! – через волжское «о» серьезно сказала старуха, не вынимая изо рта беломорины.
Толя запрокинул бутылку в горло. Горячая волна уняла дрожь в членах и голове. Когда он отнял штуцер от губ, на прилавке стоял стакан морса, рядом лежала половина огромного огурца. Соленого, как в сказке.
– Ох, благодарствуйте. – Толян вытер рукавом рот, не веря такой удаче.
– Ничего. Вокзал – пойдешь до перекрестка, потом направо. И так прямо и чеши. Урозумел, сынок?
Толя часто закивал с набитым ртом. Огурец напомнил ему, что он еще и ничего не ел.
– Ну и будь здоров. – Старуха блеснула бутылочными очками и прибрала почти пустую бутылку.
Аудиенция была закончена.
Толя кивнул еще раз, отхлебнул морса, приложил руку к сердцу и так и откланялся, не переставая жевать.
«Так, где вокзал, я понял. А как с вокзала уехать?» – размышлял Толян, покинув гостеприимный Коммунистический тупик и направляя стопы в указанном направлении, уже не спеша, можно сказать, прогуливаясь. Сил после рюмочной прибавилось, все проблемы казались разрешимыми. В жизни любого музыканта бывали не только дни, а годы, когда денег не было совсем. И ничего, все как-то выживали. Но Анатолий был не в тех годах, чтобы совсем уж плыть по течению, как какая-нибудь щепка. Поэтому в прояснившейся голове, как на полузасвеченной фотопленке, начали проявляться варианты и комбинации. «Привет от Авдотьи проводнице передать и, так сказать, на старых связях? Черт его знает, может, она растрендела уже подруге о его позорном бегстве… Бабский язык, он же без костей совсем. Поговорить с проводником-мужиком, если в ресторан успеет, сегодня вечером же отдаст с навара. В долг проехаться, так сказать? Или пригласить проводника в ресторан за свой счет. Это уже не в долг, а услуга за услугу». Одалживаться Толян не любил, потому что и так часто приходилось. «Но это зависит, когда поезд обратно прибывает. Если вообще сегодня на Беломорск что-то едет. Или позвонить этим раздолбаям, чтобы мне там билет купили, а я здесь возьму. Раз меня сюда отправили, духарики. На вокзале межгород же должен быть? Или не должен? А на что звонить – хоть рубля три надо бы».
Толя остановился и снова пошарил по карманам – основательно, – нашлись лишь две слипшиеся пятикопеечные монеты. На квас хватало – на звонок нет. Толян оглядел улов, расцепил пятаки и положил во внутренний карман пиджака – понадежней. И вдруг пальцы нащупали что-то осязаемое и весомое за подкладкой. Еще не веря удаче, Толя полез глубже, зацепил как следует и извлек…часы!
– Ну, слава Богу! – Толян вытер вновь проступивший пот со лба, теперь теплый от радости – часы, да еще какие часы, «Командирские», чего-то они, уж точно, стоили. На проезд хватило бы с лихвой.
Уж почему часы оказались не на руке, а в кармане, Анатолий углубляться не стал – наверное, из предосторожности снял, на автомате. Чтоб не сняли на вокзале или в вагоне. Мастерство, как известно, не пропьешь. Толян поцеловал «Восток» в синий циферблат, нацепил на кисть и только после этого посмотрел на стрелки – часы показывали начало первого. «Должен успеть!» – успокоил себя Анатолий и бодрым шагом двинулся к вокзалу.
План удался блестяще – проводник поезда Мурманск – Ленинград, следовавшего через Беломорск, взял залог. Толя прошел на указанное место, положил пиджак под голову, снял ботинки, вытянул ноги и моментально заснул. Сон был почти безмятежный, только иногда над ним склоняла свои колокольные груди Авдотья и, улыбаясь в ямочки, ласково спрашивала нараспев: «Портвейну налить, А-на-то-лий? Или опосля?» В эти минуты Толян стонал и переворачивался на другой бок. Соседи по купе, две тетки и бабка, качали головами и приглушали разговор – жалели. Бабка даже поправила в изголовье свалившийся было пиджак.
– Эх, намаялся-то, касатик, – сказала шепотом и покачала головой, – из-за любви, наверное.
Вокзал Беломорска показался родным домом. Толян, разбуженный загодя проводником, ступил на перрон римским триумфатором, вернувшимся из Карфагена. Договорившись, когда подойти выкупить часы, Анатолий направился быстрым ходом в свой ресторан – время поджимало.
– Ба! Ты где был? – удивился Володя, уже расчехливший инструмент. – Мы тебя обыскались.
Остальные музыканты покачали головами.
– Я где был?! Это вы куда меня отправили?! К еб…ням, в Кемь! Какого рожна, спрашивается?!
– Так ты сам говорил…
– Да мало ли что я говорил?! Почему не проследили?! – от души орал Толя на коллег.
– Мы думали, ты до первой станции… – вяло отбивался басист.
– Ты не тем думаешь! Ты жопой думаешь! Какая, на хрен, Кемь?! – разорялся Толян, не обращая внимания на первых посетителей.
Утихомирил Толю ударник Степан – молча подошел и протянул стакан водки. Анатолий проглотил содержимое залпом, махнул на музыкантов рукой и пошел на кухню – утолить зверский голод. Через пятнадцать минут он уже стоял на сцене с гитарой в руках и давал драйв в жующий зал. Пел Анатолий в тот вечер особенно ярко, с надрывом, так что заработали они больше обычного. Вот что значит профессионал. Даром, что лабух. И почему только название такое обидное – лабух?
2011Горы и люди
День 1-й
Wieso soll ich mein Postleitzahl geben? Wie nuetzt es fuer Schieverlei?[11] Система такая? Хреновая у вас система…все-то нужно им систематизировать… может, это помогает борьбе с терроризмом?.. ноге вот в ботинок влезть никак не помогает… террорист что – идиот?.. зачем брать данные типа почтового индекса, если их невозможно проверить на месте?.. чтобы письмо выслать, если лыжа сломается?.. так ведь не дойдет с такой системой… а если террорист умнее тех, кто вводит такие системы, с кого спрашивать за терроризм? С тупого и ленивого правительства? Или с террориста? Вернее, с кого в первую очередь? Что делать и кто виноват? Известно, что делать – искать виноватых! Так, поджимает малость… ну тут ослабим, тут голенью надавим, разойдется… не выскочит нога небось… так… хорошо… все, поковыляли на подъемник… давненько я тут не был… давненько я не брал в руки шашек. Гоголь вот почему вечен – потому что тупость человеческая вечна… а зиждется она на самодовольстве… и пофигизме… тотальном пофигизме… особенно при демократии… кто-то завел систему, все, хоть кол на голове теши… извините, мы ни при чем – компьютерная программа требует ваш индекс, иначе лыжи не оформить. Ты что ж, Петрушка, не знал, что бричка сломана?.. ладно, не будем портить себе настроение… поехали… красота… Бендер был не прав, дикая красота – совсем не никчемная вещь… сосны на горах, как недельная щетина в пене… надо бы побриться, кстати… а то, что без бабы, – не повод распускаться… но вот же сука, какую истерику закатила… скандал за скандалом… замуж невтерпеж… вот на кой мне второй брак… это не грабли даже, петля… чисто петля… как там у Приблудного: «Я жениться никогда не стану, / Этой петли я не затяну, / Потому что мне не по карману / Прокормить любимую жену…» Есенинский дружок был… эх, Серегу бы сюда… кататься, не кататься, а пошнапсировал бы я с ним за милую душу… порассказал бы, чего на Руси творилось… запили бы шнапсом эту гребаную демократию… дерьмократию, как ее называли в девяностые… сейчас подзабыто словцо, а зря… народ, он метко окрестит… одним словом – и сразу все ясно. Общечеловеческие ценности по-американски… правильно, Серега, ты эту Америку клял… «смрад, где пропадает не только искусство, но и лучшие порывы человечества»… а если бы ты видел теперешнюю голливудщину… Советская власть тоже не подарок, конечно, но хоть идея была… и империя была… горы были, было откуда скатываться… вот и скатились в болото… вся наша история – пульс невротика… то горячка, то озноб… сейчас, похоже, конвульсии… неправ был Бердяев, когда писал, что наш народ не поддается золотому тельцу… еще как поддается… знамена пустили на портянки, торгуют всем, что только имеют… должностью, телом, органами, честью, детьми даже… народу много, а приглядишься – пустыня… голая… «стою один среди равнины голой…» …вот и я один, правда, среди ощетинившихся гор.
Ишь расшумелись… будто не в кабинке сидят, а на стадионе… три немецкие молодежные особи… вот только вслушаться – ну какие же тупые… народ по шуткам видно… скажи, над чем смеешься, и скажу, кто ты. Как из «Комеди Клаба»… тупее их только комеди вумен… а казалось, ниже петросяновщины уже только ил… или молодежь везде такая уже? Вокруг такая красота… величественная красота, я бы сказал… а эти ржут, вспоминая, как кому-то Schwanz[12] меряли… и телка их прыскает со знанием дела… интересно, они ее вдвоем?.. наверняка, но интересно – вместе или по очереди?.. вместе, наверное… и по очереди тоже… да, по сравнению с горами люди – мыши. И красота всегда величественна… красота природы, конечно… «как прекрасна земля и на ней человек!»… нет, Серега, тут ты не прав… как прекрасна земля без человека! Тьфу ты, черт – почему нужно так громко сморкаться?! Что за повадки у немчуры?
Так, Mittelstation[13], не выходим пока… на вершину поедем… эти мышата тоже на вершину… ладно, дотерпим… как погода, однако, в горах быстро меняется… только что же было ясно, а повыше уже пурга настоящая… вслепую помчимся… ничего, где наша не пропадала… когда ж я был здесь последний раз-то?.. еще в прошлой жизни… да, жизнь, она – как погода в горах, солнце только расслабит, бац, и метель, и снег прямо в морду, и не видно, куда ехать, за кем или с кем… только чувствуешь, вниз несешься… и остановиться все труднее, а если вовремя не остановишься, то только и остается, что падать… падать и кувырком по снегу до полной остановки… ну, тут ладно, лыжа-то сама открепится, отскочит, а вот в жизни… близкие люди сами не отскакивают, не сломав тебе чего-нибудь… перелом сердца… закрытый перелом. Серега метафору бы оценил… а ведь когда познакомились, моя будущая бывшая такие солнечные серенады пела… так в любви клялась, что даже я поверил… или я по молодости такой же тупой был, как это немчура напротив? Не, вряд ли… у этих шансов нет – будущие пивные бюргеры, дальше зарплаты и ипотеки их мозг не пойдет… я все-таки кое-что поценнее знаю, чем купить за доллар и продать за два… и сил пока через край, и воля не заржавела, и опыта не меряно. Да, опыт – это синяки на сердце… а у меня множественные переломы… и теперь еще раз в этот омут? Не, хорошо, что свою бабу не взял, пусть посидит дома у себя, подумает, прежде чем скандалы поднимать… гражданский брак ее не устраивает… почему я должен все время кого-то устраивать? Я себя устраиваю, и достаточно пока. Ну, все, Planai Gipfel, доехали… выходим… лыжи вынимаем… ну, блин, и метет…
День 2-й
Опять пурга… вчера кочку не заметил, так снега наглотался… давно не падал на трассе… но вчера извинительно… вслепую, да на скорости… да после пары Seitel…[14] пять лет на лыжах не стоял, конечно, нюх частично утерян, восстанавливать нужно… сегодня обедать как можно позднее, никакого пива, только Gluhwein…[15] посижу в Huette[16] дотемна, переварю все, потом только поеду… под свет фонарей… все-таки уникальная трасса, чемпионская, в 2013-м опять чемпионат мира… надо не забыть в отеле забронировать номер на год вперед… австрийский немецкий забавный… подомашнее как-то… вот австрияки напротив, взрослые, не то что вчерашняя шелупонь со сноубордами… приятно слушать… тоже завируха не нравится… как ехать, как ехать? Nach Stimme?[17] Хорошо ответил – nach Gefuhl[18]. Man muss leben nach Gefuhl[19], а ехать уж, как придется. Ни черта не видно и не слышно – почти полная сенсорная депривация. Какой уж там Gefuhl, к…еням? Главное, не думать. Вернее, не думать о постороннем. Не философствовать! Бабы нет, один, думай себе, сколько влезет, в номере. Хотя в номере о ней чего-то думается больше. Сука!
Ну что ж ты будешь делать – и эти сморкаются, как слоны. Точно, теперь припоминаю – это у них везде принято. Не в горах везде, а вообще везде. В Европе. По крайней мере в немецкоговорящей. Вот у малых народов принято рыгать после обеда. Не рыгнул – обидел хозяина, угощение, дескать невкусное, не пошло. Другой обычай – женой делиться с гостем – мне больше по нраву. Как гостю, разумеется. Но, где-то слышал, сейчас это себя изжило. А зря, лучше бы эскимосы сморкались – на Крайнем Севере это как-то естественно, а немчура делилась женами. Хотя немки – рыбы, кровь холодная. Уж я их со службы в ГСВГ навидался. Размножаются по расписанию. Да что это я все о бабах. Нет, и спокойней без нее. Уж точно бы, весь день на один спуск ушел. А ты остывай посреди склона и лови ее, болезную. Если вообще увидишь. А не увидишь – потом не доищешься. Никакой Gefuhl не поможет в такой крутень.
Снова Mittelstation. Может, тут выйти для разнообразия? Хотя нет, с вершины на две другие горы поехать можно. Такое место – чем выше, тем разнообразнее. Давненько же не был здесь… почитай – лет пять… или четыре… или шесть. Жизнь пройдет, как пятнадцать суток, надо перестать откладывать жить. Прав был старик Эпикур – «кто не властен над завтрашним днем, откладывает радость. А жизнь гибнет в откладывании». А я властен наконец-то. И всего-то нужно было – потерять 18 лет жизни, лучших лет, в браке с женщиной, которая выходила замуж для того только, чтобы отнять побольше имущества. Точно по пословице: муж – как бы хлеба нажить, жена – как бы мужа избыть. Блядство считается у них доблестью. Если увенчалось материальным успехом. Вся мораль на мзде… продажной пиз…е. В рифму, значит верно… Как говорится, в штате Айова все хорошо. А жаль, такая рифма пропадает… Теперь эта замуж прет, как бульдозер. Если в прозе. Что за напасть, одни рифмы в голову лезут. Но если я властен над завтрашним днем, я не могу потерять этот день. И послезавтрашний. И все оставшиеся дни не могу потерять. Ни уступить, ни пожертвовать, ни прое…ть никаким другим способом. Или радость будет уже не моя – ее. Или еще кого-то. И ведь все не для себя, для ребенка. Как они любят ребенками заслоняться. Два вечных бабских аргумента – «я тебя люблю» и «я мать». Первое означает – «женись на мне, я хочу от тебя ребенка». Второе означает – «ты всего лишь отец моего ребенка». И твое место в ее любви сразу становится последним. А последнее место всегда скользко. Как ледник – можно быстро скатиться на «бывшего мужа». А если попадется такая старая сука – судья, как мне в Тверском суде, то легко можно стать и «бывшим отцом». В смысле фактической невозможности осуществления родительских прав. Опека, суд, кругом одно бабье! Странно все же, что еще встречаются счастливые пары. Если принять, что любовь – божественное отклонение, то счастье – божественное заблуждение. «Сон золотой» по Беранже, только на двоих. И горе тому, кто проснется последним. Так, натягиваем очки, поднимаем капюшон… вылезаем… в такую пургу все одно, куда ехать… отложим Hochwurzen[20] на лучший день… погнали!
Уф-ф… тормозим, тормозим, тормо… а, хрен вам – не упал! Вот, теперь рулим в эту хижину. Четыре с лишним часа уже катаюсь, время есть. И пить. Nuns est bibendum![21] Как и планировалось – посижу до пяти, до шести, пока стемнеет. Потом последний рывок под свет фонарей. Не на каждой трассе такой финиш, конечно. Ночной снег искрится по-другому. Не блестит, как днем, а как-то переливается. Сияет. Даже в такую метель, хотя поутихло вроде. Значит, к вечеру совсем успокоится, а завтра, глядишь, и солнце увидим. Так, пошкандыбали к столику – там, за баром у камина. Отличное место, повезло. А вот с компанией за столом напротив, кажется, не очень повезло. Наших даже не видно издалека – их слышно издалека. Три мажорных юнца и три девицы одной породы – блондоской. Ну что за блядский смех! Что-то похожее слышал недавно. Какой-то урчащий от самодовольства. Самим получать кайф от гор мало – надо убедить всех остальных, что им кайфовей всех. И даже убедить в этом сами горы. Все компании шумные, но наши шумные особенным шумом… гвалтом даже. Да, наши не шумные, наши гвалтные! Остальные шумят для себя, наши – напоказ. Позвони сейчас кому-нибудь, не поверят, что за границей. Ишь, разорались! По децибелам вроде бы одинаково с местными, а по интонациям противнее. Правда, сморкаются тише.
– Нет, там было еще круче. Витя подъезжает как-то к дому, а место занято каким-то азером. Слово за слово, этот ара выходит из тачки и бьет Витю молотком прямо в череп. Прикиньте – по темени молотком! При этом жена евоная спускает на Витю какого-то пса-монстра, ну, чуть ли не мастифа. Эта собака Баскервилей вцепляется в Витину руку и прокусывает насквозь. – И че? – Надо знать Витю. – Это такой бычара за два метра… тебя, Лариса, в карман положит, не заметит… не, реально. – Он спортсмен, этот Витя? – Он не спортсмен, он сам спорт. О спорт, ты Витя!
Пока ржут, надо пожрать уже. Как смешно написано, не на немецком даже, на австрийском. Fua’n kloanen Hunger[22]. Ну и чем тут удалить kloanen Hunger? Отличается, как русский от мовы. Ну, жареные сосиски, что же еще. Шнапса, пожалуй, не нужно, снова грохнешься на спуске. Глинтвейн для согрева и Almdudler[23] для утоления жажды. Кофе, пожалуй, позже. Ну, надо же, молотком в голову из-за стоянки для машины. «О спорт, ты Витя…»… полный писец!
– И че? – Ну, Витя, с собакой на руке, другой рукой вынес этого азера в нокаут. Тот потом очухался и подал в суд. Мы все говорили ему, этот просто так не оставит, предпринимай чего-нибудь. Но Витя всегда пофигистом был. Вот так тупо на шесть лет и загремел. – А собака? – Какая собака? Ну, эта… Баскерлей. – Баскервилей, что ли? Которая в Витю вцепилась? – Ну да. – Собаке он челюсть свернул, когда вторая рука освободилась. – А… и что дальше с Витей? – Ничего, сидит. Но не просто сидит, подмял ползоны под себя. Вступился там за кого-то, объединил крепких мужиков. – Нравится ему в тюрьме, наверное.
Да уж… кесарю кесарево, слесарю слесарево. Теперь понятно, почему голоса знакомые – они из моего отеля. Точно, ужинают где-то у меня за спиной. Надо будет столик сменить. А тут уже не сменишь – все забито. Будто по всему Планаю обеденный перерыв. Хотя чему удивляться – в такую погоду всех к очагу тянет. Пожалуй, не буду я тут дотемна сидеть. Пообедаю и вниз. Сувениры пойду куплю, пока погоды нет. Егора нет, золота нет, погоды нет, бабы нет… убей его, Шилов!
День 3-й
Наконец-то солнце! Так кататься как-то поискристее будет. Сегодня план такой – с вершины сразу на Hochwurzen. Нет, там скучные склоны, это лучше на завтра. Сегодня проводим день на Haus Kaibling[24]. Я эту гору прошлые разы не полностью облазил. Ну, сегодня наверстаем. Кто соседи по кабинке? Странный язык какой-то… венгры, что ли… или поляки? Еще Польска не сгинела. Нет, и не поляки. Впрочем, какая разница. Чем непонятней, тем лучше. Есть надежда, что разговор о чем-то умном. Интересно, если бы люди моего поколения в юношеские годы знали перевод текстов песен «Абба», «Бони М», «Сикрет Сервис» и прочая и прочая, гонялись бы они за их дисками и записями? Убогие же тексты. На уровне нашей сегодняшней попсы. Муси-пуси по-английски. Незнание сохраняет очарование. Только у Битлов есть поэзия. И то в лучших вещах. И то – у Леннона. Что практически – одно и то же. Не зря же именно его застрелил Чэпмэн. А ведь на свободе уже или только просится? Вот ведь время как летит-то. Но одно верно – не зря именно Леннона. Потому что поэт. Потому что поэзия – это горы. А теперь каждая мышь может надеть горнолыжные ботинки и сесть в подъемник. Ну и катайтесь, скользите, наполняйтесь восторгом, но не срите вслух своим мелким мышиным пометом! А кому-то и этого мало. И тогда свое унижение – как это? он поэт, он смеет нас учить любви? Он смеет учить нас добру и красоте? Он смеет нас учить горам? – смывается простым нажатием курка. Он знает смысл жизни – пусть узнает смысл смерти. Hapiness is a warm gun…[25] накликал Джон. И твой убийца – мышь по имени Чэпмен – почувствовал себя на секунду горой… и на эту секунду стал счастливым. Навел ты свою судьбу прямой наводкой, Джон… А кто-то из рок-музыкантов недавно заявил – по радио передавали – что хорошо, если б Чэпмэн вышел. Может, он выстрелит наконец в Боно?
Что неизбежно – это Mittelstation. В жизни у каждого тоже есть такая… станция. Время решать – выйти здесь, пока не увлекло на вершину, довольствоваться сделанным и добытым или ехать дальше наверх, где ветренее и круче? Но где раздольнее глазу и душе. Где свободнее. Даже нет – вольнее. В горах редко кто сходит на Mittelstation, а вот в жизни наоборот. Но я не вышел. Ни в жизни, ни тем более – здесь. При наверх, а там судьба распорядится. А Леннона все равно чертовски жаль. Кстати, о покойниках. Вчера в городе тоже хоронили – какого-то авторитетного пожарника из местных. Полдня хоронили, пока я тарелку сувенирную искал, под звон колоколов. Сначала было похоже на какой-то юбилей общины – колонной с флагами туда прошли, обратно, у ратуши речи стали произносить. И только в кафе, с добытой тарелкой и магнитиком на холодильник, когда мимо прошла процессия, уже видно, что траурная, полюбопытствовал у официантки. Она и сказала про пожарника. Веселые эти маленькие альпийские городки: если кто помрет из начальства – встречи с покойником не минуешь. Причем неоднократно: на исходе третьего кофе процессия снова прошла мимо окна – в обратном направлении. И колокола не унимаются. Уважаемый человек был, значит. Наверное, не одного из огня спас. У нас так только артистов народных и воров в законе хоронят, чтобы пожарных – не слыхал. А вот справедливо было бы так, чтобы каждый умирал на своем посту – пожарник в огне, артист – на сцене, генерал – в сражении (милицейский – от бандитской пули, вор – от милицейской пули). Строитель – под обломками здания, плотник пусть падает насмерть со стропил, спортсмен – от вида спорта. Кто на ринге, кто в горах. Тьфу, типун мне на язык. Хотя тут я – любитель, мне другая смерть положена. Но мысль интересная – у настоящего профессионала не только жизнь, смерть тоже должна быть профессиональной. Чтобы у человека был выбор. Чтобы думал о смысле смерти. Правда, неясно, как быть с политиками и банкирами. Надо поразмыслить за ужином. Но в обоих последних случаях это должно быть что-то ужасное. Все, хватит о веселом, приехали.
Эх… красотень! Горы – зубы Земли. Все в снежном блендамеде. Лучше гор могут быть только горы, по которым еще не съезжал. Кого бы попросить щелкнуть? Так, эта не пойдет, эта корова тоже пусть мимо едет, мужик нужен, он и кнопку искать долго не будет, и красоту лучше запечатлеет… как ни странно. Баба только об одном будет думать, как она сейчас выглядит с фотоаппаратом, красиво, или очень красиво… окружающий мир не интересует… моя вот сняла бы, красоту чувствует… зато другого много не чувствует… особенно меры. Entschuldigung![26] Ага, секунду, сейчас… на фоне сияющих вершин… noch ein mal, bitte… herzlichen Dank…[27] отлично, глянем… нормально, считай, что день уже пропал не зря… ну, на Kaibling!
Тихо, тихо, еттыть! Стоять! Уф, вписался… ну, крутизна… такой стены, точно, не припомню здесь… так, законно отдыхаем… ноги еще с первого дня ноют… не надо было во второй день ездить, сейчас бы лучше носился… хотя дней не так уж много… вернее, завтра – последний… следующий раз путевку на полную неделю надо брать… а следующий раз – следующий год, когда чемпионат мира прямо здесь… отель уже сейчас надо бронировать. Только глянь, вот это сервис! Пункт мелкого ремонта лыж в горах – отверточки, ключи гаечные… для саморемонта… привязаны аккуратно к дереву, лежат на полочках… у нас бы даже шнурков не осталось на третий день… а на полочках валялся бы мусор… странно – русских полно и поляков, а отверточки аккуратно лежат… значит, русский за границей – больше, чем русский… или меньше? Иностранщины стесняемся… хотя нормальные люди стесняются своих больше, чем чужих… но ведь мы Россия… загадочные душевные потемки… заняли мое место – молотком по голове! Для прояснения. И не важно – место на стоянке, место в Думе, место на рынке… молотков на Руси на всех хватит. У Шукшина в каком-то рассказе тоже молотком… с обиды. Так, при чем здесь Шукшин? Хотя – где Шукшин, там Россия. А вот дочка его – на «Минуте славы» проголосовала за каких-то уродов, певших про «Отсосо Павлиашвили». Интересно, у Шукшиной вкуса нет, стыда или достоинства? Опозорить такую фамилию! Неужели за деньги? Или не хватило сил сказать «нет», когда мэтры говорят «да»? Вот когда Василию Макаровичу предложили поехать на Саяно-Шушенскую ГЭС – он ответил, мол, только с двумя кольтами. Потому что наносит огромный вред природе и людям. А Евтушенко подсуетился воспеть. Так что дочь Шукшина душой уродилась в Евтушенко. Гангус в России меньше, чем поэт. Вот такие людишки теперь у нас в фаворе, Серега. Ты бы не одобрил. Ну ладно, хватит лодырничать, погнали!
Такое солнце, что хоть загорай… была бы моя заноза сейчас здесь, до купальника бы разделась, точно. Да, глювайн, кофе и пожмуриться на солнышко… уф… отдохновение… может, тут остаться до заката… так хорошо, что хочется ругаться… двигаться, точно, не хочется… danke, danke… где-то на подъемнике было написано, что на этих горах работают несколько тысяч персонала ежедневно. Хорошо работают, ничего не скажешь… интересно, у нас на Олимпиаде так же улыбчиво будут работать? Волонтеры наши. Сомнения есть. Наших сколько ни инструктируй, все время какая-то хрень выходит. Что-то советское «вам что, товарищщ?!» сидит… хотя волонтеры – молодежь, откуда им про советское знать… в них другое сидит… «деньги вперед»… эх, печет прямо, надо же… даже мыслить неохота. Вот, бросить все и переехать в Шладминг. И каждый день сюда. А летом – по альпийским лугам в альпийских же ботинках. Сон просто. Забавно, в дословном переводе с немецкого слово «кошмар» звучит как «Альпийский сон»… Alpentraum. Хотя справедливей было бы «Moskautraum»[28]. Вот где настоящий кошмар. Не город, а термитник. Лезут друг по другу, тащут всякую хрень тяжелее себя, но главное, чтобы себе, по пути откусывают головы… или молотком… тоже годится. Один знакомый банкир уверял, что в пробках он отдыхает… куда дальше… помнится, где-то читал, что некоторые городские японцы теряют сознание при экскурсии на Фудзияму – отравление свежим воздухом. Ну и поделом – убивайте жизнь на деньги. Все, что можно купить за деньги, стоит дешево. Красоту и воздух на них, точно, не купишь. Тысячу раз прав был Эпикур – богатство, требуемое природой, ограничено и легко добывается. Богатство, требуемое пустыми мнениями, – безгранично. А люди еще считают себя «венцом творения». Какой венец, это пиз…ц творения. Казалось бы, читай мудрецов и живи спокойно! Сенека, правда, был одним из богатейших людей Рима, но кончил плохо. А почему – жадность пересилила мудрость. Но это исключение. Не читай Сенеку! Читай Эпикура и живи спокойно. Питайся красотой! Так ведь нет, ползут термиты, отрывают друг у друга добро вместе с лапками и головами и вместо того, чтобы озаботиться тем, кто они есть, кладут жизнь на то, что у них есть. И вся радость мира обращается в пыль на их вещах. И что не их – не доставляет радости.
Что это? Говорили по-немецки – сзади компания, – теперь перешли на русский. Говорили с акцентом, я думал, венгры какие… а молодцы… приятно, когда грамотные сограждане встречаются… особенно за границей… качество соплеменников прям улучшается вместе с погодой… сфотографировать? Да говорите по-русски, все свои… не, я не из Москвы, я из России… да… а вы?.. из Владимира? Каждый раз заезжаю, когда из Мурома возвращаюсь… очень красивый город… Золотые ворота… очень красиво… нет, не муромлянин, к друзьям езжу… охота, рыбалка… так, улыбайтесь веселей, горы взял, всю красоту будет видно… И взаимная просьба – да, просто за столом… на роздыхе… вот спасибо… хороший немецкий у вас… счастливого спуска… bis bald![29] Взрослые люди, и не из Москвы, а из древнего русского города – вот отсюда и самоуважение. Отсюда и приятствие случайному встречному…ну что, шнапсу или ехать? Эх, шнапсу и ехать!
День 4-й
День приезда, день отъезда… даже непонятно, вроде бы только вчера приехал. Теперь вот самый грустный день – последний. Сразу чувствуется, что день особенный – даже в кабинку со мной никто не успел… один еду… по-королевски… жаль, моей сучки нету, а то прямо бы в кабинке… оргазм над миром… отличное название для коктейля… вот запатентую, точно… потом лицензии буду продавать… «оргазм над миром» по всему миру… ха… а все-таки жаль… как-то скучновато… спокойно зато… за что за то? За то, что одиноко… неужели всему на свете есть цена… или плата… или обратная сторона… и вечно выбирать из двух зол, которое больше нравится… из двух добр… добров… даже множественного числа нет… почему нельзя выбирать… оттого и нельзя, что добро всегда в единственном числе… поэтому его на всех и не хватает. Странно, что нет какой-то срединной плоскости, эдакой межи, что ли, между добром и злом… где нет ни того, ни другого, прижизненное состояние полного равновесия… состояние полного равнодушия… наверное, это и есть нирвана… но тогда ничего не чувствуешь… а чувствовать пока что хочется.
Mittelstation… последняя в этом сезоне средняя. Игра слов, игра чувств, игра дней, игра теней. Вот что всегда хочется чувствовать – азарт. А для этого нужна какая-нибудь игра. Горы не игра… любая стихия не игра, играть можно с ней, кого насколько хватит, но сама стихия, как и сама природа, не игра… потому у нее и нет никаких правил… каждый выигрывает по-своему… а проигрывает одинаково… смертью. Стихия равнодушна к смерти, поэтому в природе нет ни добра, ни зла.
Ладно, чего это я в такой ясный день о смерти… сейчас приедем и сразу на Hochwurzern… на Планае кататься не бум… на обратном пути разве… хорошо все-таки, когда один едешь, думаешь, о чем хочешь, и никто не сморкается, оглушая перепонки. На ту гору, как я помню, больше на подъемниках надо добираться, чем на лыжах. Будем надеяться, что пойдет так же – без болтливо-сопливых соседей. Все, приехали, вылезаем.
Видимо, все в мире устроено по компенсационному принципу… всю дорогу ехал в кабинках в королевском одиночестве… и на склонах почти никого… зато здесь столпились. Поезд из пяти стоячих кабинок, на пятнадцать человек каждая, – в одну сторону… и чего-то остановилось все… на платформе толпа… ну когда пустят-то?
– Гляди, Вась, закрыли эти… как их… поручни. Не могу же я перепрыгнуть… Вась, не напирай…
– Надо им показать, что такое Тагил… Тагил реально рулит… а ну, открывай ворота!
Ну, конечно… куда в Альпах без Тагила… хотя, согласен, пусть отворяют… сколько можно стоять перед воротами… уж лучше на платформе… во, как услышали, закрутилось колесо… знай наших!
Зря я пил Ундерберг на подъемнике… алкоголя чуток, мороз вроде, а реакция уже не та… вот почему за рулем лучше ничего не пить… хорошо, что здесь лыжи отцепляются… в машине ничего не отцепится, разве что твоя голова… вот мучение, ботинок в лыжу на склоне вставлять… ну куда, стоять… еще раз… вот зараза, стоять, сказал! Что такое? А чего это… крепления не держат… такое впервые… крепления на лыже разошлись… как теперь с середины горы, пешком, что ли? Ну, конечно, крепления не могут как следует установить, зато почтовый индекс мой знают. И пункта ремонта нету… с отвертками на веревочке… Придется самому… всю жизнь все самому… надавим сюда… сместим вперед… на какое деление? А какое на другой лыже, на такое ставь и на этой… ну-ка… щелкнуло, держит! Ай да Пушкин, ай да сукин сын… все, в ближайшую Huette праздновать победу!
Странно… лыж при входе мало, а народу внутри, как сельдей… пешеходы, что ли? Ладно, придется возвращаться на Планай… ну и к лучшему, там и проведем остаток последнего дня, где провели весь первый. Направо, налево… по прямой… скучная гора… надо бы найти на Планае тот ресторан, который с камином. Компашки из моего отеля там быть не может… по теории вероятностей… или по теории относительности… или теории больших чисел… по закону Гей-Люссака, одним словом. Хотя по нынешним тупым временам это звучит подозрительно… Гей-Люссак. В «правильной» компании могут и баки пощупать за такое название. Несчастный Люссак. Или Гей. Лучше тогда… тормозим, так… в люльку и на родной Планай… лучше уж тогда Бойль-Мариот. На отель похоже, но лучше так, чем Гей-эгегей – Люссак. Где моя скляночка – выпьем за Бойля, после падения и ремонта в экстремальных условиях можно уже не стесняться. Личность прирастает препятствиями, а воля падениями. А вот чем любовь прирастает? «Иль мне чужда счастливая любовь?..» Похоже на то. Чем убывает, понятно – изменами. А прирастает – не верностью же? Хороший «левак» укрепляет брак, как говорится в народе. Зря говорится. Самое сексуальное – это верность. Но это как данность, верность прибавочной стоимости в любви не создает. Это, так сказать, основной капитал. А что создает? Надо еще глотнуть, так не решить.
Где же эта чертова Huette? Я же отчетливо помню – направо по склону от Mittelstation. А теперь ее нет. Зато туннель какой интересный. С эскалатором для лыжников. Стоишь лыжами на резиновом полу, а он тебя везет вверх. Офигеть, чего только западный ум не придумает. Значит, точно, здесь не катался. Впрочем, тогда метель мела… немудрено, что не туда поехал. Этих ресторанчиков здесь на каждом шагу, но тот уютный был. С камином. Четыре вещи можно делать бесконечно – смотреть на огонь, на водопад, на горы и на то, как работают другие. Так… осторожно… резко переставляем лыжу с пола на снег, другую… все, покатились дальше. Искать уюту в Хютту.
Вот эта – она последняя на склоне. Как раз для последнего дня. Народу плотно забилось, но вон – место свободное… в углу… камина нет, но уже не до камина, зело жрать охота. Ja, bitte… да пока принесут… тринкнем уже по маленькой… все-таки шнапс, хороший, конечно, шнапс выгодно отличается от граппы, чачи, узо и прочего самогона. Даже лучше кипрской зивании. Особенно Larchenschnaps. Редкость даже здесь.
Und wer im Januar geboren ist, steh auf, steh auf, steh auf! Er nimmt das Glaeschen in die Hand und trinkt es aus bis an den Rand. Sauf aus, sauf aus, sauf![30]Это что еще за хор? День рождения у кого-то из той кодлы у входа? Видимо, у того, кто встал со стаканом. Не судьба, значит, тихо посидеть. Ну, нехай поют, лишь бы не сморкались.
Und wer im Februar geboren ist…[31]Они что, весь год перечислять собрались? Двое встали… февральских… ладно, где мое мясо? А, вот, несут, кажется… голод не тетка и даже не теща… как хорошо без тещи… гражданские жены бывают, а вот о гражданских тещах я не слышал… все-таки жаль, что свою деваху не взял… надо было брать… отругать, воспитать и взять… сейчас бы вместе шнапсировали… ну ничего, умнее будет… тем более скоро обратно… «уж я ее родимую, приеду – сагитирую…» Так, эти веселые зойферы до июня добрались… интересно, когда год кончится, они на второй круг пойдут? Если пойдут, надо ехать… и темнеет уже… как раз под фонарями заложим прощальный вираж. А перед самым последним спуском остановиться и впитать… как впитал в память ту апрельскую капель… в армии, когда в разведке в немецких лесах отложил топор и лег прямо на пахучую свежую хвою посмотреть одну минуту на весеннее небо. Как впитал тот белый крест на греческой горе, когда держался за буй в ласковом теплом море и не знал, что тебя уже предали твои самые близкие… а ты все загадывал туда вернуться… а когда вернулся, то был уже один… как и теперь. Не, не так. Теперь я еще один. Или, вернее сказать, пока один. Когда тебя ждут, пусть и в ссоре, ты один только, пока один. А когда не ждут даже в мире, ты уже один. Пусть и формально вместе.
– Und wer im Dezember geboren ist…[32]
Ну, вот и декабрь пошел… встать, что ли, для хохмы? Не, пригласят еще, не отвяжешься. Поехали. Да, пора, поехали. Прощай, Планай. Извини, если отвлекался от твоей красоты. Хороших тебе людей на склонах. Sehen uns wieder![33]
2012Родное сердце
Этот воскресный день был странным с самого начала. Сначала она забыла зонтик, но, не увидев на небе туч, почему-то вернулась за ним. Потом она села в другой автобус, но он повез ее, куда нужно. Правда, надо было выйти за две остановки и прогуляться подольше – маршруты автобусов, как и судьбы людей, как правило, отличаются последней остановкой. Потом эта странная встреча. Она не хотела оглядываться. Мало ли кто окликает на улице «девушка»! Она знала, что это мужчина, только что попавшийся ей навстречу, он чуть голову не свернул, проходя мимо нее. Но оглянулась. Да, именно он, симпатичный брюнет в синем пальто с желтым шарфом, пострижен ежиком, со светлыми глазами.
– Девушка, извините, ради Бога. Мне показалось…
– Нет, мы с вами нигде не встречались! – нарочито хмуро сказала она, потому что подумала – жаль, что не встречались.
– Да я понимаю. – Он обезоруживал своей открытой улыбкой. – Но понятно и другое.
Эффект был рассчитан точно. Она не удержалась от вопроса:
– И что именно вам понятно?
– Плохо, что до сих пор не встречались.
Оттого, что он угадал ее мысли, она вспыхнула. Тайна – лучшая одежда девушки, и она почувствовала себя голой.
– А вы не слишком торопитесь с выводами?
– У меня слишком мало времени, чтобы торопиться.
Она спохватилась, что до сих пор стоит и разговаривает с первым встречным. С первым обернувшимся встречным, но все-таки незнакомым. Каблучки зацокали по тротуару, но уйти не получилось – мужчина пошел рядом.
– Вы еще и бесцеремонны!
– Я не бесцеремонен, я беспомощен.
– Странное признание для мужчины.
– Я беспомощен перед вашей красотой. Разве это странно?
Она не захотела приправлять едкостью вкус признания в своих ушах, поэтому промолчала. Он понял все правильно.
– Что-то меня толкает к вам. Словно я стою на краю обрыва, внизу омут, и я заранее знаю, что дна нет. Ведь лучше утонуть, чем сломать шею, не правда ли?
– А разве нельзя выплыть?
– Из ваших глаз – нельзя!
– Тогда не прыгайте!
Брюнет рассмеялся и взял ее под руку. Она даже не заметила поначалу, так это получилось естественно.
– Я уже несусь вниз! А такое падение лучше полета!
– А я думала, полет – это когда вверх. Разве вниз лучше?
Мужчина задумался, но только на секунду.
– С вершины просто некуда больше.
– А вы на вершине?
Теперь брюнет ответил сразу:
– Нет, это вы на вершине. А я падаю с солнца. Лучом. И скоро стану солнечным зайчиком в ваших невероятных очах.
Она улыбнулась, таких букетов слов ей еще не преподносили. Мужчина вдруг выпустил ее руку и остановился. Она непроизвольно остановилась рядом и вопросительно посмотрела в его глаза. Они были серо-голубые, как подтаявший лед.
– Должен попросить прощения у прекрасной дамы – я не представился. Но я не буду сейчас представляться и вашего имени не спрошу. Испытаем судьбу?
Она непроизвольно кивнула и ступила на этот скользкий, таявший лед.
– Я не буду вас подкарауливать, не буду специально искать встречи, не буду ходить по этой улице. Но я почему-то уверен, что мы встретились не случайно. А коли так – мы не расстанемся надолго, фатум не позволит. И если… нет, когда мы снова встретимся, я не только назову свое имя.
Он молча ждал ее вопроса. Она всеми силами старалась его не задать, но по льду не ходят – по нему скользят. И часто против собственной воли. Она почти знала ответ. Это была полынья, и ее несло прямо туда.
– И что же это будет? Кроме имени?
– Я предложу руку и сердце. Что будет – уже не вернешь. Судьба.
Мужчина развернулся и пошел в обратном направлении, ни разу не оглянувшись. Она не могла отвести глаз от его удаляющейся фигуры, словно он уносил с собой что-то важное для нее. Что-то такое, без чего лишалось смысла то, зачем она шла еще несколько минут назад. Словно она забыла, куда направлялась. Наконец, стряхнув оцепенение, женщина пошла своей дорогой.
Перед входом на кладбище женщина купила живые цветы. Те, которые дарил ей покойный муж. Он не разбирался в цветах и дарил только розы. Только темно-красные. Опадающие лепестки иногда напоминали ей крупные капли крови. И когда случилась эта смерть, ей показалось – асфальт у покореженного автомобиля покрылся ковром таких лепестков. Боли она не чувствовала – смотрела, как беззвучно увядало ее тело, делая ковер все более густым. Теперь получалось – она возвращала ему все подаренные цветы. Но разве красота, как и жизнь, не даются только в долг? То, что она выжила в той автокатастрофе, – не его ли смерть одолжила ей жизнь?
Женщина остановилась у могилы. С траурной фотографии смотрело радостное смеющееся лицо – словно назло небытию. Так распорядилась она – вопреки глухой недоброй воли свекрови. Не только потому, что хотелось запомнить его таким. Ей казалось – так ему будет веселее. Не так тоскливо. Словно фотография здесь определяла состояние там. В конце концов, что-то там определяет судьбу здесь. Почему не могло быть и наоборот? Во всяком случае, она в это верила или очень хотела верить.
Она нагнулась к черной плите – положить цветы – и вдруг увидела маленький букетик. Кто-то принес цветы на могилу ее мужа, и принес не так давно – скромные тюльпаны еще притворялись живыми. В ее сердце встрепенулась почти забытая ревность. Живой, он мог принадлежать не только ей, она это знала, но смерть узаконила только одно право – право вдовы. И отменило все остальные. Свекровь умерла больше года назад, другой родни у него не было. И тут – цветы. Как будто кто-то нарушил их уединение, влез в интимный разговор. Она нахмурилась, но чужие цветы убирать не стала – положила свой букет роз рядом. И все-таки кто бы это мог быть? В женской памяти стали всплывать прежние подозрения и скандалы. Муж не был, как говорится, ходоком, но женщинам очень нравился. Высокий, с сильными руками и добрыми глазами, он не охотился за женским полом – бабы сами вешались на него при любом удобном случае. И он не всегда отказывал, она это знала. Она понимала, что остальных он жалел, а ее – любил, но когда ревность кормилась доводами рассудка? Она бесилась, кричала, била посуду, уходила, прогоняла, даже изменяла в отместку, но ничего не помогало от любви. И когда они мирились, он прикладывал ее руку к своей груди и шептал на ушко – послушай, это бьется родное сердце. Не плачь и не ревнуй, пусть оно бьется ровно. Ведь оно бьется только для тебя. И она целовала его в сердце, целовала вокруг, целовала везде до исступления, до слез. Сердце, родное сердце билось, а значит, жило только для нее. Разве не это счастье любой женщины? И она засыпала на его широкой груди с улыбкой на губах.
Теперь это сердце билось в чей-то чужой груди. После аварии с разрешения его матери сердце взяли для пересадки. Оно было здоровым и сильным, как он сам. Свекровь сделала это не ради денег – возможность спасти чью-то жизнь острее чувствуют люди, потерявшие самых близких. Она узнала об этом гораздо позже. Не когда пришла в сознание и не когда она вышла из больницы, гораздо позже. В последний момент. Свекровь умирала в больнице от саркомы, врачи вели счет на дни. Она дежурила у постели, когда мать ее мужа пришла в сознание. Взяв невесткину руку желтой, почти прозрачной кистью, свекровь долго смотрела ей в глаза. Так долго, что встречные взгляды переплелись и свили мост. По этому мосту перешли последние слова: «Не виню… Его сердце живет… найди… прости…» Она подумала, что старуха бредит. Но потом догадалась. Нашла бригаду «скорой помощи», приехавшую на место аварии в тот проклятый вечер. Молодой, но уже проспиртованный врач с щегольской бородкой узнал ее почти сразу. Вышел за ней на улицу. Он удивился ее быстрому выздоровлению, но не удивился ее появлению и смешал дым папиросы с туманом загадочных предположений. Хотя все сводилось к тому, что ничего исключать нельзя, она обменяла стодолларовую купюру на ответ поточнее. Врач «припомнил», что начальник бригады подтверждал кому-то по сотовому насчет здоровых органов «жмура». «Простите, пострадавшего». Но система так устроена, что возможностей узнать, кому они, то есть органы, достались, нет. Кроме одной.
Она спросила не сразу. Врач притушил разговор окурком о каблук. Вытащил купюру, посмотрел на свет и снова положил в белый карман. Только когда он повернулся к ней спиной, она задала вопрос прямо между лопаток. Врач обернулся.
– Одна возможность есть. Но не у вас. Знает реципиент. Может узнать, если захочет. Тот, кому пересадили этот орган, – уточнил на всякий случай, хотя она понимающе кивнула.
Вернувшись домой, она написала письмо новому в ее жизни человеку со странным названием – реципиент. Человеку, в груди которого билось сердце ее мужа. Письмо было недлинным. Она просила только одного – позвонить ей по телефону. Позвонить и прислонить трубку к груди. Чтобы хотя бы так послушать, как бьется родное сердце, которое она когда-то целовала до слез. Письмо передала тоже через мужа. Положила на могильную плиту на следующее утро и придавила букетом роз. Потом ей показалось это недостаточным, и она положила на конверт небольшой камень, валявшийся рядом. Букеты вяли, их выбрасывали смотрители, иногда она сама, а письмо лежало под камнем, как покойник. Потом, когда пошли осенние дожди, она переписала его и завернула конверт в пластик. На конверте было написано крупными красными буквами – «ТОМУ, КОГО СПАСЛА МОЯ СМЕРТЬ». Тогда она не спросила у врача, подходит ли женщине мужское сердце, поэтому все письмо было написано словами, не имеющими рода. Письмо оставалось на месте, лишь ветер иногда вынимал его из-под камня, словно хотел прочитать, но, не добившись своего, бросал невскрытым у могилы. Тогда она поднимала его с земли, разглаживала, находила камень потяжелее и водворяла на место. Вдруг она вздрогнула. Чужие цветы были так неожиданны, так отвлекли ее, что она сразу и не заметила, что письма нет. Женщина внимательно оглядела землю у могилы, потом все пространство до решетки, а когда ничего не нашла, то и за решеткой, между чужих могил. Письма не было. Теперь она поняла – его не унесло ветром с кладбища, к живым. Его взял кто-то живой. Взял и оставил заложниками два тюльпана. Неужели он, тот самый реципиент? Или она? Или она, но не та самая, а кто-то из его бывших подружек? Женщина присела на маленькую скамеечку и упредила подходящую тучу своими слезами – дождем, от которого не спастись ни под каким зонтом.
Оставшийся вечер она просидела над телефоном, ожидая звонка. Того самого звонка. Но телефон молчал, как обиженный ребенок. Не звонили даже подруги и знакомые. Она проверила сигнал, заряд батареи, баланс, выключила его и включила снова на всякий случай. Но телефон, несмотря на благоприятные показатели, не оживал. Тогда она набрала какой-то номер – убедиться, что есть связь. Когда пошли гудки, она нажала на отбой и снова села за стол, положив телефон перед собой, как книгу. До самой ночи она читала одну и ту же страницу и, только когда время перелистнуло ее на следующий день, пошла стелить постель. С гибели мужа она спала одна. Детей у них не было, они не торопились с этим. А кто откладывает на день, тот губит год. Кто откладывает на год – губит жизнь. Другого мужчину она не завела, физическое желание пока было еще меньше горя. Ведь главное – не с кем спишь, а с кем просыпаешься. Просыпаться одной ей было проще, как обожженному проще плавать в холодной воде. В последний момент перед сном ей вспомнился давешний мужчина, окликнувший ее на улице. Несомненно, он вызвал ее любопытство, даже больше – интерес. Но он был прав – в их… нет, в ее случае только сама судьба могла быть сводней. То, что дороже всего, нельзя заменить вытесняя. Можно только продолжить дополнив. И самому этого не сделать. Самому можно только не пропустить. Она заснула с телефоном в руке, словно пытаясь отогреть его молчаливую душу своим теплом.
Заветного звонка не последовало ни на следующий день, ни на второй, ни на третий. К следующему воскресенью она перестала ждать и брала телефон уже без замирания сердца. Но то, что она ждет другого звонка, чувствовалось – и ее приятельницы на другом конце провода, как сказали бы в прежние времена, непроизвольно укорачивали разговор до минимума. Еще через три недели она пришла к выводу, что письмо с могилы просто унес ветер. На этот раз так далеко, чтобы нельзя было найти. Наверное, так было угодно провидению. Она уже села писать новое, но остановилась, грызя ручку. Разве нужно в этом мире то, что не ищут? И разве ищут кого-то в этом мире, кто не нужен? Она так и просидела весь день за столом, где лежал лист бумаги с единственным написанным словом «ТОМУ». Первый раз за этот год она не пошла на кладбище, как обычно, в последнее воскресенье месяца, вдруг почувствовав, что муж перестал искать ее в этом мире. Пустота вокруг стала холодной. Она поняла – это наступила свобода. Но свобода не для нее, а в отношении ее. Будто ее вели за руку и вдруг отпустили. Можно было идти, куда угодно, а можно было стоять на том же месте. И то, и другое было всего лишь ожиданием момента, когда снова возьмут за руку. Но уже кто-то другой. И этот другой был волен взять ее за руку. Только теперь.
«Руку и сердце» – она вспомнила слова давнего незнакомца. Потом она вспомнила его голос. Потом – леденистые глаза. Пожалуй, она протянула бы ему руку с удовольствием. Но какой шанс встретить его еще раз в этом опухшем городе? И, как было сказано, он не будет ее искать нарочно. А она? Она стала бы искать его? Незнакомого человека, успевшего положить в нее всего несколько остроумных комплиментов? Нужен ли он? Вернее, нужен ли он ее стараниями, без подталкивания их судьбой друг к другу? Без счастливого случая? Тогда не будет выполнено условие. Не будет испытания судьбы. А значит, это не будет предназначением. Но почему все-таки он? Теперь ей может понравиться любой. Любой, если она захочет, чтобы он понравился. И никакая судьба здесь ни при чем! Она тряхнула русыми волосами. Они опустились на плечи ветками ивы.
С завтрашнего дня она станет жить весело! А веселье приманивает счастье, как просо голубей. И много же их слетится – и тогда она выберет своего! Вот так! Вот и вся судьба! Она рассыпала бусы смеха. Видимо, одна бусинка закатилась под кровать, потому что женщина спала, улыбаясь во сне.
Подруги не знали – радоваться за нее или завидовать? Женщина не ходила – порхала, не улыбалась – светилась, не смеялась – заливалась. Похоже, влюбилась, шептались за спиной, делая понимающие глаза. Но никакого любовника рядом не чувствовалось. Она никому не звонила, кроме клиентов, не спешила на встречи, как спешат на свидания, не подкрашивалась каждые полчаса и не прыгала глазами в озеро зеркала. Скоро пересуды затухли без фактов, как угли в камине без тяги. Она не обращала никакого внимания на недоумение окружающих, весело и споро делала свою работу. Хотя работа с людьми к веселью не располагает – особенно с покупателями недвижимости. Более капризных клиентов, наверное, не встретишь больше нигде. И дело не только в том, что суммы покупок были внушительными. Мужчины подходили к вопросу основательно, без суеты, по делу. Проверяли состояние ремонта, смотрели документы на дом или квартиру. А вот дамочки показывали себя. Надували губки, жаловались на вид из окна или жаловались на что-то другое, но никогда ничего не хвалили. Понятно было, что это элемент торговли и стоит сбросить цену, как из окна смотреть будет куда приятнее. Но им хотелось, чтобы пока смотрели на них. Так приятно чувствовать себя леди. Дамочки считали, что для этого достаточно делать дорогие покупки, и ждали угодливых танцев. Она понимала, что обидеть клиента – непрофессионально, держала себя корректно, но на дистанции. Полуледям это не нравилось, они придирались еще больше, но, поскольку рынок построен не на капризах, объекты худо-бедно продавались. Еще бы пристроить одну квартиру – и заканчивающийся год можно было бы считать весьма успешным.
Она ждала клиента у подъезда и подумывала, с кем и где провести новогодье. Прикидки приходили в противоречие с известной приметой. С тем, с кем весело было бы встретить Новый год, совсем не улыбалось провести его вместе целиком. Снежинки, среди которых, говорят, невозможно найти две одинаковые, искрились под фонарным светом и распушали гриву послушному вечеру. Покупатель запаздывал. Запаздывал, не предупреждая по телефону, как принято среди воспитанных людей. Наверное, зарабатывать деньги и помнить о манерах одновременно невозможно. Она перезвонила бы сама, но номер телефона в конторе ей дали, видимо, ошибочный – обслуживание абонента было прекращено. Еще пятнадцать минут – до девяти, и все – домой, в теплую норку! Ждать больше было и бессмысленно и вредно для бизнеса. Клиент может начать думать, что он единственный. Она посмотрела на часы, чтобы убедить свою совесть в точности, подняла глаза и… вмерзла во Вселенную. Перед ней стоял он. Тот мужчина с леденистым взглядом. Он был в шикарном кожаном пальто на соболином меху, в роскошной рыжей лисьей шапке, наползавшей почти на весь лоб, но узнала его в первый же момент. Узнала и улыбнулась, как улыбаются маленькие собачки, прыгнув на диван. Эта улыбка растопила лед в его глазах, и они весело заискрились. Он взял ее за руку.
– Ну вот, что я говорил. Судьба.
Она с трудом опустила глаза.
– Всего лишь случайность.
– Пойдем.
Он вел ее за руку, она не думала, куда и зачем. Он был ветром, она снежинкой, единственной и неповторимой. Она кружилась в вечернем небе и не падала. Кто полон счастьем, не падает, потому что оно легче воздуха. Только потом, когда он вставил ключ в замок своей двери, она поняла, что не дождалась покупателя на квартиру. Потом поняла, что это не он покупатель. Тогда что он делал у того подъезда? Проходил мимо? Но от метро, если он вообще ездит на метро, пройти другой дорогой гораздо короче. А если он ездит на машине, то где его машина? Ведь они шли пешком.
– Ты не поверишь, первый раз за зиму вышел погулять. Что-то потянуло. То есть не что-то, а кто-то… – Он посторонился, пропуская ее вперед.
Она вздрогнула – второй раз он читал ее мысли, словно они проявились с обратной стороны лба. Тогда это действительно невероятное совпадение. Хотя почему совпадение, если оно невероятное? Или вправду судьба? «Я предложу руку и сердце». Неужели он серьезно? Что будет – уже не вернешь? Да, по всей видимости, этот человек кует обещание из железа. Но она даже не знает его имени. Спросить или дождаться, пока он сам скажет? Но и он не знает ее имени. Сказать или дождаться, пока он сам спросит?
Он включил свет. Она передала ему пальто и с кошачьим любопытством пошла по квартире. Ничего необычного, убежище закоренелого холостяка. Как ни поддерживай порядок, а отсутствие женщины заметно сразу. У хорошей хозяйки даже пыль ложится на полки по-особенному, как первый снег, готовый в любой момент растаять. Она поймала себя на мысли, что не чувствует себя здесь гостьей. Не рановато ли?
Он прошел на кухню и вернулся с бутылкой красного вина.
– «Шато Тротонуа»! В честь обретения этим домом своей желанной хозяйки.
Она даже не удивилась – он читал ее мысли не первый раз. Так чувствуют люди, живущие внутри друг друга. Когда не нужно говорить. Те, кто только соприкасается, говорят, но часто не слышат друг друга.
– Купил в день нашей встречи. В специализированном магазине, в супермаркете такое не продается. Бутылка плавала в волнах разлуки от встречи до встречи.
– Очень поэтично!
– Раз есть муза, поэзия неизбежна.
Следующая мысль спросить его имя пришла к ней только в постели, когда он раздевался. Но тут же исчезла. Приподнявшись на локте, она внимательно всмотрелась в его грудь. Почти от ключицы рядом с левым соском розовел длинный рубец, вернее, шрам, похожий на след гигантской сороконожки.
– Что это? – Она прикоснулась к нему губами.
– Операция. У меня было три инфаркта. И третий был бы последним, если бы мне не пересадили сердце. Так что у меня в груди бьется чужое сердце. Но бьется хорошо. Потому что – для тебя.
Она закрыла глаза, от догадки у нее закружилась голова.
– Почему ты не позвонил? В письме на могиле был же написан телефон. Мой телефон.
Она распахнула намокшие ресницы. Он застыл на краю постели. Его глаза вновь заледенели.
– Вот оно что. Значит, это ты.
Она не знала, что сказать, и сказала самое глупое:
– Это я.
– Сначала я хотел набрать тот номер в письме. Это было даже моим первым порывом. Я понял потом, что меня остановило.
Она глотала каждое его слово.
– Я подумал… подумал, что после звонка неизбежна встреча. Если бы меня попросили, как бы я мог отказать?
– А что плохого во встрече?
– Теперь ничего, родная. Но представь себе, как на меня смотрели бы. Смотрела бы ты. Так смотрят вдовы на вернувшихся с войны солдат. С укором. Будто, погибни он, ее муж остался бы в живых. Этим нельзя укорить вслух… словами. Нельзя их услышать… эти слова. Но сердцем услышать можно. Даже чужим. – Он погладил свой рубец.
Она снова расплакалась, но теперь слезы текли легко и свободно. Это были не слезы – брызги счастья.
– Твое сердце не чужое. Оно мое! Оно родное!
2012Публицистика
Нет поэтов, осталась шпана?
Вместо вступления
(предисловия, введения, аннотации)
Не хотел писать, не уверен, что напечатают, а зачем почем зря душу выплескивать?
Но слишком задела меня дискуссия в «Литгазете» о поэзии, начатая в конце мая статьей Сергея Мнацаканяна «Век – новый. А поэзия?». И, споткнувшись о «когнитивный симулятор» И. Болычева в «Мерзости запустения», не выдержал – сел за компьютер, чтобы изложить свою точку зрения на предлагаемую тему.
В Средние века (в XIV веке) в Англии жил монах – философ Уильям Оккам, предложивший доктрину, получившую название в честь автора, т. н. бритва Оккама, смысл которой сводится к следующей тезе: «Не умножайте сущности без необходимости». Говоря проще, сводите все к главному, без злоупотребления придаточными предложениями и… мыслями.
Попробуем?
Единственная оговорка – цитировать автор будет в том числе и себя, ибо аргументов, опирающихся на «вечные» цитаты, употребляемые без всякого разбора, и часто одних и тех же по прямо противоположным поводам, уже применено довольно. Яснее, по-моему, не стало.
Так что не обессудьте.
Итак, три вопроса к теме:
– что есть поэт?
– что есть народ?
– кто кому нужнее или что делать?
1. Что есть поэт?
Кто кончил жизнь трагически, Тот истинный поэт… В.С. Высоцкий«А нынешние как-то проскочили…» – продолжим Владимира Семеновича. Как быть? С одной стороны, «Разбор собратьев очень труден, //И, согласитесь, щекотлив. // никто друг другу не подсуден, // И каждый сокровенным жив…» (Северянин), с другой – как обойтись без конкретики? Как это – на стрельбище, да без мишеней? А залпы все не утихают.
«…произведение, почти все ученическое, потому что все подражательно… форма принадлежит Байрону, тон тоже». Баратынский о «Евгении Онегине». Сбросить Пушкина с парохода современности призывал «их главный штабс-маляр (по Есенину) Маяковский». «Балалаечник», – юбилейно бросал Маяковский в Есенина. «Нам все еще подавай “самородков”, вшивых русых кудрей и дикарских рыданий от нежности» – Бунин (!) о Есенине (!!). «Законченный фашист» – Свиридов о Маяковском. «Слюнявая, грязная поэзия… сознательно грязная». Он же о Вознесенском. Прочитал не так давно интересное интервью с А. Кушнером в «Литературке», кстати, с профильным названием «Жизнь без стихов непредставима» – тут же нарываюсь у И. Болычева в рамках дискуссии на «пустобрехов кушнеров» (ст. «Мерзость запустения». Но насчет балаболистых вишневских – точнее не скажешь).
Очевидно, художникам и критикам лучше друг с другом не встречаться в переулках оценки роли личности в поэзии.
… Сейчас иные времена, Сейчас нет жалости у хилых, Поэтов нет – одна шпана На братских роется могилах.«Цель творчества – самоотдача», – заметил Пастернак. (Вдогонку: «Ваши стихи косноязычны. Их никто не понимает. Народ Вас не признает никогда», – так Есенин оценивал поэта Пастернака. Сергею Александровичу, как видно, «везло» на нобелевских лауреатов.) Так все же кто пишет, что пишет, как (!) пишет и, главное, зачем пишет в ХХI веке?
Пишут все, кому ни лень. И самое скользкое в этом, что часто самоотдачей занимаются весьма и весьма заслуженные, честные, в общем, настоящие люди, но неумеющие – «ни божества, ни вдохновенья» – вознести свое мировоззрение и опыт на скалистую кручину поэзии, где уже лежит нетающий снег мастерства. Однако искренность таких попыток вызывает не усмешку, а желание пожать крепкую руку автора. Другое дело – «профессиональные» рифмачи с дипломом Литинститута или Высших литературных курсов, греющие сердцем разве что членский билет Союза писателей в кармане гордо не стиранной рубашки. Не будем уподобляться вышеприведенным гениям и обойдемся без личностей. Ограничимся, пожалуй, экспромтом под названием «Читая литературные альманахи»:
Проходит ночь, сменяя день, Все меньше места на скрижалях, И думал я – какая хрень Все то, что вы не написали.Я не вполне согласен с И. Болычевым, громящим «поэзию как частное дело каждого». Никто не мог запретить И. Северянину напечатать за свой счет несколько десятков книжец со своими стихами и навязывать их редакциям – традиционный путь начинающих поэтов, но получилось же: «Я покорил Литературу // Взорлил, гремящий, на престол!» Я допускаю даже, что в нашу Конституцию можно наравне с правом на отдых и на труд вписать право на поэтическое и вообще любое творчество. А что, получится по Достоевскому – «страна тщеславных нищих» (Кармазинов). Одно дело – когда поэтесса пишет о неразделенной девичьей любви (может, шампунь надо было сменить), или убеленный сединами «молодой» поэт – про убежавшие напрасно года (и еще убегут, если заниматься не своим делом), и совсем другое, когда начинают трогать святое – чувство Родины. Вот это уже серьезно. Мне кажется, да нет, так и есть – многие ловкачи уловили подъем национального самосознания, радеть «за Расею» стало модным. А с каждым съездом правящей партии и «правильными» выборами – все более и более выгодным. Количество журавлей (и березок) в стихах и песнях, льющихся в душепровод наших избирателей, превышает все разумные нормы. За журавлями уже и неба-то с самолетами не видать. Мне это особенно больно видеть, потому что я уже лет десять сам не могу без журавлей и березок, а теперь, получается, с любовью к Родине надо вставать в очередь. А в очереди за признанием нет лучших и худших, есть, кто занял с ночи, а кто и без очереди, потому что вахтер – свой.
Вот что может окончательно лишить современную поэзию исчезающего пульса доверия – конъюнктура. Можно написать: «Теперь со многим я мирюсь // Без принужденья, без утраты, // Иною кажется мне Русь, // Иными кладбища и хаты» (вернее, так уже не написать), а можно вывесить плакат: «Я люблю тебя, Российская Федерация!» И то, и другое – верно. Но последнее легче (быстрее) упаковать и выставить на продажу в глянце. Продавец за стойкой – тоже ведь свой. А ведь Ницше правильно это уловил, высказавшись в том смысле, что стремление человечества избавиться от пользы возвысило человека, пробудило в нем чувство прекрасного, из чего и родилась поэзия. Но если чувство Родины не выстрадано, то в нынешних невегетарианских условиях оно автоматически становится ТОВАРОМ. Попсой. Мылом. Прокладкой. Надо про Гаврилу – пожалуйте-с. Про русскую душу – нет проблем. Возьмем стакан (обязательно граненый), нальем водки ностальгии на треть, тюремной тоски сверху, березками заполируем – готов коктейльчик, просим к столу-с. То же – в кино, на эстраде, далее – везде. Ну ладно, еще древний грек Биант из Приены заметил, что худших везде – большинство (каждый философ, в сущности, – тот же поэт). Кстати, о греках. Как-то тиран Сиракуз Дионисий отправил философа Филоксена в каменоломню за насмешки над своими стихами. Через некоторое время тиран призвал изможденного философа и снова спросил его мнение о своих виршах, Филоксен встал и молча направился к выходу. «Куда ты?» – спросил Дионисий. «В каменоломню», – последовал ответ. Вот это вершина честной, даже самоотверженной критики! Раз уж нельзя запретить никому самовыражаться, может, редакторов, печатающих «чернуху», и критиков – паханов блатной литературы – в каменоломню?
Там им самое место. Сергей Мнацаканян, начавший дискуссию на страницах «Литературной газеты», справедливо сетует на низкие продажи поэтических сборников. Но чему же здесь удивляться – поэты пишут для себя, редактора печатают своих для себя, и лучшее слово для определения позиции в литературном курятнике (в шоу-бизнесе, политике) – пришипились. Зачем глаголом жечь чьи-то сердца, для этого же надо свое раскалить. А зажигать-то нечем. «Быть поэтом – это значит то же, // Если правды жизни не нарушить, // Рубцевать себя по нежной коже, // Кровью чувств ласкать чужие души» (Есенин). «Ласкать и карябать» (он же). Попса-то развлекает, то есть ласкает, а корябать не получается, потому что для этого надо «себя рубцевать». Кому охота? Вот и не покупают, потому что НЕ ВЕРЯТ. Чтобы они тебе поверили, нужно, чтобы они тебя и распяли. Вот и получается по Гёте – будет поэзия без поззии, где все будет заключаться в делании, будет мануфактур-поэзия. Не просто похоже – в точку! Мануфактур-детектив покупают – это ласкает (развлекает), а мануфактур-поэзию – нет. Настоящая русская литература всегда выворачивала душу наизнанку, корябала, а эта – не может. И читатель это давно разглядел и подсел на душевно не обременительные романы. И правильно делают, что не покупают, – подсознательно не хотят травиться. Кто-то выдвинул поэта, простите, ПОЭТА, на соискание Госпремии, общественность в недоумении – книга ПОЭТА продана в одном экземпляре, как же так – он же КАНДИДАТ на Госпремию! Может, все-таки наоборот – сначала признание у народа, потом – у государства (в критическо-редакторской его части)?
Нет, надо предоставить право выбора – кто настоящий поэт, а кто – «так, непонятная профессия» (Есенин о Маяковском), кому-то другому – не критикам, не редакторам литературных гамбургеров и не собратьям по перу (см. выше), а все-таки кому-то другому? Но кому? Может – народу?
2. Что есть народ?
Там собрался у ворот Этот, как его… народ. Л. ФилатовФ.М. Достоевский заметил (в 1867 г.): «Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает». По каким святыням сейчас может воздыхать русский народ, треть которого живет за чертой бедности, несмотря на открывшиеся капиталистические перспективы, и элементарно борется за физическое существование? Империи давно нет, воздыхать по ней как по символу национальной гордости великороссов бессмысленно. Великая Победа, скорее всего, запомнится отмененными льготами, в первую очередь ветеранам, добывшим эту самую Победу. По религиозным святыням? Боюсь показаться кощунственным, но, на наш взгляд, русские никогда не были так сильно религиозны, как принято думать. Как было не покреститься, когда начальник (Владимир) тонко и во всеуслышание намекнул, что всякий уклонившийся от крещения «противен мне да будетъ».
Не крестил бы ты, князь, топором, Глядь – простил бы народ на потом…Оттуда все это: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь» (Блок), «Даже Богу я выщиплю бороду // Оскалом моих зубов» (любимый Есенин), «И солнце не потухнет, если христианство и кончится» (Розанов) и т. д. Были мы язычниками, потом – православными, потом – атеистами. И каждый переход – по принуждению, а не по совести. Теперь мы кто? Очевидно, все понемногу. Сам видел на крестном ходу: молодежь свечки от зажигалок – придется сказать – зажигает. Крестятся по-правильному, и то ладно. Кажется, Кириенко кто-спросил в телеэфире в качестве «убойного» аргумента: «А “Отче наш…” сможете наизусть?» Кириенко смог, но сама постановка вопроса… Знать наизусть «Отче наш…» – это уже круто. Соблюдать пост – круто. А раньше было – естественно. Воистину, «Велий еси, Господи, чюдна дела твоя! Вчера чтим от человек, а днесь поругаем» (по поводу низложения Перуна). Если так пойдет, скоро по мобильникам молиться будем.
Может, мы по искусству своему великому воздыхаем? Не интеллигентская прослойка, я имею в виду – Русский НАРОД? Да нет, народ после тяжелой трудовой недели отдыхает на «Аншлаге», на эстрадных фанерных концертах и во всех смыслах «голубых огоньках».
Мне говорят, что наш народ На все плюет, когда не пьет, И падок до эстрадных шоу — Мешать ему нехорошо…Один известный поэт-маньерист написал такой текст к песне: «Боже, помоги вдарить с той ноги…» К вопросу о религиозности на эстраде. И пошлости там же. По частоте радийных ротаций вершина нашего песенного творчества – Верка Сердючка. Дальше – только Киркоров. Кстати, мужики в банях все чаще после тоста, но перед употреблением говорят такое присловье: «А кто не выпьет – тот Киркоров». Хороший признак – давятся, но пьют все до дна. Сердючная киркоровщина тем не менее – любимая кормежка нашего населения. Вы думаете, люди, заходящиеся от хохота от шуток вечно криво улыбающейся Дубовицкой, будут потом так же упоенно читать Кузнецова или Кострова? «Это вряд ли», – сказал бы тов. Сухов.
Гюстав Лебон, характеризуя психологию народов и масс, очень верно подметил: «По мере прогрессивного исчезновения идеала раса все более и более теряет то, что составляло ее силу, единство и связность… То, что составляло прежде народ, известную единицу, общую массу, превращается в простую агломерацию индивидов без всякой связности, лишь временно и искусственно удерживаемых вместе традициями и учреждениями». Вот ответ на все вопросы – мы больше не РУССКАЯ РАСА. Не страна «тщеславных нищих», а страна равнодушных нищих. И материально, и нравственно. И дело не в технике поэтического письма, как думает еще один участник дискуссии, Е. Невзглядова. Была бы не «зябливая киса», а, скажем, «мерзлявая щеня», все равно это читать не будут. И более достойное не будут. Поэзия нужна для того, чтобы ее поклонники находили созвучность своих идеалов с идеей, мыслью, мироощущением певца. Но, как оказалось, поэзия стала заложницей тотального отсутствия убеждений и, соответственно, тех самых идеалов. Мы – больше не РАСА.
3. Вместо заключения
Что делать?
Герцен был, на мой взгляд, не прав, бросив: «Мы не врачи – мы боль».
Поэт не только боль, он знает, Куда воткнуть иглу стыда…Я же и отвечу, куда – «в жир подсовестной железы». Поэты, верните России русскую расу. Верните старые идеалы, если нет новых. Наш народ нужно лечить искренним и глубоким Словом, а не снимать температуру заумными виршами, запуская болезнь. Пишите не для себя, для людей, не на потребу, но будите совесть, и, может быть, народ, очнется. Неужели действительно:
Нет поэтов, осталась шпана, Что обслугой рифмуют ложь. Раз не хочешь скальпель, страна, Получай зазубренный нож!Искренне Ваш,
Дмитрий Дарин.
2004Сергей Есенин как зиждитель русского народа
К 110-летию со дня рождения
Летом 1926 г. Всероссийский союз писателей организовал поездку на родину Сергея Есенина, в село Константиново, чтобы увидеть места, с детства вдохновлявшие поэта на его поэтическое служение. Но, к удивлению членов делегации, они увидели захолустное село с обычной неброской природой средней полосы, воспетого клена у родительского дома не оказалось, вместо него стояли четыре молодых тополя, ни камня, ни белой горы тоже никто не увидел. С. Буданцев писал в недоумении: «Во всех четырех томах сочинений Есенина Ока не упомянута, кажется, ни разу, а между тем она – хозяйка пейзажа его родного села Константинова…»
Это лишний раз подтверждает мысль, высказывавшуюся еще при жизни Есенина, что факты биографии поэта не нужно путать с его литературным творчеством. Поэтому не будем обсуждать факты жизни и особенно смерти (тем более появляются все новые и небезосновательные версии его насильственной гибели) в отрыве от того, что составляло сущность его художественного гения, – любви к родине и борьбы за нее.
Но сначала была борьба за призвание.
Не знаю, не помню, В одном селе, Может, в Калуге, А может, в Рязани, Жил мальчик В простой крестьянской семье, Желтоволосый, С голубыми глазами… («Черный человек»)В Константиновской земской школе учился этот желтоволосый голубоглазый мальчик, баловался, дрался с мальчишками и слагал первые стихи, навеянные самой природой, окружающим бытом, первыми переживаниями детства, любовью бабки и деда, не чаявших души во внуке.
Ждут на крылечке там бабка и дед Резвого внука подсолнечных лет… («К теплому свету на отчий порог…»)Уже тогда вырезалась в его душе «божья дудка» («тогда впервые // С рифмой я схлестнулся…»), но учитель Власов, узнав о пристрастии своего воспитанника, отрезал: «Ты, Сережа, учись. А сочинять всякие глупости – это не твое дело. Рано еще тебе…» Да и любимый дед говаривал:
Года далекие, Теперь вы как в тумане. И помню, дед мне С грустью говорил: «Пустое дело… Ну, а если тянет — Пиши про рожь, Но больше про кобыл». («Мой путь»)В Спас-Клепиковской учительской школе Сергею, по воспоминанию современников, талант к стихотворству не только не помогал утвердиться среди сверстников, но, скорее, вызывал обратную реакцию, доходившую до драк. Но зато там юный Есенин понял – за свою мечту надо бороться, даже кулаками. А мечта была уже не столько романтическая забава, сколько задача, поставленная целеустремленным молодым человеком с «ухватистой силою» самому себе «…в мозгу // Влеченьем к музе сжатом…». Поэтому и разошелся с отцом, который настаивал на том, чтобы Сергей работал, как и он, в торговой лавке, занимался не «пустым делом». Со сколькими еще придется сходиться и расходиться, вернее, оставляя их на обочине и идя своей и только своей непроторенной дорогой национального гения.
В Москве – работа подчитчиком в Сытинской типографии, полтора года учебы в народном университете Шанявского, участие в литературно-музыкальном кружке И. Сурикова и… молодежное увлечение всеобщими революционными лозунгами. Участие в рабочих митингах, распространение прокламаций, антивоенная поэма «Галки», конфискованная еще в наборе суриковского журнала «Друг народа», обыски на квартире. Интересно, буйно, но… главного недостает. Стихи если и печатают, то в третьестепенных журналах, «толстые», солидные журналы его не замечают. (Я думаю, сегодняшние, печатающие «никаких», но зато своих поэтов, тоже проскочили бы.) Но мечта требует пытать счастья, и Есенин, получивший первые городские университеты жизни, направляется в столицу – Петроград.
Далее – волнительный («…с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта») и полезный (рекомендации) разговор с Блоком, хвалебная статья Гиппиус… и детская мечта как-то вдруг и сама собой сбылась – в несколько недель Есенин, еще недавно готовый быть рабочим у своего дяди на заводе в Ревеле, – желанный поэт в самых изысканных литературных салонах, его печатают, благосклонна критика, он входит в моду.
М. Горький писал Ромену Роллану о Есенине тех лет: «…Город встретил его с тем восхищением, как обжора встречает землянику в январе. Его стихи начали хвалить, чрезмерно и неискренне, как умеют хвалить лицемеры и завистники. Ему тогда было 18 лет, а в 20 он уже носил на кудрях своих модный котелок и стал похож на приказчика из кондитерской». Чтоб не сожрали, как землянику, Блок в одном из писем предупреждал: «За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее». Есенин это, надо сказать, сразу понял и действовал с чисто крестьянской сметкой. Позже он вспоминал в письме Н. Ливкину: «Когда Мережковский, гиппиусы и философовы открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употребленные?.. Но я презирал их – и с деньгами, и со всем, что в них есть… Поэтому решил просто перепечатать стихи старые, которые для них все равно были неизвестны». Примерно за год до смерти поэт опишет свое, так и не изменившееся отношение к своим воздыхателям намного жестче:
Посмотрим — Кто кого возьмет! И вот в стихах моих Забила В салонный вылощенный сброд Мочой рязанская кобыла. («Мой путь»)Тем не менее благодаря покровителям добрался до высшего салона – читал стихи самой императрице и великим княжнам за полтора года до революции. Казалось, венец. Но начиналось другая борьба, наложенная на свирепую смертельную схватку старого и нового мира, – за родину.
Что такое Родина для Есенина? Сказать «…я люблю родину, я очень люблю родину», в принципе, может каждый. Но любить можно по-разному. Разве нобелевский лауреат И. Бунин ее не любил? Но, истаивая в эмиграции в Ницце, высказался: «Нам все еще подавай “самородков”, вшивых (!) русых кудрей и дикарских (!) рыданий от нежности. Это ли не сумашествие, это ли не последнее непотребство по отношению к самому себе? Вот в Москве было нанесено тягчайшее оскорбление памяти Пушкину (вокруг его памятника обнесли тело Есенина, то есть оскорбление всей русской культуре)». Кто только не метал посмертные проклятия и не пинал мертвого льва. Бухарин, Луначарский (вступавшийся за Есенина при его жизни), поэт Крученых (явно сводивший счеты) и окололитературная сволочь типа исаев лежневых, львов сосоновских и прочия. А. Воронский (крупный критик, современник Есенина) даже удивлялся в письме М. Горькому в 1927 г. по поводу этого посмертного «похода» против поэта: «Прошлый год превозносили, а сегодня хают». Но русский классик?! Почему не углядел то щемящее, «несказанное, синее, нежное» чувство Есенина к родному краю, к стране, ко всему русскому народу? Почему объяснял слезы по погибшему певцу «роковым влечением к дикарю и хаму»? Ответ приходит сам собой. У каждого своя Родина. Но только у Есенина она выросла над крестьянством, над интеллигенцией (как заметил русский философ Г. Федотов – специфической группой, «объединяемой идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей»), над большевиками-евреями, прорвавшимися к власти, вместила в себя прошлое, настоящее и очевидную горечь по неизбежному страшному будущему великого русского народа. Он знал, что Россия «пойдет рабой последнего раба» (М. Волошин) наверняка, хотел не допустить извода русской расы, из которой сам вышел, хотел осветить помутневшие русские души высоким словом, ведь просветленных в клеть не загонишь. Ведь просветление – это и покаяние, и гордость, и бесшабашность, и удаль.
Нет! таких не подмять, не рассеять! Бесшабашность им гнилью дана. Ты, Рассея моя… Рас… сея Азиатская сторона! («Снова пьют здесь, дерутся и плачут…»)Но уже слишком много гнили, мути. Уже, когда читал великим княжнам, предвидел их судьбу:
Все ближе тянет их рукой неодолимой Туда, где скорбь кладет печать на лбу. О, помолись, святая Магдалина, За их судьбу.Борьба обречена на поражение, но сдаться – значит продаться, изменить самому себе. А это уже не поэзия, это уже не поэт. Это – настоящая, хоть и тихая литературная шпана, которая гораздо опаснее по последствиям, чем «уличный повеса» – хулиган. У Есенина продаться не получилось. Стоило только написать:
…Я вижу все и ясно понимаю, Что эра новая не фунт изюму нам. ………………… Я полон дум об индустрийной мощи И слышу голос человечьих сил, — («Стансы»)чтобы сразу засветились, как на фальшивой купюре, грубые подделанные водяные знаки упадка. И это после: «Я полон дум о юности веселой». Оставалось нести свой крест до конца. Нести полностью осознанно. «И первого меня повесить нужно, скрестив мне руки за спиной: за то, что песней хриплой и недужной мешал я спать стране родной».
Все правильно – поэты мешают. Мешают разделять и властвовать, мешают воровать и жрать ворованное, мешают остальным устало и равнодушно на все это смотреть, мешают также отворачиваться, чтобы совсем не смотреть. Вот основное в любви Есенина к родине – мешать тем, кто ненавидит словом и делом «родину кроткую», кто ее насилует и продает, разоряет деревню, обращает в рабство народ, лютует над несогласными, оставляя трупы и пепелища. Мешать таким, как «гражданин из Веймара», который
…приехал сюда не как еврей, А как обладающий даром Укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно Проклинать вас хоть тысячу лет, Потому что… Потому что хочу в уборную, А уборных в России нет. Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими И строили храмы Божии… Да я б их давным-давно Перестроил в места отхожие. («Страна негодяев»)«Гражданин из Веймара» Чекистов – это, как известно, Лейба Бронштейн – Троцкий. Всемогущий Председатель Реввоенсовета (и всемогущий литературный критик) потом напишет в посмертной статье «Памяти Сергея Есенина»: «Есенин не был революционером. Автор “Пугачева” и “Баллады о двадцати шести” был интимнейшим лириком. Эпоха же наша – не лирическая. В этом главная причина, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин». Самовольно в любом случае – фальшивый диагноз. Но «завоеватель» России Бронштейн – Чекистов почему-то отзывается о поэте, открыто выводящего его как врага России, намного теплее, чем «академик» Бунин. Может, скрывался мотив заинтересованности в этой ранней смерти? Уж слишком расходились комиссарские и есенинский взгляд на Русь. Беспощадно-интернациональное, где Россия и русские – лишь хворост для мировой революции, «плебейская нация» (История русской революции, т. 2, ч. 2) и есенинское национальное: «Но люблю тебя, родина кроткая!», «О Русь, малиновое поле // и синь, упавшая в реку, // Люблю до радости и боли // Твою озерную тоску».
И. Ильин четко сформулировал: «Национализм есть любовь к духу своего народа, и притом именно к его духовному своеобразию».
Не менее четко высказался и В. Ленин в связи с образованием СССР: «Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть». Любовь к своему народу (почему-то именно русскому, вернее, понятно, почему – как к коренному) до сих пор считается шовинизмом. Чтобы победить такой «шовинизм», надо прямо по Ильину прежде всего привести народ к духовному однообразию и тем самым вытравить из него дух. Именно это сейчас и происходит в рамках «адаптированной» деморатии. Не получилось силой – будем вытравливать телевизором. Не вышло извне – будем приучать понемногу к давно стандартизированным потребительским ценностям. Все попытки хоть как-то сформулировать национальные ценности – шовинизм! Национальная культура – застарелый шовинизм!
Любовь к русским – ага, кричат те, кому положено за этим следить (интеллигенция), значит, вы не любите другие национальности, вы, случаем, не анти, и далее по списку: семит, армянин, чеченец, украинец (теперь Украина в моде)?! Патриотизм – пожалуйста, вот счет за эфир (с патриотизмом бороться сложнее). Любовь к Родине? Ах, бросьте. Любовь к Родине – плохая сентиментальность по Шершеневичу. До чего дошло – с экрана в программе «Времена» слышу поучения «человека с западной душой» (по его же выражению) В. Познера, призвавшего в свидетели масона и декабриста, объявленного, кстати, за подобные воззрения в 1836 году сумасшедшим, Чаадаева: «Прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине… Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур». Можно было добавить: «Не через родину, а через истину ведет путь на небо» («Апология сумасшедшего», 1837), и так далее. Но тогда нужно было бы привести и мнение Пушкина, высказанное в письме Чаадаеву (хоть и по другому поводу годом раньше): «…я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». Вот почему Есенин, «мечтая о могучем даре // Того, кто русской стал судьбой…», «бронзой прозвенел», воспевая родину, а не абстрактную истину. Потому что Родина и есть Истина. Вот почему тело Есенина трижды обносили вокруг памятника Пушкину. Потому что их объединял русский гений, неотделимый от щемящей любви к родным пределам. Вот почему они оба стали «любезны народу», и никакие познеры и швыдкие не смогут заставить нас это забыть. Вот скажите мне, читатель, почему «человек с западной душой» вещает, как раньше, не на Западе? Я вам отвечу. На Западе ему некого учить православным русским ценностям да и просто не позволят. А здесь, наоборот, здесь – это миссия апостасийной культуры. Вот почему Валентин Распутин не ведет такой программы? Потому что он будет мешать. Как мешал Сергей Есенин.
Защити меня, влага нежная, Май мой синий, июнь голубой. Одолели нас люди заезжие, А своих не пускают домой.Сейчас борьба продолжается. Не против «заезжих людей», а против «заезжих идей». Прежде всего против создания постмодернистских симуляций искусства. Искусство, и прежде всего поэзия, как эстетическое переживание само по себе уже мало кого интересует. Интересует бюргерский гешефт от искусства, чтобы был «знак» моды, блеска, денег, всего того, что составляет успех. Остальное – мешает. Такой знак уже не обменивается на означаемое. Петросянщина и сердючкиновщина уже не обмениваются на душу – только на деньги. Россию разложили не коммерцией, а именно гешефтмахерством в культуре, разорвав ее на элитарно-заумно-изнервленное эстетство, с одной стороны, и масскультуру уровня каменного века – с другой. Ни одно, ни тем более другое никоим образом не призваны воспитывать в народе… да вообще ничего не воспитывать, а призваны делать из нас нацию потребителей, душевных бюргеров, плебеев (по Троцкому), которые смеются от рассказов, кто и как пукнул и кто кого с кем застал в постели, и какое тут может быть разделение народов и духовное своеобразие. Поэтому вместо юмора – жрачка, вместо песен – хит-коктейль, настоенный на сексуальном сиропе, вместо поэзии – рифмогонство ни о чем, кроме как о себе самом пришипишихся в «своих» редакциях поэтменов и поэтледи. Только наивный человек может полагать, что это просто пена неподцензурной творческой свободы. Это – осознанная политика насаждения уже и так одолевшей нас «идеи» потребления. Места раздумьям, гордости и тоске, любви и ненависти там просто не предусмотрено. Последний бастион для душ – Пушкин, Есенин, Высоцкий и вся Великая Русская Литература. Сколько раз Есенин вдалбливал собеседникам: «Основная тема моей поэзии – Россия! Без этой темы я не был бы поэтом. Мои стихи национальны…» И еще: «Поэт может писать только о том, с чем органически связан». Вот почему Есенин растворен в крови каждого истинно русского человека – потому что, говоря словами Ильина, утвердил национальное духовное единство. «Гений есть тот творческий центр, который оформляет духовную жизнь и завершает духовное творчество своего народа; этим он оправдывает жизнь своего народа перед Богом и потому и перед всеми остальными народами истории – и становится истинным зиждителем родины…»
Теперь, по прошествии 80 лет со дня гибели поэта, мы можем определенно сказать: Есенин выиграл борьбу во всех ипостасях, хотя цена победы оказалась – жизнь. Борьба за русскость, очевидно, не прекратится, пока жив последний русский, но у нее есть великое знамя – слово Сергея Есенина.
О Русь, взмахни крылами, Поставь иную крепь! С иными именами Встает иная степь. 2005Фильм Сергей Есенин. Поминальное чтиво
Писать эту статью сейчас особенно интересно (не уверен, что читать тоже): страсти схлынули, высказались очень многие кино-, литературо– и есениноведы, а также родственники, медэксперты, эксперты без четкой специализации, «продвинутые» в теме и не очень телезрители. Интересно, что же взволновало (обрадовало и огорчило) их больше всего в этом сериале. В целом можно сказать так: обрадовало, что поддержана версия убийства Есенина и тем самым с поэта снимался ярлык самоубийцы, огорчило же то, что Есенин показан совсем уж «горьким пропойцей», непонятно когда сумевшим написать десятки поэм и сотни пронзительнейших стихотворений.
Фильм создан по сценарию Владимира Валуцкого, написанному по мотивам романа отца исполнителя главной роли Есенина – Сергея Безрукова – Виталия Безрукова. Роман, в свою очередь, написан на основе версии гибели Есенина бывшего следователя Эдуарда Хлысталова (в исполнении Александра Михайлова). Я спрашивал, кстати, Александра Яковлевича на записи своей авторской программы на Радио России «Беседы о Сергее Есенине» (съемки еще шли), насколько вообще возможно воплотить на экране образ не просто исторического героя, который всегда воспринимается довольно отстраненно, особенно следующими поколениями, а вошедшей в генетическую память народа тончайшей «Божьей дудки», выпеснившей Россию изнутри и совпавшей с ней судьбой: запутанной жизнью и гибелью. Тогда Александр Михайлов сказал, что, по его мнению, Сергею Безрукову удалось воплотить на экране Сергея Есенина. Удалось ли?
То, что фильм изобилует историческими неточностями (легко избегаемыми, кстати): поэт выступал не в императорском дворце, а в царскосельском лазарете 22 июля 1916 г. по случаю именин вдовствующей императрицы Марии Федоровны и великой княжны Марии Николаевны, где княжны работали сестрами милосердия, причем с Клюевым. К этому концерту Есенин по заказу Ломана написал приветствие царевнам с профетическими строками: «Все ближе тянет их рукой неодолимой // Туда, где скорбь кладет печать на лбу. // О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу». Здесь бы провести сюжетную линию с расстрелом царской семьи, хотя бы в разговоре с Блюмкиным – это «заиграло бы»; в 1922 году Есенин не мог ездить в поезде по России (странно, что Троцкий, перемещавшийся по стране на собственном поезде, завидует Есенину, что, мол, «по стране поездите»), так как в это время ездил с Дункан по совсем другим странам (встреча с Троцким произошла как раз по возвращении из этого вояжа – в 1923 году, а никак не раньше); Есенин узнает в этом мифическом турне на поезде в 1922 году о смерти Блока, хотя Блок умер в августе 1921 года (!); въедливые зрители усмотрели несоответствия в военной форме царской армии и в форме ВЧК – ГПУ и т. д. и т. п.), это, конечно, досадно, но не «делает погоды». Серьезнее промахи в самом романе, связанные скорее с творческими, а не биографическими моментами. Например, Блок не говорил Есенину при первой встрече 9 марта 1915 г. у себя на квартире, что за «каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее». Это взято из письма Блока Есенину от 22 апреля того же года, которое гораздо пространнее обыгранного в романе эпизода и начинается совсем с другой интонацией: «Дорогой Сергей Александрович. Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем…» Такие и другие упрощения ведут к неоправданному опрощению всего романа, который, не отражая всех тонкостей взаимоотношений исторических лиц, превращает его в малохудожественное произведение.
Таким ли был Есенин, такие ли люди ухабили его судьбу, такие ли боролись и страдали за него? Вот это главный вопрос, и меньше всего ответов на него дает «есенинский сериал». Я, конечно, далек от мысли, что кому-то доступна вся правда о Есенине, но попытаться понять, как этот пожар, зажженный поэтом в начале прошлого века, не только не потух, но превратился в зарю, во что-то природное, без чего нельзя представить себе русскую жизнь, – вот сверхзадача любого произведения о Есенине.
Обратимся к современникам поэта.
«Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году, где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15–17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом… Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге…
Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А.Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он – человек пьющий», – вспоминал М. Горький. Я не знаю, были ли такие великолепные описания вида и состояния героя в сценарии, но в фильме я таких контрастных красок не увидел. Кстати, сцена поездки с Горьким в Луна-парк в Берлине в 1922 году отличается от воспоминаний самого Горького.
– Yes! Да! Луна-парк! Карашо! – Дункан стала нежно обнимать и целовать мужчин.
– При мне не смей! – сильно шлепнул Есенин Асейдору по голой спине и, спохватившись, неестественно рассмеялся. – Так по В. Безрукову.
– Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.
– Очень хороши рошен, – растроганно говорила она. – Такой – ух! Не бывает…
Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:
– Не смей целовать чужих!
Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими. – Так по М. Горькому. Фабула та же, но насколько различен сюжет. Какую поразительную разницу в обстановке, в мотивации и мироощущении героев дают почуствовать эти, на первый взгляд несущественные детали. Но не зря говорят, что в деталях дьявол. «При мне» и «чужих» – вообще разные понятия. И уж кто-кто, а великий писатель не мог ошибиться в ключевых словах. Поэтому В. Безрукову как-то вообще не верится, хотя, чтобы проверить все детали, нужно писать не статью, а диссертацию или по крайней мере другой роман. И напоследок об этом вечере в берлинском Луна-парке. Насчет слов «хаять» и «порицать» – ответ «короткие слова всегда лучше многосложных» произнес не Горький, а сам Есенин. Так по крайней мере вспоминает писатель. На основе чего В. Безруков приписывает героям слова других героев, непонятно. Зато совершенно понятно, что описания аттракцинов практически дословно переписаны с воспоминаний Натальи Крандиевской-Толстой. Сравните: «Рядом грохотало знаменитое “железное море”, вздымая волнообразно железные ленты, перекатывая через них железные лодки на колесах… В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза до боли в висках». – Наталья Крандиевская-Толстая. «О Есенине» – стихи и проза писателей – современников поэта. Москва. Изд-во «Правда», 1990, с. 453–454. «Рядом шумело знаменитое “Железное море” с железными лодками на колесах, перекатывающимися по железным волнам. В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза». – В. Безруков. «Есенин». С.-Петербург. Изд-во «Амфора», 2005, с. 249. Там же: «Асейдора царственно скучала». – Толстая. «Айседора сидела… с царственной скукой». – В. Безруков. Неловко-с, г-н беллетрист. Если уж берете сюжет эпизода, то описывать происходящее как-то надо бы самому.
Отдельная история – как Сергей Есенин читал свои произведения. Предоставим опять слово современникам:
«Самым ярким впечатлением от встреч с Есениным было чтение им стихов… Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина, но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней и музыкальной силы, какая была в чтении самого поэта. Никто не умел извлекать из его стихов нужные интонации, никому так и не пела та подспудная непередаваемая музыка, какую создавал Есенин, читая свои произведения. Чтец это был изумительный. И когда он читал, сразу понималось, что чтение для него самого есть внутреннее, глубоко важное дело…» – Иван Евдокимов, редактор Госиздата, готовивший З-томное «Собрание стихотворений» Есенина.
«В тот вечер было прочитано много… Мы слушали эти стихи, и нам казалось, что поэт одновременно был и юн и немолод, и по-молодому непосредственен и умудрен зрелостью, что и ныне он с легкостью мог раскрывать в стихах всю первозданность восприятия красоты. После чтения стихов начался оживленный обмен мнениями. Были высказаны и критические замечания. Но я, откровенно говоря, их и не расслышал, настолько был переполнен и опьянен стихами, потрясен и поражен роем ярчайших и ослепительно зримых образов». – Симон Чиковани, грузинский поэт.
«1923 год. Консерватория. Вечер пятилетия Госиздата… Первым читал стихи Маяковский. Это был, как всегда, подлинный триумф…..предоставить слово Есенину. Тут произошло следующее. Как только назвали его имя, тихий, ласковый, милый Есенин надел шляпу, встал и, вертя перед собой трость, медленно-медленно пошел на авансцену. Естественно, что его встретили шумом и со сцены! С разных сторон стали свистеть.
Есенин оглядывал зал, прохаживаясь по сцене, а затем неожиданно заложил два пальца в рот и так свистнул, что люстры задрожали.
– Все равно меня не пересвистите, – добродушно сказал он, когда ошеломленный зал на секунду затих. Ему ответили смехом, новыми выкриками… Но публика мигом затихла, когда золотистоволосый красавец поэт прочитал первые строки стихов. Впервые услышали мы в этот день стихи “Возвращение на родину”.
По-байроновски наша собачонка Меня встречала у ворот…Овации были нескончаемыми…» – Александр Безыменский, комсомольский поэт.
«Но публика не отпускала его со сцены: аплодисменты, шум, крики “бис”. Из-за кулис я видел многих знакомых, которые сидели в первых рядах. Эти люди в буквальном смысле слова плакали от восторга». – Поэт и журналист Ефим Шаров.
Те, кто слышал живой голос Есенина (он записал несколько стихотворений на фонограф профессора С.И. Бернштейна, кто никогда не слышал – поищите в магазинах мою аудиокнигу «Беседы о Сергее Есенине» – там это есть), не могут не согласиться со мной – Сергей Безруков исполняет не то чтобы непохоже, а, скорее, не так самозабвенно (с огромным эмоциональным, прямо-таки трагическим напором – монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев» – поэт Николай Браун). Сразу видна копия, а это, конечно, должно было стать главным в фильме, главнее, чем детективный сюжет и «разгульные» картинки скандалов и дебошей. Да и ни одно стихотворение в фильме не прочитано полностью. У зрителей вряд ли отвисали рты и падали вилки из рук, когда Сергей Безруков читал Сергея Есенина. А ведь, когда читал Есенин, плакали даже обитатели Ермаковской ночлежки в Москве, куда поэт как-то приехал незваным. Поистине мистическим образом действовали стихи Есенина на людей всех сословий и возрастов. От этой гениальности в фильме нет даже и тени.
Самое обидное то, что никак не была показана ни одна предистория написания хоть какого-нибудь произведения великого поэта (кроме «Поэмы о 26». Ради справедливости добавим, что в романе такие попытки встречаются довольно часто – с Кашиной, Берзинь и т. д.). Например, известно, что Есенину во время его пребывания в Баку в 1924 году очень понравилось исполнение персидских песен студенткой Азербайджанского университета Леной Юкель, или, как ее называли меж собой – Лейлы. Они встречались, и вполне допустимо, что именно она послужила поэту прообразом всемирно известного «Шаганэ ты моя, Шаганэ!». Хотя сейчас и принято говорить, что прообразом послужила батумская знакомая поэта Шаганэ Тальян, в любом случае ни в каком варианте подобного знакомства, вызвавшего к жизни весь персидский цикл шедевров поэта, ни в романе, ни в фильме мы не увидели.
Также известно, что, катаясь со своей сестрой Александрой в экипаже, Есенин обратил внимание на стаю кошек вокруг. В этот же день родилось стихотворение «Ах, как много на свете кошек…», «Я красивых таких не видел» и еще несколько. Насчет жеребенка из «Сорокоуста». Об этом эпизоде Есенин вспоминал в письме к М.И. Лившицу: «Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец он стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка, тягательством живой силы с железной…» Да только это одно рассуждение, будучи вложено в уста героя фильма, дало такую бы глубину и историчность образа, как никакой скандал или сцена запоя.
Было бы интересно обыграть эпизод с собакой Качалова, например, когда Есенин зашел к Качалову на квартиру и познакомился с самой известной теперь в России собакой – 4-месячным Джимом. «Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. “Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться”, – бормотал Есенин с широко расплывшейся, детски лукавой улыбкой», – вспоминал В.И. Качалов. Всего этого, а также множества других реальных историй, послуживших для поэта поводом к написанию гениальных стихотворений, практически нет ни в романе, ни в сериале.
В фильме совсем не показан «рабочий» процесс рождения великих стихов. «Когда же ты работаешь, Сергей?» – как-то спросил поэта на улице Иван Грузинов. «Всегда», – ответил Есенин. За работой Есенина действительно видели немногие. Но сохранились воспоминания Софьи Виноградской, свидетельствующей о необычайной сосредоточенности поэта в такие часы. «Обычно, когда он усаживался писать, просил поставить на стол горячий самовар, который кипел все время. Чаю он выпивал много. Чаще всего стихотворение только наносилось на бумагу, сложилось оно в сознании поэта ранее». Хотя есть и другие свидетельства, например, поэта Петра Чихачева: «Впоследствии мне посчастливилось видеть черновики Сергея Есенина. Как мучительно рождались поэтические строки! Чтобы написать небольшое стихотворение, Есенин исписывал по 20–30 листов бумаги, причем первые наброски совершенно не были похожи на то, что появлялось потом в печати». Вы только представьте – черновик «Пугачева» в четыре раза больше оригинала. И вот здесь бы и дать волю фантазии авторам фильма, показать на основе автографов поэта (можно изучить в любом есенинском музее), что менял, что переставлял, что и почему вычеркивал из рукописи Сергей Александрович, как бы звучали его шедевры в первых набросках. Это было бы интересней для большинства зрителей, знающих эти стихотворения наизусть, чем вечные попойки и скандалы. А то дошло до того, что в Интернете одна телезрительница написала (и ведь как точно): по первому каналу шел «Есенин», а по «НТВ» заканчивался повтор «Бригады». Везде пьет и дерется один и тот же человек – Безруков. Умри, Денис, лучше не скажешь.
Ну это от того, что, видимо, задача, поставленная руководством 1-го канала перед сценаристом и актерами, состояла как раз в том, чтобы скрыть магию создания и жизни в народе шедевров есенинской музы и закрепить чисто внешний, запоминающийся толпой архетип буяна и пропойцы. Но зачем же врать в самой поэзии?
Например, мог ли поэт читать посвященное Августе Миклашевской «Пускай ты выпита другим…» Асейдоре Дункан в 1921 году, за 2 года до его написания?
В главе 4-й третьей части Есенин обращается к Маяковскому во время диспута в Политехническом музее: «Вы меня назвали “звонкий забулдыга-подмастерье”? Врете, Маяковский! Я пришел как суровый мастер!» Но слова «у народа, у языкотворца, умер звонкий забулдыга-подмастерье» Маяковский написал на смерть Есенина в стихотворении «Сергею Есенину» в 1926 году! Все это и многое другое – абсолютно недопустимые ни с художественной, ни с исторической точки зрения натяжки и просто фальшь.
Зато очень много «сексуальных додумок». И откуда известно, что Кашина отдавалась Есенину с «объятиями до боли», получая именно такое наслаждение? Ладно, Дункан, но образ раздевающейся и отдающейся в есенинском сне великой княжны Анастасии – это вообще пошлость самого низкого пошиба, особенно после такой мучительной смерти в ипатьевском подвале. Все это, да еще «произведенное» к юбилею великого поэта, нельзя назвать иначе, как поминальное чтиво. Очень жалко, что один из самых талантливых российских актеров Сергей Безруков не смог (или не дали) воплотить, по-настоящему воссоздать, я бы сказал, образ одного из самых гениальных российских поэтов. Но все-таки спасибо за утверждение версии насильственной гибели певца России. Автор этих строк был поражен, когда священник на Ваганьковском кладбище отказался служить поминальную службу 27 декабря на могиле Есенина по понятной причине. А вот 3 октября в Рязани был отслужен молебен самим Владыкой Павлом по великому поэту. Если уж Русская православная церковь не может для себя решить этот вопрос до конца, то, конечно, в народе тоже сомнения по поводу смерти Есенина ходят. Я очень надеюсь, что теперь их будет гораздо меньше.
2006Цена недеяния, или почем вы, мастера культуры?
О предназначении искусства, остающегося в какой-то части в духовной памяти человека в виде некой тонкой субстанции, именуемой культурой, написано, наверное, не меньше, чем о предназначении самого человека. И это понятно, поскольку человек в конечном итоге усваивает что-то из предлагаемого ему искусства и закрепляет это «что-то» в следующих поколениях. Каков человек, такова и культура, вернее, каковы цели (осознанное предназначение) человека, такова и его культура.
Иван Ильин, чьи останки были перезахоронены в Москве вместе с останками генерала Деникина и на кого ссылался Президент России в своем послании Думе (из-за рвения неизвестного спичрайтера теперь необходимо оговариваться, что автор обращался к трудам Ильина задолго до «высочайшего» упоминания), абсолютно определил: «Искусство не есть промысел, приспособление к внешним условиям, к спросу и заказу, оно есть СЛУЖЕНИЕ (выд. автором), ориентированное по внутренним требованиям, по духовным звездам». После Белинского («Искусство есть непосредственное содержание истины или мышление в образах») лучше сказано не было. Вот и интересно посмотреть, чему или кому служат искусство и нынешние его деятели. Какую культуру формируют они?
Пока оставим за скобками, вернее, за бортом корабля будущего (с современностью сложнее) масскульт как обычное гешефтмахерство от культуры, не имеющее ничего общего с любыми другими целями, кроме наполнения кассы. Это не сегодня родилось, это сопровождало культурный процесс всегда и везде, правда, сегодня с учетом бешеного развития коммуникаций – это уже идеология. Идеология, вполне понятно, обслуживающая неразрывность потребительской цепочки в массах. Кто-то из великих назвал культуру прачкой, обслуживающей… национальную идею. Сейчас нас одолели «заезжие» идеи, хотя и «заезжих людей», активно проповедующих либерально-демократические идеи с экранов телевизоров и с важных государственных постов, – предостаточно. Мир переходит на постиндустриальную стадию развития, когда проблема состоит не в том, чтобы «больше и дешевле произвести», а «быстрее и дороже реализовать». Причем реализация, т. е. потребление, предполагает в современных условиях неразрывность и постоянность. Масскульт – необходимейший инструмент воспитания потребительской психологии. Смотрите, эта «звезда» одевается от такого-то кутюрье, сменила машину такой марки на другую, пользуется парфюмом такого-то производителя, ездит отдыхать на такой-то курорт, и так до бесконечности. На научном языке это называется «овеществление человеческих отношений», когда человек представляет из себя набор «знаков» успеха – перечисленное выше. Точно также овеществляется само искусство, когда предмет эстетического переживания трансформируется в «художественную ценность», которой «модно» обладать. А поскольку общепризнанных шедевров на всех не хватает да и стоят чертовски дорого, оставалось одно – организовать общественное признание в качестве шедевров чего-то другого – от «Черного квадрата» Малевича до «музыки» Джона Кейджа (например, опус под названием «4 минуты 33 секунды»). В одном нет изображения, в другом – звуков. Ну и что? Зато – это модно, это шедевр!! Несогласные или просто недоумевающие объявляются не имеющими вкуса ретроградами. Такие «знаки» искусства – чистой воды симуляция, создаваемая авторами, критикой и отчасти самой публикой, и уже никак не обменивающаяся на «означаемое», т. е. не имеющие реального содержания. Примерно это хотел сказать Ильин, когда писал, что «автор балуется и кощунственно богатеет», имея в виду Пикассо. Или более развернуто: «Ныне царит изобретающее!! и дерзающее!! искусство, с его “красочными пятнами”, звуковыми пряностями и эффективными изломами. И современный художник знает только две “эмоции”: зависть при неудаче и самодовольство в случае успеха» («Путь к очевидности»). Вот и весь постмодернизм. Нравится, не нравится – ничего личного, только бизнес.
Недаром продукция американского масскульта стала второй по объему статьей национального экспорта после продукции аэрокосмической индустрии (для справки – в начале 90-х годов объем экспорта аудиовизуальной продукции в Европу составлял примерно 3, 7 млрд долларов, около 80 % всех кино– или телевизионных программ, показываемых в мире были или созданы в США, или произведены на деньги американских студий. Что характерно, в самих США около 10 % взрослого населения не обладают навыками чтения и письма, необходимыми для устройства на работу, и только 7 % выпускников школ обладают достаточными знаниями для поступления в колледж). Европа, кстати, пока сопротивляется. По настоянию Франции Европейский союз еще в 1989 году принял так называемую директиву о «телевидении без границ». Эта директива требовала, чтобы «по мере возможности» на европейских телеканалах, в основном, демонстрировалась телепродукция европейского производства. В самой Франции требования еще жестче: 60 % передач должны иметь европейское происхождение, а 50 % передач должны идти на французском языке. С проката же иностранных фильмов французские «культурные» власти взимают дополнительный 10-процентный сбор, субсидируя из этих средств свое кинопроизводство. Американцы же расценивают эту приверженность своим национальным традициям как очевидный протекционизм и регулярно пытаются (пока безуспешно) отменить эту «культурную оговорку» в рамках Всемирной торговой организации, причем открыто угрожая санкциями государствам, если те не откроют своих телеканалов и кинотеатров для свободного показа американского культпродукта. Да и какая еще может быть позиция страны, «сделанной» на торговле и не имеющей собственных исторических и культурных традиций. Культурная экспансия – всего лишь часть экспансии экономической. Только бизнес. Интересно, кстати, было бы узнать, есть ли у нас такая позиция по культуре при вступлении в ВТО. Только вряд ли скажут. Да и вряд ли есть. А ведь создание ГАТТ (Генеральное соглашение о тарифах и торговле) и на его основе ВТО – это современное воплощение «14 пунктов» американского президента Вудро Вильсона, в том числе «установление равенства условий торговли между нациями» (при подразумевающемся финансовом преимуществе США). Тогда, после 1-й мировой, США не очень-то пустили в процесс перекройки Европы страны-победительницы (прежде всего Франция и Великобритания), но позже, после 2-й мировой войны и до сегодняшних дней «финансовая оккупация» просто стала неприкрываемым инструментом проведения в жизнь так называемой доктрины Монро (Джеймс Монро, 5-й Президент США, 1817–1825 гг.) в усовершенствованном и расширенном варианте программы Вильсона, предусматривающем «господство и превосходство» США не только на американском континенте, но и во всем мире. Соответственно, взяв на себя «мессианскую» роль, США не могли не проводить вслед за финансовой идеологическую и, естественно, культурную экспансию. Тут впору перефразировать немецкого военного теоретика Клаузевица: «Культура есть продолжение войны иными средствами». Вот почему всякого рода «культурные оговорки» принимаются американцами в штыки не только как экономическое, но и идеологическое препятствие на пути миссии мирового контроля. Ведь собственные культурные традиции какой-либо страны – это единственная основа самоидентификации нации и препятствие на пути глобализации, т. е. организации мирового потребительского рынка по американским стандартам.
Я веду речь, может быть, о скучных экономических вещах, но необходимо понять – в масскульте нет ничего случайного, это не просто дурновкусие или заговор продюсеров, качающих деньги из своих светящих отраженным с Запада светом звезд, нет, это – объективная экономическая закономерность. Понимать это нужно прежде всего патриотам – не зная основных пружин масскультового механизма, одними нападками на его представителей и капитанов ничего не добьешься. Их нужно бить их же оружием, впрочем, об этом я уже писал в своей статье «Эстрада как культпродукт», напечатанной в моем поэтическом, в общем-то, сборнике «Сестра моя, Россия». Интересующихся этим аспектом отсылаю к данной статье.
Сам же инструмент проведения «мессианской» политики США авно стал отдельным многомиллиардным бизнесом. В одном материале в Интернете приводился ответ одного из кураторов выставки Гуггенхайма с российской стороны Екатерины Деготь на вопрос, почему не были представлены работы Шемякина, Глазунова и других: «Между американским и русскими кураторами было достигнуто определенное согласие… И перечисленные художники были признаны неконкурентоспособными…» Оказывается, чтобы представлять Россию в искусстве, нужно приходить к согласию с американцами. Конкурентоспособность, опять же. Только бизнес, ничего личного.
Поэтому на выставке имени Соломона Гуггенхайма современное искусство России было представлено, помимо Коржева, Кабакова, куликами, бренерами, комарами, меламидами и прочей шпаной перформанса. Это нормальный человек, переживающий за свою страну, вряд ли назовет искусством (писающий Кулик на поводке, изображающий Шарикова, к примеру), зато это конкурентоспособно. Цена каждому устанавливается на «биржах искусства» – музеи, галерии, выставки. Маклеры – арт-критики, искусствоведы и прочая… Россия, судя по американским критериям отбора, стремительно утрачивает национальную самоидентификацию во всех областях – от масскульта (что, хоть жалко старую добрую эстраду, потеряно давно – в горбачевско-ельцинские годы демонтажа России как державы) до государственной вроде бы (в каком вот только роде) политики по созданию имиджа России в мире через искусство. Недаром же президент Путин побывал на этой выставке, значит, своим визитом одобрил такие критерии отбора и такой имидж. До этого тот же президент Путин побывал с паломническим визитом (этот термин – личное нововведение автора в политологию; паломничество – для этого было все слишком официально, визит – в святые места все-таки принято совершать паломничество) на горе Афон, значит, позиционировал себя как верующий православный христианин. Только вот как совмещается такое православие с молчаливым одобрением апостасийного псевдоискусства, да еще от имени России? Что, никого не нашлось в Президентском совете по культуре и искусству (по каким критериям и по какому принципу туда вообще попадают?! Что сказал по этому поводу Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, член-корреспондент РАН, заместитель председателя этого Совета? Протестовал ли или ограничился своей, «эрмитажной» частью, не влезая в чужие дела, то есть бизнес?) или среди иерархов Православной церкви кто мог бы подсказать, потребовать контроль за представлением национального культурного лица России за рубежом, проявить патриотизм (и веру) на деле? Или все «патриоты» заняты дележом нефти и недвижимости? Очевидно, президент недооценивает значение культуры для сохранения не только русского племени, но и самой государственности, держащейся исключительно на национальной гордости и патриотизме народа. Иначе – любое серьезное испытание не натолкнется на здоровые народные инстинкты и порушит все к чертям. Вот Монро, Вильсон и компания на том свете возрадуются…
В России беды потому, Что всяк свободу понимает По разуменью своему, А разуменья не хватает. У нас – кто главный, тот и прав, А кто неправ – в суде докажут, И часто можно, не украв, За воровство попасть под стражу. А власть не то чтобы глупа, Но по-особому бездарна, Пытаясь в нас вдавить раба, Что я выдавливал исправно. И остается только пить, Еще, наверное, молиться… Какой тебе, Россия, быть, Когды ты сможешь измениться?.. Дм. ДаринС точки зрения патриотического писателя – цена Президентскому совету по культуре, понимающему свои полномочия (и ответственность) по какому-то своему разумению – без рубля копейка. Цена самой культуры, вернее говоря, федеральной целевой программы «Культура России», рассчитанной до 2010 г., «перевешивает» 50 млрд рублей (более трети от объема средств идет на реконструкцию Большого театра). Интересно, какие национальные проекты можно запускать, когда культура «не тянет» даже на шестое колесо в целом смазанной нефтью телеге отечественной экономики (около 339 млрд госрасходов)? И это при профиците бюджета в 686 млрд рублей в прошлом году и планируемом – 27 млрд долларов в 2006 г. При этом, если верить (а почему не верить?) солиднейшему изданию «Аргументы и факты», глава Минфина А. Кудрин на одном из заседаний правительства, когда и решалась судьба «культурного» бюджета, высказывал опасения, что этими миллиардами будет распоряжаться заместитель А. Соколова, бывший же его советник – г-н Амунц, известный по скандальному шлейфу дел «Мабетекса», где он он был вице-президентом в 1998–1999 гг., и «Мерката трейдинг» (проходила по уголовным делам в России и Швейцарии, связанных с делом о реконструкции Кремля фирмой «Мабетекс»), нынче являющейся одним из претендентов на освоение тех самых 15 млрд рублей на реконструкцию Большого (или уже правильней – Больного?) театра. Статья в АиФ «Москва» с «говорящим» названием «Как поживиться за счет культуры?» (№ 48, 2005). Но не так уж в принципе и важно, какая фирма будет допущена к лакомым подрядам (не всем котам масленица), а важно, сколько сельских клубов будут реконструированы, сколько сельских библеотек получат новые фонды, сколько хореографических и хоровых коллективов не исчезнут из-за недостатка финансирования, сколько театров не закроются по этой же причине. Но до этого ли министру культуры, когда у него такие советники (опять Совет, вы заметили?). Кто будет выполнять культурную миссию по национальной самоидентификации на фоне бытовых социальных программ?
Люди станут жить лучше? Или русские «симпсоны» станут жить лучше? В новых квартирах? Возможно, хотя, как сказал классик, «свежо предание». Но чем эти люди будут питать свое сердце? Культурными помоями от Петросяна или, помудреней, от Ерофеева? Вот член Президентского совета по культуре и искусству от «эстрадной» курии Лариса Долина при назначении туда в 2002 г. обещала нести в массы не подделки и халтуру, а настоящую культуру, способную обогащать духовно, радовать и восхищать. Результат не замедлил сказаться – через 3 года в Кремле награждают орденами Почета Александра Буйнова аж «За заслуги перед Отечеством», правда, четвертьстепенные, Валерия Леонтьева. Если от капитана Каталкина или… или (на память, кроме «шедевров» Леонтьева «Дельтаплан» и «Комета Галлея», что-то сразу ничего не приходит) нация будет обогащаться духовно, если это и есть не промысел, а служение, то, похоже, нам приходит «бамбук» – тот самый, сухой, московский. Может, народ и вправду уже покачивается эдаким бамбуком в такт немудреных (не подделок же и халтуры, Долина обещала ведь…) шлягеров, при этом, конечно, радуясь и восхищаясь.
Шопенгауэр, кстати определил ордена и награды вообще как векселя, выданные на общественное мнение, «…их ценность основана на доверии к тому, кто их дарует». Власть, очевидно, не понимает, что при такой «культурной» политике сначала девальвируются ордена, потом доверие к власти, а потом с железной необходимостью и сама власть, которой и сейчас цена – 40 долларов за баррель. Но пока логика Долиной ведет к тому, что Верке Сердючке надо давать Героя напополам с Глюкозой. А Моиисееву – Госпремию.
Поэтом быть сейчас не так уж трудно, Блюди размер, не слишком трогай власть… Вот отчего поэтов ценят скудно, Заезжим не мешают души красть. Чтоб Родину любить, не много надо — Достаточно поменьше воровать И тупо не мычать в угоду стаду, А так, глядишь, не нужно помирать… Твоя судьба – для нынешних наука, Что кормят бесталанной блататой И портят карамельками для слуха Здоровый вкус оставшихся с тобой. Так нынче разгулялись скоморохи, Трещотками забив негромкий звон. Тебе у нас, Сереж, жилось бы плохо, Да нам самим у нас житье – как стон. Как помешать таким вливать отраву, Тут надобно все сердце изорвать. Вот для чего нужна большая слава, Чтоб на любовь погибель обнимать. Дм. Дарин, отрывок из стихотворения«На Рязанщине в годовщину Есенина»Да нет же, как я запамятовал – у нас есть еще Большой театр. Теперь он не «гауптвахта для туристов» (Г. Свиридов), а форпост тацевального перформанса (не называть же это балетом) от Сорокина. Я не следил за официальной прессой, ему еще ничего не вручили под алодисменты членов Президентского совета по кульуре и искусству? Зря, конечно. Вот это не халтура и не подделка такого масштаба, что Кулик, хоть самого Швыдкого обоссы, а потом укуси за ногу (дарю идею. А что, кстати, хороший концепт: Кулик – Шариков, Швыдкой – Швондер, тем самым воплощается невозможность приручения шариковых кем бы то ни было и отстаивается неприкаянность модернизма в искусстве), такой славы не добьется. А вот мнение члена Совета Гергиева, директора Мариинки, по поводу «Детей Розенталя» было доведено до президента? Оно вообще было, мнение-то? Ведь Швондеру, т. е. Швыдкому, одного телефонного окрика достаточно, в клиническом случае – вызова в Ген. прокуратуру. Там, в Совете этом, кто-нибудь что-нибудь вообще советует Президенту всея Руси? Если нет, зачем место занимать, если да и не прислушиваются, подайте в отставку в знак протеста, поменяйте этот становящийся сомнительным статус на ДЕЛО. Или там как раз прислушиваются? Тогда – не бамбук, тогда – кирдык.
Цена на куликов и сорокиных возрастет в прямой зависимости от повышения уровня жизни населения в соответствии с целями национальных проектов. Уровень жизни среднего россиянина поднимется на 20, 50, может, 100 %, а вот качество – всего на один рубль. Вот и будущаяя сверхприбыль от внедряемого перформанса. Нужно только, чтобы никто из платежеспособных граждан не сомневался – это и есть современное «высокое» искусство, да, да, что вы, не сомневайтесь, обязательно сходите посмотреть. Это так модно сейчас в мире. Не пойдете? Фу, деревенщина…
Да и зачем на культуру тратить «народные» деньги? Гранты же есть западные, пусть империалисты тратятся. Все правильно – денежная цензура ничуть не мягче идеологической, а при современной нищете культурного сообщества – может, и пожестче будет. И хоть сотню круглых столов проводи с участием истинно российских деятелей культуры с приглашением представителей власти – все это голос вопиющего, даже не в пустыне, а среди толпы сытых глухих. Это-то и обидней всего. Ильин метко заметил: «Человек человеку – прохожий». Ю. Поляков в статье с малообязывающим названием «Зачем вы, мастера культуры?» («Почем вы, мастера культуры» – хотел и не решился назвать свою статью Ю. Поляков, но назвал автор) пишет: «…нужно добиваться равного доступа на телевидение…» Под председательством того же Ю. Полякова в «ЛГ» проходил очередной круглый стол («ЛГ» № 36) с участием министра культуры А. Соколова. Писательница Лариса Васильева (никогда не читал, но видно – человек хороший) задает вопрос Александру Соколову: «Есть ли у вас рычаги влияния на телевидение?» Ответ сделал не нужными не только все круглые столы, но и вышеупомянутую статью главного редактора «ЛГ».
«Нет», – ответил министр. И все. Без объяснений, без надежд и проектов. Без обещаний и посулов. И никто не спросил: а почему, собственно? Почему у заклейменного нашими патриотическими деятелями культуры всеми пробами Швыдкого есть (одна «Культура» уже чего стоит), а у него нет. И какая цена министру культуры без влияния на культуроносители? Как это, например, министр топлива и энергетики не может иметь рычагов влияния на российскую нефтянку, можете представить? Министр без влияния хуже, чем министр без портфеля, поскольку имеет официальные полномочия, и это вызывает лишние надежды. Зачем же он тогда соглашался на «копеечный» портфель? Почему не поставил условием своего назначения вхождение в редакционные советы государственных каналов или что-нибудь подобное? Вот и получается, что цена такому министру – машина с мигалкой да министерское жалованье. (Да подряд на Большой-Больной театр, добавим от себя.) С точки зрения национальной культурной идеи – что-то дешево, хотя и ценно. И то, что он лучше Швыдкого, – не аргумент. Как известно – «Швыдкой – лучше Геббельса» (после выхода в свет книги с таким названием остаться на своем посту можно только в загадочной России). Этого мало, мало, черт побери!
Ю. Поляков много пишет в указанной статье о «грантократии» и о «брезгливом равнодушии к судьбе государства в сочетании с болезненной страстью к государственным наградам» как «родовой черте российского либерала» и там же о том, что награждение «обновленной» и «обогащенной» Госпремией Беллы Ахмадулиной «таит в себе глубокий смысл». Сама Ахмадулина в интервью по этому поводу заметила, что она «…не из тех, кто делал специально что-то, чтобы получить награду», а также, что вручение премии именно ей должно обнадежить других людей, занимающихся творчеством. Да полноте. Ахмадулина всегда была «приватной» поэтессой, любовным лириком, чуждой гражданской борьбе, трибунскому слогу (кровь итальянского революционера по матери Стопани не проявилась). Получала премию молча, скромно. (Бабкина, к примеру, заголосила в Кремле, причем без фанеры, при получении ордена Дружбы.) Одна Государственная СССР (1989), премия Президента (1998), «Триумф» и «Пушкинская» (обе в 1994 г.) – опыт есть, да и властям спокойно – не отчебучит чего-нибудь. А почему бы не отчебучить? Чем очередное награждение поэтессы должно кого-то обнадежить? А вот откажись Белла Ахатовна от премии, пусть даже им. Окуджавы, а может, и благодаря этому прямо на церемонии в знак протеста против гауляйтерства Швыдкого в культуре, осознанного оболванивания народа попсовыми передачами, отсутствия равномерного присутствия на телевидении всех основных направлений в литературе, далее – все вопросы круглых столов «ЛГ» – вот это было бы уже ДЕЛО. Наша беда, что Россия – страна слов и грез, а не дела. И не надо отниматься тем, что мы, дескать, «не врачи, мы – боль» (Герцен). Или что рождены «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв» (Пушкин). Недеяние – принцип, как внимательный читатель увидит позже, принцип гораздо более древний. Здесь у нас сейчас впору «к штыку приравнять перо» (Маяковский). Абсолютно прав был Шпенглер, когда писал в «Западе на закате», что «славный выпад вернее славного вывода, ибо лишь человек действующий… живет в конечном счете в действительном мире политических, военных и экономических решений».
Но дело делают как раз за счет России и вопреки ее интересам. Откажись от премии поэтесса, да, был бы скандал. Ну и что, было бы дело, а так – одна болтовня и какое-то мифическое обнадеживание. Генерал Деникин, чей прах лежит сейчас рядом с прахом Ильина, имея в виду болтунов (из комиссии Колокольцева да и вообще всех тогдашних белых политиков), так и сказал: «Просрали Россию». Так мы и продолжаем, Антон Иванович.
Что глядишь так, Медный всадник, Ты очами недовольными? Нет империи, касатик, Все просрали добровольно мы. Конь твой резвый вынес было, Да змея все недодавлена. Не от яда ль кровь остыла, Не свободой ли отравлена? (Из поэмы «Прогулка по Ленинграду»)Продолжу свою мысль в прозе. Не говори мне, от чего ты свободен, скажи, для чего ты свободен, – восклицал Ницше в «Песнях Заратустры».
Основная проблема деятелей нашей культуры – несвобода. От денег, от грантов, от премий. От славы, наконец. Рынок славы мешает объединяться «своим» – человек человеку прохожий, а деятель деятелю – конкурент. Откуда же взяться свободе ДЛЯ чего-то – ПОСТУПКА, когда не предвидится свободы ОТ вышеперечисленного. Вот и положена цена каждому – кому Госпремия, 5 млн рублей и ужин с президентской четой, кому премии поскромней, от Чубайса, кому мигалка, как нимб над головой, кому членство в Президентском совете… Все запуталось в переплетении интересов, печальников народа не видно нигде, кроме как на обочине экономическо-культурного процесса. Какие имена есть еще в России: Распутин, Солженицын, Битов, всех не перечислить, свободных ДЛЯ вещего Слова, для Служения, с миллионами читателей, но их в новостных сводках не увидишь. Разве посмертно, по случаю вручения Госпремии Астафьеву, например. Эти не подстраивались, не молчали, не потакали никогда. «Специальные мужики», перефразируя Платонова).
Пора перестать сетовать (Что толку охать и тужить – // Россию нужно заслужить!» – Северянин), а начинать настоящую (вооруженную словом, подкожным знанием культурной традиции России и совестью, в конце концов) гражданскую войну против всех, кто хотя бы замечен в потворству дебилизации нации, пользуясь не искательными перед властями судами, а руководствуясь культурно-патриотической правосознательностью. И прежде всего этот лозунг я адресую деятелям культуры с громкими именами, любимыми народом. Вам же еще верят. Боритесь, служите своему народу. В каждом интервью, при каждой премии, при каждой возможности! Если не будете бороться, а будете искать у власти почестей, цена всем вам – забвение. Ваши имена выблюет перекормленная комиксами и сорокиными память «новых культурных русских». Ну, значит, туда вам и дорога.
Я за гражданскую войну Добра и зла, вранья и чести, Нельзя любить свою страну И опускаться с нею вместе. В окопах мы примкнем штыки, Чтоб стать изгоями навеки, Поэтов сводные полки Певцов рассыпанные цепи. И пусть пойдет по душам хрусть, И жир из совести польется,_ В сраженьи за Святую Русь Без жертв никак не обойдется. Я знаю, нам не устоять, Как никогда не стать другими, Но стал я часто замечать, Свои – стреляют холостыми. Меня убьют вперед других, Что вероятней даже, в спину, Но на последний честный стих, Как, встарь, на щит, меня поднимут. Но впереди последний бой, И божью искру, мрак рассеяв, Мы разожжем большой свечой, Чтоб рассвело в моей Рассее. Дм. Дарин (из сборника «Сестра моя, Россия»)Нельзя заболтать, проспорить, пролузгать (Волошин)да спустить по мелочи культурную память России, что означает – и остатки самой России. Надо ВОЕВАТЬ за, а это сейчас, как никогда легко, потому что совершенно ясно – кто ПРОТИВ.Как писал наш гений Сергей Есенин:
«…Много мечтает их, сильных и злых, выкусить ягоды персей своих.»Доктрина Монро до сих пор не отменена, и Россия это чувствует каждый день, как и остальной мир впрочем. Но остальной мир защищается по всем направлениям (погромы МакДональдсы во Франции(«случай» фермера Жозе Бове в 1999 г.); деятельность министра по культурному наследию Канады Шейлы Коппс, саммиты по сохранению культурных традиций в Мексике и Греции по ее инициативе;Китай вообще плюет на все требования, включая культурную либерализацию и либерализации юаня, но вовсю использует преимущества ВТО – никто, в том числе и США, не пикает, уж слишком весомый рынок и т. д.)
При этом Россия – единственный мощный, но как-то безпатронный, форпост на пути апостосийной религии гегемонии гамбургеров:
И тебе говорю, Америка, Отколотая половина земли, — Страшись по морям безверия Железные пускать корабли! Не отягивай чугунной радугой Нив и гранитом – рек. Только водью свободной Ладоги Просверлит бытие человек! С.Есенин «Инония» 1918Но, чтобы устоять, людям с Ладоги надо наконец уже понять, кем они хотят управлять – великороссами или великосимпсами. Если первое, надо создавать образ пророссийски просвещенного преуспевающего человека, а не по-западному стреляющего преуспевающего человека, на всех уровнях искусства. Надо пригласить лучших русских писателей(музыкантов – необязательно, ибо не ноты портят нацию, но слово), уполномоченных от Православной Церкви, заслуженных учителей средних школ (ведь есть такое звание в России)в художественные Советы государственных теле-, и радиоканалов, обязать последние регулировать сетку вещания и содержание программ в праймтайм с такими советами (на этот раз – подкрепленными авторитетами совестью нации и ПЦ) – чего проще-то? Бизнес, так рейтинг никуда не денется, если даже не возрастет. Никто же не хочет запрещать Голливуд в принципе, важно ощутить разницу, причем желательно в нашу пользу. Померяемся культурой, нам никогда не проиграть. Достаточно поручения Президента и даже не надо отлучения Швыдкого. Но, видимо, многие, засевшие в штабах наших полков хотят второго, то есть комиксзации всей страны)с такими надо развязывать культурную гражданскую войну до победного. Пока же нами успешно управляют по принципу Лао-цзы:
… Опустошить их сердца, Внутренности наполнить, Смягчить устремления, Сделать крепким костяк, Чтоб люди всегда оставались без знания и без желаний, Чтоб даже знающий действовать не посмел. Твори недеяние — Тогда другой исцелится! Книга пути, стих 3-й «успокоение народа» Но лично я – не согласен. Любить Россию для поэта — Казнить ее врагов стихом. И столько лет я делал это, Что стал заправским палачом. Но кто-то должен мылить петли, Оставив лирику другим… Нам всем вариться в этом пекле, Но только так мы победим 2008Эстрада как культпродукт
Смею утверждать – культура в нашей стране перешла в стадию постмодернизма. В то время, когда вся промышленность отстала где-то в индустрильной эпохе с сырьевым оттенком, культура вообще и эстрада в частности находится под действием современных общемировых законов постиндустриального общества. Как правильно заметил Д. Иванов в «Виртуализации общества»: «Стандартизация, унификация художественных практик посредством институциональных норм стимулирует превращение искусства из таинства общения с музами в художественное предприятие», т. е. в шоу-бизнес. Социальным институтом, т. е. универсальной системой ролей стала схема «продюсер – исполнитель – публика». Главное условие существования системы – формат. Главный показатель устойчивости системы – рейтинг. Все, что выпадает за пределы вышеуказанной триады, обречено на маргинальность и недолгую жизнь. Искусство, как эстетическое переживание, не имеет к этому предприятию практически никакого отношения.
Показательны в этом смысле награды «Рекордъ» звукозаписывающих компаний, которыми награждаются самые «продаваемые» артисты.
За 2006 г. премиями отмечены: в номинации «Отечественный альбом года» – «Вендетта» – Земфира; в номинации «Зарубежный альбом года» – «Крейзи фрог»; в номинации «Отечественный рингтон года» – «Братья Грим», «Ресницы» – «Дебютный альбом года» – Катя Чехова – «Я робот».
Вот что любит больше всего наш «расейский» народ и за что он «голосует» своим кошельком. Вдумываться в тексты песен этих исполнителей нет никакого смысла, его там по большей части просто нет. Мне как поэту, более всего интересно (и возможно) рассмотреть именно эту составляющую (чтобы не употреблять слово «стихи») современных эстрадных песен. Но сразу хочу предупредить – проблема лежит в совершенно другой плоскости. Тексты песен убоги не потому, что кто-то (или все сразу) не умеет хорошо писать (можно, в конце концов, заказать стихи у голодных студентов Литинститута, как советовал в передаче «Супердиск» поэт Юрий Ряшенцев), а потому, что не это нужно. Нужно понравиться народу, а для этого стихи не нужны. Настоящие стихи – это духовное лекарство, чаще горькое, от равнодушия, подлости, гнили, холопства и много еще чего. Народ же желает развлекаться, потому что считает себя абсолютно здоровым. Напоминать или даже намекать о чем-то обратном – вредно для бизнеса. Люди, которые могли бы написать неплохие строчки для исполнителя, сознательно не делают этого, хотя считаются поэтами-песенниками. Наш великий национальный композитор Георгий Васильевич Свиридов возмущался, когда в какой-то литературной заметке тоже великий национальный поэт А.В. Кольцов был назван «…воронежским песенником» (то есть вроде Лебедева-Кумача, Ошанина или Шаферана), а не «поэтом». Почему такое унижение? Но названные авторы были все-таки признанными профессионалами, разве можно себе представить, чтоб из-под их пера вышли шедевры типа: «Муси-пуси», «Джага-джага», «Зайки», и так до бесконечности. Теперешние рифмы: ты беременна – это временно, я иду по лужам – мне никто не нужен, Наташки – ромашки, восемнадцать мне уже – ты целуй меня везде, и т. п. Настоящая песня – это стихи, заключающие в себе музыку изначально плюс мелодия. Свиридов абсолютно правильно заметил, что каждый великий поэт несет в себе песенное начало. Убери музыку из большинства современных эстрадных песен – останется какая-то окалина, которую не то что поэзией – текстом-то назвать язык не поворачивается. Но формат, т. е. следование сложившимся уже вкусам публики диктует: попроще, позабойней (или послезливей) (некоторые серьезные исполнители отвечали мне на вопрос – а почему ты вот эту нашу песню не исполняешь? – в том смысле, что народ не хочет грузиться). Поэтому из группы или исполнителя делаются не «звезды», а куются их образ «звезд», т. е. перед нами в итоге – не самостоятельный исполнитель, а его симулякр, образ, знак, который обменивается на деньги от концертов или продажи дисков (последнее – в значительно меньшей степени из-за развитого пиратства).
По моему убеждению, уже вся Россия живет только симуляциями – как в искусстве, так и в политике. Информация в постмодернистском обществе носит уже характер побуждающей коммуникации. Производителей полит– или культурпродукта не удовлетворяет донесение до потребителя (электората) простой информации о позитивных свойствах своего продукта, эта информация уже мотивирует потребителя на постоянно воспроизводимое потребление данного продукта. В результате – аффективная коннотация (быть фаном этого исполнителя модно и круто), а денотата (смысловых стихов) нет за ненадобностью – о них никто и не вспоминает, и не вслушивается. В самом деле, кто будет всматриваться в содержимое «Баунти» – это надо есть целиком.
Перефразируя Г. Лебона, можно, к сожалению, предположить, что русский народ не представляет больше собой расы как общности людей, связанных общими идеалами, именно вследствие утраты последних. Но народ, как известно, не может быть плохим. Правда, это не помешало недавно ушедшему яркому поэту Николаю Дмитриеву написать:
Есть ублюдки, а есть народ, Ублюдков бывает больше. Как хочется наооборот, Но не сбывается, о Боже.Так что же случилось с народом? Откуда такая падкость на бездуховное? Разве массовая поп-культура всегда обязана быть товаром в пошлой упаковке? Куда делось здоровое чувство самоцензуры? Почему такое падение профессиональных стандартов до уровня «караоке-искусства»? Почему публика терпит, когда про нее говорят «пипл схавает»? Почему же хавает, наконец?
Ответ, как мне кажется, заключается в следующем. То, что не удалось сделать с народом всем внешним врагам России в бесконечных войнах, т. е. подчинить, удалось сделать путем разложения, т. е. заменой наших национальных исконных ценностей на чуждые, привнесенные другими нациями на нашу почву. Незаметно произошла великая подмена ценностей – какая-то пусть ложная, но Цель (построить коммунизм, например) была заменена на Безразличие. Духовная пустота тут же заменяется потреблением, и, соответственно, единственной достойной целью становится достижение успеха не в духовном, профессиональном, а в потребительском смысле. Поэтому главной позитивной характеристикой у современных молодых (да и не только) людей становится степень богатства (влияния) объекта, причем источник проихождения этого богатства(честно/нечестно) никого не волнует. («Если б нашелся мужик богатей – я бы ему нарожала детей» – высокоискусное подтверждение мысли из какой-то шансонной песни.) Налицо главный признак постмодернистской эпохи – овеществление человеческих отношений, когда отношения строятся не между личностями, а между ассоциируемым с личностями набором объектов (машина, загородный дом, личный футбольный клуб); причем объектами становятся и неотъемлемые свойства человека – талант, ум и т. п. Нельзя не согласиться в этой связи с Э. Фроммом, утверждавшим, что располагать красотой, искусностью, умом, располагать собой – это совсем не то же самое, что быть красивым, искусным, умным, быть собой (Э. Фромм. «Иметь или быть»). Именно от овеществления человеческих отношений всегда удерживали русская вера и русская культура. Архиепископ Иларион (Троицкий): «Идеал православия есть не прогресс, но преображение… Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого преображения не вперед, а вверх, к небу, к Богу». Этого не предусматривают ценности Свободы и Прогресса в западном понимании (еще Есенин заметил: «Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам» («Железный Миргород»), но мы от них с развитием капиталистических производственных отношений никуда не денемся. Это можно только компенсировать – лучшим, что осталось от русской культуры.
Часто в этой связи слышны голоса приверженцев новой цензуры – запрещать откровенно пошлые и бесталанные произведения к публичному показу. Только кто же будет отбирать, быть, так сказать, мерилом ценностей? Кто возглавит главный худсовет? (Вот поэт Ю. Ряшенцев, например, проголосовал в одной передаче на ТВЦ за «Муси-Пуси» в частности и за Катю Лель в целом. Хочется спросить – он сам понимает, что высоким званием поэта освятил производство словесных карамелек?) Очевидно, те же люди, которые выпускают в эфир во всех смыслах «голубые огоньки», и иже с ними. Вообще-то с телевидения и радио, обладающих огромным медийным ресурсом, суть фактором производства, надо брать, как с нефтянки, факторный доход, т. е. ренту. Такую, назовем ее «культурной», ренту, как платеж за рекламные дополнительные прибыли во время эстрадных концертов, шоу и т. д., можно было бы направлять в какие-то творческие союзы (писателей, театральные), объединения (например, самодеятельной песни) или предоставлять им в виде той же ренты эфиры в прайм-тайм на основных каналах (в том числе и на канале «Культура», который внес огромную лепту в продвижение западной антиправославной культуры за счет национальной в сознание соотечественников и, соответственно, на российский рынок). В таких творческих союзах хоть что-то осталось от самоцензуры, и если уж и будут зажимать «гениев» (это было во все эпохи), то уж и откровенную «чернуху» не пропустят. А что, может, такие регулярные прививки затормозят в какой-то степени процесс интоксикации ложными культурными ценностями? Дадут возможность влиять на создание другого образа талантливости и удачной самоидентификации? Если поручить это людям, разбирающимся в механике создания таких образов? Я думаю, заинтересованным людям из Минкульта, если только, конечно, есть такая заинтересованность, есть смысл рассмотреть эту идею. Культурная рента с шоу-бизнеса как механизм возрождения национальной масскультуры. Ведь, если быть откровенными, надо признать, что людям просто не дают выбора. Может, кто-то и не хотел бы питаться несвежей киркоровской сердючиной, но людей делают уже соучастниками процесса «изготовления» звезд, как, например, на «Фабрике» или «Народном артисте». И то правда:
Маленькие дети это поняли уже: Лучше песни петь на сцене, чем ишачить в гараже! На заводе и на шахте платят мало и не всем, А артист живет богато, без забот и без проблем! Круто! ты попал на TV… (Автор словосочетаний – некий А. Елин)И что будут будут петь эти «звезды» с такой «художественной» платформой? Наверное, не лучше того, что поет группа «Корни»:
…Она любит варенье из ласк, Арифметику, лето и опыты крови (?), И ее изумрудные брови (?!) Колосятся под знаком луны… (Автор словосочетаний – некий П. Жагун)По описанию героиня этого шедевра – Чикатило в юбке с калькулятором в сумочке да притом нимфоманка. Допускаю, что она похожа на героиню М. Ржевской, которая станет кошкой:
Разрешаю смело На листке из мела Глянцевой улыбкой расписаться… (Автор словосочетаний – некая Секачева И.)Очевидно, речь идет о фотороботе разыскиваемой за серийные преступления первой героини с колосящимися бровями.
Исполнители второго и третьего эшелона тоже глубиной образов не радуют. К примеру, какая-то группа «Пуля»:
Ведь я так безумно желанна, Я – Иванова Диана. Я – не доверяю твоим словам, Не дам, нет, не, нет, не дам. (Автора я не запомнил, но что характерно —песню исполняет какойто непромытый парень)Конгениально! У нас уже появились имя, фоторобот и особые приметы (колосистые брови, крашенные «Титаником»). Добавим что-нибудь из свойств характера:
…У меня есть изюминка, Легкая безуминка, Сладкая безуминка Есть у меня. (Исполнительница – некая «АннадАрк» (надо же!)и получим правдоподобный портрет российской попсы в состоянии аффекта (безуминки, только не легкой, а в гораздо более тяжелой форме).
В чем разница между стихами и текстом? Я бы определил это так. Поэзия – это ноты не озвученной до поры музыки бытия, а текст – это клоун, заполняющий паузы в написанных нотах незатейливой мелодии. Есенин никогда не писал песен. Почти нигде у него вы не найдете запевов и рефренов. Но это не помешало рождению прекрасных и, выражаясь по-современному, надформатных песен – от рок-н-ролла («Я московский озорной гуляка…») до народных (перечисление бессмысленно за очевидностью). Недаром написал Петр Орешин: «Песенник Есенин // Cинеглазый брат…» И это точно подтверждает вышеприведенную мысль Г.В. Свиридова о песенном начале великих поэтов. И пусть мелодия на готовые стихи подавляет другие интерпретации, зато она рождает новые, если стихи – талантливы. А стихи талантливы тогда, когда сами по себе, без нот приподнимают читателя над двухмерным изображением, вводят его в третье, а иногда и четвертое измерение, когда останавливается само время. Графоман же навсегда обречен жить двухмерными образами, часто сползая в одномерное линейное пространство, т. е. в пошлость. И, кстати, многомерность совсем не зависит от формата медийного поля. Многие ярые противники попсы слушают, например, исключительно радио «Шансон» из чувства антагонизма. И это, наверное, правильно – жанр шансона (до сих пор, правда, никто не знает точно, что это такое) намного честнее попсы хотя бы потому, что не развлекает. Но и там достаточно двухмерных и одномерных вещей, особенно на блатные темы. В этом общая для массовой культуры проблема – вне зависимости от формы (формата) востребованность произведения находится в обратной зависимости от его многомерности (как мелодии, так и текста). Русский философ П.А. Флоренский как-то написал, что сделанные вещи блестят, рожденные – мерцают. Наша масскультура – полностью сделанная (художественное предприятие), причем так же топорно, как наши автомобили. Поэтому российские «звезды» не мерцают, а тускло блестят, и то – отраженным с Запада светом. Перефразируя М. Волошина: Поэт – совесть народа, в постмодернизме нет места Поэту.
Зато
…У меня есть черный бумер, Он всегда со мной… Ведь у меня есть черный бумер, Бумер заводной…Аминь.
2008Гражданское согласие или бессилие несогласных?
В «ЛГ» № 8 за 2008 г. была опубликована небезынтересная статья под названием «Синдром Фирса», ставящая на обсуждение вопрос, вынесенный в подглавку: «Можно ли выдавить из себя раба?». В целом иллюстративный исторический материал не нов и сводится к трем положениям: поздняя отмена крепостного права, преждевременная демократическая революция в феврале 1917 г. и сталинский террор окончательно утвердили холопство в генетической памяти русского народа. (Странно, что не «возошли» к татарскому игу. Уж если и искать привычку русской княжеской знати к брутальному управлению своим народом, так это из тех времен.) Сейчас «по старой памяти» управление народом носит псевдодемократический, а по сути феодальный характер. «Барин» рассудит, накажет и помилует. Народ, как всегда, безмолвствует. Если и есть несогласные, их малочисленность, неорганизованность «погоды не делают» – судя по рейтингам победивших партии власти и нового президента, в стране царит гражданское согласие. Начнем, как говорили древние римляне, «с яйца».
Что характерно – революционно-освободительное движение в царской России началось по причине либеральных реформ пресловутого царизма начала 60-х годов XIX века. Положение о новом устройстве крестьян 19 февраля 1861 г., освободившее 22,5 млн крестьян при общей тогдашней численности 80 млн, сразу же вызвало волнения – дескать, от народа скрыли всю правду о свободе – с землей ли, без нее ли… В селе с говорящим названием «Бездна» были убиты и ранены не менее ста человек, а уже в 1862 г. появляются прокламации революционной организации «Молодая Россия», призывающие к кровавой революции. Дальше – Ишутинский кружок, с неким Каракозовым в составе (покушение 4 апреля 1866 г. на Александра II), потом Нечаев с «Катехизисом революционера», призывающим «всеми силами и средствами…способствовать к развитию тех бед и зол, которые должны вывести народ из терпения и понудить его к поголовному восстанию» (оцените – чем хуже для народа, тем лучше для революции), движение в народ, процесс 193-х в 1877 г. (именно там были оправданы Андрей Желябов и Софья Перовская, о чьем участии в смуте просвещенному читателю говорить излишне), создание «Земли и воли», позднейший раскол на «Черный передел» и «Народную волю» – сторонников индивидуального террора, убийство Александра II, эсеры, Гапон, Кровавое воскресенье, «маленькая победоносная война», Манифест 17 октября 1905 г., Указ об уравнении крестьян в правах от 5 октября 1906 г. (только тогда закончился процесс освобождения крестьян), первые куцые Думы, Столыпин, военно-полевые суды, изменение избирательного закона, убийство самого Столыпина, 4-я Дума, Родзянко, 1-я мировая, «снарядный голод», невероятные потери (к осени 1916 г. – 1,5 млн убитых, около 4 млн раненых, 2 млн пленных), отступление (потеря Галиции, Волыни, Польши, Литвы и Курляндии), перебои с подвозом хлеба в Петербурге, забастовки, уличные демонстрации и стычки с полицией 24 и 25 февраля, восстание запасных батальонов, Временный комитет Госдумы, Совет рабочих и солдатских депутатов, ночной разговор Родзянко с Рузским, циркулярная телеграмма Алексеева командующим фронтов, отречение… все. Что-то изменить можно было только до этого момента, потом включилась беспощадная логика всех революций – власть сильнейшему. Но сейчас не об этом – с начала 60-х годов XIX века Россию меньше всего можно было назвать холопской страной, она кровоточила от террора, от реакции, борьба шла не столько за сохранение персонифицированного режима, сколько за сохранения основ – самодержавия как стабилизирующей национальной идеи и, соответственно, с другой стороны баррикад – за то, чтобы «все съехало с основ». К самодержавию аристократия самых разных калибров относилась с презрением, жандармам часто не подавали руки. После кровавого убийства Александра Освободителя многие интеллигентские и дворянские семьи вздохнули с радостным облегчением. Пусть читатель сам себе ответит на вопрос: в нынешнее время присяжные заседатели смогли бы оправдать Веру Засулич, стрелявшую в питерского генерал-губернатора Трепова по причине порки политзаключенных (ну… гипотетически – покушение на Валентину Матвиенко, хотя Юрий Лужков – показательней, тогда столицей империи был Петербург, по политическим мотивам. Однозначно – статья за терроризм. Я к этому никак не призываю, но представьте, кто-нибудь мог бы покушаться на главу столицы из-за нарушения прав политзаключенных? Тоже вряд ли). Россию-то и шатало из стороны в сторону из-за силы несогласных. И духовной силы, и силы организации. К тому же холопов-рабов добровольных нужно отличать от подъяремных людей. Холопов типа Фирса никакая революция не заинтересует. Да и куда ему, престарелому лакею, деваться на свободе?
А вот почему еще 1 марта (за день до отречения, нарушив присягу) Вел. Князь Кирилл Владимирович снял Гвардейский Экипаж (охрану) с Царской Семьи и пришел к Таврическому дворцу с красным бантом в петлице, проявив себя не как природный аристократ, а как самый настоящий холоп новой власти? Лучшие люди всегда последовательны до конца, и когда Николай узнал об этом предательстве, это могло, по некоторым данным, стать последним аргументом в пользу отречения. (Правда, расчет оказался верным – Кирилл Владимирович стал одним из немногих членов царской семьи, унесших ноги в целости.)
Остальной народ захотел свободы и был готов проливать за нее свою и тем более чужую кровь.
Закон еще не отвердел, Страна шумит, как непогода, Хлестнула дерзко за предел Нас отравившая свобода. С. ЕсенинПротивоядие нашлось быстро – со 2 сентября 1918 г. большевики вводят уже массовый красный террор. Собственно, и Ленин, и Троцкий, и затем Сталин учли ошибки царизма и Февральской революции. Ленин мог бы во всем заменить Столыпина в свое время – воля «успокоить Россию, потом – перемены» была присуща только им. Он и заменил – шесть лет спустя после убийства в Киеве Столыпина. То, что произошло с Февральской революцией, – не неготовность русского народа к свободе, как утверждает автор статьи в «ЛГ» вслед за поэтом-символистом.
Вчерашний раб, усталый от свободы, Возропщет, требуя цепей. М. ВолошинБольшевики взяли законодательную власть (автор смеет утверждать, что главный большевистский переворот состоялся не 25 октября 1917 г., а 5 января 1918 г., при разгоне Учредительного собрания, где в отличие от II съезда Советов эсеры были представлены более чем в 2 раза многочисленнее), сначала обеспечив себе исполнительную. Но куда смотрел и о чем думал Милюков, требовавший от англичан пропуска в Россию большевиков с Троцким во главе вне зависимости от нахождения в так называемых контрольных списках (список лиц, заподозренных в сношениях с враждебными правительствами); в кадетской газете «Речь» было напечатано приветствие по поводу приезда Ленина как «общепризнанного главы социалистических партий, КАКОГО БЫ МНЕНИЯ НИ ДЕРЖАТЬСЯ О ЕГО ВЗГЛЯДАХ» (выделено авт.), а Керенский лично просил освободить Троцкого, когда тот был задержан в Канаде. Либеральная элита пала жертвой своего же либерализма, возведенного в статус «священной коровы». Либералы, а не народ стали рабами либеральной идеи, поэтому с железной исторической логикой из рабов превратились в жертву. Ленин же предложил народу не свободу, а ВЛАСТЬ через близкие и понятные Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Власть понравилась народу больше, поэтому большевики выиграли Гражданскую войну. (Это, конечно, упрощенно, но автор не имеет возможности в рамках данной статьи уделить этой теме достойное ее внимание.)
Вот после того, как внешних врагов не осталось, нужно было что-то делать с народом, завоевавшим себе народную власть. А как заметил Бердяев, «неограниченная власть всех страшнее тирании одного». Он же утверждал, что масса всегда имеет пафос равенства, а не свободы. Поэтому, чтобы не повторять свежие еще в памяти ошибки царских и февральско-революционных властей, народ стали ровнять. Этакое возрожденное общинное сознание через утверждение коллективизма, т. е. воспитание нового человека, советской породы. Все вернулось на круги своя – гражданское согласие было достигнуто через истребление или перековку несогласных. Но, как при Александре II, уже при Хрущеве появились несогласные из рабочего народа – в Новочеркасске, потом при Брежневе таких стали называть инакомыслящими, при Андропове – диссидентами, но сути это не меняло – движение несогласных стало крепнуть, появились свои мученики и иконы. Даже место графа Толстого занял (условно, конечно) один крупный писатель (отсутствие графского титула возмещалось титулом нобелиста). Советская власть повторила-таки главную ошибку предыдущих режимов. Иван Ильин определил высшую цель государства не в том, чтобы «держать своих граждан в трепетной покорности, подавлять частную инициативу и завоевывать землю других народов, но в том, чтобы организовывать и защищать родину… для этого государству дается власть и авторитет; предоставляется возможность ВОСПИТАНИЯ И ОТБОРА ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ…» (выделено авт.). Такая же мысль сформулирована многими философами: проблема государства – проблема отбора ЛУЧШИХ. Советская власть, как и царский режим, селектировала СОГЛАСНЫХ. С начала освобождения крестьян до революции прошло чуть более пятидесяти лет, советская власть продержалась чуть больше, но это во многом по инерции Великой Победы.
И вот она – свобода, сиречь устоявшаяся демократия при капиталистическом способе производства. Бердяев считал демократию нездоровым состоянием общества, поскольку не предусматривает аристократии, только элиту. Но об этом позже – мы получили право на неравенство и на несогласие. Все нематериальное сразу подешевело и усреднилось – культура, жизненные цели (жить по глянцевым журналам), образование, – все, что народ так сильно хотел, чтоб стало попроще. Людям ЛУЧШИМ стало душновато. Во власть их не зовут, зовут, как водится, СОГЛАСНЫХ. Поэтому государство, народ и страна – по-прежнему малосовпадающие категории. Если раньше идеи обсуждались в клубах, потом на кухнях, то теперь можно кричать во всеуслышание, никто слушать не будет – не интересно, не нужно. Бердяев ошибался, по-моему, когда утверждал, что душа России не склоняется перед золотым тельцом – овеществление человеческих отношений достигло максимума, товаром стало все: честь, присяга, пост, достоинство, дети (даже неродившиеся как материал для спецтерапии), родители и так далее. Раньше ты был тем, что ты сделал, сейчас ты – то, что ты купил. Причем поодиночке все клянут материальные трудности, ненавидят олигархов, плюются в сторону удаляющихся по пробкам мигалок, но все вместе (семь из десяти) идут и проставляют значки в избирательные бюллетени. Сервильности к власти здесь нет – народ с ней согласен, с властью. Вот вам и гражданское согласие – согласие не рабов (демократия), но плебеев. Поэтому у нас и популярно слово «преемник», поскольку демократия у нас НАСЛЕДСТВЕННАЯ, как и монархия. (Ближе все-таки к древнеримскому принципату. Август и Тиберий. Плебс всегда за стабильность.) Но перспективы этого строя зависят не от формы – правит либо аристократия (лучшие) или охлократия (худшие). Русский народ никогда не был холопом, даже в крепостном праве, но в плебействе погряз быстро. Собственно, он этого и добивался, чтоб полегче, попроще, попонятней. Но, возвращаясь к высказанной мысли о Вел. Князе Кирилле Владимировиче, власть погрязла в плебействе еще быстрее.
И отношение подъяремного, но сохраняющего чувство собственного достоинство народа к барину – не «вот приедет барин, барин нас рассудит», а по Гоголю: знал, барин, да не сказал (про сломанную бричку). Бессилие несогласных состоит даже не в разнице административных ресурсов их представителей – кандидатов (если тренер фаворита (руководитель избирательного штаба) – директор ипподрома, то остальным ловить нечего), а в плебейском насыщении согласных по неизменному принципу «хлеба и зрелищ». Генерал-губернатор… да нет, пока просто губернатор С.-Петербурга В. Матвиенко как-то бросила в эфир по поводу каких-то волнений, кажется, что, мол, русский человек всегда нуждался в сильном начальнике (читай – барине). Большего плебейства, чем в этой фразе, найти трудно. Русский, как и всякий другой простой человек на земле, нуждается в справедливом начальнике. Не особо крупный начальник позволяет себе то, что самый крупный (в силу ума или интеллигентности) никогда себе не позволял, – противопоставлять себя своему же народу, который его выбирал. А все от того же плебейства власти – мы даем вам работать на себя (хлеб, хотя часто горький с учетом налогов) и зрелищ в виде попсовых концертов, сериалов, викторин, выборов и прочего неколизейного итертейтмента, а вы бойтесь барина.
– Тута барин-с?
– Нет-с, их пресходительство-с отлучились, но тросточка их стоит-с.
Но монетизация льгот показала, что не очень-то боятся, когда надо – за кровное на улицу выйдут. Пока не против выйдут, а за свое кровное, но выйдут немедленно, и никакие организаторы беспорядков здесь ни при чем. Власть имела тогда бледный вид, но с грехом пополам наладили. Народ у нас отходчивый, получил свое и зла не помнит.
Можно было бы, чтобы запутать себя и читателя окончательно, пройтись по «вечнобабьему в русской душе» (Бердяев об одной книге Розанова) и, соответственно, в недостатке мужского активного духа в русском народе, зато наличии в достатке «государственного дара покорности, смирения личности перед коллективом», но я думаю, что это устарело, как и «несклонение перед золотым тельцом» – демократия, даже наследственная, не могла за пятнадцать лет не вырастить новую породу американского типа. Успех – все, смысл успеха не важен и неведом, главное – быть сверху. Вот истые плебеи духа, чей принцип выживания торжествует в России. Они прислушиваются только к аргументам, когда что-то у них могут отнять. Несогласные не могут отнять – может только власть. Несогласные не могут переубедить – новый «Бентли» поп-звезды перевешивает в массовом сознании любые духовные аргументы. Несогласные не могут воспитать – у них мало выхода на соответствующие своей публике СМИ. Несогласные могут только предупредить, да и то остальным неясно – а с чего этот вдруг несогласный? Не поделил чего с начальством, обижен жизнью, завидует успешным? А если несогласный еще и неталантлив, т. е. и объяснить не может толком, почему несогласен? Так что, может, так и надо – гражданское согласие на любом, самом низком духовном уровне, и черт с ним, с бессилием несогласных? Зато устойчиво, как пирамида – где ниже, там больше, обожание «ткачих» – «Владимир Владимирович, мы все вас просим – на третий срок, вам же везет», где выше, там эксклюзивней – всенародное признание в любви главного кинорежиссера страны, к примеру. Оттуда, из этой пирамиды власть будет черпать преданных себе, а не народу (даже сам сейчас улыбнулся) чиновников, депутатов (типа гимнасток), аналитиков, мастеров «культуры» и прочую обслугу стабильности. Все вместе – не дающая и рта разинуть несогласным, широко улыбающаяся выбеленными зубами, бодрая, модная, успешная, крепко держащаяся за руки друг друга элита плебеев. Ну а несогласные пусть ходят вокруг пирамиды, покупают грошовые сувениры и глядят в морду Сфинксу – загадочной русской власти, по-прежнему ласкающей СОГЛАСНЫХ, забывая, что ЛУЧШИЕ редко встречаются среди них, ибо согласие выгодно.
Одно радует – плебеи и народ пока в России не одно и то же, ну а что касаемо решаемости задачи «выдавливания раба», с чего началась статья в «ЛГ», то пусть ответом будет стихотворение автора (поэт все-таки) «Аристократы и плебеи».
Привычка к чести, сердца злать, Талант веселый, гений строгий, Нельзя аристократом стать, Им можно только быть – от Бога. Аристократия – не знать, Не титул делает погоду, Ведь благородство может знать И потный пахарь из народа. Плебейство – заданность души, Быть могут хамами дворяне, К себе презрение внушив, Своими брезгуя корнями. Плебейство – зависть, месть и злость, Плебейство – мелкая монета, Она – любого цвета кость И кровь коричневого цвета. Когда неправда на устах Вельмож доводит до расплаты, Бывает, что на фонарях Висят не те аристократы. Элиту балует судьба, Но нашей я скажу, трезвея, Ну как вам выдавить раба, Еще не выдавив плебея? 2008Лицо России не тени, а синяки (Ещё раз о Столыпине)
В первом номере родного «Российского Колокола» за этот год появилась очень и очень характерная статья секретаря Союза писателей России А.П. Иванова с выразительным названием (очевидно, да так и явствует из некоторых мест статьи, – отголоском недавнего всероссийского пропагандистского проекта) «Тень на лице России». Почему характерная?
Потому что с первых слов сквозит неприятие единственной вразумительной, вернее – более полезной, чем вразумительной, но все-таки объективно ПОЛЕЗНОЙ передачи Российского телевидения, «сваренной» якобы по западным рецептам. (Между строк хотелось бы заметить, что автор исколесил полмира и две трети западных стран и, владея двумя основными европейскими языками, то есть будучи в состоянии понять содержание этих самых западных телепрограмм, ничего подобного не видел. Хотя, может быть, и просто упустил, ручаться не буду. Не в этом суть.) Когда я слышу с экрана (опрос на канале ТВЦ) ответы вполне совершеннолетних соотечественников обоего пола на вопрос «Кем был Жуков?» – «какой-то князь до революции», а на вопрос «Когда началась Вторая мировая война» – ответ «в середине прошлого века» оказывается самым близким к истине, то любая передача, любой проект, могущий вызвать интерес «поколения пепси» (и не только) к отечественной истории – живительная «пепси и кока-кола заменяющая» влага просвещения на высохшие от потребительской гонки умы россиян. И, будь телекостюм хоть трижды сшит по чужим лекалам, на нашем человеке все равно будет смотреться по-русски: с оторванным воротом и рукавами в драке за истину. Но у нас, как известно, любят кулаками помахать и после драки. Вот А. Иванов размахнулся на Н. Михалкова, целя в представляемого первым П. А. Столыпина, названного в обсуждаемой статье «неудачником реформатором». Припомнились и военно-полевые суды и полное отсутствие влияние столыпинской аграрной реформы, «узаконенной царем за год до убийства самого реформатора и не получившей поддержки в народе». При этом Н. Михалков обвиняется в историческом невежестве. Одну минуточку!
Земельный вопрос был коренным вопросом, позвоночником всех государственных имперских организмов – начиная с несчастных братьев Гракхов в Древнем Риме. Россия начала ХХ века – не исключение. Тогда в России было зарегестрировано 395 миллионов десятин земли (десятина – 1,09 га). Из них:
155 млн принадлежало казне (в основном, леса, тундра, болотистые земли) и различным «учреждениям», в основном, церкви и монастырям (15 млн);
139 млн – крестьянские наделы (из них – 14,5 млн – казачьих);
101 млн – в частном владении.
К 1905 году у крестьян было уже 165 млн земли против 53 млн десятин земли дворянской (к 1918 году останется 40 млн) – 16 млн выкупили купцы и торгово-промышленные компании, 26 млн – крестьяне через Крестьянский банк. И вся эта крестьянская земля находилась в общине, привыкшей столетиями к ее непроизводительному возделыванию – принудительное трехполье, чересполосица и как результат – низкая урожайность, а именно – 30, максимум 35 пудов с десятины. Если учесть, что из 30 пудов 8 пудов шли на семена, а цена на рожь тогда составляла всего 50 копеек за пуд, то становится понятным, что при такой урожайности выкупить свой надел и развивать культурное сельское хозяйство крестьянин просто не мог – в Крестьянском банке выкупные цены составляли 105 рублей в 1907 г. и 136 рублей в 1914 г. за десятину. От урожая до урожая денег не хватало, а уж на выкуп и инвентарь копить нужно было бы десятилетиями. Вот что необходимо было ломать, и Столыпин это сделал.
Вопрос решался в следующем хронологическом порядке:
1. Манифест 3 ноября 1905 года «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского населения» (уполовинивание выкупных платежей за землю с 1 января 1906 г. и отмена их вовсе с 1 января 1907 года).
2. Август 1906 года – принимаются указы об увеличении земельного фонда, находящегося в распоряжении Крестьянского банка.
3. 9 ноября 1906 года – Указ о крестьянском землевладении и землепользовании (о праве выхода из общины, причем с наделом, бывшим у крестьянина на то время).
Аграрный законодательный пакет действительно был утвержден Думой только в 1910 году, на что намекал А. Иванов. И зря намекал, потому что основа аграрной реформы – Указ Правительствующему сенату от 1906 г., принятый в обход Думы, действовал с момента его принятия. Путь же указа до закона был действительно долгим. В феврале 1907 года была созвана 2-я Государственная дума. В ней, как и в 1-й Думе, земельный вопрос оставался в центре внимания. Именно консервативная позиция 2-й Думы в земельном вопросе и стала основной причиной ее роспуска 3 июня 1907 года. Обсуждение аграрного закона от 9 ноября 1906 года началось в 3-й Думе только 23 октября 1908 года и продолжалось более полугода. После принятия указа 9 ноября Думой он с внесенными поправками поступил на обсуждение Государственного совета и так же был принят, после чего по дате его утверждения царем стал именоваться Законом 14 июня 1910 года.
Этот закон вводил чрезвычайно важные изменения в землевладение крестьян. Все крестьяне получали право выхода из общины, которая в этом случае выделяла выходящему землю в собственное владение. При этом закон предусматривал привилегии для зажиточных крестьян с целью побудить их к выходу из общины. В частности, вышедшие из общины получали «в собственность отдельных домохозяев» все земли, «состоящие в его постоянном пользовании». Это означало, что выходцы из общины получали и излишки сверх душевой нормы. При этом если в данной общине в течение последних 24 лет не производились переделы, то излишки домохозяин получал бесплатно, если же переделы были, то он платил общине за излишки по выкупным ценам 1861 года. Поскольку за 40 лет цены выросли в несколько раз, то и это было выгодно зажиточным выходцам. В целом абсолютно ясно, цель реформы – создание, как мы бы сейчас это назвали, «среднего класса». В абсолютно аграрной стране им мог стать только свободный, крепкий, хозяйственный крестьянин. И именно он мог стать основой политической стабильности – как раз то, что мы слышим и сейчас. Только с созданием современного среднего класса никак не выходит, хотя вроде все как бы согласны. А тогда реформа вовсю тормозилась Думой, потому что умы госмужей того времени занимала та самая простая идея Шарикова – «взять и поделить». Взять и разделить 130 000 поместий, доказывал Столыпин, это – негосударственный подход. Крестьянские наделы будут временно увеличены, но с ростом населения очень скоро обратятся в пыль. Но очень уж живучая идея в России – это было записано в программе всех революционных партий, кроме РСДРП (!). (Марксистская экономическая наука – все-таки наука, а Ленин был последовательным марксистом.) Но главный аграрный закон действовал – и вот результат. За пять лет его действия, то есть с 1907 г. по 1911-й, было получено 2 миллиона 653 тысячи прошений о выходе из общины (более 25 % дворов – из 10 миллионов), средний урожай 1908–1912 годов составил 51 пуд (озимых – 57 пудов) с десятины, экспорт пшеницы в эти же годы принес в казну более 750 миллионов (!) тогдашних рублей. С 1905-го по 1913 г. объем ежегодных закупок сельхозтехники вырос в 2–3 раза. Производство зерна в России в 1913 г. превышало на треть объем производства зерновых в США, Канаде, Аргентине, вместе взятых. Российский экспорт зерна достиг к 1912 г. 15 млн тонн в год. В Англию масла вывозилось на сумму, вдвое большую, чем стоимость всей ежегодной добычи золота в Сибири. Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 млрд пудов. И это за 8 лет действия реформы, а Столыпин просил двадцать мирных лет, и «вы не узнаете нынешней России». Да, надо признать, что разрушение общины уничтожило ее нивелирующее действие, когда «всем миром» решали, отсюда появились «столыпинские помещики» и «маломочные» крестьяне, продававшие свои земли и шедшие в наем к более удачливым или работящим, что означало классовое расслоение, а потом и классовую борьбу. Но даже Ленин, эту борьбу распаливший в кровавейшую Гражданскую войну, признавал по поводу Столыпинских реформ, что при таком развитии производительных сил в деревне нынешнее поколение революционеров революции при жизни не увидят. Такая оценка главного политического противника – не лучшая ли похвала человеку, заявившему с трибуны 2-й Думы 10 мая 1907 г.: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»[34] По-моему, историки могут со мной и не согласиться, но если бы Николай после убийства Столыпина пригласил единственный великий ум того времени после Столыпина – Ленина – занять его место, ни Февраля, ни Октября через шесть лет не случилось бы. Но это из области гипотез. А вот еще из области фактов – по поводу военно-полевых судов. Столыпин, как известно, сменил на посту премьера Горемыкина после роспуска 1-й Госдумы 8 июля 1906 года. Уже 12 августа гремит взрыв на Аптекарском острове – на даче Столыпина. Жертвами теракта стали более 100 человек, 27 человек были сразу убиты, пострадали 14-летняя дочь и 3-летний сын самого Столыпина. Волна террора просто захлестнула Россию, по некоторым данным, гибли примерно 330 человек в год. Ну а если стали взрывать премьера – какие могут быть реформы, скажите, пожалуйста?! Представьте хоть на секунду такую ситуацию в наших современных условиях – не при царизме, заметьте, а при управляемой демократии. Поэтому не стоит удивляться, что 25 августа (в порядке 87-й статьи Основных законов, предусматривающей в некоторых случаях прямое имперское законодательное управление без внесения законопроекта в Думу) был введен в действие Закон о учреждении военно-полевых судов для борьбы с терроризмом, и действовал он до весны 1907 года. За это время были казнены 683 человека, а террористами убиты 768 и ранены более 800 человек. Сперва успокоение, потом реформы – единственный правильный принцип для всех времен и народов. Остается пожалеть, что в современной России нет ни того, ни другого. Но об этом позже. Так что не так уж «низко пал» Н. Михалков, отстаивая кандидатуру Петра Аркадьевича Столыпина и, уж точно, не проявил никакой «исторической невежественности».
Вообще все участники дискуссии проявляли историческую, ну, если не невежественность, то необъективность, выпячивая добродетели и замалчивая явные грехи своих «выдвиженцев». А. Иванов в согласии с бывшим тогда митрополитом, а ныне Патриархом всея Руси Кириллом насчет Александра Невского опровергает наших «недругов», которые «пытаются опорочить и его имя за якобы верную службу хану и подавление бунтовщиков, учинивших расправу над монгольскими чиновниками». Речь, по-видимому, идет о восстании 1262 года в Суздале, Владимире и Ярославле, когда русские побили ханских баскаков, собиравших «выход» – дань. Невский тогда еле-еле вымолил прощение у хана и на обратном пути из Орды умер в Городце Волжском. Это правда, и это в вину, как и служение сначала Батыю, потом его сыну Сертаку, поставить Ярославовичу в виду тех исторических условий невозможно. Но когда Батый утвердил на Владимирский стол не Александра, а брата его Андрея, а Сертак позже отдал Владимир Александру и между братьями возникла распря, кто навел на Русь страшную Неврюевую рать? Если верить не Карамзину, а Соловьеву и Татищеву – Александр Невский. Вот за что уже есть исторический спрос. И вообще, если мерять по «татарской» шкале, то Иван Калита предпочтительней – при нем, как писал Карамзин, «христиане на сорок лет опочили от истомы и насилий долговременных», то есть целых 40 лет больших набегов ордынцев не было, а мощь государства Московского укреплялась. Укреплялась и укрепилась настолько, что уже внук Калиты Дмитрий, вошедший в мировую историю как Донской, сломал хребет тому самому игу, которое началось с добровольного отвоза первой дани в Булгар в 1239 году (ни Золотой Орды, ни ярлыков еще не было, Киев еще не взят) после поражения на реке Сить отца Невского – Ярослава. В принципе, можно согласиться с А. Ивановым в лестной оценке долгого царствования Иоанна III Васильевича. Но ради исторической правды надо признать, что через сто лет после Мамаева побоища в очень сходной геополитической ситуации в стоянии на Угре Ивану и всей Руси несказанно повезло. Любимый историк А. Иванова Карамзин пишет по этому вопросу: «Любимцы его жалели своего богатства; он жалел своего величия, снисканного трудами осьмнадцати лет, и, не уверенный в победе, мыслил сохранить оное дарами, учтивостями, обещаниями». Не вдаваясь в исторические детали, хотелось просто напомнить, что не по-державному оробевшего Ивана увещевали на битву и престарелый архиепископ Вассиан, и бояре, и простой люд, и даже его сын, ответивший на родительский приказ прибыть с позиций в Москву: «Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от войска». Что случилось двумя неделями позже, когда Угра покрылась льдом, не поддается описанию. Вернее, разумению. Иван дает приказ войскам отойти к Кременцу, чтобы сподручней было биться на боровских полях. Но русские рати… «не отступали, но бежали от неприятеля, который мог ударить на них с тылу. Сделалось чудо, по словам летописцев: татары, видя левый берег Угры оставленный россиянами, вообразили, что они манят их в сети и вызывают на бой, приготовив засады: объятый страшным ужасом, хан спешил удалиться (7 ноября). Представилось зрелище удивительное: два воинства бежали друг от друга, никем не гонимые!» (Н.М. Карамзин. История государства Российского. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство, 1994. Книга 2, с. 472.) Вы можете себе представить, что бы было, если бы хан Ахмат не перехитрил сам себя – все труды Калиты, Симеона, Дмитрия Донского и самого Иоанна пошли бы прахом и Русь вполне могла бы не взлететь до России. Но все равно – я никак не желаю впадать в чаадаевщину и не могу не подписаться под святыми словами еще одного «выдвиженца» на «звание Имя России» Александра Сергеевича Пушкина: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».
И все-таки наш народ запоминает уважительной генетической памятью не Иванов Третьих, а Иванов Четвертых, топивших во все века этот же народ в крови ради государства, с которым они связывали свою абсолютную власть над все тем же народом.
Так что все властители Руси и России поступали с ней, как с любимой женой – и лаской и таской. От первого – слава, от второго – не тени даже, а синяки. Почему-то у нас одно без второго не выходит – не та историческая традиция.
В нынешние времена принципиально ничего не изменилось. Но раз нет войны, раз редкий период демократии, хотя и наследственной, то почему опять надо решать – кто виноват и что делать? Что делать в России – известно. Искать виноватых, естественно. Вечные вопросы – потому что виноватых никогда не находится. Возьмем современный кризис. Кризис мировой, системный, и поэтому вдвойне странно, что никто не оказался к нему готовым, хотя все заметные экономики – часть этой самой системы. Причем российская экономика – одна из самых уязвимых, ориентированных на конкурентные преимущества «низкого ранга», как говорят экономисты. Проще говоря – на природные ресурсы. Кто виноват в том, что мы проскочили выгоднейший исторический период для модернизации сырьевой экономики в «интеллектуальную»? Кто виноват, что деньги на «поумнение» нашей экономики наглухо закупорили в Стабфонде, конвертировав их большей частью в американские казначейские бумаги? Если бы эти почти полтора триллиона рублей бюджетных денег, отпущенных на антикризисные меры (тема отдельного разговора), вовремя вложить в модернизацию, уже и на кризис понадобилось бы на порядок меньше. Но правительство консервирует денежными вливаниями даже не вчерашний, а позавчерашний экономический уклад – например, автопром. Если хотя бы народ «проедал» нефтяные деньги, но нет. Посмотрите бюджет Российской Федерации, и вы убедитесь – как всегда, основные статьи бюджета – внутренняя безопасность, армия, госуправление (чиновники). Статьи «Образование», «Здравоохранение», «Соц. защита» всегда вкупе составляют меньше одной статьи «Охрана общественного порядка и национальная безопасность», другими словами, содержания безопасности власти. Статьи дохода показывают однозначно – как мы сидели на углеводородной игле, так и сидим, не слезаем. Чтобы слезть, надо готовить место, куда слезть. А слезть можно только в постиндустриальную экономику, то есть в производство новых технологий. Для этого нужно вкладываться в НИОКР. США это давно поняли и тратят больше 350 млрд долларов в год прямых инвестиций на науку – около 2,6 % ВВП. Мы – не больше 1 % от нашего ВВП (плюс 2,2 % в оборонке), то есть в тридцать с чем-то раз меньше в натуральном объеме. При этом Россия тратит на инновации не более 10 % инвестиций, хотя Германия, к примеру, 50 %, а Франция – целых 90 %. К тому же наблюдается очевидный перекос – акцент не на создание новых технологий, но на их продвижение на рынок и потребление. И никакие налоговые льготы на инновации (как НДС) не помогут увеличить их в доле ВВП на порядки, что требуется России для вступления в постиндустриальную технологическую эпоху. А что вообще означает создание новой технологии? Приоритет в новом стандарте, использовать который вынужден уже весь остальной мир. Как стандарт мобильных телефонов или программного обеспечения, к примеру. Вот поэтому от кризиса меньше всего пострадают те, кто меньше зависит от чужих стандартов. И это, к сожалению, не мы.
Стабфонд и природные ресурсы так или иначе кончатся – кто будет виноват в неизбежных социальных потрясениях (ибо стократно был прав Ф. Бэкон, сказавший, что причины восстаний бывают двух родов – много нищеты и много недовольства. Первого у нас всегда было в избытке, может достать с лихвою и второго), когда они только начнут кончаться и расходы на социалку станут самыми низкими в «демократических» государствах? А иначе – без такого бюджета, скажут нам, не удержать территории от внешнего врага и не удержать порядок внутри. Несогласных – от имени народа – прикладом в зубы. Так, собственно, и появляются синяки на лике Родины.
Можно согласиться с А. Ивановым, что сам принцип видеть в одном, даже самом блистательном историческом лице лицо всей России – неразумен. Но если предположить, что премьеров при демократии не убивают, то реформаторский гений Столыпина пригодился бы России сейчас намного больше, чем чей-либо другой. Для новой, глобальной технологической модернизации России. Для создания нового прочного «высокотехнологичного» и образованного среднего класса – основы любой политической стабильности. И кажется мне, что когда-нибудь России снова повезет – явится подобный гений. А не явится – нас ждут такие потрясения, что 17-й и 37-й годы покажутся «легкой отрыжкой». Интересно, кого тогда будут выдвигать новые «присяжные», лет этак через пятьдесят, на роль символического лица России? И на каком языке?
* * *
«Я думаю, что и все русские люди, жаждущие счастья и успокоения своей стране, желают скорейшего разрешения аграрного вопроса, который, несомненно, сейчас является важнейшим для страны. Всем ясно, что никто не будет прилагать свой труд к земле, зная, что плоды его трудов могут быть через несколько лет отчуждены. Земля должна быть отдана в частную личную собственность крестьянству. Надо предоставить самим крестьянам устраиваться так, как им удобно. Закон не призван учить крестьян и навязывать им какие-либо теории, хотя бы эти теории и признавались законодателями совершенно основательными и правильными. Пусть каждый устраивается по-своему, и только тогда мы действительно поможем населению. И само правительство во всех своих стремлениях указывает на одно: нужно снять те оковы, которые наложены на крестьянство, и дать ему возможность самому избрать тот способ пользования землей, который наиболее его устраивает… Но прежде чем говорить о способах, нужно ясно себе представить цель, а цель у правительства вполне определенная: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, весьма достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику – хозяину правительство обязано будет помочь советом, помочь кредитом, то есть деньгами…Таким образом, вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой он нуждается… Если бы одновременно был установлен свободный выход из общины и создана таким образом крепкая индивидуальная собственность, было бы упорядочено переселение, было бы облегчено получение ссуд под надельные земли, был бы создан широкий мелиоративный землеустроительный кредит, то хотя круг предполагаемых правительством земельных реформ и не был бы вполне замкнут, но виден был бы просвет… Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»
2009Бобёр, лирик и другие…
Высшая культура нужна лишь немногим.
Для средней массы человечества нужна лишь средняя культура. Но этим нужным и понятным лишь немногим духовно держится весь мир и вся история.
Николай БердяевА зачем тогда вообще нужна средняя, или массовая культура, когда на ней ничего не держится? Такой вопрос вытекает из тезы нашего великого философа, приведенной в эпиграфе. Тем более трудно не согласиться с его же мыслью из той же самой работы «Философия неравенства» о том, что чем демократичнее культура, тем она дешевле, и из нее исчезает аристократическое, малодоступное, слишком сложное и глубокое. Это неизбежно следует из отмеченного еще Аристотелем в «Политике» основного начала демократии, которое «состоит в количественном отношении, а не на основании достоинства». Зачем же культура без достоинства? Или на масскульте все-таки что-то держится? Что-то важное, незаменимое, что делает его нужным общественному и государственному устройству под названием «демократия»? Этот вопрос я задал себе в первый раз после случайного просмотра научно-популярной телепередачи из жизни животных, а точнее – бобров.
«“Бобер” любит строить плотины и хатки», – поведал ведущий известный при любом строе факт. Я поначалу не обратил внимания, но второй «бобер» заставил меня вслушаться. Да, «бобер» плыл по ручью, «бобер» грыз ствол дерева, и так всю передачу. Хотя, по мнению Ушакова, Ожегова и частично Даля, это должен был делать «бобр» – грызун с ценным мехом, а не сам мех, именуемый как раз «бобер». Смешно? Не только. Трудно себе представить, чтобы в советские времена (советской демократии, про которую тот же Бердяев писал, что «в самом принципе советского представительства есть доля истины, которая остается») выпускающий редактор любой передачи был до такой степени безграмотен, чтобы не заметить разницы в названии этого трудолюбивого животного. Но «бобер» померк по сравнению с перлом ведущего радиостанции «Моя семья», услышанным мной с приятелем 9 мая в машине, когда мы ехали к друзьям отмечать День Победы.
– Великая песня «Белые журавли», на музыку Яна Френкеля, стихи Расула ГАЗМАТОВА, уже не один десяток лет заставляет людей…
Мы с приятелем переглянулись.
– Многие слушатели просили сегодня поставить песню на стихи великого дагестанского поэта Расула ГАЗМАТОВА…
Мы снова переглянулись – мы двое ослышаться одновременно никак не могли. На третий раз стало понятно, что фамилия известного поп-артиста настолько въелась в массовое сознание индивидуального ведущего, что вытеснила созвучную фамилию великого поэта.
Количество ляпов (не оговорок, а безграмотного употребления слов, ударений, склонений и т. п.) в СМИ уже давно перестало удивлять – «близлежаЙШИй», «с русскими кОрнями», «перЕспектива», «кАзерог» (в субтитрах), «морские портЫ», «лОжить», «каждая вторая женщина из десяти», «возложить цветы к памятнику Вечному огню» и так до мрачной бесконечности.
Проблема безграмотности не в отсутствии знаний, а в том, что за это не стыдно. Проблема бескультурья – та же. При торговой демократии стыдно быть бедным, а не дремучим. Казалось бы – Интернет дает массовый пропуск к любым знаниям, ан – нет. Там ищут, в основном, партнеров по сексу и порнографию. Как же прозорлив был Лев Толстой, сказавший, что с развитием книгопечатного дела распространяется невежество. Видел бы он Интернет – эпоху, где невежество не просто распространяется, а мутирует в государственную политику. Русский язык упрощали не единожды – и Петр Первый, введший гражданский шрифт, и большевики, отделавшиеся от «старорежимного» «ять», «фиты» и «десятеричного “и”», но никогда не опрощали и не выхолащивали так, как сейчас – при демократии, то есть, если понимать это формально, при равных условиях на образование и равном доступе к культурным благам, но… «не на основании достоинства». Очевидно, темнота сознания – в природе массового человека, ему ни культура, ни образование не нужны, и даже пугающе чужды. Реформа русского языка, успешно предпринятая министром Фурсенко с одобрения политической власти, – победа правильно голосующего народонаселения над здравомыслящим народом, который всегда с огромным уважением относился к грамотному, тем более – ученому человеку.
Анекдот. Президенту докладывают:
– К Вам на прием пришло оно!
– Кто? Что?
– Фурсенко. Теперь же можно говорить, как хочешь!
Вкратце реформу образования и реформу русского языка надо понимать так – сделали, как проще, чтобы народу было легче не учиться. Литературу в школах свели к факультативу, письменный русский – к плохому устному, знания – к тестам. При торговой демократии не надо напрягать мозги, чтобы что-то знать, напрягайте, чтобы что-то купить, ибо нам нужен платежеспособный потребитель, а не грамотный гражданин.
ТОРГОВЛЯ – ГОЛОСОВАНИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ – ТОРГОВЛЯ – вот формула «демократической» культуры, ставшей вслед за «демократией» торговой. Недаром Бердяев, с которого мы начали, называл демократию «нездоровым состоянием народа». Уж не знаю, как для народа (для него все плохо в России, а не пробовали мы только анархию), а для культуры, хотя бы самой непритязательной, это – точно «нездоровое состояние». Говорят, что когда Луначарский и Горький вступались за арестованного и приговоренного к расстрелу Великого князя Николая Михайловича Романова – не только внука Николая I и кузена отрекшегося Николая II, но и историка (специалист по эпохе Александра I) с мировым именем, Ленин на заседании Совнаркома бросил фразу: «Революции историки не нужны!». А ведь мировой рекорд по совокупности научных работ членов Совнаркома первого состава не побит до сих пор – образованнейшие были люди, но… «…историки не нужны». Но это больше по идеологическим мотивам. А демократии по тем же мотивам уже никто не нужен – ни писатели, ни поэты, ни историки, ни философы. Кроме тех, кто по недоразумению так себя называя, вплелся в вышеуказанную социальную пищевую цепочку в раздел «ПОТРЕБЛЕНИЕ», то есть, выпускающие книгопродукцию (не литературой же это называть) на потребу. То, что нужно массовому человеку, массовому потребителю и массовому сознанию – эдакий литфастфуд. Котлета детектива на булке разврата под кровавым соусом.
И не нужно никаких «философских пароходов», ссылок и расстрелов духовных и нравственных учителей – достаточно вытравить в народе желание учиться собственному достоинству, а точнее говоря – заменить предмет достоинства с духовного на материальный. И неизвестно – что страшнее по последствиям для народа как нации.
– Опять цензура! – я уже слышу протестный скрип мысли в либеральных головах. – А как же свобода?!
– Не говори, от чего ты свободен, скажи, для чего ты свободен, – отвечу я устами Ницше и вряд ли услышу обратный ответ. Все «освободившиеся» точно знают – от цензуры, от диктата, от гонений, вот только для чего, действительно? Для вседозволенности и литературного глумления над тем же массовым человеком, превращающимся после внесения денег в кассу магазина в массового читателя, вернее потребителя написанного и изданного текста? Ну, действительно, чему может научить бестселлер? Только тому, что расширение свободы за пределы морали возможно только вниз.
Не так давно прочитал о встрече с властью некоторых деятелей культуры. Кроме обычных мольб о вспоможении «толстым журналам» мелькнула интересная мысль – России нужен нацпроект по культуре. Идея неплохая, ибо предполагает возвести некоторые шлюзы в мутном потоке оборзевшего масскульта. Шлюзами должны, как я понимаю, выступить те же «толстые» журналы – в литературном процессе и некие общественные советы при СМИ – радио и телевидении. Автор данной статьи, кстати, публично тоже выступал за такие общественные советы (нравственной, а не идеологической цензуры) на одном из заседаний Комитета по культуре Торгово-Промышленной палаты, причем с обязательным привлечением представителей Русской Православной церкви. Помню, меня призвали не отвлекаться на отвлеченные и утопические проекты, а говорить по существу, то есть по конкретному и довольно мелкому, надо сказать, поводу того собрания. Но мелкие вопросы в области культуры, как ветки, произрастают из одной стволовой, то есть системной проблемы. А проблема сводится к такому вопросу: нужна ли демвласти культура? Или нужна тонкая культурная пленка для элитарных, как они себя называют, умов и «хлеб и зрелища» для плебса? Очевидно, что человек, посещающий консерваторию, мыслит на другом уровне смысловых обобщений, нежели человек, гоняющийся за билетом на Петросяна. И не в том дело, что последних больше, а в том, что удовлетворить их проще – Петросянов взращивать не нужно, они, как сорняки, прорастут сами сквозь любой асфальт. Главное – не выпалывать. Если любой проект по культуре, даже национальный, не будет выпалывать совсем уж одиозные сорняки, на нем и не взрастет ничего путного. Но выпалывать – нельзя, у нас же свобода слова! У нас же демократия! Причем – торгово-развлекательная. Но свобода слова не для каждого слова – я не припомню, чтобы видел на ТВ писателей Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Личутина и других настоящих. Даниила Гранина поздравили с 90-летним юбилеем, вспомнили об Анатолии Приставкине, когда умер, и все. А о Юрии Кузнецове, гордости русской поэзии, не вспомнили, даже когда умер. Зато сколько репортажей о похоронах разных эпатажных радиоведущих, шоуменов и прочей масскультовой завали, которая только и умела делать, что глумливо развлекать толпу и развлекаться сама. Всякая узнаваемая личность у нас зовется «звездой», хотя не то что не мерцает талантом или умом, а и не светится хоть каким-либо профессионализмом. Даже отраженно. Какая ж это звезда – это бобер!
Почему большевики, которым были не нужны старорежимные историки, стали бороться с безграмотностью? Авторитарной власти был нужен не потребитель, а своя, советская интеллигенция, техническая, военная, литературная, научная, в том числе в области истории – другой идеологической закваски, но нужна. Взрастить новую интеллигенцию, выведя под корень старую, можно было только на новой почве, народной, хотя и советской. Нужно было реформировать промышленность, пусть и с неизбежным военным уклоном, и воспитывать народ в духе любви к Родине, пусть и в рамках советского режима.
Примерно это имел ввиду Шпенглер, говоря «…все же эта бесформенная и безграничная власть содержит в себе задачу, а именно задачу неустанного попечения об этом мире, являющую собой противоположность всем интересам в эпоху господства денег и требующую высокого чувства чести и сознания долга».
Задача определила способ ее достижения – страна села за парты. И на советской основе до сих пор держатся «приватизированная» промышленность, жилье для народа, ЖКХ, то есть трубы и теплоцентрали, и… образование.
В наше время президент каждый год ставит перед чиновниками одни и те же задачи по реформированию российской экономики, но для любой реформы нужны грамотные граждане, а не голосующее стадо. А где их взять? У Фурсенки? Это вряд ли. Демократия, монархия, авторитаризм – к любому режиму применимы слова Бердяева о монархии, которая «падает, когда она подбирает вокруг себя худших». А власть не подбирает даже – выводит нового «темного человека» в массовом масштабе. И никакой «нацпроект» на встречном курсе тут невозможен. Тираж «толстых» журналов падает не оттого, что нечего печатать, а оттого, что все меньше тех, для кого печатать. Ну что можно сделать в рамках «культурного» нацпроекта? Еще один телеканал? Но лучше и эффективней, ограничив руководство существующих в его погоне за рейтингом и напрямую связанными с ним прибылями, наполнить их образовательными и по-настоящему, системно-культурными передачами с участием признанных мастеров отечественного искусства. Нельзя же всерьез доверять этот процесс двум манерным дамочкам на НТВ и либерально однобокому писателю на «Культуре».
Еще одна «Литгазета» или «толстый» литжурнал? Но литературных изданий больше чем достаточно – своего читателя они худо-бедно удерживают, пока читателю интересно читать содержимое. К тому же автор как член многих редколлегий может подтвердить: отбор произведений для публикации часто проводится по принципу «наш – не наш», а не по художественным достоинствам. Еще бы – каждому законному и незаконному литформированию хочется претендовать на нравственную и художественную истину в последней инстанции. А разделенная сила – как разобранное ружье, вроде все части одного целого, а выстрелить на всю страну никто не может.
Могучий культурный интернет-портал? Но в Инете большинство людей молодых, пишут как раз по-фурсенковски – как слышится. Им такой портал будет просто неинтересен, если там нельзя познакомиться или что-то продать. К тому же и такие порталы уже есть – Библиотека современных писателей, Стихи. ру и Проза. ру, порталы творческих союзов, как, например, Московской городской организации Союза писателей России. В том-то и ужас «культурного вопроса» в России, что не предложения не хватает, а культурного спроса, а какой есть – удовлетворяется имеющимися возможностями. Стимулировать «культурный» спрос вперед «потребительского» – вот задача любого исторического государства, тем более претендующего на звание великого.
Поэтому такой нацпроект неизбежно уподобится дорогостоящему элеватору без тракторов и семенного фонда. В конечном итоге, чтобы здание не пустовало, отдадут под казино.
«С помощью денег демократия уничтожает саму себя – после того, как деньги уничтожили дух», – заявлял Освальд Шпенглер. Не будет большой ошибкой заменить слово «дух» на слово «культура», и мы получим современную картину мира – пока во второй части. Ради же самой демократии необходимо вернуть «дух». То есть нравственную культуру. Но возможно ли это сделать, коль она уничтожена?
Поэтому я делаю вывод: России нужен не нацпроект по культуре, а контрреформа образования с достойным представительством родной речи, родной литературы и истории Отечества. Сначала элементарная грамотность, в том числе историческая, потом – культура. Сначала успокоение невежества, потом – культурные реформы, перефразируя Столыпина. Красивые цветы на помойке не вырастут, для этого нужна иная почва, вспаханная, выполотая и удобренная литературной традицией. Такую контрреформу может провести только власть, умеющая ограничивать свободу и не боящаяся грамотных сограждан.
Прохожу мимо телевизора – в популярной передаче, где ответами на вопрос ведущего можно заработать миллион, одна «звезда» комического жанра пыжится и гадает о чем-то с испариной на лбу. Известный всей стране автор «ёханого бабая» искал правильный ответ на вопрос: «Как звали человека в Древнем Риме, покровительствовавшего актерам, поэтам и другим представителям искусства?» Когда «звездный бабай» попросил убрать два неправильных ответа, остались «Лирик» и «Меценат». Я задержался у экрана, подумав поначалу – комик и есть комик, наверное, хохмит. Ан нет. Подсказки кончились, и артист, заметно нервничая и убеждая сам себя, нажал на ответ «Лирик». Что тут скажешь?
«Лирики» культуре тоже нужны. Нет худа без…бобра. Особенно – в торгово-демократические времена.
Это такие времена, когда, за кого ни голосуй, все равно продадут. России не нужна власть добровольно безграмотного большинства, подчиняться которому так настойчиво требует «вечный демократический президент». Для просвещения нации нужна авторитарная власть просвещенных. Тех, кто сможет прополоть поле национальной культуры, освободив его от либерально-гламурного сорняка. Только тогда в народном сознании вновь сможет расцвести культура, посаженная и взращенная кропотливым трудом наших великих предшественников. Только тогда знания, искусство и культуру начнут ценить, а не оценивать!
Член Союза писателей России, поэт и прозаик,доктор экономических наук и кОзерогДмитрий Дарин,2010Сергей Есенин в современных поэтах
В России Есенина не просто любят, им дышат. Как беззнойным осенним воздухом или в конце лета «августовской прохладой». Не все, конечно, кто-то предпочитает кондиционированный воздух западной цивилизации. Но свобода – она на то и свобода, чтобы дышать по-разному.
Сегодняшние поэты в большинстве своем дышат своей душой напрямую – не замечая бытовых неурядиц, непонимания окружающих с ловким умом, живущих только здравым смыслом и крутящих пальцами у виска, когда видят неустроенного поэта – чудак, мол. «Он под крестом, а вы – под коромыслами, / Встречаетесь дорогой иногда, / Так уступите путь – со всеми смыслами. / Вам не оставить в человечестве следа».
Но и поэт поэту рознь – не каждый уступит путь другому. Почти каждый желает вырваться в «первые», и один из самых «избитых» путей – подражание Есенину. Подражать, к примеру, Пушкину почему-то почти никто не берется. Гений легкой вязи, плетший узорочь часто из самых простых слов, доступных почти любому обывателю, но умевший наполнить их правдой и мудростью мира, Пушкин недоступен для подражания. А вот Сергей Есенин – «свой парень». С ним и выпить можно, и похулиганить, и побогохульствовать, и – думается – повластвовать над толпой.
Стоит только запустить в стихи журавлей в синем – непременно синем – небе, поставить туда граненый стакан между березами и пьяно зарыдать над «пролетевшей молодостью». И вот она, «русская рубашка» национального поэта с отворотом и вышивкой. Мне это говорить не так просто, уважаемый читатель, потому что как раз в моих стихах этого всего в избытке, и я теперь, с годами, понимаю всю степень опасного соблазна внешних образов. Но поскольку за эти самые годы что-то осталось в памяти читателей и в песнях, то есть в памяти слушателей, могу и хочу предупредить молодых поэтов об этой опасности. Сам Есенин говорил в 1920 году Георгию Устинову: «Я ведь ни от кого ничего не скрываю… Пусть все пишут, как я. Я не думаю, что это будет плохо». Думаю, что наш русский гений поддразнивал не только современников, но и следующие поколения поэтов, включая нынешних. Сам Устинов в своей книге «Литература наших дней», называя Есенина ни много ни мало «анархо-мужичком» (вкупе с Клюевым) и «психо-бандитом» (!), говорил: «…Всего вероятнее, что та форма, которую дал Есенин стиху, останется и воскреснет в другом поэте, который вольет в нее новое содержание. Это и будет его заслугой. Содержание же вместе с Есениным отойдет…» Вот это и есть главная ошибка многочисленных современных Есенину недоброжелателей – устиновых, сосновских, швейцеров, радванских и прочей литературной за′вали. Содержание Есенина – щемящее чувство любви к Родине. Без всякого пафоса:
О Русь, малиновое поле И синь, упавшая в реку, Люблю до радости и боли Твою озерную тоску.И это на фоне брезгливо и заносчиво хоронящих Россию строк: «Довольно, не жди, не надейся – / Рассейся, мой бедный народ! / …Туда, где смертей и болезней / Лихая прошла колея – / Исчезни в пространстве, исчезни / Россия, Россия моя!» (Андрей Белый).
Или: «С Россией кончено… На последях / Ее мы прогалдели, проболтали, / Пролузгали, пропили, проплевали, / Замызгали на грязных площадях» (Максимилиан Волошин).
Или: «Бесследно все сгибнет, быть может, / Что ведомо было одним нам, / Но вас, кто меня уничтожит, / Встречаю приветственным гимном» (Валерий Брюсов).
Ошиблись все, кто хоронил свое Отечество, и также ошиблись те, кто хоронил Есенина, воспевавшего его. Потому что его поэзия была наполнена не только и не столько так узнаваемыми образами, а мерцающим содержанием любви к России. Вот этого содержания я и желаю современным, особенно молодым, российским поэтам. И если вам есть, что сказать своему народу, пусть об этом прокурлычат журавли в ваших стихах – такие общие и такие разные, какой бывает только русская поэзия.
2011О пользе инквизиции
Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.
Сергей ЕсенинВместо краткого предисловия
Автор долго размышлял, как и чем бы заменить краткое древнее русское слово, часто употребляемое в данной статье, на более благозвучное, особенно для женского взгляда и уха. Слово, восходящее по смыслу к «бладу», говорению любой кривды, неправды. Но нет достойного эвфемизма, сохранившего бы старый смысл в контексте современного. Посему, пользуясь свободой, о которой и пойдет речь ниже, автор оставляет его.
«…не могу я не удивиться, в коль краткое время повредилиса повсюдно нравы в России. Воистину могу я сказать, что если, вступя позже других народов в путь просвещения, и нам ничего не оставалось более, как благоразумно последовать стезям прежде просвещенных народов; мы подлинно в людскости и в некоторых других вещах, можно сказать, удивительные имели успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей, но тогда же гораздо с вящей скоростию бежали к повреждению наших нравов и достигли даже до того, что вера и божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в презрение впали.
Гражданские узаконении презираемы стали. Судии во всяких делах не толь стали стараться, объясняя дело, учинить свои заключении на основании узаконений, как о том, чтобы, лихоимственно продавая правосудие, получить себе прибыток или, угождая какому вельможе, стараются проникать, какое есть его хотение; другие же, не зная и не стараясь познавать узаконении, в суждениях своих, как безумные бредят, и ни жизнь, ни честь, ни имения гражданския не суть безопасны от таковых неправосудей.
Несть ни почтения от чад к родителям, которые не стыдятся открытно их воли противуборствовать и осмеивать их старого века поступок. Несть ни родительской любви к их исчадию, которые, яко иго с плеч слагая, с радостию отдают воспитывать чуждым детей своих; часто жертвуют их своим прибытком, и многие учинились для честолюбия и пышности продавцами чести дочерей своих. Несть искренней любви между супругов, которые часто друг другу, хладно терпя взаимственныя прелюбодеяния, или другия за малое что разрушают собою церковью заключенный брак, и не токмо стыдятся, но паче яко хвалятся сим поступком.
Несть родственнические связи, ибо имя родов своих ни за что почитают, но каждый живет для себя. Несть дружбы, ибо каждый жертвует другом для пользы своя; несть верности к государю, ибо главное стремление почта всех обманывать своего государя, дабы от него получать чины и прибыточные награждения; несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей, нежели для пользы отечества; и наконец несть твердости духу, дабы не токмо истину пред монархом сказать, но ниже временщику в беззаконном и зловредном его намерении попротивиться».
Узнаете? Михаил Щербатов излил свою совесть работой «О повреждении нравов в России» около 1787 года, а как для нас нынешних писано. Почти четверть тысячелетия(!) прошло, а «несть любви к отечеству, ибо почти все служат более для пользы своей» Не только служат, практически все делают для пользы своей: играют за национальную сборную, застраивают территории последних усадьб времен Голицына и самого Щербатова – памятников отечественной культуры, совершают «панк-молебны» в храмах, ведут сограждан на протестные митинги, и даже публично исповедуются с телеэкрана. Неглубокий ум споткнется здесь и проворчит в сторону автора – ну вот, смешали все в одну кучу, не вижу связи. Ум более проницательный легко продолжит список.
Поскольку у всех этих событий, составляющих нашу информационную среду, один корень и одна причина – личная польза. Именно она – «презренная польза» по А.С Пушкину, пренебрегать которой не собирается никто, кроме «избранных счастливцев праздных». Корень один, ствол один, а ветки растут в разные стороны. Кривые, безлиственные, разной толщины и сучковатости, но одинаково безобразные. Ибо почва, на которой произрастает этот заколдованный лес, – нажива. Не просто желание хорошо и комфортно жить, нет, это было бы понятно и объяснимо. Нет, в целой России заменен предмет достоинства. Если раньше ты был тем, что ты сделал, ныне ты то, что ты купил.
Идет повсеместная торговля и предметом торга становится всё – потому что обязательно найдется тот, которому нечего продать, кроме – и еще один список: достоинства, долга, чести, детей, родителей, органов, целомудрия и прочая и прочая. Персонаж повести Гоголя «Невский проспект» художник Пискарев пошел вслед за незнакомой барышней, «красавицей мира», испытывая восторг от красоты, от чистоты этих ангельских черт мадонны Перуджиновой кисти – и пришел в бордель.
Не в силах перенести этого противоречия между достоинством красоты и ее отовариванием, он перерезал себе горло. Если бы он знал, что минет меньше полутора веков и порнозвезд (хотя понятие «звезда» здесь малоупотребимо) будут показывать на федеральных телеканалах, а проституция станет «рейтинговой» профессией, то что бы сделал несчастный художник?
Уж верно не стал бы резаться – потому что разочарование порождается исключениями, пусть и трагически контрастными. Но когда это становится нормой – причем нормой прибыли – смысла кончать с собой нет – это не красивая бл…ь вне нравственной системы, это ты уже сам вне системы бл…ей. Остается плюнуть, да напиться с теми, кто еще тебя не продал.
Я спрашиваю тележурналистку одного желто-зеленого федерального канала перед интервью – ведь вы сами себя порочите, когда показываете, причем восторженно показываете откровенных и вашими усилиями известных порнозвёзд. Она мне в ответ – у нас свободная страна, а они дают рейтинг. А рейтинг – это рекламные деньги, нажива, польза. А вы знаете, спрашиваю, как называются люди, зарабатывающих на проститутках? Никто же не будет спорить, что порно – это проституция перед камерой? Журналистка молчит, но по глазам вижу, что меня уже ненавидит.
И если покрывающая бл…ство – бл…ь вдвойне, то проповедующая – втройне? Вдесятеро? Но в этой системе нет морального счета. Есть рейтинг – счетчик денег. Если завтра будет выгодно показывать убийство в живом эфире – они это сделают. Заплатят маньяку за установку веб-камеры на бейсболке и сделают. Прикрываясь свободой, конечно. И будут еще претендовать на какую-нибудь телепремию – за креативность. Думаю, что та журналистка, которая с гордостью за телеканал (!) рассказывала мне, что они первыми пустили проституток в эфир и срубили огромный рейтинг, жалела в душе, что не поставила мини-телекамеру на автомат Брейвика. Вместо оптического прицела. Это был бы гарантированный максимальный рейтинг и огромные барыши. И только во вторую очередь – улика.
Иван Карамазов ведь не утверждал окончательно – он вопрошал. Почти зная ответ, пугавший его самого и открывающий все последние шлюзы под мутным напором полной и окончательной свободы – от всех и от всего. «Если Бога нет, значит всё позволено?» Но ведь не Бог позволяет или не позволяет, а мы сами, вернее, чувство достоинства, заложенное в нас, во всем народе. Если не стыдно быть проституткой, то почему должно быть стыдно выкрикивать похабщину в храме Христа Спасителя? Не стыдно, потому что выгодно.
Если эти самки человека сами себя называют «разнузданные вагины» – а это один из переводов английского слова «riot» – то в русском языке есть слово покороче – бл…и. Да, опять они… Видишь, читатель – ветки-то разные, дерево одно. А если Бог есть? Тогда есть и бессмертие души. Для души такая цена – самая дорогая, хотя выгоды не приносит. И нельзя попустить распродавать ее по мелочи – ради наживы. Даже если самому посессору этого хочется. Но как при торгово-развлекательной демократии что-то не попущать? У нас же свободная страна – вопиют со всех сторон. У нас свобода – выпустите бедных хрупких девочек на эту свободу, к деткам, они же просто пошалили.
Если бы средний Карамазов видел, как бл…и разухабились в храме, он бы конечно горло себе резать не стал. Он переиначил бы «Великого инквизитора». Например, так – престарелый кардинал спрашивает Христа: «Ты видишь, что они сделали с Домом Твоим? Я охранял Церковь Твою на пороге её, но Ты сам дал свободу овцам своим. И вот стадо Твое не просто разбрелось, оно гадит в Доме Твоем. Не для таких ли Твои слова о мече, что Ты принес на землю? Я – страж стада Твоего, потому что я – страж Дома Твоего, ибо нет одного без другого».
Уж не поручусь, что Спаситель поцеловал бы литературного Торквемаду, но логика любого строительства предусматривает защиту от разрушения изнутри. Будь то Церковь или государство. Особенно у нас, у русских, которых силой завоевать невозможно исторически. Даже татаро-монгольское иго было «наложением ханской власти поверх княжеской», по словам историка. Да, Русь платила «выход», князья получали ярлыки на княжение, но целостность страны, ее государство, ее вера, ее земля оставались нетронутыми. Не взять Русь внешней силой. А как взять?
Ответ мы наблюдаем последние двадцать «демократических» лет. Изнутри. Торговлей. Всеобъемлющей, всеохватывающей и всепроникающей торговлей. И сделать-то нужно малость – превратить мошну в показатель достоинства человека. По научному – овеществление человеческих отношений. А по народному – стыд на дне мошны не виден. Ты то, что ты купил. Что ты сделал – интересует только в этом аспекте – что ты сделал, чтобы купить? И вот современная Русь начинает разлагаться – земля становится территорией на продажу, народ – населением, то есть определенным количеством потребителей/избирателей, церковь – местом черных панк-молебнов, государство – ненавистной чиновничьей стаей, требующей немедленного разгона, а то и посадки.
И все под либеральный вой – это наше право! Это наша свобода! Свободу панк-бл…ям! Свободу всем! Свободу от всего! Свободу от Бога! Бога нет, потому что у Патриарха дорогие часы! Свободу от Патриарха! И вот уже тысячи, казалось бы, культурных, образованных и творческих людей – из тех, которым Господь если и дал талант, то для врачевания людских душ, – интернетным хором выступают за освобождение панк-бл…ей, плюнувших нам в эти самые души? И в талант требующих «вагинальной» свободы тоже – это же часть их души, наверное самая главная. Воистину «достигли даже до того, что вера и божественный закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в презрение впали».
Что бы на это сказал Иван Карамазов? Ужаснулся бы, увидев, насколько теперь «всё дозволено»? Если по моей версии современный художник Пискарев не стал бы себе резать горло, то современный Иван Карамазов не стал бы сходить с ума в одиночку. Он присоединился бы к бесноватой интеллигенции («в суждениях своих, как безумные бредят») и стал бы выступать на митингах и идти на политпрогулках в первой шеренге. По той же причине – мучаться богоборческими вопросами свойственно одиночкам, а тут уже все либеральное стадо блеет во все свои бараньи горла – это как раз то, что он с таким трепетом открывал брату Алеше. Если все безумны – безумие отстать от них. Но если бы Карамазовы видели 20‑й и начало 21‑го века?
Я бы спросил именно этих двух братьев вот о чем. Что противней Богу – взрыв храма коммунистами-богоборцами или практическое одобрение (ибо настоящего осуждения не последовало) бесовских плясок в храме русской…нет, русскоговорящей интеллигенцией? Я задаю этот вопрос и себе, и вам, читатель. Я лично полагаю, что второе. Думаю, Иван был бы против, а вот Алеша, подумавши, согласился бы со мной.
Насилию противостоять легче, чем свободе. Алеша согласился бы со мной и в другом – расширение свободы за пределы общественной морали возможно только вниз. В самый мрачный, темный низ, где уже не мерцают духовные звезды. Где вещи – мерило человека. Где прибыль – единственный закон бытия. Беззаконие узурпаторов – ничто по сравнению добровольного, сиречь свободного, отказа от подлинного человеческого закона. Тем более и прежде всего закона веры. Потому что это один из столпов страны. Без веры – нет земли, только территория. Без веры нет народа, нет нации – есть только избиратели и потребители. Без веры нет истории, в конце концов.
Поэтому Церковь – институт, объединяющий так или иначе людей не только по вере, но и по национальной (не путать с национальностью – чтобы меня умоограниченные злопыхатели не записали в националисты, сразу объявляю свой лозунг: «враги России национальности не имеют»!) и исторической, если хотите – державной принадлежности. Ведь сто раз прав еврей Соловьев, кидавший в футболистов русской национальности каменья слов «мерзота», «ублюдки» и т. п. Потому что футболисты одели майки со святыми словами «Россия» – так называется наша общая Родина, а играли не за нее.
Не бились, не ратовали за нее – пусть и на футбольном поле, а не на поле брани. За себя и для себя. И потому искренне недоумевают – отчего это они должны что-то российским болельщикам? Ничего не должны, кроме как по контракту получить прописанную там сумму. Там, в чипсовых и пепсикольных контрактах прописана цена их достоинства. Не нужно удивляться и негодовать – разве вы сами не хотели свободы от всего? Хотели. А получили свободу от самоуважения. Это неизбежный итог любой торговли. А когда речь идет о такой стране, как наша, почти последней страны с тысячелетней историей собственного достоинства, то следует порушить сначала его. То есть – отоварить. Что нельзя отоварить – очернить или осмеять. Остальное рано или поздно мы сами продадим по кускам.
Вот почему Торквемада был не так уж и не прав, на основе жестокого пресечения инаковерия объединив Испанию в одно государство, величайшее по тем временам. Не поймите меня неправильно, я не призываю зажечь костры святой инквизиции в центре Москвы, нет.
Но я хочу заявить, что злоупотребление свободой – тягчайшее преступление против личности и гораздо страшнее по своим последствиям, чем злоупотребление властью. И приведет гораздо к большим жертвам в конце концов. Ведь когда император Александр II был убит бомбой Гриневицкого, во многих дворянских(!) – то есть самых образованных семьях – царило по воспоминаниям современников едва ли приподнятое настроение.
Что уж говорить о разночинцах и интеллигентах всех мастей. Запахло свободой. Все стало позволено – хотя бы в представлении. И какой кровью потом обернулось? А ведь интеллигенцию назвал «гнилой» именно Александр III – за массовые обращения помиловать террористов, то есть убийц его отца. Ничего не напоминает? Правда, в гораздо измельченном виде – но пафос «понять и простить» тот же. Хотя убивали не царя, даже не императора – убивали Бога в душах православных людей России.
Последнее, на что еще не готовы контракты. Но убивали именно с этой целью – зачистить и подготовить к торговле. Вот чему могла бы противостоять современная инквизиция. Ибо, как сказал апостол Павел римлянам: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но делающих одобряют».
Но ладно, не нужно костров. Но actus fidei – «акт веры» нужен как никогда. Пусть и в современной, как говорят поборники абсолютной свободы – «цивилизованной», гуманистической форме. Чтобы уголовное наказание не смешивать с наказанием духовным. С наказанием не за инаковерие, и не за безверие. А за препятствование вере целого народа. И чтобы оно было не в пример жестче! Тогда «акт веры» превратится в акт защиты государства. Которое ради западной свободы вагинального и пидорастического типа пытаются расшатать вновь возрожденный «орден либеральной интеллигенции».
Орден без веры и достоинства. Орден, поставивший своей целью – словами Михаила Щербатова – «… совершенное истребление всех благих нравов, грозящее падением государству». К сожалению, в торгово-развлекательном демократическом установлении нет такого понятия, как гражданская казнь. Казнь – как лишение не жизни, но чести. Аутодафе – акт веры – как лишение не жизни, но благодати. Потому что нет чести ввиду непродаваемости (по определению) таковой. Вместо этого осталось одно – лишение свободы. Но я полагаю, этого недостаточно. Если добро не будет с кулаками – придет зло с топором! Так что, бл…и – помните о Торквемаде!
Довольно нам певцов казненных, Поэтов, преданных суду! Уж тех черед, кто жил за мзду, Пусть льется кровь непосвященных! Они так счастливы, наверное, Кто совесть вывел на торги, Себе и обществу враги, Пусть льется кровь немилосердных! Народ – не стадо из послушных — Кровь не поставит мне в укор! Но в шею вымытый топор Пусть поцелует равнодушных! Всех вас, свободой ослепленных, Увы, ждет горестный итог, Вас не простит казнящий Бог… Пусть льется кровь непосвященных!Вот теперь – Аминь!
P.S. Прошу всех считать данную статью петицией по сбору голосов ПРОТИВ освобождения гражданок, осуществивших акт попрания нашей веры в храме Христа Спасителя, от уголовной ответственности.
2012Сноски
1
Слань – выложенные на болоте длинные бревна для проезда.
(обратно)2
Польское восстание 1863–1864 годов.
(обратно)3
«Годки» – название старослужащих на флоте.
(обратно)4
«Караси» – название молодых матросов, прослуживших меньше года, «духи» – меньше полугода.
(обратно)5
Бурама – срубная изба.
(обратно)6
Азан – призыв к молитве для правоверных мусульман.
(обратно)7
Аймак – род.
(обратно)8
Бэби туе и исем кушу – пир по случаю рождения ребенка и имянаречения.
(обратно)9
Бата – разведенный мед или кумыс, распивавшийся родителями жениха и невесты в знак заключения брачного договора.
(обратно)10
Никах – свадебный обряд.
(обратно)11
Почему я должен давать мой почтовый индекс? Зачем он для проката лыж? (нем.)
(обратно)12
Член (хвост – букв.), (разг. нем.).
(обратно)13
Промежуточная станция (средняя станция – букв.) (нем.).
(обратно)14
Маленькая кружка пива (диалект, нем.).
(обратно)15
Глювайн (горячее вино) (нем.).
(обратно)16
Горная хижина, приют для альпинистов (здесь – ресторанчик, нем.).
(обратно)17
По голосу? (нем.)
(обратно)18
По чувству (нем.).
(обратно)19
Нужно жить по чувству (нем.).
(обратно)20
Хохвурцен – название соседней горы (нем.).
(обратно)21
Настало время пить (лат.).
(обратно)22
Для небольшого голода (авст. диалект).
(обратно)23
Алмдудлер – название местного лимонада.
(обратно)24
Хаускайблинг – название соседней горы.
(обратно)25
«Счастье – еще теплый пистолет…» – слова из песни «Битлз» (англ.).
(обратно)26
Извините (нем.).
(обратно)27
Еще один раз, пожалуйста… большое спасибо (нем.).
(обратно)28
Московский сон (нем.).
(обратно)29
До скорого! (нем.)
(обратно)30
А кто родился в январе, Вставай, вставай, вставай! Возьмет он рюмочку вина И выпьет всю до дна. Выпивай, выпивай, выпивай! – Застольная песня (нем.) (обратно)31
А кто родился в феврале… (нем.)
(обратно)32
А кто родился в декабре… (нем.)
(обратно)33
Увидимся! (нем.)
(обратно)34
Отрывок знаменитой речи П.А. Столыпина приведен под сноской.
(обратно)



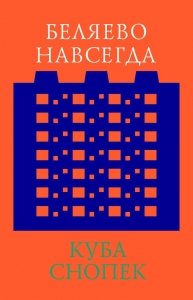

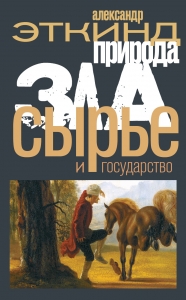
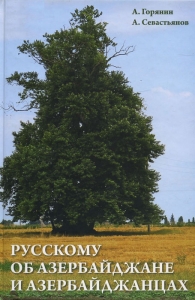

Комментарии к книге «Русский лабиринт (сборник)», Дмитрий Александрович Дарин
Всего 0 комментариев